ОБ ОЩУПЫВАНИИ
Палеолитическая Венера, нэцкэ или керамическая самаркандская пиала требуют не только рассматривания, но и сжимания в руке — так воин хватается за рукоятку меча, чтобы почувствовать себя увереннее, так рыцарь сжимает стан девы перед тем, как кинуться на дракона.
Павел Флоренский подчёркивал преобладающее значение осязания в дохристианском искусстве и, следовательно, особую связь ощупывания с язычеством.
Согласно автору «Иконостаса», осязание располагается в той чувственной области, где происходит нарушение чистоты.
Поэтому живопись для него — плодотворное искусство света, а ваяние — бесплодные дела тьмы.
Но ощупывание маленького деревянного крестика спасало протопопа Аввакума в самые тёмные часы в Пустозерске.
Так же Аввакум ощупывал во рту язык — единственного своего собеседника в ссылке: «Занеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обыкл речи красить».
Андре Бретон, коллекционировавший предметы искусства, имел привычку проводить по ним ладонью и языком.
Маркиз де Сад пил чернила, которыми написаны «120 дней Содома».
А Рене Шар сказал: «Отделить нос от профиля может только мысль».
Мысль же разъединяет и соединяет зрение и осязание!
В наше время, когда утрачена способность ясно видеть, равно как и дар чутко осязать, да и вообще всякое умение самостоятельно чувствовать, — фетиши, копья, чаши и идолы являются напоминанием о том, что руки связаны с сердцем, а глаза — с умом.
Прельстись!
Пригубь!
Не в высь,
А в глубь —
Веду...
Губами приголубь!
Голубка! Друг!
Пригубь!
Прельстись!
Испей!
От всех страстей —
Устой,
От всех вестей —
Покой.
Помни, друг: Венера из бивня мамонта и сейчас может отогнать злых людей и чертей всех мастей от того или той, кто сжимает её в своём воображении.
Для этого только нужно сказать: «О, лебедиво! О, озари!»
Александр Бренер
Ка, или Тайные, но истинные истории искусства
Издатели: Любовь Беляцкая, Артём Фаустов
Редактор: Артём Фаустов
Корректор: Любовь Беляцкая
Дизайн и вёрстка: Владимир Вертинский
Издательство книжного магазина «Все свободны»
С.-Петербург, наб. реки Мойки, 28
тел. +7-911-977-40-47
vse-svobodny.com
Книга издана при содействии ООО «БУМ»
18+
Ка, или Тайные, но истинные истории искусства
О ЛЮБВИ К ХУДОЖЕСТВУ
ОБ ОДНОЙ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ АКРОБАТКЕ
О ДРУЖБЕ С МЁРТВЫМИ
О ПОГОСТАХ
О, ЗВЕРИНЕЦ!
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОБРАЗОВ
ОБО МНЕ, ПИШУЩЕМ ЭТУ КНИГУ
О ВЕНЕРЕ ИЗ ПЕЩЕРЫ И РУБЛЁВСКОЙ ТРОИЦЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ИДОЛОВ
ОБ ОЩУПЫВАНИИ
ОБ ОДНОЙ ЗАМАРАННОЙ ДВЕРИ
О ЛАОКООНЕ
О СТРАСТИ К ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЮ
О ФОНТАНЕ АРХИТЕКТОРА САЛЬВИ
О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ВАЗАХ
О ПСИКТЕРЕ СЕНЬОРА ПАПАЛАРДО
О МАЛЬЧИКЕ, ВЫТАСКИВАЮЩЕМ ЗАНОЗУ
О ГРЕКО-РИМСКИХ МОЗАИКАХ
О ФАЮМСКИХ ПОРТРЕТАХ
О ВИЗАНТИЙСКИХ ИКОНАХ
О НЕПРОЧНОСТИ ОБРАЗОВ
ОБ ОДНОЙ БРАЗИЛЬСКОЙ СТРАСТОТЕРПИЦЕ
ОБ АРМЯНСКИХ МИНИАТЮРАХ
О СТАРИННЫХ КИТАЙСКИХ МАСТЕРАХ
О ДЫРАХ В ШВЕЙЦАРСКОМ СЫРЕ
О СТРАННОМ ПЛЕМЕНИ НА ФРЕСКАХ ДЖОТТО
О РОККО
О ВЕСНЕ БОТТИЧЕЛЛИ
О МОЁМ ЗНАКОМСТВЕ С ДЭВИДОМ БИРНОМ
О СКАЗОЧНИКЕ АНТОНИО ДИ ПУЧЧО ПИЗАНО И НАТУРАЛИСТЕ ПИЗАНЕЛЛО
О КАТЕ КОХ
ВОСХИЩЁННО О ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА, А О СВОИХ СОВРЕМЕННИКАХ — РЕЗКО
ОБ ЭЛИЗАБЕТ ПЕЙТОН
ОБ ОДНОМ ПОРТРЕТЕ ГИРЛАНДАЙО
О БОСХЕ
О, МАНТЕНЬЯ!
О СОВРЕМЕННЫХ КАМНЯХ
О ТОМ, КАК ЛЕОНАРДО СМОТРЕЛ В ОКНО
О БАРТЛБИ
О ДЮРЕРЕ И ЧУВСТВЕ НЕРЕАЛЬНОСТИ
О ДЖОНАТАНЕ БРЭГДОНЕ
О ПРОВОЛОЧНЫХ МЕРСЕДЕСАХ
О СТАРИКЕ ТИЦИАНЕ
О ЛУЧШЕМ СПОСОБЕ КОИТУСА
О ПЛЕБЕЕ КАРАВАДЖО И О МОЁМ К НЕМУ ХАДЖЕ
ОБ «УЖИНЕ В ЭММАУСЕ»
ОБ АРАБЕСКАХ ЖАКА КАЛЛО
О МАСТЕРСКОЙ РЕМБРАНДТА
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОБРАЗОВ
О ВЕЛАСКЕСЕ
О СТРАХЕ ПЕРЕД РУБЕНСОМ
О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ПОЭТАМИ И ХУДОЖНИКАМИ
О ГОЙЕ, ИЛИ ЧЕГО ЭТОТ ВЕЛИКИЙ ФАНТОМ ХОЧЕТ?
ЕЩЁ О ПОЭТАХ И ХУДОЖНИКАХ
О ВЕЛИКОМ ФРЕНХОФЕРЕ
О «ТЕМНИЦАХ» ПИРАНЕЗИ И ГОЛОВЕ МОЕЙ МАТЕРИ
О ЧЁРНОМ КВАДРАТЕ
О ЖАНЕ-БАТИСТЕ ШАРДЕНЕ
О ЖЕРИКО
О ПОСЛЕДНЕМ СВИДАНИИ С ГРАНВИЛЕМ
О ПРЕБЫВАНИИ ХУДОЖНИКА БРЕДЕНА В ЛЕСУ
ОБ ОДНОЙ СКАЗКЕ ЛЕОНАРДО
О КОТЕ В САПОГАХ КАЦУСИКО ХОКУСАЯ
ОБ ОДНОМ ПРОИСШЕСТВИИ С МАНЕ
О РАЗГОВОРЕ, СОСТОЯВШЕМСЯ МЕЖДУ ВАН ГОГОМ И ГОГЕНОМ
О ЛАРИОНОВЕ
О МАТИССЕ И АБбАТИССЕ
О ПОЕЗДКЕ В ОСАКУ
ОБ ОБРАБОТЧИКЕ РЕАЛЬНОСТИ ПАБЛО ПИКАССО
О ВИЗИТЕ В МАЛАГУ
О СЛАВЕ
О ПИКАБИА И УДОВОЛЬСТВИЯХ
О СЕРГЕЕ ШАРШУНЕ
О ДАДА
О НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
О ТОМ, КАК ХОРОШО У СУТИНА
О МАРГИНАЛАХ
О ТОМ, КАК МЕСЬЕ БОННАР ПОЕХАЛ НА ОСТРОВ ХВАР
О ДЕ КИРИКО
ЕЩЁ О КУКАРЕКУ
О КЛЕЕ
ОБ АХИНЕЕ В МУЗЕЕ КЛЕЕ
О ДВУХ ЖЕСТОКОСТЯХ — АНТОНЕНА АРТО И НЕИЗВЕСТНОГО НИЩЕГО
О ПОПЫТКЕ ДЮБЮФФЕ
О ВЛАДИМИРЕ ЯКОВЛЕВЕ (И СЕЗАННЕ)
О ФРЭНСИСЕ БЭКОНЕ И ВЕРНОМ СПОСОБЕ ПОЛЗАТЬ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ
О НОЧАХ ФИЛИПА ГАСТОНА
О САЕ ТВОМБЛИ
И ПОСЛЕДНЕЕ: О НАЗНАЧЕНИИ ИСКУССТВА
ISBN 978-999999-0-34-9
Александр Бренер
Ка, или Тайные, но истинные истории искусства. Санкт-Петербург: Все свободны, 2017. — 384 стр.
Александр Бренер — арт-скандалист и сравнительно недавно открывшийся нам большой писатель. Его новая книга — перебирание чёток, ритмизованная мантра, частично записанная на звёздном наречии Хлебникова. Бренер повествует о художниках и их шедеврах — от безвестного резчика по кости каменного века до Фрэнсиса Бэкона и Сая Твомбли — настолько лично, словно вы сами переживаете каждую эмоцию, каждый миг созерцания. Радикальный противник институций учит, как разглядеть истинную суть искусства, вписывая каждое творение в мировое полотно смыслов.
© Александр Бренер, 2017
© Все свободны, 2017
О ЛЮБВИ К ХУДОЖЕСТВУ
Мы живём в эпоху, когда искусство сделалось посмешищем.
Раньше дерзких и непокорных усмиряли с помощью цепей, кнута и оплёвывания.
А мировое искусство убили путём продажи, шумихи и глорификации, как могли бы убить равнодушием.
Некалендарный праздник образотворчества превратился в безотрадные будни зрелища.
Нет больше народа, который бы вздрогнул радостной и жуткой дрожью, услышав слово «искусство», словно это его окликнули по имени.
Нет больше художника, который вынес бы обществу ужасный приговор, как тот умерший татарин, что оставил предсмертную записку с краткой, но привлекающей внимание надписью: «Плюю на весь мир».
Поэзия утратила сознание своей правоты и заискивает на сцене.
Неужто существовала эра, когда светская чернь боялась художества как сумасшествия, а власти держали артиста за слишком уж горячую голову?
Неужто чрезмерная нежность и божественная жестокость были ремеслом художника?
Много же воды утекло с тех пор.
Кто теперь помнит эту немую выставку свободы от железных законов жизни?
Далеко и то время, о котором сказал Матисс: «Моя живопись — кресло для усталого бизнесмена».
В его словах — усмешка и сухость.
А что сейчас?
Полюбуйтесь: бриллиантовый череп с золотой цепью на руке и ноге, с изумрудом в пупке, готовый на похабные услуги в мировой корпорации.
Ну да чёрт с ним, с этим убожеством.
У нас ведь своя, дикарская радость: мы пылаем любовью к искусству.
А любовь — не власть, она — сила.
Она даже железо заставит запеть: «О, рассмейтесь!..»
Поэтому если б меня вдруг разбудили среди ночи и приставили нож к горлу: «Как же нам обращаться сейчас с мировым художеством или с каким-нибудь одним его творением?», то мой ответ был бы скор: «Как можно любовней».
Искусство хочет сугубо личного, сокровенного к себе отношения.
Оно требует перверсии.
Превосходные гетеры античности и некоторые тираны древности, средневековые еретики и герцоги Ренессанса, безродные бродяги на пыльных дорогах Европы и философы в тенистых аллеях, а под конец даже отдельные торговцы вроде Амбруаза Воллара понимали, что истинное проникновение в образотворчество — это не когда вы смотрите на Джоконду из луврской очереди, но когда падаете перед нею ниц, пляшете, сжимаете её в руках, целуете, рвёте в клочья, отворачиваетесь в смятении, подрисовываете ей усики, заумно воркуете — то есть вступаете с ней в самые задушевные, а подчас и загадочно-тесные, странные отношения.
Надо обожать искусство, следуя собственной таинственной логике.
И всегда помнить слова поэта: ум начинается там, где учатся делать выбор между плохим и хорошим.
Сделаем же выбор в пользу наилучшего — мира иного, искусством сотворённого.
ОБ ОДНОЙ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ АКРОБАТКЕ
Говорят, в Древнем Египте искусство находилось под абсолютным контролем государственных чиновников и жрецов, которые утверждали незыблемые канонические формы для всех изображений.
Без этих канонов и шагу нельзя было ступить.
Наверняка так оно и было.
Но я вспоминаю один египетский черепок, хранящийся в Турине.
На этом глиняном кусочке изображена юная танцовщица.
Она сделала «мостик» — запрокинулась всем телом назад перед тем, как перевернуться.
Волосы её упали на землю, а худое тело прикрыто только набедренной повязкой.
Какое же это акробатическое существо!
Безымянная, прыгучая, неподвластная тварь!
Её поза обещает волшебный кувырок.
Она не заботится ни о морали, ни о величии, ни о добре и зле, а лишь открывает саму себя.
Она дошла до нас на обломке горшка — вне всяких контекстов, без канонов.
Она исключительна, беспризорна, неуправляема.
Так вот, это — моё искусство.
И оно не повинуется никаким установлениям и законам.
Оно не важничает, не унижается.
Оно не заботится о морали, славе, добре и зле, истине, а лишь открывает себя.
Оно, как эта циркачка, — перед прыжком в неизвестное.
Оно — живое.
Оно блаженно.
О ДРУЖБЕ С МЁРТВЫМИ
Древние египтяне много думали о мёртвых.
У них были чёткие правила сообщения с миром усопших.
Эта моя книжка тоже про якшание с мертвецами — художниками прошлого.
Только у меня мало правил.
Но одно всё-таки есть — тяга к их мистериям.
Как сказал мыслитель: «Я должен быть с мёртвыми, если только хочу жить; вы же живёте в других условиях».
Должен признаться, дружеские связи с живыми у меня не получались.
Отношения с современниками складывались в моей жизни дурно, с ожогами и зáморозками.
Я рвался к пылким привязанностям и жарким союзам.
Я хотел дружить и делить с другом всё, что у меня было.
Но, возможно, у меня ничегошеньки не было.
Я мечтал, чтобы в дружбе не было никаких расчётов, кроме неё самой.
Но я не знал, а, возможно, если б и знал, то не понял бы сказанного поэтом: «Дружба подобна сокровищнице: из неё невозможно почерпнуть больше, чем ты в неё вложил».
И всё же у меня оказались друзья — мёртвые.
Из своего эфира, из своего моря морского они сходили ко мне то поодиночке, то стаей.
И я улетал в их простор, в их океанические глубины.
Как говорит одна похотливая старуха в рассказе Зощенко: «Ах, как я любила любовь!»
Своими щедро расточаемыми ласками мёртвые — я говорю о поэтах, художниках — исцеляли меня от логики ужасного века, от злобного смысла, пришедшего с островов земли.
Кумиры целящие, я пользовался позаимствованным у вас блаженством!
Я был нищ близостью к божествам.
«О, дайте мне уста! Волнистые уста дайте мне!» — молил я моих морежителей.
Дали ли они?
Не смехотворно ли жить заимствованным светом?
Но ведь сказал же Ницше: «Необходимы образы, по которым возможно жить».
О ПОГОСТАХ
Бродя по Европе, я посещал некрополи, дабы навестить любимых покойников.
О, Монжуик, Централфридхоф, Празереш!
На маленьком лондонском кладбище, превращённом в парк, я отыскал памятную плиту Уильяма Блейка.
Чтобы выразить кумиру свой восторг, я не нашёл ничего лучшего, чем раздеться и лечь перед надгробием.
Я хотел излить на Блейка мою горячую сперму.
Но не удалось — на скамейку поблизости сели какие-то офисные служащие.
Не закончив ритуал, я бежал.
В Париже я прямо-таки пристрастился к могильникам.
Мне ненавистны были толпы на бульварах, витрины, стада машин, зато места вечного упокоения прельщали своей умиротворённостью.
На монмартрском погосте я влюбился в могилу Фурье, хотя никогда не читал его книг.
Зато знал: сюрреалисты восхищались им, его ценил Делёз.
Я брал с могилы комья земли и нюхал, пачкая нос и щёки.
Я приплясывал перед захоронением.
Я любил хвататься за деревья на том погосте: стволы впитали в себя соки прошлых людей.
Здесь были похоронены Гейне, Виктор Браунер.
Там обитало множество кошек, и мы с Варварой приносили им кушанья.
Выложив жратву на могилу, мы призывали зверьков: «Кис-кис-кис!»
Твари ели, сидя на Фурье, а мы пили украденный в лавке коньяк.
Гераклит сказал: «Бросьте моё мёртвое тело псам!»
А Микеланджело добавил:
Мне любо спать — отрадней камнем быть.
В сей век стыда и язвы повсеместной
Не чувствовать, не видеть — жребий лестный,
Мой сон глубок — не смей меня будить.
Но я хотел тревожить мёртвых — искал их помощи.
На кладбище Монпарнас мы ходили к Бодлеру.
Перед его могилой хорошо было целоваться и щупать друг друга.
Заметив это, дама в шубе крикнула: «Merde!»
Там же я обнаружил надгробие графика Ролана Топора.
Это был барельеф с изображением бегущего человека — в руке чемодан.
Чемодан раскрылся, и его содержимое вы´сыпалось наружу.
Мне всегда нравились рисунки Топора — своей странной топорностью и забавным ступором.
Барельеф мне тоже понравился.
Я тут же сбегал на находящуюся неподалёку могилу Сержа Генсбура, заваленную цветами.
Украл у Генсбура самый роскошный букет и отнёс Топору.
Много раз совершал я подобную процедуру: дарил чужие цветы Беккету, Сезару Вальехо, Бранкузи, Десносу.
Но самая смешная история случилась на Пер-Лашез.
Мы там навещали Уайльда, Сёра, Доре, Делакруа, Домье, Махно, Нерваля...
Я приохотился незаметно, но смачно плевать на могилы моих возлюбленных — орошать их своей внутренней сыростью.
Так я пытался засвидетельствовать им своё благоговение и интимно влиться в их море морей.
В самом деле, что может быть сокровеннее передачи саливы изо рта в рот, как это делают любовники?
И вот, бродя по Пер-Лашез и поплёвывая, наткнулись мы однажды на толпу перед могилой.
Это было последнее пристанище Джима Моррисона.
Там всегда есть туристы, молодёжь, любопытствующие.
В тот день место Моррисона была окружено металлическими барьерами — то ли из-за ремонтных работ, то ли чтобы не затоптали люди соседние погребения.
Мы подошли и молча наблюдали.
Рядом с надгробием стояла охранница в униформе — чернокожая женщина.
Она невозмутимо смотрела на сборище, а поклонники Моррисона фотографировали, гудели, старались как можно ближе подступиться к святилищу.
И вот я со своего места взял и плюнул на камень Джима.
Белая, пенная слюна полетела далеко и приземлилась точно.
Преогромная капля повисла на памятнике.
Паломники обалдели: то ли перед ними сумасшедший, то ли опасный осквернитель могил?
Кое-кто воззрился на меня в ярости, другие — в отвращении.
И только чернокожая охранница улыбалась поощрительно, ласково.
Она поняла: сей плевок — признание в любви, рекорд нежности, единственно возможное соприкосновение с милым поверх барьеров.
Лишь она одна осознала и одобрила!
Я осклабился в ответ.
Так вот — неуклюже, без навигации — отправлялся я в замостье мёртвых, заплывал в их море морей на своей утлой лодочке.
Как сказал Рене Шар: «Только живые трупы думают, что в этом мире можно бросить якорь».
О, ЗВЕРИНЕЦ!
В старости Мунк говорил: «Я живу только с мёртвыми — матерью, сестрой, дедушкой. И ещё со Стриндбергом, Ибсеном, Кьеркегором».
И Клее: «Мне хорошо лишь с умершими и нерождёнными».
Не все ли истинные художники предпочитают эту компанию?
Леонардо: «Счастлив тот, кто готов подставить ухо шёпоту усопших».
И Бальтасар Грасиан: «Нет стремления более естественного, чем стремление к мертвецам, ведь они дают знание».
И ещё они — хранители образов.
— Друг мой Ка, — сказал Хлебников, — отведи меня к ним!
— Идём сюда, — отвечал дух, — где Скифы из Сфинкса по утрам бегают по золотистому песку. Взглянем в полузадёрнутые временем очи храмозверя. Прольём губку времени прямо в свои глаза!
Я никогда не умел располагаться уютно в креслах среди живых.
Да и можно ли делать гостиную из жизни?
Вместо кресел я собрал в этой книжке собственный малый зверинец храмозверей, дорогих мне своей дикостью.
Но они уже разбежались: клеток в зверинце не было.
Вместо клеток я имел три намерения.
Первое: посмотреть на каждого из зверодрузей вблизи и найти в нём его собственную, особую наглость: как он сумел разрушить заставы времени и найти меня.
Второе: прижаться к зверодругу, чтоб ощутить его мускулы и кости.
И третье: сговориться с ним и сбежать из прокля´того, унылого зоопарка, куда нас заточила эпоха — хоть на день, хоть на часок!
Мои храмозвери помогали мне в этом, а иногда нет.
У них ведь беззаботный нрав, они ни к чему в своём море морей не привязаны.
А раны они лечат, даже не прикасаясь, — ни лапами, ни устами.
У них есть иной способ: позвать Лилю, Хлою или Суламифь, чтоб они показали себя.
Прав поэт:
Скорее челюстью своей
Поднимет солнце муравей;
Скорей вода с огнём смесится;
Кентаврова скорее кровь
В бальзам целебный обратится, —
Чем наша кончится любовь.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОБРАЗОВ
Возьмём быка за рога: откуда берутся образы?
Кто их выдумал — поэты, художники?
Боги, демоны?
Вальтер Беньямин считал, что образы спустились с небес: древние люди глядели на ночной небосвод и соединяли звёзды в фигуры — созвездия.
Таков источник воображения.
И Леонардо склонялся к тому, что образы рождаются в поднебесье.
Он следил за облаками и в их метаморфозах искал тайну образотворчества.
Павел Флоренский сошёл с тверди небесной на линию горизонта и говорил, что жар, исходящий от нагретой солнцем земли, разжигает видения.
Волны зноя в пустыне порождают миражи — это знали странники и паломники.
Ещё отец Павел учил, что сон даёт толчок образам — самым туманным и самым кошмарным.
Согласно Флоренскому, только монашеское умозрение очищает образы, доводя их до божественного свечения.
Великий Платон, которым Флоренский напитывался, полагал, что образы — тёмные, глухие тени, населяющие человечью пещеру.
Племя людское так и не вышло из этой каменной щели, кишащей призраками и фантомами.
Дух должен бодрствовать и стремиться к свету — тогда образы перестанут быть химерами и станут идеями.
А Курбе сказал: «Образы есть борьба тени и света».
Китайские же мудрецы-художники верили, что все образы происходят из пустоты и в неё возвращаются.
А Брейгель любил особый тип картин — «мировые пейзажи», которые уводили взгляд в бесконечность, но вдруг задерживали его на какой-то важной детали, вроде фигурки падающего с неба Икара.
Здесь образ рождается из самой безбрежности мира — и в ней теряется.
Сезанн написал в старости: «Дело плохо. Нужно спешить, чтобы хоть что-нибудь ещё увидеть. Всё исчезает».
А Агамбен сказал: самое интересное — это воображение без образов.
Не этого ли хотел и Малевич, думая о Вечном покое?
Права Ахматова: образы растут из сора — плесени на стене, прыщика на носу, любовных объятий; из мусорного ведра, где что-то вдруг зашуршало; из темноты в спальне, из запаха метро, из сердитого окрика; из других образов, от высокой температуры, из зубной боли...
Но лучше, блаженней всех, сказал об образах Хлебников: «У меня был Ка; в дни Белого Китая Ева, с воздушного шара Андрэ сойдя в снега и слыша голос «иди!», оставив в эскимосских снегах следы босых ног, — надейтесь! — удивилась бы, услышав это слово. Но народ Маср знал его тысячи лет назад. И он не был неправ, когда делил душу на Ка, Ху и Ба. Ху и Ба — слава, добрая или худая, о человеке. А Ка это тень души, её двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину. Ему нет застав во времени; Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времён)».
ОБО МНЕ, ПИШУЩЕМ ЭТУ КНИГУ
И опять — разве скажешь лучше Хлебникова: «У меня нет ногочелюстей, головогруди, усиков. Мой рост: я больше муравья, меньше слона. У меня два глаза».
Вот и всё.
Да ещё, как сказал один древний египтянин, беседовавший со своим Ка: «О, до чего ненавистно мне моё имя!»
Хотя я по возрасту старик, на мне расцветают подростковые прыщики.
Я мог бы сказать, что у меня птичий, беззаботный нрав, если бы ночами меня не охватывали припадки ужаса.
У меня нет дома, денег, имущества, нет страны, но есть американская одежда и паспорт азиатского государства, которое мне отвратительно.
Я хожу по городу Цюриху, где покорённые дикари время от времени спрашивают осторожными, хитрыми глазами: «Кто ты?»
Мне нечего им сказать, да я и не знаю их языка.
Я чужой — и буду таким до конца.
Вокруг пасутся стада сытых, ухоженных людей, ведь это лучший в Европе Хреновский завод парнокопытного человеководства.
Но ради людской сытости надо убить в себе ежа или жаворонка — и изжарить их на газе.
Я этого не желаю, да и готовить не умею ничего, кроме бутербродов с сыром.
Зато у меня есть самая красивая на свете подруга с варварским именем и изощрённейшими кулинарными талантами.
И любовь — кольчуга против мира сего, в ней быстро идёшь ко дну в море морей.
И Ка — покровитель воров и художников.
Раньше он ходил с Велимиром, с коим я делю буквы.
Но не довольно ли обо мне?
О ВЕНЕРЕ ИЗ ПЕЩЕРЫ И РУБЛЁВСКОЙ ТРОИЦЕ
Посмею ли я признаться, что во всём циклопическом корпусе мировой культуры только пещерные рисунки и палеолитические фигурки говорят на языке, который я понимаю?
Аш.
Ах.
Ка.
Ба.
Ра.
Бех.
Кук.
Ихи.
Неужто я такой троглодит?
К искусству вообще можно относиться как к разным освещениям одного и того же образа — чудесной безголовой фигурки Швабской Венеры из пещеры Холе-Фельс в Германии, возраст которой 35 тысяч лет.
Тогда бесконечное разнообразие истории искусства окажется созерцанием борьбы тени и света на всё том же вспухшем, складчатом торсе с шарообразными грудями и висячей вульвой, повторённом бесконечное число раз куртизанками и царицами, старцами и младенцами, воинами и нищими на миллионах картин и в тысячах статуй.
Венера из Холе-Фельс — идеальный образ для игры воображения.
Пещерная Афродита, вырезанная из бивня мамонта, — прообраз венер Боттичелли, Джорджоне, Кранаха, Веласкеса, Рембрандта, Тициана, Курбе, Ларионова.
Сочиняя эту книжку, я коротал дни в цюрихской библиотеке Кунстхауза, где листал альбомы Тьеполо, Моранди, Чимабуэ, Энгра, Гончаровой, Дега, Бальтюса, Фра Анжелико, Коро, Альтдорфера, Энсора — и много, много кого ещё.
Там, среди архангелов, закованных в латы, и пожилых ведьм с костлявыми чреслами, крючконосых герцогов в алых лентах и тонкогубых менял за конторкой, исступлённых монахинь и расслабленных куртизанок, я неизменно наталкивался на безголовую пещерную Венеру с отсутствующими ступнями, с перископическими формами, из которой вышли и в которую вернутся все-все-все.
Да и может ли кто-то не быть ею?
Троица Рублёва?
Да, она — Джомолунгма.
Все большие и малые солнца пылают в ней.
Рублёвская Троица способна снять жирную копоть со всех остальных картин мира, омрачёных кадением лживых лампад.
Она дала возможность быть Хлебникову: «Вчера я молвил: гуля, гуля! И войны прилетели и клевали из рук моих зерно».
Когда же эти немые начертанные знаки утихомирят враждующую брехню языков?
Надев щит Троицы на руку, спасёшься от всех ударов.
Но, глядя на фигурку Венеры из Холе-Фельс, я вижу самое первое открытие.
Там — зрение и ощупывание.
Пещерные люди ведь всё узрели и ощупали впервой.
Огнь.
Мех.
Глаз.
Твердь.
Пуп.
Слизь.
Нос.
Высь.
Они и слово держали во рту, как кость.
Есть, например, слово «на» — лучшее в русском языке.
— На, — сказал он, протянув ей вырезанный из бивня её образ.
И они смотрели и щупали.
— Будь мёд, — сказала она. — Слижу тебя.
Божественность Венеры из Холе-Фельс, как и Виллендорфской Венеры, как и всех палеолитических венер, заключается в деформированности её форм.
Деформация — основа выразительности в искусстве и жизни.
Чем интенсивней чувство, тем сильнее деформация.
Это знал Аби Варбург, увидевший сущность образа в жестуальной экспрессии, в двигательном аффекте, и давший этому имя: PATHOSFORMEL.
У пещерной Венеры нет головы, нет ступней, нет жеста, но она первейшая pathosformel — деформированная богиня.
Формы этой костяной бабы позволяли троглодитам отождествлять её со всем живым — с лягушкой и тучей, с землёй и духом.
Так и ныне: ты глянул на Венеру — и сразу почуял, как все ненужные истины отвалились от тебя, словно болячка с колена ребёнка, и он пробует её на вкус и шепчет: «бубликсмаслом».
Ибо каждый ребёнок, как Осип Мандельштам, знает: в бублике прежде всего ценна дырка.
А как же быть с бубличным тестом?
Его можно слопать, а дырка останется.
О НАЗНАЧЕНИИ ИДОЛОВ
А чем ещё была Венера для пещерной особы?
Копьём!
Секирой!
Палицей!
Как сказал поэт: «Копьё благородней ружья, а сапоги благороднее башмаков».
Вот именно: Венера-копьё — оружие против мрака, потухшего зрака, бесплодия, дьявольского отродия, импотенции, вражеской конкуренции, несуществования, всяческого беснования, тёмных сил, злых сивилл, холода и голода.
Таковы и все идолы: африканские божки, эскимосские маски, Ника Самофракийская, Керносовский идол, каменные бабы из Средней Азии, «Давид» Донателло, «Кондотьер Коллеони» Верроккио, «Юдифь» Джорджоне, «Даная» Госсарта, «Авиньонские девицы» Пикассо, «Поцелуй» Бранкузи...
Это — фетиши, обереги, апотропеи, хоругви, щиты и копья.
«Все эти идолы — орудия экзорцизма», — провозгласил Пикассо, посетив музей Трокадеро перед началом кубизма.
А Ницше воскликнул: «Произведение искусства околдовывает! Но сколь нестерпимо то, что творец всегда напоминает нам, что это его произведение».
Однако древнее искусство не имеет автора и остаётся боевым оружием даже в музее.
Как заметил Поль Валери: «Я не очень люблю музеи. Многие из них прекрасны, но нет среди них очаровывающих».
А Венера из бивня мамонта очаровывает.
И древнее древко тоже.
А ещё ими можно пользоваться — для самозащиты и восстановления сил.
Так дети пускают в дело найденный в земле гвоздь или подшипник.
Всё вырытое из земли можно поставить в витрину и классифицировать, а можно и использовать — как невиданную возможность.
Как будто это и не найдено в земле, а упало сверху — то ли из облака, то ли из птичьей стаи.
Какашка?
Талисман?
Артефакт?
Нет — неведомое копьё.
ОБ ОДНОЙ ЗАМАРАННОЙ ДВЕРИ
Помню, как пришёл я однажды на лекцию в берлинскую галерею KUNST-WERKE.
Кстати, вот слова Валери о музеях и галереях: «Первый же шаг к прекрасным вещам — и чья-то рука отбирает у меня трость, а надпись воспрещает мне курить».
В той галерее сидела толпа художников.
И один из них вещал что-то бренное, скудное.
Я же почувствовал столь могучее отвращение, что вскочил и крикнул: «Мяу!»
Они глянули на меня как на полоумного.
А я пуще прежнего: «Мяу-мяу!»
Многие зашикали злобно, призывая меня к смирению.
Я же не унимался, как ведьма перед инквизицией: «Мяу-яу!»
Для меня это «мяу» было как «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» — для раскольника.
Тут один из присутствующих крикнул мне с иронией: «Ох, какой хороший перформанс!»
Я же, ненавидя само это слово — «перформанс» — и всё, что за ним скрывается, завопил что было мочи: «МЯУ-МЯУ! МАААУ!»
Они поняли, что задели меня за живое, и все хором орут: «Спасибо, спасибо тебе за перформанс!»
А я в ответ: «Это отнюдь не перформанс, но если вы и вправду перформанс хотите, то сейчас получите!»
Тут я спутил штаны и на скамью обкакался — обильно, коричнево, жидко.
Видно, отвращение моё приняло уже поносную форму.
Началась паника.
Лица присутствующих возымели такое выражение, как на картине Эдварда Мунка «Крик».
Я же, чтоб меня не сдали в полицию, вскочил и кинулся к выходу.
Однако в последний момент зачерпнул из зловонной лужи горсть диареи и мазнул ладонью по двери: аа-ах!
Получился образ, да не простой, а — КОПЬЁ НЕВЕДОМОЕ.
О ЛАОКООНЕ
Нужно ли начинать рассказ с детства?
Вовсе не обязательно.
Продолжу Лаокооном.
Он был моим первым громоподобным впечатлением от искусства.
Страшный, азиатский, мученический Лаокоон — мраморное смятение.
По его наущению я сбрил себе брови и раздавил термометр, дабы извлечь оттуда ядовитые шарики.
Ещё я взял дедову трость, чтобы атаковать кого-то.
Может, Лернейскую гидру?
Я смешивал Лаокоона с Гераклом.
Но факт остаётся фактом: всю жизнь провёл я под его воздействием.
Он — страдалец и борец, непонятый своими согражданами, наказанный богами.
И я тоже был страдальцем и борцом всё детство.
Меня не уважали ни учителя, ни родители, ни одноклассники.
У нас оказались разные языки и походки.
Мне ближе был тягающийся со змеями троянский жрец и два его малолетних сына, стонущие на древнегреческом языке, чем все филистеры, говорящие на обиходном русском.
«Если есть понятие отечества, то необходимо и понятие странничества — будем же чтить оба», — сказал Будетлянин.
Дело заключается вовсе не в том, чтобы жить по-житейски, а в том, чтобы жить в воображении.
И то общее, что есть между людьми, лучше выражено в статуе Лаокоона, чем в учебниках по анатомии.
Итак, обмотаем голову полотенцем, возьмём посох и пойдём на Медузу Горгону и на всех ужасных питонов Каа, переваривающих кроликов.
Пусть ум освободится от бессмысленной растраты сил в повседневных речах.
Предоставим современникам устраиваться, как им угодно.
Их дело — торг, коммуникация, дети, служебная каторга, приобретения.
Наше же — копьё против приобретателей, искусство, блажь.
Забудем о том псевдогреческом, что проповедуют учителя рисования, и будем думать о подлинно греческом, о классицизме восставших рабов и простоволосых нимф.
Станем трехглавым Цербером, чтоб не дрожать кроликом, коего бросили змеям.
Станем нильскими крокодилами!
Так действовал на меня Лаокоон.
Подражая ему, я ложился на пол и разевал пасть, пока у меня не сводило челюсти.
Или принимал страдальческий вид и брыкался в постели.
Я был обезьяньим Лаокооном.
И Эль Греко был одержим этим образом.
И Николай Васильевич Гоголь.
И мало ли кто ещё.
О СТРАСТИ К ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЮ
Однажды, стоя перед толпой любителей искусства на площади Любляны, я сжимал одно из своих яичек: смогу ли его расплющить?
При этом я грезил об Антонене Арто.
Яйцо не давилось, было больно — и от стыда я начал бросаться куриными яйцами в публику.
Желание перевоплощения может привести к удивительным жестам.
Давным-давно входил я в московский Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Там, в вестибюле, высился на бронзовом коне кондотьер Коллеони.
Он производил на меня неистовое впечатление.
Вот бы стать этим всадником и проехаться по музею!
Вот бы въехать на этой лошади в зал античной скульптуры и свалить ударом бронзовой десницы мраморного дискобола!
Искусство никогда не делало меня благочестивым.
Думая о Чаплине, я ни с того, ни с сего начинал бешено хохотать среди людей, и они решали: больной.
Или, вспомнив Ван Гога, пачкался калом.
Или мочился себе на ступни, а не в дыру унитаза, размышляя о Марселе Дюшане.
И часто снилось мне: я — князь Лев Николаевич Мышкин, и разбиваю вазы.
Или я — Оливер Твист, и убегаю из омерзительной банды Фейгина — от московских художников.
Или я — Золотой осёл Апулея, и мне предстоит сношение с грудастой развратной матроной.
Члены сводило судорогой.
Как сказал один из умнейших поэтов: «Поэзия есть попытка восстановить средствами артикулированной речи то единое или многое, что смутно силятся выразить крики, слёзы, ласки, поцелуи, вздохи и т. д. и которое, очевидно, стремятся выказать предметы, поскольку им присуща видимость жизни и скрытой целенаправленности».
Да, точно!
Сам я, однако, прибегая к крикам, поцелуям и вздохам, никогда не умел вовремя вернуться к артикулированной речи и застревал в первичных импульсах, вызванных великими произведениями искусства.
Насмотревшись иллюстраций Доре в томе Рабле, я мальчиком воровал у других детей игрушки.
Увлёкшись Тулуз-Лотреком, мечтал стать калекой.
А когда вырос и оброс щетиной, то, как бронзовый кондотьер Верроккио, пошёл в бой на Ельцина и кураторов-негодяев, сразился с салонным искусством и торгашами, восстал против власти экономики и общества спектакля — бился со всеми этими бледными гадами, отравлявшими мою кровь.
Колоколы-балаболы,
Колоколы-балаболы,
Накололи, намололи,
Дале боле, дале боле...
Накололи, намололи
Колоколы-балаболы.
О ФОНТАНЕ АРХИТЕКТОРА САЛЬВИ
Однажды в Риме мы с Варварой воссоздали скульптурную группу Лаокоона, сами того не ведая.
Было это так.
Все знают о существовании знаменитого фонтана Треви, находящегося в Риме перед палаццо Поли.
Его спроектировал Никола Сальви.
Все смотрели фильм Феллини Dolce Vita, где роскошная Анита Экберг плещется в фонтане Треви.
Толпы туристов бродят, как нищие пингвины, вокруг этого фонтана, пожирая глазами каменного Нептуна, сидящего на морской раковине.
Статуи тритонов и гиппокампов поражают воображение!
В нишах по бокам океанического божества торчат аллегорические фигуры.
Скалы высятся в бассейне, окружённом зеваками.
Люди бросают в воду монетки — на удачу.
За неделю специальная служба вылавливает из фонтана Треви несколько тысяч евро, а за год — миллион!
Мы вознамерились прыгнуть в этот фонтан душным вечером, без всякой мысли о деньгах — просто освежиться и повыпендриваться.
Туристы смотрели, как мы пробуем воду пальцами ног.
Но стоило нам ступить в фонтан — и на наши плечи сиганули два здоровенных охранника!
Их клешни сдавили нас и лишили дыхания.
Оаа!
Всё было как в мифе: два чудовищных змея, и мы — детки Лаокоона.
Самого его рядом не было, зато громоздился Нептун — не спешащий на помощь, а холодно усмехающийся.
Один из охранников — багровый, словно медная статуя — склонился и проворожил:
— Мер, Ур, Мут, Нейт, Нех, Бет, Нун, Нут, Ниау.
Это был не итальянский язык, а какие-то тёмные заклинания.
Мы поникли в их руках, как тряпичные куклы.
И они содрали с нас немыслимый штраф — сто, кажется, евро!
Вот что сотворил со мной и Варварой Лаокоон.
Но я ему всё равно страшно благодарен: человек должен иметь перед собой образ страдания, чтобы страдать и преодолевать страдальчество.
Хорошо сказал Ницше: «Долгие и великие страдания воспитывают в человеке тирана».
О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ВАЗАХ
Нет на свете ничего прекраснее чёрно- и краснофигурной греческой вазописи.
Вазы удивительны тем, что они одновременно — скульптура и живопись.
Пластика их вызывает в памяти самые изысканные телесные и природные формы.
Линеарные изображения на вазах — источник всего европейского образотворчества.
Вазы, сошедшие с гончарного круга, обожжённые в печи и расписанные кисточками, — это планеты на своих особых орбитах, со своим животным и растительным царством, со своими богами и племенами, чудищами и героями, красавицами и уродцами.
Как сказал поэт: «Прелесть древности постигается лишь тогда, когда она озаряется огнём радостной молодой руки».
Греческие вазы — древняя младость искусства.
Они замечательны тем, что свободно кочевали из сакральной сферы в профанную и обратно.
В вазах держали воду и вино (и смешивали их там), оливковое масло, благовония, фрукты, солёную рыбу, иные продукты.
Их использовали как кухонную утварь и украшения в доме.
Они были неотъемлемыми атрибутами любого банкета, свадьбы, пирушки.
Из них пили, ели, их ощупывали, в них плевали, их передавали из рук в руки, на них любовались, в них мочились.
Вазы и чаши являлись предметами торговли.
Ими пользовались для жеребьёвки и голосования.
Вазы служили призами в спортивных состязаниях.
Но они были и в святилищах, и на могилах.
Иногда вазы прямо отмечали местонахождение захоронения.
В них хранили пепел усопших.
А какой-нибудь бродяга мог унести вазу из некрополя и пользоваться ею для своих нужд.
Гробницы грабили — ради ваз и других ценностей.
Вазы делались из глины — как человек из плоти.
Афинская глина была весьма хороша — красновато-оранжевого цвета, как плоть после солнца.
Изображения наносились на глину тонкими кисточками — словно раскрашивалось лицо девушки.
Иногда линии были трёхмерными — рельефными — как некоторые татуировки.
Нигде граница между понятиями «ремесло» и «искусство» не затуманена так, как в этом гончарно-вазописном деле.
Ну и прекрасно — зачем границы?
Превосходны имена этой керамики: аскос, гидрия, динос, килик, киаф, псиктер, скифос, алабастрон, амфориск, арибалл, лекана, лекиф, племохойя, пиксида, эпинетрон, ольпа, эпихизис, калаф, фиал, кернос, несторида, пелика, пифос.
Но моя классификация античных ваз элементарна: приличные и неприличные вазы.
Я безусловно предпочитаю неприличные.
Древние украшали свои глиняные сосуды головой льва, телом сфинкса или, например, грифона.
Но они наслаждались также сосудом, горлышко которого воспроизводило фаллос с двумя яичками.
Греки обожали расписывать вазы сценами чувственного возгорания, похотливого чесания, херовставания, удососания, любовного прикасания, целования, обнимания, палкобросания и прочих утех.
На этих рисунках юные девы улыбаются хвостатым сатирам в предвкушении их ласк.
Зрелые жёны отдаются супругам в разнузданных позах.
Подростки возбуждаются и их причиндалы тянутся вверх, как грибы после ливня.
Молодцеватые дядьки скрещивают свои уды, сравнивая их мощь.
Волосатый коротышка засаживает свой срам в ягодицы вставшей раком матроны.
Эректированные фигурки скачут друг за дружкой, как воробьи в солнечную погоду.
А сестра говорит брату, трогая его за кончик: «Брат, брат, полюби меня!»
И, заплетаясь ногами в цветах, девочка и мальчик сосут друг друга.
А острогрудая молодица, вставляя в себя фалл кудрявого девственника, наставляет его косыми от страсти глазами: «Не торопись, но и не замедляй счастья, учись держать правильный ритм».
Там гетера снимает сандалии с воина, демонстрируя ему свою аппетитную щель.
Там крупнотелая жрица мочится в ритуальный сосуд после долгого и сладкого коитуса с богом.
Там Ахилл убивает копьём царицу амазонок Пентесилею, и их глаза встречаются в её смертный миг, и между ними вспыхивает страсть, на что указывает улыбка Пентесилеи и бунтующий фаллос Ахилла.
Там курносые сатиры — спутники Диониса — держат на головках своих вздёрнутых членов чаши, наполненные вином.
Там чёрный цвет вазы контрастирует с тёплым оранжевым цветом голых фигурок, напоминая о ночном светильнике, освещающем любовную схватку.
Рога оленя растут из черепа вожделеющего монстра, хватающего за лодыжку обалдевшую нимфу.
Вакханка с растопыренными ляжками, выскочившая из леса, говорит голому воину в угрожающем шлеме: «Иль сокол наш горлинку гонит?»
А он, смеясь, отвечал: «Нет, это я голубь, а ты — соколица».
А потом они, хватаясь за дерево, сношаются и поют в экстазе:
Лоно глубоко Семелы,
Но до дна достанут стрелы
Зевса-олимпийца!
И свистит над ними удод — красно-полосатый, с чёрно-крапчатым хохолком.
Эротическое искусство контура достигло своего пика в этой неприличной вазописи — в изображении чудесных профилей, складчатых и распахнутых туник, набухших сосков, соприкоснувшихся тел, изысканнейших ступней, вьющихся бород, сладострастных хвостов, развившихся локонов, налившихся бицепсов, стройных лодыжек, мощных бёдер, выгнутых спин, напрягшихся ягодиц, вставших писек, весёлых яичек, судорожно сжатых или раскрытых ладоней, превосходных животов и забавных носов.
Художники, расписывавшие эти вазы, веселились от души.
Рассказывают, что знаменитый вазописец Амасис предпочитал вазы живым женщинам и спал с амфорами в обнимку.
Однажды он попросил гончара, в мастерской которого работал, сделать специально для него алабастрон (сосуд для хранения ароматических веществ) с горлышком, идеально подходящим для его члена.
С этим глиняным шедевром грушеобразной формы он и занимался любовью, предварительно расписав его чёрными фигурками сатиров, запрыгивающих на розоватых смеющихся гетер.
Этот алабастрон хранится сейчас в коллекции одного китайского биллионера и, согласно неподтверждённым данным, до сих пор хранит в себе следы спермы мастера Амасиса.
Другая версия того же рассказа гласит, что на этом алабастроне были изображены вовсе не сатиры и гетеры, а желтовато-белый осьминог, и что этот сосуд безвозвратно утерян.
Но поэт всё помнит и без киафа в руках:
Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий.
Вы же, воды, прочь теките
И струёй, вину враждебной,
Строгих постников поите:
Чистый нам любезен Бахус.
О ПСИКТЕРЕ СЕНЬОРА ПАПАЛАРДО
Мне довелось однажды держать в руках бесценную античную вазу — псиктер (иначе бавкалид), по форме напоминающий гриб.
Мы с Варварой пребывали тогда в Италии — в крайне стеснённой финансовой ситуации.
Капитала хватало только на хлеб и моцареллу.
В Милане мы продали большой карандашный рисунок владельцу художественного журнала Flash Art Джанкарло Полити.
Но он заплатил ничтожные деньги, их хватилоненадолго.
Зато Полити одарил нас иной милостью: влиятельный босс в мире искусства, он поместил в интернете сообщение, что мы — два бедных художника — скитаемся по стране без пристанища и с радостью воспользуемся гостеприимством какого-нибудь патрона.
Прошла пара недель.
Мы уже ели одну моцареллу без хлеба.
И вдруг — ура! — приходит приглашение из сицилийского города Катания от некоего сеньора Папалардо — адвоката и покровителя местных художников.
Из Неаполя мы по морю добрались до Палермо.
Сеньор Папалардо и его жена сеньора Розанна встретили нас в порту и посадили в свой серебристый джип.
Это была пожилая загорелая чета в шортах.
Сеньор Папалардо, сев за руль, снял соломенную шляпу: голова у него оказалась голая и коричневая, как печёное яйцо, и вся в благовониях.
Сеньора Розанна носила на шее и запястьях килограмм золота.
Вдоль мурлычащего моря поехали мы в Катанию под какую-то мяукающую музыку.
Город выглядел как старинный кружевной зонтик под бирюзовым небом.
Прямо над Катанией возвышался знаменитый вулкан — Этна.
В жерло Этны когда-то прыгнул Эмпедокл.
Это было не самоубийством, а становлением богом.
Одну сандалию Эмпедокла Этна выкинула наружу.
Когда мы вышли из джипа, волна жара едва не сбила нас с ног, словно мы уже стояли на краю вулкана.
Сеньор Папалардо сказал, что город построен из белого песчаника и чёрной лавы, которая изверглась из Этны в семнадцатом веке и уничтожила все старинные постройки, а заодно и часть жителей.
Вилла наших гостеприимных хозяев располагалась прямо под вулканом и была белая-пребелая.
В стороне плескался бассейн.
В первый вечер нас угощали устрицами и ризотто.
Мы сидели на широкой мраморной террасе — на крыше виллы.
Сеньор Папалардо доставал белое вино из серебряного ведёрка и разливал по хрустальным бокалам.
На десерт были поданы сицилийские сладости — засахаренные фрукты с лимонным сиропом.
Нам была отведена просторная комната с балконом, глядящим на пустырь, где росли кактусы и прыгали кролики.
На одной стене висел рисунок Энцо Кукки, а на другой — гуашь Миммо Паладино.
Мы приняли душ в ванной с паркетными полами.
Сеньора Розанна попросила нас не замочить паркет.
Спали мы в чистейшей белой кровати, но в ту же ночь превратили простыню в один из запятнанных холстов Твомбли.
На другой день сеньор Папалардо показал нам свою коллекцию.
У него были Иржи Георг Докупил, Маурицио Каттелан, Альберто Бурри, Ян Фабр, Рой Лихтенштейн, Вим Дельво, Роберт Мэпплторп, Филиппо-Луиджи де Писис, Клегг и Гутман, Гюнтер Брус, Микеланджело Пистолетто, Боб Дилан, Энди Уорхол, Ричард Принс и кто-то там ещё.
Всё это висело в разных покоях.
Была ещё скульптура Архипенко.
А в центре большой гостиной стоял стеклянный шкаф, в котором находилась античная ваза — псиктер.
Это был чёрный грибовидный сосуд на высокой цилиндрической ножке.
На выпуклых боках были изображены две молодые гетеры, вставляющие себе в промежность длинные фаллоимитаторы — дильдо.
Между гетерами сидел лысый улыбающийся сатир с задранным вверх длинным фаллом.
Он поглаживал свои яички ладошкой.
Красно-коричневые контурные рисунки были искусны и одновременно грубоваты.
Это был лучший предмет в коллекции Папалардо; лучшее во всём этом белом, стерильном, похабном доме.
Потом мы сели в джип и поехали на отдалённый пляж.
По дороге коллекционер Папалардо сказал:
— Вы нам сделаете несколько рисунков, не правда ли? У нас есть все необходимые художественные материалы.
— Да, конечно.
Пляж был узкий, золотистый, с чёрными скалами.
Адвокат Папалардо заметил:
— Здесь можно купаться без плавок.
Он скинул с себя шёлковую рубаху, шорты — и оказался гол, как сатир на вазе.
Его член свисал до самых колен — фиолетовый, глянцевый.
Сеньора Розанна красовалась в узеньких трусиках.
Сиськи у неё спускались до пупа.
— Не стесняйтесь, — сказала она.
Но я всё же остался в трусах — плавок у меня не было.
Варвара решила купаться нагишом.
Я вошёл в море, дымясь от перегрева.
Волна лизнула меня, как горячий язык какого-то храмобегемота.
Но в нижних слоях вода была целительно-бодрящей.
Когда я вернулся на берег, сеньор Папалардо лежал на песке, и его член медленно распрямлялся.
Это был уже не пенис, а целая мачта, косо вставшая над судном.
Сеньора Розанна взялась за мачту рукой в золотых браслетах и пропела что-то нежное и протяжное, как сирена.
— Не смотрите, — сказала она, ухмыляясь.
Потом мы ехали обратно на виллу.
В тот вечер нам подали, кажется, осьминога со шпинатом.
Сеньор Папалардо принёс бутылку шампанского.
Он был в одних розовых шортах, с золотой цепочкой на шее.
Сеньора Розанна сидела в расстёгнутой до пупа блузе, и груди её шевелились, как два ската.
Играла популярная музыка.
Мы чувствовали себя не в своей тарелке и хотели сбежать — смотреть на кроликов с балкона.
Но сеньор Папалардо принёс мороженое и ещё одну бутылку шипучего:
— Сейчас я вам кое-что покажу.
Он подошёл к стеклянному шкафу, в котором стоял драгоценный псиктер, открыл ключом дверцу и вытащил вазу:
— Хотите её потрогать? Только осторожней — она дорого стоит.
После Варвары я принял вазу в свои руки.
Она была волшебная: тёплая и прохладная, гладкая и шероховатая — как живое тело.
— Хороша, правда?
— Да.
Сеньор Папалардо забрал у меня вазу и молвил:
— Она умеет звучать!
Тут как раз заткнулась пластинка с поп-музыкой.
Хозяин виллы осклабился.
Сеньора Розанна хихикала и ёрзала на стуле.
За этим последовало вот что: держа псиктер одной рукой за ножку, другой он расстегнул свои шорты.
Они упали к его ногам, он перешагнул через них.
Теперь адвокат стоял голый, с золотой ниткой на красной шее, с разгибающимся громадным членом, и к чему-то в себе прислушивался.
Наконец он плавным движением прижал горло псиктера к своим ягодицам и, надув живот, пёрнул.
Оголен робатый Иллиноис
Шендоа дитя звезды летит
А внизу спешит вдогонку поезд
Бело нао на лугу кретин
Но вместо животного звука или банального пука из псиктера исторгся какой-то древний, нежный, фантасмагорический звук — словно Посейдон трубил в морскую раковину.
Сей благовест поистине не мог принадлежать загорелой заднице сеньора Папалардо — скорее уж он был вызван волнистыми устами сатира Марсия, а то и нёбом самого Пана.
На этом представление закончилось.
Мы пробыли на вилле Папалардо ещё несколько дней, гуляя и купаясь уже без наших хозяев.
Чуждо стало нам их общество.
А потом адвокат сказал, что им с Розанной надо срочно наведаться в Рим, но мы должны остаться и сделать для них рисунки.
Они уехали, заперев на ключ все комнаты, кроме кухни.
Мы провели на вилле ещё неделю, наслаждаясь вольницей.
К сожалению, псиктер в стеклянном ящике был недоступен.
Зато на кухне нашлась бутылка текилы!
Мы подумывали взобраться на Этну и кинуться в жерло вулкана, чтобы стать богами, как Эмпедокл.
Но напала такая жара, что даже из дома было трудно выйти.
Для Папалардо мы намеревались сделать рисунок, где Розанна сидела бы на мясной мачте своего сеньора посреди штормового моря, а вокруг плясали дельфины и осьминоги.
Но из-за жары нам было лень притронуться к туши.
За день до возвращения хозяев мы покинули белую виллу.
До свидания, драгоценный псиктер!
Кролики и кактусы, ариведерчи!
Всего вам хорошего, Розанна и фиолетовый фаллос!
На прощанье мы взяли из шкафа в прихожей несколько дизайнерских футболок сеньора Папалардо и разделили их между собой.
О, Сицилия!
О, Эмпедокл и Этна!
И эти стихи Ходасевича:
«Вот в этом палаццо жила Дездемона...»
Всё это неправда, но стыдно смеяться.
Смотри, как стоят за колонной колонна
Вот в этом палаццо.
Вдали затихает вечерняя Пьяцца,
Беззвучно вращается свод небосклона,
Расшитый звездами, как шапка паяца.
Минувшее — мальчик, упавший с балкона...
Того, что настанет, не нужно касаться...
Быть может, и правда — жила Дездемона
Вот в этом палаццо?..
О МАЛЬЧИКЕ, ВЫТАСКИВАЮЩЕМ ЗАНОЗУ
Классические статуи меня никогда особенно не привлекали.
Исключение — «Мальчик, вытаскивающий занозу».
Почему?
Он проснулся утром для счастья и выскочил босиком на волю.
И пел: «Заплетайтесь в мои ноги, цветы! Ласкайте мои ступни, травки!»
И вдруг получил занозу.
Ещё он пел: «О ручей, я иду к счастью! Солнце, я иду к блаженству! Не цепляйтесь за мои ноги, травки, не замедляйте счастья!»
И тут в его ступню впилась заноза.
Только что он пел: «Нежьте и услаждайте мой слух, пташки! Журчи, ручей, и указывай мне путь к удаче! Люди, звери и боги, показывайте мне тропинку к везенью!»
А в результате он сидит и вытаскивает из ноги шип.
Разве это не удивительно?
Разве это не случилось и со мной?
Какой живой этот мальчик!
Да ведь это же я!
Как он погружён в вытаскивание занозы, чтобы опять искать счастье!
У-лю-люм!
Га-ма-юн!
Как он хочет покончить с этой напастью, чтобы снова нестись по траве!
И непонятно, как этот мальчишка превратился вдруг в «Умирающего галла» — поражённого насмерть воина, чья башка склоняется в предсмертной истоме, и последним усилием поддерживает он своё нагое тело, влекомое силой смерти к земле.
Да уж: «Вступил в брачные узы со Смертью, и, таким образом, женат».
А ведь до этого ездил на необузданных конях чужих конюшен.
Кра-ка-та-тан!
Как это странно: один образ — младой жизни — переходит в другой — скорой смерти.
Две античных статуи, выражающие две pathosformel — расцветания и умиранья.
Неужели я родился?
Неужели уже умираю?
Но где то озеро, в котором я узрел бы себя и понял: я — тот?
Клянусь, вне искусства нет у меня озера-зеркала!
О, Эхнатон, кум Солнца слабогрудый!
О, Ка!
Джорджо Вазари сказал: искусство может показывать смерть, но оно обязано оставаться живым.
О ГРЕКО-РИМСКИХ МОЗАИКАХ
Греки хотели, чтобы их жизнь стала искусством.
И Фуко думал о том же: жизнь как произведение искусства.
И Пушкин, и Хлебников тоже.
Какая верная мысль — но как этого добиться?
Греки окружали себя искусством: амфорами, статуями, живописью, мозаиками.
Это был правильный метод: смотри на искусство — и живи так же.
Как Одиссей, как Ахилл, как Елена, как Терсит, как Кассандра!
Как Дионис и Клитемнестра.
Или просто как нимфа или сатир, выложенные из мелких каменьев.
На меня молчаливая проповедь древних мозаик оказывает большее действие, чем разумные речи.
Камешками и стекляшками выкладывали они на стене или на полу верный образ.
Остановись, посмотри: вот — ты!
Старцы и детки, юницы и жёны, воины и нищие, жрецы и торговцы — замрите!
Отрешитесь на миг от ваших дел и желаний!
Созерцайте эти мозаики — произведения искусства.
Они принадлежат месту встречи Лица и Вечности, Тела и Истории.
Это — простое, как мычание, и искусное, как церковное пение, рукоделье.
Оно было у греков и римлян — в амфитеатрах, банях, храмах, публичных домах — повсюду.
Мозаики — звери, химеры, узоры, собачьи своры, фигуры, амуры, лица, птицы, дельфины, властелины...
О, люди!
Будьте же зеленью, травкой, пробивающейся в трещинах этих мозаик.
Слышишь, ты — племя морских окраин?!
Будь жёлтым листопадом, падающим на мозаику сверху.
Или весенним вишнёвым цветопадом.
Но не будьте, люди, дельцами и дураками.
О ФАЮМСКИХ ПОРТРЕТАХ
Проводник мой Ка, скажи, разве всё живое — не маски?
Разве ангелы не прикидываются бабочками?
Разве безгрешные козлы не прогуливаются по горным тропам, как блаженные дервиши, пока любовь не заставит их биться рогами и склеиваться лбами, подобно сарацинам и крестоносцам?
Разве девушки не превращаются, лёжа на солнце, в худеньких ящериц, шмыгающих в трещины скал?
И разве всё мировое искусство — не маски Адама и Евы, Иисуса и Марии Магдалины, Меджнуна и Лейлы, Ромео и Джульетты, князя Льва Николаевича Мышкина и Настасьи Филипповны Барашковой?
Вот древнеегипетская маска — внутренний расписной саркофаг из дерева, футляр на мумию и роспись самой мумии, спеленутой проклеенными свивальниками, на которые наносился гипс.
А вот древнейшая паволока и левкас, по которому шла роспись мумии водяной краской.
Вот она, эта раскрашенная маска, подчёркивавшая идеальные черты усопшего, трансформировавшая эмпирическое лицо умершего человека в чистое проявление человечности — лик.
Согласно Павлу Флоренскому, это художество мыслилось не как портрет, не как иллюзия и сходство, а как роспись самого лица — насурмление и нарумянение его с целью совершенной идеализации.
Ведь умерший после погребения вступал в царство света, где исчезали все превратности и случайности земной пещеры, где лицо освещалось не слабыми земными источниками, а морем морским сияющей энергии: «Я — Озирис!»
Отсюда уже рукой подать до иконы:
Там две души: одна земная,
И живописная другая,
Связались сладостною нитью,
Как челн, готовые к отплытью
В живую водь, где Китеж-град,
И спеет слезный виноград...
Однако в фаюмских портретах, испытавших влияние эллинизма и каких-то местных культов, заметны черты ослабления, затемнения и прямого ущерба древнеегипетской обожествлённой маски.
На фаюмских портретах лица дев, матрон, юношей и мужей тронуты то печалью, то жестокостью, то нерешительностью, то заботой — человеческим, слишком уж человеческим.
Они, эти фаюмские путники, остановились на пороге между жизнью и смертью и, возможно, не так уж стремятся в светоносное море морей.
И, соответственно, образы эти написаны уже в иной манере — энкаустическими красками, которые передают светотеневую выпуклость лиц, морщины, щетину на щеках, выражение чувств и тайну их индивидуальных жизней.
Это и икона, и не икона.
Отсюда — путь и к Феофану Греку, и к Рембрандту.
Это уже портрет.
Здесь есть и магизм, который ведёт к Леонардо.
Тут — противоречие, раскол.
И ясно, что не «всё являемое свет есть», а напротив — заметны следы ряжения, напряжения и разложения, следы созревания, увядания и разрухи.
В фаюмских образах явлены этнические признаки, метки социального статуса, материального достатка, страстей, предпочтений в украшениях и причёске.
Джон Бёрджер сравнил фаюмские портреты с лицами бездомных людей, современных беженцев из Сирии, Йемена, Афганистана...
И правда: они словно бы запечатлены безымянным, но великим художником в каком-то лагере для перемещённых лиц, в насильственном месте, в бегах — из одного мира в другой, из земного — в загробный, из юдоли скорбей — куда?
У них нет никакой уверенности в загранице.
У них, может быть, даже зубы и спины нестерпимо болят!
Поэтому они и не светятся божественным светом, как египетские мумии или иконные святые, но нет в них и плотской сиятельности какого-нибудь Рубенса.
Скорее, они освещены изнуряющим светом пустыни — и неизвестно, доберутся ли до оазиса, где можно переждать убийственно холодную ночь.
Одним словом, смутна и шатка их дорога.
Как правильно увидел Ильязд: «Пешеход не потратил и получаса, чтобы оставить за собой скромную балку, набитую льдом и снегом, и оказаться на каменистой лужайке. Теперь можно прилечь, снять вериги, подрочить, погрызть ногти и приложиться к фляжке. Ряса в грязи (и откуда грязь?) и в клочьях, локти в крови, ноги безнадежно отморожены, глаза горят и рот полон мерзости. Не только посох, верный спутник, но и шапка утеряна. Как только уцелела водка?»
О ВИЗАНТИЙСКИХ ИКОНАХ
Я не пишу всемирную историю искусства, а творю свою маленькую мозаику.
В ней много недостающих кусков.
Я выкладываю только самые желанные части.
Кто-то любит лицо, кто-то грудь, кто-то щиколотку, а кто-то — предмет одежды.
Любовь — странная, извращённая штука.
Но она никогда не ошибается, несмотря на все самообманы.
Византийские иконы для меня — это прежде всего Мария Магдалина, то есть история превращения плотской страсти в любовь духовную.
Я разделяю бордельную версию этой легенды: Магдалина была плотью и блядью, а стала праведницей и непорочной.
Сначала она трогала члены, колени, вены; шептала греховное кому-то на ухо, а потом устремилась к Духу.
Переход от эллинизма к христианству — переход от Марии-грешницы к Магдалине блаженной.
Как же она изменилась!
Была смугла, гола, курчава, вся в татуировках, с коричневыми сосками и бездонным пупком.
А стала темна, платом покрыта, с прозрачными египетскими ступнями, с большими чахоточными глазами византийской нищенки и бровями, сделанными из одних узких точек.
Решительно, все мы дикари рядом с нею, ибо она внесла себе в душу вещи самые нужные, а мы украшаем телеса и словеса понапрасну.
Но кое-что прежнее в ней осталось.
Манчь!
Менчь!
Мунчь!
Её бывшее чувственное желание плоти преобразилось в стремление прикоснуться к Учителю.
Она высушивает ноги Христа своими волосами.
Она припадает к его стопам.
При распятии она стоит ближе всего к кресту, прикасаясь к нему и обнимая.
Во время оплакивания Магдалина поддерживает мёртвое тело Спасителя, храня его ноги в своих ладонях.
А когда Он воскресает, она тянется к нему, преображённому, чтобы притронуться к одеждам.
Непреодолимое желание потрогать, приложиться, коснуться физически есть то, что унаследовала новая Мария от старой — и то, что почитатели икон взяли у Магдалины-грешницы.
Клюев не соврал:
Держуся я, поверь на слово,
За одеяние Христово.
На икону нужно не только молиться, не только бездонно её созерцать, но носить на руках, прижиматься и целовать.
Ту неимоверную прикасательную нежность, которую Мария выказала по отношению к Иисусу, следует сохранять и в обращении с духовными образами.
Конечно, я тут произвольничаю, отсебятничаю, путаю Магдалину с Богородицей, с Софией Премудростью Божией, с Соней Мармеладовой, с Мушетт, но ничего не поделаешь: для меня именно эта любодейка безгрешная, эта святая ненасытная, эта дева непотребная, эта шлюха, у которой пизда не высыхала, которая пречистой стала — именно она является прообразом всех византийских и русских икон, а заодно и центральной фигурой христианского перерождения.
Это то православие, о котором Павел Флоренский сказал: «Вкус православный чувствуется, но не подлежит арифметическому учёту».
А Сергей Аверинцев добавил: «Православная традиция иконы, какой она была создана в Византии, а затем усвоена и развита на пространствах Восточной Европы от Македонии до монастырей русского Севера, представляет собой некую середину между эмоционально-чувственным воображением Запада и статично-схематичным воздействием индуистских янтр или мусульманских каллиграфических композиций. Эмоция подчиняет себя аскетической дисциплине, не приходя к нирване как отсутствию эмоций».
Манчь!
Мэнчь!
Минчь!
Стирание границ между созерцанием и касанием, между касанием и любовью — вот что определяет Марию Магдалину и икону.
Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.
Я очень люблю древние иконы.
Но как их любить?
И вообще: как любить образы?
Всё искусство в наши дни оценивается по авторскому принципу: чем важнее автор, тем дороже картина.
Трудно нынче ценить произведение, не являющееся продуктом того или иного мастера.
Но оценка ведь не любовь, а более или менее просчитанное признание заслуг, скалькулированное суждение.
Авторская уникальность, эстетическая аура, денежная ценность — вот критерии нынешней оценки.
Всё это, однако, неприменимо к иконописи.
Но и умная критика к ней неприложима!
Как сказал Рильке: «Произведение искусства, которое по сути своей ужасающе одиноко, требует к себе не критического отношения, а безотчётной любви».
Так что же это за любовь такая?
Валери говорит: «Любить — значит подражать».
Как святой Франциск подражал Христу, например.
Или как Владимир Яковлев — цветку.
А Аверинцев учит: любовь есть преображение.
Любой созерцаемый образ призывает нас к перерождению и преображению — в соответствии с содержащейся в нём тайной.
Это и есть любовь к образам, а начинается она так:
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
Преображение является вниканием в образ — проникновением в его смыслоформу.
Человек через это делается другим — очищенным, освобождённым.
В пределе своём, глядящий на икону сам становится иконой — образом, напитанным Благодатью Божией.
Мгуум мап мап мап!
Так грешница Мария, узрев Иисуса и проникнувшись словом Его, стала святой Магдалиной.
Аи!
Эбза читорень!
Таким образом, чуть перефразируя Аверинцева, можно сказать, что слово «икона», как и имя «Мария Магдалина», означает, в конце концов, одно и то же: тайну человеческого преображения в её христианской интерпретации.
О НЕПРОЧНОСТИ ОБРАЗОВ
А сейчас я должен признаться в одной своей слабости.
Дело в том, что я не умею долго созерцать образы.
Блаженны глядящие неотрывно на солнце и совершенны смотрящие на мандалу.
Я слышал, что один великий философ провёл два часа перед знаменитой иконой в Третьяковской галерее.
Я на такое не способен.
По-моему, образ — это то, что гибнет, достигнув чуть большей, чем нужно, отчётливости.
Если я гляжу на какую-нибудь картину чрезмерно долго, то обязательно начинаю думать о чём-то другом или всё расплывается перед глазами.
Однажды в Художественно-историческом музее в Вене я простоял полчаса перед картиной Веласкеса, на которой изображена инфанта Маргарита в синем платье.
Я впитывал в себя её образ, наслаждался многообразием деталей: разницей между гладкостью её щёк, шероховатостью одежд и глубиной фона; невероятной материальностью этой живописи; живой эфемерностью девочки.
Но тут инфанта — вдруг! — испарилась.
Я перестал её видеть.
И в панике бежал из музея.
Мне нужен был глоток воздуха, ветерок.
С тех пор думаю, что образы разлагаются от долгого смотрения.
Возможно, это недостаток моего сердца или ретины.
В любом случае: мне гораздо больше нравится вспоминать образы, вызывать их в воображении — девушек Шиле, фруктовые лики Арчимбольдо или ведьм Ханса Бальдунга Грина.
Или, закрыв глаза, пересматривать фильмы Тарковского и Джармуша.
Но есть, конечно, картины, созданные специально для всматривания и созерцания — Мондриан, например, или Моранди.
Мне кажется, что я уже заключаю в себе слишком много образов.
Наилучшим, по-моему, является тот образ, что всплывает из глубин памяти, как камень со дна морского, и ты вдруг видишь: это не камень, а русалка!
Вся эта книжка — о таком вот припоминании образов, а не о всматривании в них.
Как сказал один умный человек: «Подлинная ценительница образа — это та, кто его созерцанию, в нём самом и в себе, отдаёт столько же страсти и столько же времени, сколько их нужно было, чтобы образ создать. Но ещё больше с образом связан тот, кто его страшится и избегает».
ОБ ОДНОЙ БРАЗИЛЬСКОЙ СТРАСТОТЕРПИЦЕ
Однажды, давным-давно, я приземлился в Милане.
Делать мне было нечего, я шатался.
Варвару в те времена я не знал.
И вот, на одной вечеринке встретил я художницу из Бразилии по имени Карла.
Она была небольшого роста и вся оборванная, обветренная, с длинными нечёсаными волосами и обкусанными ногтями.
Особенно воспалён был её рот — красный, прыскающий бутон с белыми чешуйками от обветренности.
Она уже несколько лет жила в Милане, но успеха в художественных кругах не добилась.
Карла меня спросила:
— Ты любишь Достоевского?
— Да, — сказал я, — особенно «Идиота» и «Бесов».
На это она заметила:
— В «Бесах» есть юродивая, которая говорит, что земля под ногами и Богородица — одно. И поэтому надо целовать Матерь Землю.
Я что-то смутно припомнил.
— А Раскольникова и Соню любишь? — спросила Карла.
И, не дождавшись вразумительного ответа, молвила:
— Поедем ко мне — тут скучно.
В автобусе мы добрались до окраины, в лифте поднялись на верхний этаж высотки.
Это была её квартира — с развешенными повсюду простынями.
Карла писала на постельном белье иконы: реальность, освященную божеской благодатью.
Согласно Аверинцеву, всякий настоящий иконописец творит то, что Уильям Блейк назвал «божественным человеческим образом»: людское тело, преображенное и обóженное.
Вот: «Искусство Иконы не поглощено ни божественным как таковым, ни «человеческим, слишком человеческим», по выражению Ницше. Иконная реальность располагается в «софийных» пределах между имманентностью и Трансцендентностью, видимым и невидимым, естественным и сверхъестественным, творением и нетварной Благодатью, или, говоря точнее, там, где великая онтологическая граница пересекается и становится открытой благодаря событию Воплощения Христова».
Карла, впрочем, не изображала ни Спасителя, ни святых апостолов.
Она писала только женскую ипостась человекобожьего Образа.
И, что немаловажно, тут была явлена не Пресвятая Богородица, которая, согласно православному вероучению, есть орудие и действительное возвещение события Вочеловечивания Христа.
Нет, Карла рисовала только святую греховодницу, блядь-праведницу, хотя суть оставалась той же: божья благодать становилась видимой и ощутимой через человеческую форму.
Причём форма эта была нагой: святая на иконах бразильской богомазки представала исключительно в голом виде.
Магдалина стояла во весь рост или на коленях, с распростёртыми руками или с опущенной головой, с возведёнными долу очами или в позе оранты — но всегда без лоскутка одежды, даже на чреслах.
Манера письма была самая что ни на есть византийская: тёмная, со светящимися подмалёвками, с аскетической модификацией античной идеи человеческой фигуры и окружающего её пространства.
Тут не было ни сладости ренессансных Мадонн, ни откровенной языческой похоти, ни избыточного телосложения барочных жён, но уход от чувственного сопровождался такой экзальтацией точек и линий, такой экстатической фиксацией на пупке, сосках и лобковых волосиках, что важнейшие элементы эротического искусства оказывались соблюдены.
Это художественное равновесие между двумя крайностями — срывом в плотское любование и сакральным схематизмом — наверняка трудно было сохранить, как и всякое равновесие.
В некоторых иконах Карлы ощущался лишь слабый отзвук древней гармонии, однако она явственно проступала в нескольких лучших работах.
Какой-то невообразимый лик сладострастия и праведности глядел на меня с этих простынок — свидетельство реально пережитого освящения женского тела.
— Это я, — сказала Карла, — на всех картинах.
Я повернулся к ней — она стояла в глубине мастерской голая, только крест на шее.
— Поцелуй меня.
Я повиновался.
Однако стоило мне попытаться обнять её, схватить и прижаться — и она тут же отстранилась:
— Я сказала — целуй. И помни блаженную Достоевского, что лобзала мать сыру землю.
Я проникся её желанием и начал постигать искусство целования, а Карла стояла, медленно потягиваясь и по-звериному выгибаясь.
Её тело было таким же обветренным и утомлённым, как и лицо.
— Бра-ма-неж-тра-бда-ка-жда-ня-про-мя, — шептала она какую-то молитву.
А потом вдруг вся сжалась — и кончила!
Словно Луна взорвалась и разлетелась на мелкие кусочки.
Брызги летели во все стороны.
Такого я в жизни не видывал!
Как брошенное в лужу зеркало, Карла расплакалась.
Оргазм от поцелуев!
Они — гвозди в руки и ноги Христа, а копьё — в рёбра.
Поцелуи — стрелы в солдатское тело Себастьяна.
И ещё поцелуй, один-единственный — то, чего хотела от Распятого святая грешница Магдалина.
Тут Карла вот что надумала: взяла в руку мой член и стала дрочить его неистово.
— Как тебя звать? — спросила.
— Александр.
— Нет, лучше Фёдор.
— Ладно, Фёдор...
— Нет, лучше Алёша.
— Хорошо, Алёша...
— Хорошо тебе, милый Алёша?
— Очень...
— Нежься и услаждайся! А я буду стараться.
Она рукоблудствовала умело, и мой ванька-встанька залоснился, запетушился, а потом не выдержал — и прыснул от удовольствия белыми слюнками.
— Вот и готово...
Фонтанчик чуть не долетел до её иконы.
Га!
Гра!
Кра!
Ка!
Всё творение, говорит С. С. Аверинцев, функционирует подчас как икона: для разума, ищущего Бога, всё есть «икона» в смысле известного высказывания Гёте обо всех вещах как «лишь притче» (nur ein Gleichnis).
Да, икона: и гениталии, и выделения, и стоны, и миазмы...
Да, именно: карлик Ка у крали Карлы украл алые кораллы, а Карла-краля подкралась к ларю, да и украла у карлика Ка кларнет с алтаря.
И я клянусь: Карла была совершенно невинной тварью.
ОБ АРМЯНСКИХ МИНИАТЮРАХ
Испорченным юношей сидел я на диване в родительском доме и рассматривал репродукции в книге «Армянская средневековая миниатюра».
Осторожнее, осторожнее!
Память выбрасывает на берег только разбитые корыта тех ощущений.
Васпуракан!
Татев!
Гладзор!
Рваные сети да студенистые морские существа, изувеченные волнами — вот что приносит мне насильственный ветер припоминаний.
Хочешь воссоздать в башке эти краски, линии, фигурки?
Хочешь, чтобы ошмётки снова сложились в чудные картинки?
Образы, говорил Леонардо, находятся не на картинах, а в черепе.
Но у меня расколотый череп: образы вываливаются.
Помню только несказанную прелесть этих армянских очертаний.
Существует анекдот о Шардене, который спросил знакомого художника:
— Ты красками рисуешь?
— А чем же ещё? — удивился тот.
— А нужно бы чувствами, чувствами!
Тёмно-зелёные, золотые или алые фоны миниатюр — указание на потопленный Эчмиадзин.
Ведь все царства земные — на дне морском.
Там Урарту, СССР, Ассирия, Эрин...
Там и Мегалэ Армения.
Всё, что осталось, — Евангелие царицы Млке, Ахпатская рукопись, Чевенгур...
Те миниатюры я видел лишь в репродукциях, но это не обязательно дефективно.
Репродукция позволяет разглядеть образ и чувство.
Рукой миниатюриста двигала бесконечная нежность.
Вот почерневшие от моря волосы святого вьются по плечам.
Лик евангелиста худощав и большеглаз, а сам он — морской конёк.
Намокшая хламида на нагих мощах.
Синие волны, поблескивая верхушками, просвечивают сквозь всё.
Птицы, прилетая с горы Арарат, садятся на персты.
Почему утонул этот Млечный путь?
Почему всё на дне, а не вокруг?
Укусить себя, чтоб вернуть ясные черты?
Святая Дева смотрит на меня и улыбается.
Может, прыгнуть в речку Лиммат, чтобы быть с ней?
Она — умелая купальщица в золотом, усеянном гребешками море морей.
Между тем, долго плававший в этой пучине, выходил на берег Иоанн Креститель, покрытый водными струйками, как звериным мехом.
Он отряхивается, как волк.
На меня пали брызги — может, это запоздалое крещение?
Какой-то восточный юноша нырнул и уже на самом дне сказал Иисусу:
— Я Мохамед.
Тот его узнал и приветствовал жестом.
Между тем стадо газелей пробежало по морю вслед за дельфинами.
Я — всё на том же родительском диване — тоскую.
— Эй, зануда, осторожней! — крикнул евангелист.
Я его не послушал — и волна меня смыла.
Подплыл большой левиафан и проглотил.
— Здравствуй! — сказал Ка, который тоже был там.
В новой судьбе я — морской ёж и живу в левиафане среди ракушек, якорей, пиратских скелетов, золотых монет, которые уже не пригодятся.
Но вот могущественный левиафан попался в сети галилейских рыбаков.
— Выходи! — говорит Ка, и я живо слезаю с дивана.
Когда-то, по словам Мандельштама, мальчишки топили всенародно котёнка на Москве-реке, а наши-то взрослые дурачки утопили всю историю искусства в проруби современного Стикса.
Но кое-кто всё-таки уцелел.
Хлебников писал Осипу Брику: «В общем, в лазаретах, спасаясь от воинской повинности белых и болен тифом, я пролежал 4 месяца! Ужас! Теперь голова кружится, ноги слабые».
О СТАРИННЫХ КИТАЙСКИХ МАСТЕРАХ
Пожалуй, нет других таких халтурщиков, как современные китайские художники.
Зато нет никого мудрее и искуснее, чем старинные китайские мастера.
Держать в памяти их имена — то же, что помнить заумные стихи Зданевича.
Вэй Се.
Гу Кайчжи.
Су Ши.
Цзин Хао.
Чоу Инь.
Гу Хун-чжун.
Ши Тао.
Ван Вэй.
У Дао-цзы.
Все они были философами-поэтами-художниками.
И очистились, созерцая воды и горы.
Изысканная укромность холмов и рощ — их постоянная обитель.
Журчание ручья меж камней — их постоянная радость.
Рыболовы, дровосеки и отшельники — их постоянные собеседники.
Летящие гуси и верещащие обезьяны — их постоянные спутники.
Оковы и путы придворной жизни — вот что стесняло их дух.
Облачные дымки и святые люди — вот к чему они стремились.
А какую живопись они создавали?
«Тот, кто учится рисовать бамбук, берёт побег бамбука и, когда в лунную ночь тень побега отразится на стене, взору явится истинный облик бамбука. Может ли поступить иначе тот, кто учится рисовать горы и воды? Он охватывает мысленным взором скалы и потоки, и тогда смысл пейзажа проявляется воочию».
Вот что говорит о своём деле великий мастер Го Си: «Люди в свете думают, что картины создаются единым движением кисти. Они не понимают, сколь многотрудно занятие живописью. У Чжуан-цзы сказано: «Художник сбрасывает свои одежды и сидит, скрестив ноги». Вот справедливое суждение о нашей работе! Мастер должен пестовать в своём сердце безмятежность и радость. Его думы должны быть покойными и просветлёнными, ибо сказано: «пусть будет сердце невозмутимым». Тогда все человеческие чувства и все свойства вещей сами собой проявятся в сердце и столь же непроизвольно сойдут с кончика кисти на шёлк».
Сын Го Си живописец Го Сыпин сообщает: «Я видел прежде, как отец работал над одной-двумя картинами. Бывало и так, что он откладывал начатое и не возвращался к нему по десять и даже двадцать дней. Порой так случалось до трёх раз. А дело в том, что он не хотел слишком поддаваться своим желаниям. Не идти на поводу желаний — не есть ли это истинная праздность духа? Когда же на него находило вдохновение, он работал, позабыв обо всём на свете. Если же что-то отвлекало его от кисти, он откладывал её и забывал. Его отказ продолжать картину не означал разве, что он был слишком отягощён заботами? В день же, когда он был настроен работать, то садился за чистый столик перед светлым окном, а справа и слева от себя возжигал благовония, выбирал лучшие кисти и тушь, мыл чисто руки и вычищал тушечницу, словно ожидал прихода дорогого гостя. Затем он делал свой дух праздным, приводил в порядок мысли и начинал задуманное. Не означает ли это, что он не смел относиться легкомысленно к своему занятию?»
Сам Го Си уточняет: «Те, кто серьёзно толкуют о живописи, говорят так: есть горы и воды, сквозь которые можно пройти; есть такие, которые можно созерцать; есть такие, где можно потеряться; и есть такие, где можно поселиться. Такую картину, где всё это есть, можно назать воистину чудесной».
Чтобы живописать подобным образом, нужно иметь очищенную, благородную форму жизни.
Гу Кайчжи, живший при династии Цзинь, построил для занятий искусством высокую башню.
Оттуда он смотрел на хижины рыбаков, на прополку полей, на пролетавших в небе гусей, на мостик через ручей, на странника, идущего по дороге.
А даос Ли Гуйчжэнь — человек необычный, неизвестно из какого места — писал коров, тигров, а также соколов, воробьёв и бамбук.
Одетый только в халат из холщовой ткани, он ходил в кабачки и к певичкам.
Когда его спрашивали, почему он таков, он каждый раз открывал рот, засовывал туда кулак и не говорил.
Император Лян-цзун призвал его и спросил: «Каков принцип Вашего Пути?»
Ли Гуйчжэнь ответил: «Одежда тонка — поэтому люблю вино, выпью вина и защищусь от холода, напишу картину — расплачусь за вино. Кроме этого ничего не умею».
Император не нашёлся, что возразить.
Был ещё монах Цзэ Чжэнь из Юнцзя — он прекрасно писал сосны.
Сначала он выбрал достоинства всех школ и изучил их, а потом ему приснился сон, в котором он проглотил несколько сотен драконов; после этого его достижения стали вдохновенно-удивительными.
От природы он любил вино, а когда хмелел, брызгал на шёлк тушью или распылял краски по стене.
Когда же трезвел, то добавлял и заполнял поверхность тысячью, миллионом форм — странных и чудных.
Однажды Цзэ Чжэнь пил вино на рынке и сильно опьянел.
Вдруг он заметил оштукатуренную стену, взял полотенце, опустил его в тушь и стал брызгать на стену.
На другой день сделал несколько исправлений и добавлений: получились дикие ветки и сухие корни.
Все художники отдавали дань уважения его кисти.
О ДЫРАХ В ШВЕЙЦАРСКОМ СЫРЕ
Существует такой анекдот.
Две бедных итальянских мыши отправились через Альпы в Швейцарию.
Долог и тяжек был их путь, но они не унывали в предвкушении роскошной и изобильной страны.
Пробыв за границей некоторое время, мыши вернулись домой.
— Как было в Швейцарии? — спросили их родственники.
— Великолепно! Превосходно! — вскричали в восторге мыши-путешественницы.
— А довелось ли вам попробовать знаменитый швейцарский сыр?
— Ах, он божественен, бесподобен!
— На что он похож?
— Это сыр прекрасного солнечного цвета, но с глубокими лунными дырами!
— А каков он на вкус?
— По правде говоря, мы попробовали только дыры в швейцарском сыре, но ничего вкуснее в жизни не ели!
Вот и вся история.
Дыры от швейцарского сыра — они действительно незабываемы.
Мы с Варварой их пробовали.
Они напоминают пустоту в китайской живописи.
В древней даосской традиции понятие Великой Пустоты созвучно с понятием «Не-деяния» — у-вэй.
Значимость не-присутствующего и не-содеянного — самое главное для китайских художников.
Пустота в их картинах красноречивее всех устойчивых и текучих форм.
Как у Введенского:
Я приходил к тебе река.
Прощай река. Дрожит рука.
Ты вся блестела, вся текла,
и я стоял перед тобой,
в кафтан одетый из стекла,
и слушал твой речной прибой.
Как сладко было мне входить
в тебя, и снова выходить.
Как сладко было мне входить
В себя, и снова выходить,
где как чижи дубы шумели,
дубы безумные умели
дубы шуметь лишь еле-еле.
О СТРАННОМ ПЛЕМЕНИ НА ФРЕСКАХ ДЖОТТО
Каждый могучий художник являет нам в своих творениях некий образ рода человеческого.
Одни, подобно Веласкесу или Мане, изображают потомков Адама, увиденных пристальным умным глазом.
Другие, вроде Караваджо и Бэкона, дают экстатический образ ошеломившего их человечества.
А третьи, как Джотто или Сезанн, показывают род людской таким, каким он явился им в откровении.
Может, я спятил, но существа на фресках и иконах Джотто напоминают мне какое-то индейское племя — то ли из Амазонии, то ли из Мексики или Перу.
Люди у него выглядят не как итальянцы, а скорее как алакалуфы, чукчи или гуарани.
Или они подобны детям земли с синдромом Дауна?
Пигмеям!?
И при этом джоттовские фигуры имеют евангельские жесты!
В результате его образы обладают непревзойдённой силой убеждения.
Джоттовские святые — новообращённые ревнители веры, простолюдины и цари, увидевшие свет истины и готовые идти ради неё до конца.
Не случайно одной из главных фигур в живописи Джотто стал Франциск Ассизский.
Суровые очертания крепостных башен, ослепительные прямоугольники в пустом разрежённом воздухе, охристые горки в зелёных тканях, святые деревца и овцы, речной поток и редкие цветочки, одинокий утёс и плоское пастбище — здесь жило дикое племя прозелитов и истовых богомольцев.
Вот они, возникающие из воздуха сыны человеческие — толпящиеся, коленопреклонённые, распростёртые, мучимые страстями, очищенные, убогие, верные, усомнившиеся, блаженные, странствующие, молящиеся, проповедующие птицам, напуганные собой, хватающие друг друга за грудки, обнимающиеся, благословляющие, падающие с небес, возносящиеся в рай, припадающие к святым стопам, плачущие, восхищённые, отвергаемые, умиротворённые, яростные, непримиримые.
Джотто узрел среди нагих оврагов тёмные от страстей и лишений детские лики, выступающие из складчатых плащей и каменистых пород как чаши, наполненные мёртвой и живой водой.
И парили в пустоте ангелы, заламывая ручки и изгибаясь, как котята.
И возносился над Голгофой крест — человеческих рук дерево.
И высились камни, средь которых бродило полуслепое литургическое племя со вздыбленными копьями и факелами.
И поцелуем-ожогом лобзал некто, подобный животному, лик ясный со взором открытым.
Я был в Падуе, видел фрески Джотто.
Как разум мыслителя над туманным хаосом мира, лепился хлев, и из него сошёл человек со спасительным жестом руки.
Но гремучий водопад заглушил его слово.
И только грешница услышала и поцеловала след его ноги:
— Я люблю тебя!
В живописи Джотто творится Событие!
Словно он сам присутствовал при всём, что изображал.
Как будто он сам стоит там и смотрит на Иисуса.
Пустота и гулкость пространства так же важны у Джотто, как выразительность лиц и жестов.
В этой пустоте разворачивается грандиозное действо святого писания.
Каждая фигура выражает потревоженную душу на свой особый лад.
Никто до Джотто такого не делал.
Никто не писал такие объёмные, материальные фигуры, укутанные в такие тяжкие, весомые одежды, с такими божественно-животными ликами, с такими чёткими, немыми жестами.
Образы Джотто вывалились из плоскости иконного пространства, из строгих драпировок, написанных линиями, и зашевелились, задвигались, как кабаны или бараны, выпущенные из хлева.
Но эти свиньи и овцы — человечество, уверовавшее в Христа!
В этих телах —свидетельство веры и её страстей.
Лица пыльны, загорелы,
Веко выглодала даль,
И впилась в худое тело
Спаса кроткого печаль.
Да, Джотто ди Бондоне, сын кузнеца.
Джорджо Вазари подчёркивал удивительное разнообразие жестов, раскрывающих внутреннюю жизнь персонажей Джотто.
Вскоре после смерти художника возобладало мнение, что он повернул искусство лицом к природе, и, отступив от иконных канонов, показал movimenti d’animo — жесты, исходящие из глубин души.
Люди у Джотто плачут и радуются, как дети.
Жесты — они ведь своего рода первый язык, ещё до говорения.
Но внимательный взгляд видит в фигурах этого гения и другое.
Источник жестов у Джотто — не непосредственное состояние души, а кодифицированный обрядовый язык средневековья.
Это — ритуальные жесты.
Амазонское племя джоттовских индейцев имеет сакральные телодвижения и каноническое поведение христианской общины.
Но Джотто умудряется изобразить всё это как природные сдвиги души!
Евангелие оживает во фресках — становится сплошным воскрешением Лазаря.
Осанна в саванне!
Потрясения души вписываются в ритуальную жестикуляцию — как Джотто добился такого эффекта?
Потому, что он был таким, как его показал в своём фильме Пазолини: Джотто-странником, Джотто-созерцателем, Джотто-весельчаком?
У фигур Джотто — жесты детей.
И жесты народа.
И жесты верующих.
И ещё это жесты безумцев.
О РОККО
Однажды, в 1990-е годы, я побывал в Матере — старинном городе в регионе Базиликата на юге Италии.
Там Пазолини снимал «Евангелие от Матфея».
А рядом происходили события из книги Карло Леви «Христос остановился в Эболи».
Матера знаменита своими пещерными жилищами — гротами, выдолбленными в известняковых скалах.
Весь древний город похож на один громадный утёс, вознесённый над зелёным ущельем, а в теле утёса — гнёзда пещер.
В этих пещерах в Средние века жили монахи, а потом, уже в двадцатом веке — местная беднота.
Тесные гроты Матеры вызывают в воображении обиталища троглодитов и ессеев, марабутов и праведников, отшельников и еретиков.
Нас с Варварой привёз в Матеру художник Фердинандо Мацителли, который там родился, но для карьеры уехал в Милан.
Хоть Матера и находится под эгидой ЮНЕСКО, современным художникам там нечего делать.
Художники нуждаются в деньгах, кураторах, интернете — зачем им гроты?
Мы бродили с Фердинандо по выдолбленным в скалах тропинкам.
В пещерах не было анахоретов, зато валялись использованные презервативы.
Местная молодёжь устраивала там вечеринки.
И ходили по натоптанным дорожкам туристы.
Но Фердинандо рассказал нам о своём друге детства — Рокко.
Так мы обнаружили в Матере одного пустынника.
И, как ни удивительно, это был художник!
Звали его Рокко Литота.
Литота, как знают филологи, это словесный троп, имеющий значение крайнего преуменьшения.
Например: «планета величиной с теннисный мяч» или «член размером со спичку».
Или: «денег кот наплакал».
Или ещё: «мальчик-с-пальчик», «мужичок-с-ноготок», «девочка-дюймовочка».
Литота — образное выражение, в котором содержится резкое умаление или снижение явления.
Художник Рокко был самой настоящей литотой, а заодно и противоположностью своего друга Фердинандо Мацителли.
Фердинандо отличался большим ростом и массивным телосложением, обладал модными башмаками и артистическими амбициями.
А Рокко, хотя и имел запущенную чёрную шевелюру, сам был не больше овечки.
Одевался во что попало.
Лицо его напоминало физиономию Иуды с фрески Джотто: ломаный профиль, нависающий лоб, запавшие глаза.
Помню его испорченные зубы.
Он не страдал болтливостью, а жил в пещере.
Оказывается, в Матере остались два или три обитаемых грота!
Мы там побывали: келья с известковыми стенами, узкая лежанка, что-то вроде стола.
В углу — большая бутыль с водой.
Другая бутыль служила писсуаром.
Водопровода в этом доме не было.
Большую нужду Рокко справлял в близлежащем овраге и закапывал свои экскременты специальной лопаткой, как древние ессеи.
Питался он пирожками с томатным соусом и моцареллой — кулинарной гордостью Базиликаты.
А ещё Рокко оказался замечательным фотографом.
Он фотографировал пещеры Матеры — снаружи и изнутри.
На некоторых фото гроты выглядели как чёрные дыры.
На других — клубящийся туман, в котором проступали углы.
А порой — белое на белом или серое на сером.
Ясно было, что Рокко твёрдо верит: кроме телефона и газеты есть ещё пузыри в болоте и межзвёздная среда.
У него набралась изрядная коллекция этих фотографий — они валялись на полу в стопках.
Снимки были мятые, покоробленные, с какими-то крапинками и потёками, словно после особой химической обработки.
Оказывается, все фотографии после печати наклеивались на наружные стены рокковой пещеры.
Там они выцветали под солнцем, их мочил дождь.
Они становились частью пещерной и планетарной жизни.
Рокко Литота знал о сути фотоискусства больше, чем большинство профессиональных фотографов и кураторов.
Но он никуда не рвался из своей Матеры — ни в Милан, ни в Лондон.
Выставки его не интересовали, он был равнодушен к международной карьере.
Мы посидели у него часок, а потом Фердинандо предложил съездить в близлежащий городок Монтескальозо, но Рокко вежливо отказался:
— Не могу, меня тошнит в машинах.
Мы умчались, а он остался.
Фердинандо сказал:
— Рокко вообще ничего не хочет. И печатать свои фото в журналах не хочет. И денег не хочет. В прошлом году я приезжал к нему с одним критиком из Милана, но Рокко спрятался в скалах.
Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески — в дым.
Думая о Рокко Литоте, я вспоминаю слова другого художника-гнома — создателя саморазрушающегося искусства Густава Метцгера.
Он сказал: «Людям необходимо умалиться, как это умеют звери».
И ещё: «У современных людей остался один выбор: стать невидимками — или исчезнуть».
О ВЕСНЕ БОТТИЧЕЛЛИ
Утром меня разбудило чириканье птичек.
8 марта, весна — вот птахи и поют.
Кажется, мой пенис услыхал их во сне и, не желая платить этим пернатым ангелочкам неблагодарностью, тоже встал и защебетал.
Хорошо проснуться от такого вот удовольствия, а не от ночного кошмара.
Поэтому я решил писать о весеннем даре Боттичелли после знойно-зимнего Джотто.
Какие же они разные!
Пустые и напряжённые воздухи Джотто, в которых разворачиваются священные действа его дикого племени, вдруг сменяются узорами рощ, морей, тканей и девичьих волос.
Это и есть Боттичелли: лёгкие, невесомые нимфы, перепрыгнувшие из птичьей песенки в темперную живопись и колышимые ветерком тосканских холмов, звуками флейт и рожков.
Как сказал Аби Варбург: «Глаз и рука Сандро Боттичелли — это снаряжение художника раннего Возрождения во всей его свежести и увлечённости видимым, но у Сандро чувство реальности не подавляет всего круга человеческих эмоций — от меланхолии и мечтательной дрёмы до крайнего возбуждения».
По словам Леонардо да Винчи, Боттичелли не видел никакого смысла в искусстве пейзажа, считая, что достаточно напитать губку красками и бросить об стену, чтоб пейзаж возник сам собой.
На этом основании Леонардо отрицал за Сандро высокий статус pittore universale.
Что ж, он был прав: живопись флорентийца Боттичелли — это верх орнаментального искусства, взращенного идеями Лоренцо Великолепного — самого артистичного из европейских тираннозавров.
Как заметил Петер Хандке, государство есть «сумма норм», но Лоренцо де Медичи считал себя одновременно приписанным к царству грёз, где Перикл танцевал с наядами, а Август сидел на колеснице, запряженной кентаврами.
И древняя, бесконечно искушённая, но и вечно юная Венера, одетая в прозрачный наряд, сотканный из ветров усилиями лучших ткачих, художников и торговцев, эта святая и зубы проевшая Афродита Анадиомена неустанно пробуждала весеннюю похоть для праздника искусств.
Прислушаемся к Варбургу: «Фигуры древних мифов возникали перед итальянцами не как гипсовые слепки, а вживую — на фестивалях и праздниках, где языческая радость жизни возрождалась в народной культуре».
Вот оно — мартовское Возрождение!
Учёные мужи говорят, что живописец Боттичелли имел три контекста.
1. Поэзия гуманистов и изучение древности учёными друзьями Лоренцо (вроде Полициано).
2. Неоплатоническая философия Марсилино Фичино и его последователей, поощряемая Лоренцо.
3. Флорентийские пиры и праздники, в том числе свадебные торжества, обожаемые Лоренцо.
Так что этот Лоренцо — великолепный, уродливый, хитрый, влюблённый в искусство, молившийся своей возлюбленной Лукреции и находивший необыкновенное удовлетворение в деньгах, наслаждавшийся поэзией и хорошей кухней, заключавший с одинаковым энтузиазмом брачные союзы и политические сделки, уверовавший в свою твёрдость перед лицом невзгод и в славу Флоренции, презиравший грубую силу и восхищавшийся древней мудростью, обожавший турниры и призвавший к себе в час смертной болезни Савонаролу, но отвернувшийся от него, чтобы полюбоваться статуей Верроккио — этот Лоренцо ди Пьеро де Медичи нависает, как тень Командора, над всем, что содеял Сандро.
Но была, разумеется, и глубочайшая самостоятельность в творчестве Боттичелли, имя которой — Зефир.
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
Зефир — сын Астрея и Эос, быстроногий вестник богов — это, конечно, древняя кличка того безымянного ветерка, что приходит весной с моря морского и колобродит, загибается змейками, вьётся, гуляет, где ему заблагорассудится.
То он прибьёт лёгкие одеяния к бёдрам девушки, то прошумит ветвями рощи, так что листочки задрожат мелкой дрожью и покажут свою изнанку, как показывает внутреннюю сторону ладони нимфа, когда её пугает выскочивший из-за кипариса сатир.
Зефир может ласкать промежности утомлённых любовников, а может и снести крышу с храма.
Греки считали его опасным ветром, а римляне — блаженным, нежащим ветерком.
Но, как сказал Лоренцо Валла, истина есть знание противоречивости вещей, а ложь — нехватка такого знания.
Боттичелли, несомненно, догадывался о двойственных свойствах Зефира: и о его ласкательности, и о его буйности.
Знал он и то, что проникновение Зефира в души людей (именно в души, а не тела) чревато многими тревогами.
Эти-то неожиданные отношения Зефира с Психеей и изображал Сандро в своей живописи, где девы не только наслаждаются нежным возбуждением, но и разжигаются жестоким желанием.
Варбург подчёркивает: нимфа — исходный образ Боттичелли.
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля жёлтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград, -
Всё в неистовой прельщает!
В сердце льёт огонь и яд!
Нимфа — элементарное существо, девушка-плод, девушка-плоть, девушка-ручей, дух рифмачей, девушка-куст, дыханье уст, девица-облако, певунья-яблоко.
Можно сказать и так: она и Хлоя, и Параша, и Лукреция, и Маша, и цыганка, и армянка, и бабочка, и русалочка, и Валькирия Барбоса, и курносая Леся, и Венера, прикрывающая лобок, и модель, сбежавшая из журнала Vogue, и качающиеся в гамаках любодейки, и солдатка в сапогах и телогрейке, и Суламифь, и Кука, и Юдифь, и злюка, и знаменитая Маргарита, и неизвестная Лита.
Все бывшие и небывшие дамы, если взглянуть на них в щелку, — нимфы.
Даже Богоматерь стала нимфой у Боттичелли.
Об этом, кстати, Савонарола и кричал на площадях Флоренции, призывая к покаянию: «Девы и матроны флорентийские, вы во время священной весны превращаетесь в безбожных нимфеток и нимф!»
Кроме Боттичелли, толк в нимфах знал другой флорентийский мастер — Пьеро ди Козимо, который написал умопомрачительную картину «Сатир, оплакивающий нимфу».
Кстати, Сандро первым после средневековья ввёл в европейское искусство образ голого женского тела, чувственного и одухотворённого.
Его идеал женской красоты восходит не только к классической модели, но и к готической экзальтации, а еще к итальянской народно-поэтической традиции, воспевавшей стройных блондинок с чёрными стреловидными бровями и маленькими красными ротиками, юных поселянок с точёными щиколотками и твёрдыми, как яблочки, грудками.
Изображаемое им тело — анти-натуралистично и не подчиняется анатомическим правилам.
Обнажённая фигура у Боттичели — контур и абрис, силуэт и очерк, обвод и окаёмок, а не физически ощутимое и весомое ню, которое ввёл в итальянскую живопись венецианец Джорджоне.
Боттичелли рисовал темперой, а Джорджоне — маслом!
Из знамён и из полотен,
Что качались впереди,
Смех, красиво беззаботен,
С голой нимфой на груди
Выбегает, смел и рьян,
Жрец проделок и буян.
Боттичеллиевские нимфы зависают в воздухе и часто теряют устойчивость из-за шалостей Зефира.
Иллюзия реальности чужда этому художнику, несмотря на его любовь к деталям, на выписанность всех этих листочков, сандалий и ноготков.
Динамическая линия, искусно распределённая по поверхности картины, от одной фигуры к другой, управляет ритмом всех частей, а изощрённое колыхание волос и тканей становится главным элементом подвижных связей.
Тут всё струится, течёт, зыблется.
Превратить жизнь в искусство, а искусство в жизнь — вот о чём мечтал Боттичелли вместе с мужчинами, женщинами и детьми Флоренции, участниками свадебных торжеств и поэтических конкурсов, музыкальных фестивалей и рыцарских турниров, певцами и танцорами, торговцами и архитекторами, воинами и философами, ремесленниками и простолюдинами.
Для этих людей творчество было празднованием расцветающего дня в его обручении с полуденной древностью.
Отсюда удивительная, как бы неувядаемая современность нимфеток Боттичелли — этих полураспустившихся дев с продолговатыми формами, то ли русских стрекоз, то ли американских бабочек.
Нимфа по определению загадочна, прячется в зарослях и только изредка выскакивает на поляну — что там у неё на уме?
Поют неистовые девы;
Их сладострастные напевы
В сердца вливают жар любви;
Их перси дышат вожделеньем;
Их очи, полные безумством и томленьем,
Сказали: счастие лови!
Сюрреалисты — последняя шайка рыцарей, преданных культу любви — всё правильно поняли: ар-нуво был последним отголоском флорентийской весны, воздушным замком в сосново-кипарисовых, лаврово-апельсиновых и лимонно-гранатовых рощах воображения, где по следам нимф скакали возбуждённые рога и копыта, испуская стоны восторга и вопли желания.
Сии твари чуяли: миг райского солнцестояния на исходе.
И правда, на дворе уже мировые заморозки, луперкалиям капут.
Не об этом ли сказал Велимир:
Где сумасшедший дом?
В стенах? Или за стенами?
Сабурка — мы, иль вы в Сабурке?
О МОЁМ ЗНАКОМСТВЕ С ДЭВИДОМ БИРНОМ
Я видел одного художника с боттичеллиевскими жестами.
Имя его — Дэвид Бирн.
В звуках его струн, в бум-буме его барабанов померещился мне возврат весеннего, ветренного ритуала.
Давно это было...
В 1994 году Бирн — уже без Talking Heads — приехал с концертом в Москву, в ДК Горбунова.
Толпа восхищённых ребят ждала своего кумира, но сначала на сцене полоскал сытое горло Борис Гребенщиков.
Мальчишкам надоело: «Хватит! Проваливай! Хотим Бирна!»
И вот он явился: тощий, с длинными волосами и мохнатыми бакенбардами, во всём чёрном, с поблескивающей пряжкой ремня:
Откинув докучную маску,
Не чувствуя уз бытия,
В какую волшебную сказку
Вольётся свободное я!
Бирн уже догадался, что прибыл в нищий город, где беспризорные дети нюхают в канализации клей.
И он не осрамился — был экстатичен и строг.
В двух словах: это был экстракласс и транс.
Песни разбивались о наши головы, словно мощные, пенные волны, обдавая брызгами сердца и мозги.
Какая-то девчонка на вершине упоения запрыгнула на сцену и попыталась прикоснуться к Бирну, как Магдалина — к Христу.
Охранник схватил и стащил её вниз.
Бирн оторвался от микрофона и, бросив озабоченный взгляд на девчонку, крикнул:
— ARE YOU OKAY?!
Это был лучший концерт в моей жизни.
Я Бирна и сейчас уважаю: он — художник.
Второе моё соприкосновение с ним произошло в богатом городе Стокгольме уже в тошнотворном двадцать первом веке.
Как это у Саши Чёрного:
Все в штанах, скроённых одинаково,
При усах, в пальто и котелках.
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах...
И вдруг узнаю, что в том самом выставочном зале, где я лет десять назад, ещё будучи московским художником, разнёс в пух и прах международную выставку «Интерпол», намечается очередной вернисаж.
Сразу решил пойти туда и встретиться с куратором Яном Оманом, который когда-то обозвал меня футбольным хулиганом.
И вот мы уже на вернисаже — мелком и жалком.
Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак...
В отвращении спустились с Барбарой в бар, где и застали всю честную компанию с куратором Оманом во главе.
Они там пили под музычку пиво и шевелили бёдрами.
А мы тут же залезли на стойку бара и стали плясать.
В лес! К озёрам и девственным елям!
Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам.
Надоело ходить по шаблонным панелям
И смотреть на подкрашенных дам!
Танцуя, мы ещё и разделись.
Я — никудышный Нижинский, но это было чертовски весело — гарцевать, как кентавр, на пару с любимой в подлой художественной институции, где я когда-то учинил грандиозный скандал: разрушил бездарную инсталляцию.
Все взоры были на нас, танцующих.
Тут, однако, вмешался этот самый Ян Оман, кураторишка.
Он стал вопить, чтоб мы слезли с его бара.
Крики сводились к следующему: ты, Бренер, — ничевок, никто, ничтожество.
Чёрта с два: я — всёк!
Поэтому мы с Варварой продолжили неприличие.
Появился лакей Омана и стал стаскивать нас с бара.
Запутавшись в спущенных штанах, мы чуть носы не расквасили.
Они нас вытолкали из помещения.
И вот мы уже во дворе — хохоча, уходим.
Но тут кто-то: «Бренер!»
Оказалось, молодой человек из Чехии, работает здесь ассистентом.
И вот что он нам говорит:
— Вы здорово танцевали, правда. Но я хочу сказать другое... Тут два месяца назад проходила выставка Дэвида Бирна... И он после открытия тоже танцевал на стойке! Только ему они, конечно, разрешили. А вас выгнали... И поэтому, клянусь, мне ваш танец вдвойне понравился!
Тут он нас расцеловал.
Нужно ли говорить, что его слова согрели нам душу?
О, Дэвид, мы танцевали с тобой на одной дерьмовой стойке!
Are you okay, Дэвид?
ARE YOU OKAY, брат?
Женщины, любящие моё мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, —
я цветами нашью их на кофту фата!
В последний раз я видел Бирна в Лондоне — в концертном зале под названием South Bank Centre.
Билеты на его представление мы купить не могли — слишком дорого.
Но нас в зал пропустила добрая билетёрша — случается и такое.
Бирн исполнял свои старые песни, но главное заключалось в зрелище: седой Дэвид был одет во всё белое, как настоящее привидение.
И его музыканты тоже — белоснежные призраки.
И его балетная труппа — меловая фантазия.
Они все выглядели как алебастровые фантомы, белые-пребелые выходцы из могил.
И песни исполнялись в той же тональности.
То есть великолепный артист прошлого века Дэвид Бирн преподнёс себя публике двадцать первого века в качестве галлюцинации.
Разве это не здорово?
И он, кстати, действительно постарел.
Музыка буйствовала, седой Бирн, отстраняясь от микрофона, приседал, а белоснежные балерины прыгали через него, как древнеегипетские акробатки.
Тут я не выдержал и сиганул к ним на сцену.
Никто меня не останавливал.
Я успел сделать несколько кувырков и схватился за светозарную штанину Бирна.
Халды-балды!
Музыка громыхала.
Я был уже вне себя, как в присутствии ангела.
У него были нежные черты лица, густейшие брови и шевелюра белее облака.
Он взглянул на меня озабоченно:
— Are you okay?
И ещё раз, у самого уха:
— ARE YOU OKAY?
О СКАЗОЧНИКЕ АНТОНИО ДИ ПУЧЧО ПИЗАНО И НАТУРАЛИСТЕ ПИЗАНЕЛЛО
Жил да был художник-сказочник Антонио ди Пуччо Пизано.
И жил натуралист, точно изображавший зверей, людей и вещи — Антонио Пизанелло.
Это, конечно, один и тот же человек — но с двумя головами.
Одна его башка витала в мире легенд, где рыцарь Георгий убивал прожорливого дракона, похитившего прелестную принцессу.
А другая впивалась глазами в реальность и запечатлевала образ висельника, болтавшегося на верёвке, или дикую утку, плавающую в озере.
Таков всякий настоящий художник: он постоянно переселяется из сферы фантомов в мир действительный — и обратно.
Некоторые искусствоведы помещают Антонио Пизанелло в лакуну между готикой и Ренессансом.
А я помещаю его в разрыв между дневной ловлей бабочек и смертным кружением мотыльков вокруг лампы.
Будучи одновременно сказочником и натуралистом, Пизанелло всматривался, как отваливаются длинные чёрные перья из крыла ворона, и он, нахохлившись, сидит один в лесной чаще и ждёт, когда вырастут новые — или когда он превратится в разбойника.
Взгляните на рисунки Пизанелло: тут возникают из пустоты обезьянки, кузнечики, святые, кабаны, пажи, лисы, газели, черепахи, олени, девицы, козы, рыси, монголы, соколы, попугаи, младенцы, цапли, ангелы, голуби, лошади, вельможи, верблюды, Иисус, ящерица, принц, кошка, ещё какие-то твари.
Он видел речку и леса
Где мчится стёртая лиса
Где водит курицу червяк
Венок звонок и краковяк
Одни искусствоведы считают Пизанелло чуть ли не первым в западной истории рисовальщиком с натуры, а другие — художником геральдическим.
А я думаю, что его старательно изображённые звери могут оказаться заколдованными дамами и господами, а то и кем-то помогущественнее.
Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят как спицы,
в полёте нет пощады.
Они отсчитывают время,
они испытывают бремя,
пускай бренчит пустое стремя —
сходить с ума не надо.
В глубине этого совмещения реального и сказочного коренится не что иное, как Драма, ведь четвероногие люди с бивнями и рогами, с копытами и хвостами обязательно отомстят своим двуногим братьям за их ловкую стрелу или пулю!
Драма, метаморфоза, превратности, тревога — пользоваться можно любыми словами, но лучше молча смотреть.
Возможно, Пизанелло поможет нам представить другую Драму, разыгравшуюся несколько веков спустя внутри Антонена Арто, который тоже силился узреть сказочную принцессу, но в голове его всплывали лишь обезглавленные драконы и дрожащие монстры.
Можно даже оставить в стороне двух этих гениев, ибо в их исключительности кроется опасность ошибки, и понаблюдать за кем-то, кто, оставшись в мнимом одиночестве, перестаёт себя сдерживать в своих видениях и начинает жестикулировать, дёргаться, строить гримасы, бурчать, стараясь поймать за хвост мучительный образ или неожиданное воспоминание, и ухмыляется, корчится, поводит плечами, оказавшись в двумирье, где так беспокойно и нестройно.
Сумасшедшие отдаются видениям Пизанелло на глазах у всех.
И на путь меж звёзд морозный
Полечу я не с молитвой,
Полечу я мёртвый, грозный
С окровавленною бритвой.
Кроме рисунков и живописи, Пизанелло делал ещё и медали.
Он считается величайшим мастером медального дела.
На круглых кусочках металла, с двух сторон, он тоже творил междумирье.
На одной стороне были властители, знаменитые люди, витязи, а на другой — ангелочерти, богомладенцы, храмозвери.
Человек, держащий такую медаль в руке или, скажем, в кармане, может время от времени на неё глядеть, ощупывать, согревать в кулаке или класть в рот — лелеять её как нечто сверхценное.
Медаль — не монета, она обладает иной обрядовостью, чем дукат.
Медаль — двуликий кумир, заставляющий играть собой и ставить жизнь на кон.
Так какой-нибудь князь, начав войну не вовремя, не знает, велико ли будет его войско и улыбнётся ли ему удача, и тревожно перебирает талисман в ладони, гадая о будущем и готовя коня для бегства.
Медаль — кусочек рока, а ещё она сродни волшебной палочке.
Эта штуковина позволяет её обладателю витать в облаках, ускользать из целесообразности, куролесить в мыслях.
Человек получает в своё распоряжение бляшку, на которой выпекаются грёзы, сила которых становится его достоянием.
Медаль служит точкой исхода видений, сказок и снов.
И может случиться, что из этой точки родятся самые неожиданные решения и поступки, дерзкие, ошеломляющие вылазки, невиданные любовные похождения и удивительные глупости.
Но:
Когда снежинку, что легко летает,
Как звёздочка упавшая скользя,
Берёшь рукой — она слезинкой тает,
И возвратить воздушность ей нельзя.
О КАТЕ КОХ
Сам я никогда не сжимал в ладони медаль Пизанелло.
Но у меня нашлись другие амулеты.
Давным-давно в Алма-Ате я нежданно-негаданно получил в своё распоряжение волшебную штучку.
Есть у меня вещица
Подарок от друзей,
Кому она приснится,
Тот не сойдёт с ума.
У меня был дедушка — профессор медицины Моисей Абрамович Бренер, уважаемый в городе терапевт, автор двух книг.
Он коллекционировал золотые и серебрянные монеты.
Но под конец дедушка спятил.
Я приходил в квартиру, где он жил с бабушкой.
Дедушка сидел в кресле с деревянной тростью в руке и держал на коленях большую книгу — сказки братьев Гримм на немецком языке.
Я не понимал ни слова, но дедушка не обращал на это внимания и упорно читал вслух одну сказку за другой, а бабушка угощала меня маковым рулетом собственной выпечки.
Однажды я зашёл к ним в туалет пописать.
И там — на самом дне унитаза — что-то блестело.
Я запустил руку в воду и извлёк небольшое солнце.
Это была золотая монета!
Позже я узнал от отца, что дедушка в помрачении ума спустил в канализацию всю свою нумизматическую коллекцию.
Он погружался в сон разума.
Но одна монетка — из того унитаза — всё-таки мне в наследство досталась.
Это была австро-венгерская крона, выпущенная к юбилею Франца Иосифа.
На аверсе был профиль императора, а на реверсе — герб (и надписи на латыни).
Я спрятал находку в карман, не сказав бабушке ни слова.
На уроках алгебры я держал монету в кулаке и молился, чтобы меня не вызвали к доске.
Иногда я вставлял кругляшок в глаз, как монокль.
А потом у меня появилась любимая девушка.
Её звали Катя Кох и она была заправской пловчихой.
Пушистые чёрные брови, иногда казавшиеся громадными, а иногда обыкновенными, синевато-зелёные глаза, лукавый, завязанный улыбкой рот.
Кожа её цветочно пахла.
Она выросла в скромной немецкой семье, отец её был слесарем.
Мне она говорила: «Ты ничего, только сутул немного».
Ей досталась от бога железная попка и козьи грудки.
Я вложил золотую крону ей в пупок, но этим мы не ограничились.
Она просила, чтобы я втыкал палец ей в анус во время коитуса — и шевелил.
Однажды она внедрила в вульву кусочек дыни — и я её дрючил.
Возникшее трение довело нас до экстаза.
Ей нравился мой шнобель — она хотела, чтобы я харил её носом.
Одновременно я теребил её клитор.
Ей становилось смешно, и, хихикая, она кончала.
Но вот однажды Катя сказала, чтобы я вложил ей в орган золотую монету.
Так я и сделал.
И там эта крона и осталась.
Совокупляясь, я ощутил на миг драгоценный металл, но тут же забыл о нём.
Возможно, Катя просто хотела получить подарок.
В любом случае, она никогда не вернула мне монету.
Возможно, золото в ней растворилось?
Катя была сфинксом, потому что любила молчать и смотреть на людей в упор.
Это казалось дерзостью.
Она научила меня кататься на велосипеде.
Ноги её были соблазнительны, и она справедливо гордилась ими.
ВОСХИЩЁННО О ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА, А О СВОИХ СОВРЕМЕННИКАХ — РЕЗКО
Я никогда не был в Ареццо, где есть фрески Пьеро делла Франческа.
И книгу великого итальянского искусствоведа Роберто Лонги о Пьеро я тоже не читал.
А исследование Карло Гинзбурга о Пьеро я лишь пролистал — в недоступном мне немецком переводе.
Так что я почти безграмотен в отношении Пьеро.
Как же смею писать о нём?
Как воришка, залезший в его сад сорвать сливу.
Хочу напитаться фруктами Пьеро, и знаю, что даже в камнях его — сладостный сок.
Так что же возьму: смокву, гранат, грушу?
Ого-го!
Он был Адам и первый садовод,
Природы друг и мудрости оплот,
И прах его, разрушенный годами,
Теперь лежит, увенчанный плодами.
Сад Пьеро чуден — он величайший вертоградарь зрения.
Он так и учил: «Я повторяю, что первое — это глаз, и говорю, что глаз — это первое, ибо именно глаз воспринимает вещи различными углами и познаёт их».
Видеть и познавать вещи разными углами — вот задача!
И посреди сверкающих небес
Стоит, как башня, дремлющее древо.
Оно — центр сфер, и чудо из чудес,
И тайна тайн. Направо и налево
Огромные суки поддерживают свод
Густых листов. И сумрачно и строго
Сквозь яблоко вещает голос бога,
Что плод познанья — запрещённый плод.
В пинакотеке Брера в Милане я набрёл на «Алтарь Монтефельтро», где изображена Мадонна со святыми и коленопреклонённым герцогом Федериго да Монтефельтро.
Считается, что герцог заказал эту работу, надеясь обеспечить божественное заступничество всему своему роду.
Сия картина содержит одно из упорнейших видений Пьеро.
Дело в том, что этот художник ещё задолго до Курбе дал формулу l’Origine du monde — происхождения мира.
Мир, согласно Пьеро, происходит из раковины, из складок шатра, из пещеры, из тайной ниши, из расщелины-глаза, из вагины.
Едва ли не все знаменитые композиции Пьеро содержат этот образ приоткрываемой завесы, за которой скрывается чудо-видение.
Вагина — око!
Удивительнейшее из таких созданий — Мадонна дель Парто, или Мадонна Рожениц в Монтерки.
Тарковский показал эту фреску в «Ностальгии», и о ней написал умную книгу Юбер Дамиш.
Беременная дева возникает из складок шатра, раздвигаемого двумя ангелами.
Она придерживает рукой складку-разрез в своих одеждах роженицы — разрез, в котором заключено влагалище, разрез-влагалище, из которого выйдет ребёнок.
Видеть вещи глазами, руками, ногами и под разными углами — вот урок Пьеро.
Ум этого смертного постиг все углы зрения, и, соединив множество переживаний в одном видении, он написал картину бесконечно протяженного многообразия — «Бичевание Христа»!
Там дворцы открываются — и в них Страсти лавиной вливаются.
Поэт пишет: «Ошибки, иллюзии, откровения, игра зеркал разума придают глубину и жизнь беспомощной громаде мира... Идея заносит в сущее семя несуществующего... Но порою вдруг объявляется истина и нарушает гармонию этой системы миражей и обманов. Тотчас всё оказывается на краю гибели, и сам Сократ вопрошает меня о лекарстве от этого безнадежного случая ясновидения и тоски!..»
Да, именно так: ясновидение и тоска — при взгляде на Страсти Христовы!
Как говорил Филип Гастон, тревога пронизывает живопись Пьеро делла Франческа, вечная тревога.
Что за тревога такая?
Странная и первобытная: вижу видимое!
Как явить в живописи зримые вещи, чтоб сохранилось их первовидение?
Как показать мир, словно он только сейчас возник?
Это — задача всего искусства от его первых шагов в пещере до нынешнего старчества.
Малларме сказал: «Поэт — культивированный Адам».
Он Рай дремучий видит впервой, и Еву нагую, и Змия, и себя в волосах.
В Национальной галерее в Лондоне есть «Крещение Христа» работы Пьеро делла Франческа.
Ой-ёй-ёй!
Там всё — облака, вода, листья, кора дерева, земля, одежды, голое тело Христа, его борода, белый голубь, раздевающаяся фигура в глубине, холмы — всё-всё-всё показано так, будто сотворено только что на наших глазах.
Краски, формы — такие, словно ты вот-вот вынырнул из потока, где тебя крестил Предтеча, и вот: новорожденный мир!
При этом — никакой искусности, Пьеро рисовал с простотой и бесстрашием Пуруши.
Он измерил мудрым глазом страшную многопространственность мироздания.
В «Бичевании Христа» космос раскрыт во все стороны — иди, куда хошь.
Пытка Иисусова дана лишь как одно из многих событий мира.
Можно об этом и забыть!
А можно и помнить вовеки!
Всё открыто, гляди куда пожелаешь.
Пьеро — величайший окомыслитель.
Страсти Христа происходят в закоулках истории — вечно.
Страсти подняли свои львиные головы и смотрят на нас, но уста их сомкнуты.
Пьеро не ввязывается в драму страстей, как это присуще Джотто.
Но Пьеро знает: убийство брата братом — так же вечно, как вращенье планет.
Видения, непрерывно изменяясь, образуют одно протяжённое многообразие, все точки которого независимы друг от друга — и связаны воедино.
Выбирай для себя точку зрения, зритель!
Взглянешь ли ты, живой, из влагалища, или мёртвый — из-под крышки гроба?
Eccolo!
Пьеро делла Франческа — это не художник законченных, домазанных картин, где всё раз навсегда рассмотрено и нарисовано, как цветочки у Яна Брейгеля.
Пьеро — живописец открытого, ясновидного зрения.
Поэтому у него нет прямых предшественников и последователей, как, например, и у Пушкина, и у Хлебникова.
Пьеро содержит в себе всё: пустоту голой стены и глубину помпейской фрески, звёздную ночь над морем и народную песню, костёр в лесу и безумие, философскую мысль и сон крестьянина, высшую математику и прыжок пантеры, трактат о перспективе и камень, учение горы Сен-Виктуар и африканских идолов.
Пренебрегли вы древней дланью,
Благословившей вас в купели,
И живы жертвенные лани,
Мечи жреца чтоб не тупели.
Вот для чего стоит ходить в музеи, оранжереи и церкви: чтоб вообразить себе жизнь как переход с одной планеты на другую, а оттуда на древо Иггдрасиль, не ограничиваясь банальными определениями вроде «треченто» или «кватроченто».
Как удалось Пьеро соединить в живописи убийственную трезвость с неистовством священного опьянения?
Ответ на этот вопрос кроется в словах Эриксимаха: «Понимать означает одно: быть не тем, что ты есть».
Пьеро никогда не автор своих произведений, как и Рублёв.
В любви любят не «себя» и не «тебя», а «Бога в нас».
Что же касается современного искусства, то ничего такого в нём нет.
Оно исчерпывается одним ильяздовским словом: халтура.
ОБ ЭЛИЗАБЕТ ПЕЙТОН
Впрочем, есть среди современных художников одна, что мне нравится — Элизабет Пейтон.
Это богатая художница — и по скромному великолепию своих картин, и по деньгам.
Она — стареющая, но статная принцесса в мировом посёлке, где руководствуются правилом стареть как можно позже.
Но умница Элизабет решила, что это слишком занудно.
Поэтому она уединилась с толпой наполеончиков, куртов кобейнов, гюставов флоберов, марий-антуанетт и сидов вишесов.
Она — их загробный портретист:
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Элизабет Пейтон изображает Оскара Уайльда и Обри Бердслея как котика Ка и лебедя Ля.
А сама она — их Константин Гис и Даниил Чёрный (но только без риз).
Элизабет торгует образками святых рокеров и покеров, но главное в этих иконках — агония иронического инока.
Ук!
Ик!
Ак!
На её картинках на расстеленных пластиковых лужайках и в бархатных лежанках валяются двуногие, которые никак не могут сгинуть из коллективного воображения Запада.
Но вот что смешно: Наполеон на эскизах Элизабет Пейтон странным образом похож на Александра Введенского, а Бердслей — на Даниила Хармса.
Помните:
В широких шляпах, в длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.
Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.
Элизабет Пейтон правильно поняла, что спасение там, где бродят неприкаянные, безымянные призраки, ведь в посёлке вокруг — лишь мерзкие пляски, дрязги, фиаско.
Лучше уж лёгкие маски и сказки.
Элизабет Пейтон в постели читает Флобера и рисует Бювара и Пекюше по наитию.
Это называется — Кабаре Флобер.
Она — умелая хозяюшка в своём кабаре и хорошая швея.
О, Элизабет, ты возвышаешься среди бумажного вороха знаменитостей!
У тебя в руках вышивальные иголочки, и ты умело выбираешь нужное сиятельное личико и шьёшь его иконными нитками.
Ты вышиваешь и воздух спальни, и простынки, и наволочки, и платочки, встрачивая в кружевную подушку превращённое в царевича Алексея мёртвое лицо Бисмарка.
А вокруг толпа прижимается восхищённо к стенке и ждёт, когда же иссякнет пыл швеи, когда усохнут её ручки.
Но швея не унимается, сидя внутри Элизабет Пейтон.
Данная швея — кукла из глины тёмно-коричневой, но выкрашенная белилами во времена незапамятные, так что сквозь белила проглядывает рыжеватый грунт и старинные трещины.
Эта кукла поддавалась ухаживаниям всех и вся — от вавилонских ремесленников до нью-йоркских маклеров.
Она — цаца желанная, и умеет притворяться, как тать.
Обитатели мирового посёлка её чтут, как свою форменную мать.
Эта кукла заставляет всех вмешиваться в её дела, и все её делами руководят, а она только попискивает.
И хотя всё идёт вкривь и вкось, и все игольчатые труды пропадают, и всё выходит не так, как хотела б швея, а скорее как швея не хотела б, всё, однако, продолжается — шитьё, литьё, переодевания, представления, церемонии.
К счастью, вмешательства остаются вмешательстами, и кукла никому не позволяет вставить палец в свой тайный пупок, спрятанный под слоем потрескавшихся белил.
Так что, несмотря ни на какие вмешательства, во всех вышивках швеи и нарядах куклы проступает коричневый грунт других смыслов, и никогда нельзя понять, что она действительно говорит и о чём думает, и выходит, что её тон положительный становится вдруг вопросительным, а вопросительный — отрицательным, и наоборот, а потом она и вовсе замолкает, впадает в пустяки или в скороговорку — странно и многозначительно.
Поэтому в делах швеи есть не то, что все видят и все знают, а что-то другое, что рассыпается от одного взгляда тех, кто смотрит.
А иногда она и вовсе прячет то, что делает, от знающего взгляда — шмыг под подушку.
— За это я и люблю потрескавшуюся куклу Элизабет, — говорит Ка.
ОБ ОДНОМ ПОРТРЕТЕ ГИРЛАНДАЙО
Два существа смотрят друг на друга — старик и мальчик.
Старик желтолиц, сед, с почти отсутствующими белыми бровями, с зачёсанными назад остатками хилых волос, с крупной бородавкой повыше виска, со лбом, заставляющим вспомнить череп, с нависшими веками опущенных глаз, которые скоро совсем закроются смертью, с выбритыми восковыми щеками, с припухшим стариковским лицом и бледными, сжатыми губами утомлённого жизнью человека.
Но он одушевлён — засмотрелся на внука.
Одет он в красный плащ, украшенный меховой полоской.
Самым разительным в его лице является распухший, бугристый, клубнеобразный нос, похожий на какой-то странный пупырчатый фрукт или корень.
Этот нос изуродован болезнью.
Болезнь называется ринофима.
Ринофима — хроническое заболевание кожи носа, характеризующееся увеличением всех его элементов и обезображиванием этого органа обоняния.
Причины возникновения болезни не установлены.
Предполагается, что ринофима может быть третьей стадией развития розовых угрей.
Некоторые специалисты связывают ринофиму с хроническим алкоголизмом.
Предрасполагающими факторами для этой патологии считаются резкие перепады температуры, запылённость или излишняя влажность воздуха.
Прогрессируя, ринофима достигает чудовищных размеров, ужасно деформируя нос, затрудняя дыхание и даже приём пищи.
Старик поражён этим недугом, лик его изуродован.
Но не это важно.
Важен взгляд старика, устремлённый на мальчика.
И ответный взгляд мальчика на старика.
Дед держит внука на руках, глядя на него со сдержанным восхищением и одновременно с затаённой грустью.
О чём он думает?
О детстве, о старости?
Или просто любуется чистым личиком внука?
А мальчик — с золотыми кудрями, в красной шапочке, очень красивый — доверительно держится за дедушку и тоже глядит на него.
Что же он видит?
Нос-ринофиму?
Или любимое, родимое существо?
Мудрого, доброго дедушку?
Иногда невозможно отвести глаз от аномалии.
Но когда любишь, даже аномалия прекрасна!
Сквозь открытое окно виден пейзаж — долина, по которой лентой вьётся река.
В пейзаже — дерево, повреждённое бурей.
Вдали возвышаются холмы и какие-то загадочные, призрачные скалы.
Это — картина Гирландайо.
Она находится в Лувре.
Название: Ritratto di vecchio con nipote — «Портрет старика с внуком».
Сущность этого двойного портрета — любовное всматривание.
Вот так же и я, член тёмного детского союза, сидел когда-то и всматривался во что-то.
В нос-клубнику?
В мир-сортир?
В загадку всего?
Прекрасно тут или ужасно?
У Рильке есть великое определение детства: «МУДРОЕ НЕЗНАНИЕ ДЕТЕЙ».
Дети часто так одиноки в мире взрослых!
И порой они сконфужены: не знают, куда и на что им смотреть.
Как сказал поэт: «Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся».
Мы занимаем друг у друга деньжата и торгуем милой порнушкой, зашифровывая в животно-трусливые формулы могучее, опасное, запретное понятие Любви.
Ринофима — распухший орган с наростами — из всех некрасивостей мира она, наверное, самая невинная.
Она даже чудесна, как горб или безногость.
Современный мир гораздо уродливей любой ринофимы.
Каждый день инфантильное вопрошание скребётся во мне:когда же я наконец получу в подарок красоту мира?
На миг эта красота вспыхивает, как во встряхнутом калейдоскопе.
И почему я так и не научился смотреть с любовью в глаза дедушки, матери, отца, сына, мира?!
Я недоумеваю.
Моя ринофима, кажется, разрослась так, что уже ни вздохнуть, ни охнуть.
Но, как сказал Рене Шар: «Когда картошка перестанет расти в земле, мы будем на этой земле танцевать. Таково наше право и легкомыслие».
О БОСХЕ
Однажды Кафка записал в своём дневнике: «Сегодня утром я внимательнейшим образом наблюдал конец света, а затем вернулся к своей работе».
Вот так и Босх.
А Велимир сказал о будетлянах: «Вонзая в человечество иглу обуви, шатаясь от тяжести лат, мы, сидящие на крупе, показываем дорогу туда! И колем усталые бока колёсиком на железной обуви, чтобы усталое животное сделало прыжок и вяло взяло, маша от удовольствия хвостом, забор перед собой».
Нет двух более схожих художников, чем Велимир Хлебников и Иероним Босх.
И у того, и у другого разница между погибелью и спасением в одну букву: то сад, а то ад.
Что же это: память старца?
Или детское ясновидение?
Вот Хлебников пишет: «Недоумевая, переводил я взгляд с одного лица хорошенькой малороссиянки на другое и вдруг встретил улыбающийся насмешливый взгляд дочери огня. Был у ней вкруг головы венок из бумажных цветов и намисто из пышных зелёных и красных бус, только что-то было такое небесно-чертовское в глазах и очаровательно сложенных губах, что заставило произнести: «Э! Тут дело неспроста! Это или красивейшая из дочерей Украины, или дочь неба. Неладно и так, и этак».
Так и у Босха: дочери неба, сыны сатаны — поди разберись!
У него всё «бабушка надвое сказала»: может быть, парадиз, а может, паразит.
Богочеловечество чертей кричит: «Бросьте свои крысятники!», «Скорее на волю!» — и захлёбывается в углероде.
Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и сейчас испепеляет себя, а может, сам становится зверобогом?
Вчера я был на вернисаже в цюрихском Кунстхалле: там стоял огромный, раздутый, пластмассовый куратор Ханс-Ульрих Обрист-Вий, окружённый крошечными пластмассовыми мальчиками и девочками — дьявольское отродье!
Мы с Варварой стали плясать и раздеваться, чтоб не подпасть под их морок, и они тут же вызвали сиволапых охранников.
Тогда мы сняли с ног наши протухшие башмаки и припали ртами к их недрам — лишь бы не дышать одним воздухом с этой нечистью.
Лишь бы не заразиться!
Стенал я, любил я, своей называл
Ту, чья невинность в сказку вошла,
Ту, что о мне лишь цвела и жила
И счастью нас отдала.
Но Крысолов верховный «крыса» вскрикнул
И кинулся, лаем залившись, за «крысой» —
И вот уже в лапах небога,
И зыбятся свечи у гроба.
Изгнанные из туловищ души убитых зверей бросились в человека и населили своей местью его пустоту.
Таковы образы-идеи Босха, Хлебникова.
Но люди не звери, не ангелы и не бесы, а дураки.
И плывут по пустыне на корабле дураков.
Счастье исчезло, как вырванная страница рукописи.
Но ожидается чудо: скоро земля станет съедобной, как брецель; каждый камень — манговый плод.
Каждый хрип, любое сморканье — блаженное Слово.
Каждый палец — перст Божий!
Так у провидца Иеронима Босха — и у Будетлянина.
Другими словами: потоп, крах и возврат Атлантиды — был или будет?
Они склонны думать: есть.
О, МАНТЕНЬЯ!
Согласится ли со мной моя дорогая читательница, что все великие художники — пугающи?
Вот Мазаччо: от его мужиков — суровых, неумолимых, лютых, простодушных — поблажек не жди.
Вот Ван Эйк: он рисует стариков-процентщиков и измученных раскольниковых!
Вот Микеланджело: гирлянды из мускулатуры, как в мясной лавке.
Вот Гольбейн: пренеприятные мертвецы.
Вот Брейгель: указка на слепоту человечества.
Вот Пуссен: замороженный балет страстей.
Вот Энгр: ящеры-одалиски.
Вот Дега: он сказал, что живопись требует такого же обмана, злобы и изощрённости, как удачное преступление.
Вот Курбе: волосатое начало мира и его убогий конец в Орнане.
Вот Тулуз-Лотрек: прекрасная Франция как дом терпимости.
Вот Энсор: пляска скелетов.
А вот уже и Луис Фернандес: сплошное издевательство.
Да, великие художники неприятны.
Они не льстят, не ублажают.
Наоборот: чтобы короче были муки, чтобы убить наверняка, они берут нас в свои руки самого лучшего стрелка.
Но наистрашнейший из всех — Мантенья!
Он высокомерен, не протягивает руку зрителю, а бросает его на произвол судьбы в своей каменной зоне, откуда не видно выхода.
Эта область дика, скалиста, бесплодна.
Мантенья открывает под нежной кожей европейского художества пугающий костяк: военизированный лагерь классического искусства.
Там муштруют, загоняют в строй, пытают, прибивают к кресту.
Там всё каменное, железное.
Не только орудия, не только почва — плоть у него из камня!
Кремень, валун, плитняк — это и есть живопись Мантеньи, её форма и содержание.
Камень торчит, дыбится, принимает разнообразные формы, прикидывается человеком и деревом, трескается, крошится, ломается на куски, падает на землю и на голову зрителя.
У мантеньевского камня грандиозная сила — куда более упорная, необоримая и неуправляемая, чем животная или растительная.
Как сказал Борхес: «Нет ничего, что стояло бы на камнях, всё стоит на песке. Но наш долг строить из песка, как из камня».
А стоики учили, что человеку не мешало бы стать камнем.
Или это:
Кружевом, камень, будь
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.
Камень у Мантеньи происходит из готической формулы стремления ввысь.
Но он и низвергается, как горный обвал.
Камень может быть глыбой, утёсом, обработанным блоком, зданием, аркой, крышкой гроба, статуей, кружевом и паутиной, а потом вдруг делается развалиной, осколком колонны, крошкой.
Каменеет природа: деревья, горы, звери.
Окаменевает культура.
И да: песчаник, мрамор и гранит подвержены разрушению, а Мантенья влюблён в разрушение — древних статуй, скал, крепостей, человека.
Окаменение и разрушение — главные темы Мантеньи.
Ни один фашистский художник не способен был на такую открытую враждебность, на такое откровенное всматривание в разрушение, ведь фашисты были халтурщиками, а Мантенья — нет.
Каменное недружелюбие в лице этого мастера, в его портретах.
Он презирает людей.
Мантенья осмеливается сказать прямо: «Отвратительно, мерзко... Всюду тюрьмы, застенки, аресты, пытки, убийства... Глумление на каждом шагу... Невыносимо смотреть?.. Так вот же — смотрите: здесь только камень и смерть».
«Триумфы Цезаря» — апофеоз военного лагеря в искусстве.
Это произведение старика Мантеньи — самое ужасное во всей истории живописи.
Там на девяти трёхметровых холстах изображено шествие завоевателя мира: колонной идут воины, стучат копытами конники, бегут покорные рабы — несут младенцев и трофеи, плетутся пленники, семенят заложники, солдаты тащат копья, штандарты, утварь, золото.
Мантенья писал эти девять холстов последние десять лет своей жизни.
Это — образ покорённого и поставленного в строй человечества.
Хаос тел и вещей переходит в космос казармы и парада.
Живопись, по мысли Мантеньи, должна быть такой же твёрдой и неумолимой, как скульптура.
Мантенья уважал Донателло.
Это было его зрение: живопись-как-скульптура, как бронзовый барельеф, отполированная, как мрамор, материальная, как скала.
Я испугался, увидев в детстве «Оплакивание мёртвого Христа»: окаменевшее тело, каменеющие лица.
Мантенью уважали Беккет и Тарковский — все трое испытывали отвращение к обществу.
На картины Мантеньи нужно смотреть долго-долго, пока не умрёшь от жажды или не помудреешь.
Как сказал платоновский Сократ: «Хорошо было бы, Агафон, если бы мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснёмся друг к другу, из того, кто полон ею, в того, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой».
Но в каменном мире Мантеньи вода — озёра и слёзы — превращается в солончаки, застывает.
Впрочем, есть одно исключение в его каменном стиле.
Это — изображения Мадонны с младенцем: там нежная лепестковая плоть; теплота, шелковистость, ласка; в камнях пробиваются аленькие цветочки.
Это — мантеньевский маньеризм, ахиллесова пята в суровом утёсе:
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.
О СОВРЕМЕННЫХ КАМНЯХ
Значит, видение Мантеньи сбылось?
Неужели всё вокруг и правда превратилось в гладкий, могильный, пыльный, ухоженный, пластиковый камень?
И я, что ли, тоже?
Я давлю на своё волосатое яичко — кажется, оно ещё не из камня.
А сердце?
Сердце?
Недавно моя мать ушла в камень.
Несколько лет назад у неё в животе начала набухать и расти каменная опухоль — сначала величиной с горошину, а потом больше и больше.
Но она об этом не хотела знать.
Опухоль росла, как чудовищный каменный цветок, набирая силу, чтоб убить мою маму.
Однажды утром, обессилев, она упала в обморок и сломала себе шейку бедра.
Это случается со стариками.
Её увезли в каменную израильскую больницу, набитую каменеющими и разваливающимися телами.
Там ей сделали операцию на бедро, но камень в животе не удалили.
И он рос и рос, словно каменная столица Российской империи — город Санкт-Петербург, построенный рабами-каменотёсами.
Теперь моя мама не могла уже не замечать этого каменного нароста — её живот вспучился, как купол Исаакиевского собора.
Она больше не ходила без чужой помощи и даже нужду стала справлять под себя.
Она и сейчас там, в этом Израиле — стране из сплошного халтурного камня.
Мама!
Она почти не говорит, не встаёт, глаза её закрыты, голова падает набок.
Мой сын Женя ухаживает за ней.
Мама почти ничего не ест, зато камень съедает её.
Она уже еле дышит, а я всё не еду в Израиль.
Боюсь увидеть эту каменную зубодробительную страну.
Боюсь посмотреть на свою окаменевшую маму: вдруг тоже окаменею?
Трус...
Всё вокруг превращается в камень, а я — в мягкого, боязливого зверя.
Так я расхожусь с каменным миром в противоположные стороны.
Может быть, лучше стать камнем?
Как сказал Рене Шар: «Долго плакать в одиночестве помогает».
О ТОМ, КАК ЛЕОНАРДО СМОТРЕЛ В ОКНО
Лучшее в творчестве Леонардо да Винчи — это то, чего он не сотворил.
Свобода от вещей — разве это не главное?
Как сказал Хлебников: «Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой, то есть не разнотствуем с богом до миротворения».
Список начатых и брошенных работ Леонардо — в живописи и скульптуре и прозе — впечатляет чуть ли не больше, чем список его завершённых творений.
Леонардо любил задумать — и не воплотить.
Иногда это объясняют тем, что исследование и эксперимент были для него важнее, чем доделывание.
Но почему?
Непросто представить себе тропы разума гения.
Однако Вазари даёт хорошее объяснение этой любви к бросанию начатого.
Оказывается, Леонардо обожал проводить время, просто глядя в окно.
Это раздражало его патронов и заказчиков.
На вопрос, почему он не работает, Леонардо отвечал: «Дух витает».
Смотреть во двор — это то, что любят нерадивые школьники.
Я и сам, мелкий, частенько бросаю всё и гляжу бездумно в окошко.
Но Леонардо, как известно, сказал: «Кто мало думает, много ошибается».
Не стоит забывать и его девиз: «HOSTINATO RIGORE» — «упорная строгость».
Так о чём же он думал, глядя в окошко?
Вот, я воображаю его: недоступный и странный, как лев, лежащий в своей клетке, почти прижимаясь к железным прутьям каменного узилища — Леонардо, прильнувший к оконцу.
Его неподвижность завораживает.
Что происходит в этой великолепной мощной голове, за этой печальной мордой, хранящей выражение замкнутого превосходства и восхитительной отрешенности — несмотря на всю подчинённость его положения, на зависимость от королей и хозяев зверинца?
Однажды Леонардо написал: «Ребёнок хочет стать отроком, отрок — юношей, юноша — мужем, но на самом деле это атомы тела стремятся к смерти и разложению, чтобы вырваться на свободу».
Алексей Фёдорович Лосев объяснял это высказывание нигилизмом, но я не уверен.
Поль Валери говорит о Леонардо: «Во всех его трудах, как и развлечениях, к коим причастна его учёность, неотделимая от страсти, ему сопутствует одно очарование: кажется, он всегда думает о чём-то другом...»
О, да!
Может, это и есть свойство гения: делая что-то, думать о чём-то другом?
Сам Леонардо сказал: «Чтобы понять образование вещей, нужно смотреть на облака».
И ещё: «То, что не имеет границ, не имеет и формы».
Значит, он созерцал в окошко безграничную бесформенность облаков?
Без лиших слов, с упорной строгостью!
Валери говорит, что у Леонардо было две идеи.
1. Разобрать всю Вселенную на части, не забыв ни одну былинку.
2. Собрать всю Вселенную воедино, не пропустив ни пылинки.
И ещё: «Большинство людей гораздо чаще видит рассудком, нежели глазами. Вместо цветовых поверхностей они различают понятия. Тянущаяся ввысь белесая кубическая форма, испещрённая бликами стёкол, моментально становится для них зданием: ЗДАНИЕМ! Что значит: сложной идеей, своего рода комбинацией абстрактных свойств. Если они движутся, смещение оконных рядов, развёртывание поверхностей, непрерывно преображающие их восприятие, от них ускользают — ибо понятие не меняется. Воспринимать им свойственно скорее посредством слов, нежели с помощью сетчатки, и так неумело они подходят к предметам, так смутно представляют радости и страдания разборчивого взгляда, что они придумали КРАСИВЫЕ ЛАНДШАФТЫ. Прочее им неведомо. Зато здесь они упиваются понятием, необычайно щедрым на слова».
Леонардо, конечно, знал об этом зрительном дефекте большинства людей.
Поэтому сам он всегда начинал с облаков в окошке.
Вот что пишет об облаке Юбер Дамиш: «Оно представляет материал, если не орудие, конструкции и в то же время обеспечивает переход с земного регистра на небесный, а также способствует фигуративным и пластическим эффектам, о которых не даст отчёта ссылка на порядок естественной реальности или сверхъестественного ви'дения».
Поэтому Леонардо любил облака?
Вещи же, которые возникали в результате его художнических и учёных трудов, как и всякие вещи, склонны были тащить на себе груз понятий, и потому Леонардо бросал их на полпути.
Он старался быть не понятийным человеком, а пристально смотреть на мир: как он там шевелится, бежит, застывает, колеблется, покрывается дымкой.
Ещё он любил произносить элементарные звуки: и и и и и и.
Или: э э э э э.
Или: у у у у.
Или: а а а.
Поэтому однажды он назвал себя полу-шутя, полу-серьёзно OMO SANZA LETTERE — «неучёный человек».
Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?
О БАРТЛБИ
Бартлби пошёл ещё дальше Леонардо: он смотрел в окошко уже не на облака, а просто на голую кирпичную стену.
В этом и заключался скандал.
Ведь он, этот писец из рассказа Мелвилла, восхитивший современных философов, безмолвно зовёт всех нас задуматься о его смотрении и, может быть, даже последовать за ним по этой тропинке.
Взгляд, каким он взирает на окружающую его уолл-стритовскую цивилизацию, исполнен глубокого равнодушия.
Что же оно означает?
Если вы не думаете, что Бартлби — сумасшедший, или зануда, или лицедей, или отказчик, или какой-нибудь художник-перформансист, а действительно, как говорит Агамбен, экспериментатор, или, как говорит Делёз, новый Христос, то вам стоит присмотреться к его спасительному эксперименту.
Куда он нас ведёт?
Седой табун из вихревых степей
Промчался, всё круша и руша.
И серый мох покрыл стада камней.
Травой зелёной всходят наши души.
Жуют траву стада камней.
В ночи я слышу шорох жуткий,
И при большой оранжевой луне
Уходят в камни наши души.
В Бартлби нет никакой надменности или принудительности, но нечто более грозное: убеждённость в своей фатальности.
Какая самодостаточность, какая отрешенность, какая безукоризненная изоляция!
В нём заложена неотвратимость всего, на что он способен.
Этот переставший писáть писец пробуждает в голове смутный образ бесконечной, непостижимой Вселенной.
Все вокруг работают, исполняют свою и чужую волю, ездят отдыхать в Акапулько или Крым, а этот отлыниватель уставился в окошко и на все расспросы отвечает какой-то бессмыслицей: «Я бы не предпочёл...»
О, это такое неосновательное высказывание!
Такая ошибка!
Может, ему правда нужна полиция или карета скорой помощи?
Пожарная команда?
Вдруг стена из кирпича, на которую он засмотрелся, загорится?
Или оконное стекло, через которое он смотрит, лопнет?
Может, вам самим попробовать этот эксперимент смотрения, чтоб удостовериться?
Стены ведь нас всюду уже окружают, в Святую землю за ними ходить не надо.
Попробуйте — воззритесь на них.
Что с вами будет?
Если вы готовы, то вот вам мой совет: избегайте глянцевых стен и слишком новых.
Матовая и потрескавшаяся стена — это то, что вам нужно.
О ДЮРЕРЕ И ЧУВСТВЕ НЕРЕАЛЬНОСТИ
В возрасте одиннадцати лет Альбрехт Дюрер лежал, засыпая, в своей кровати и вдруг увидел над собой Ангела.
Ангел висел в воздухе, несомненно живой, и Альбрехт мог рассмотреть каждую его чёрточку.
Это было существо с мощными растопыренными крыльями, как у хищной птицы, когда она парит в высоте в поисках добычи.
Пёрышки крыльев были прилажены друг к другу в идеальном порядке и образовывали превосходный ритм.
Ангел был безусловно женского пола, и тело его, скрытое длинными складчатыми одеждами, выглядело плотным и мускулистым, как у работящих крестьянок.
Голову Ангела прикрывал венок из нежных цветочков.
Ангел смотрел на Альбрехта и, хмурясь, улыбался.
Видение висело над кроватью около минуты.
Но вот Ангел вздрогнул и заколебался.
Щеки его надулись, словно он хотел дунуть на мальчика.
Вместе со щеками раздулись одежды.
Ещё миг — и Ангел превратился в идеальный шар.
Несколько секунд он вращался в воздухе с бешеной силой, а потом — хлоп! — лопнул, как водяной пузырь.
На лицо Альбрехта упали брызги — всё, что осталось от чудесной гостьи.
Но капли быстро просохли.
Засыпая, мальчик подумал: «Ангел — да был ли он? И существуют ли они вообще?»
А потом: «Скоро я тоже исчезну, как будто и меня не было».
Все предметы в тёмной комнате представились ему бесполезными.
Утром он очнулся и вспомнил о видении.
Через окно проникал солнечный луч, в котором плавали пылинки.
Альбрехт сообразил: «Это всё, что осталось от Ангела».
Мысль повергла его в печаль, которая развеялась к завтраку.
В полдень Альбрехт забрался на сосну.
С ветки он созерцал окрестности — и вдруг увидел лошадь.
Конь мирно щипал траву, но что-то заставило мальчика повнимательней присмотреться к зверю.
Ах! — то была не лошадь, а её скелет!
Кривые рёбра белели, пустыми глазницами пялился длиннющий череп.
А мощный член коня палкой свисал к траве.
Вдруг второй скелет — человеческий — появился на кру´пе.
Это была Смерть!
Она держала в руках лук и целилась в Альбрехта.
И вот стрела полетела в него — да не одна, а целое множество!
Альбрехт зажмурился и решил, что это — конец.
Когда же он открыл глаза, то увидел, что все стрелы, не долетев, упали под дерево.
И они превратились в сосновые иголки.
О ДЖОНАТАНЕ БРЭГДОНЕ
У Дюрера есть один дальний отпрыск — Джонатан Брэгдон.
Его, как и великого Альбрехта, интересуют не природные формы, а скрытые за ними силы.
Готика со своей идеей сил многому научила Дюрера, а классика способствовала учёбе.
Брэгдон тоже решил вспомнить о силах, стоящих за формами.
Это так захватывающе: попытаться различить за облаками то, что определяет их становление и разрушение.
Линии у Брэгдона — не линии, образующие тот или иной образ, а линии-силы.
Он понял, что тучами, горами, городками, воздухом, птицами, морем управляют разные силы — каждая со своим характером, структурой и ритмом.
Это как магнитные поля.
Об этом Лукреций рассуждал в поэме «О природе вещей».
Как показать становление этих сил на листе бумаги?
Задача рискованная, но Брэгдон не теряет спокойствия.
Он считает невозмутимость важнейшим свойством художника.
Не впадать в меланхолию (как случилось однажды с Дюрером), а искать закономерности сил.
Например, наблюдается чередование сгущённых сил (камня, земли) с разрежённой природой — воздухом.
Это — обмен вещества с пустотой.
Так возникает пространственное биение (слово Хлебникова).
Сила атмосферы сочетается с силой облака примерно так, как соотносятся ударные и неударные места в стихе.
Силы не терпят слитности и остановки, как отдельные слова не любят слипаться в одно и выговариваться без ударений.
Силы сопрягаются, но тут же и разрываются — с ударениями на местах разрыва.
Силы подобны водоворотам, о которых пишет Агамбен.
Силы, учит Хлебников, организуются по правилу пушек: взять дыру и облить её чугуном.
А потом из чугунной дыры летит снаряд и крушит стены крепости.
В рисунках Брэгдона нет пушек и стен — только чертежи сил.
Весомость стен крепости отсутствует в чертеже, зато в нём открываются силовые векторы — как в каркасной системе готического собора.
Зачем обязательно чугун и камень?
Лучше писк и острота крыла ласточки.
Слабость — лучшая сила!
Материя сковывает и нейтрализует силы — так цветок умирает в неловком кулаке.
Пусть силы гуляют на воле и спорят!
Альбрехт Дюрер обожал различие сил в мире.
Вот как он видел и изображал отдельные силы:
1. Сила деревьев: вихреобразная, воронкоподобная, каллиграфическая, сходная с вертиго, лапчато-колючая, мачтововертикальная, косице-переплетающаяся, ветрозависимая, игольчато-пушистая.
2. Сила животных: волнообразная, морщинисто-щетинистая, бурдюкоподобная, бочковидная, переливающаяся, панцироносная, чешуйчатая, перисто-узорчатая, рогато-ветвистая, мохнато-плешивая.
3. Сила гор: скалисто-древесная, складчато-готическая, травянисто-облезлая, корневидная, извилисто-лобная.
4. Сила воздуха: струйчато-линеарная, облачно-пухлая, пустотно-голая, птиценаселённая, ветростремительная, успокоенно-продольная, плането-сияющая, богообитаемая, звонно-бездонная.
5. Сила людей: глазо-носо-ротоотверстая, гладкостенно-рыхлая, волосисто-волнистая, мускульно-напряжённая, пропорционально-непропорциональная, жесто-выразительная, каллиграфическо-иконическая.
6. Сила одежд: готическо-складчатая, зигзагосломанная, ритмообразующая, прихотливо-упорядоченная, каллиграфическо-орнаментальная, арабеско-резкая, послушно-непослушная.
Дюрер был Бахом силовых чертежей!
А мы живём в дрянном мусоре вещей.
Джонатан Брэгдон, наш современник, знает, что воздушные замки давно уже заменены доходными домами — внучатыми племянниками замков.
Замки в Средние века стояли особняком, окружённые силами воздуха, привлекая к себе силу дальнего странника.
А мы сегодня, увы, сплющены силой доходных домов и давно уже не странники, а бессильные засранники.
Брэгдон понимает это и старается напомнить нам о мистерии свободных сил.
Это и есть его заслуга: демонстрация пропасти между красотой разгульных сил, стоящих за телами, и нереальностью тел под гнётом вещей.
Прав Хлебников: «Только немногие заметили, что вверить улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома — значит без вины вести жизнь одиночного заключения, где чудовище жадности тёмной и чужой воли идёт к сомнительным целям».
Необходимо заново освободить силы земли!
Всё выпустить на волю: слова, реки, мысли, травы, образы, городища...
Прекрасен анекдот, ходивший о Дюрере при его жизни.
Написал однажды Альбрехт автопортрет и выставил сушиться на солнце.
К картине подбежал пёс художника — и стал лизать полотно, приняв его за живого хозяина.
Следы собачьего языка якобы и сейчас заметны на автопортрете.
Это тоже — столкновение сил!
Как сказал Хорхе Луис Борхес: «Дай душу собакам, дай бисер свиньям, самое главное — дай».
О ПРОВОЛОЧНЫХ МЕРСЕДЕСАХ
Вчера мы с Варварой наведались в цюрихский Музей народного творчества.
Там был вернисаж — «Автодидакты: проволочные игрушки из Бурунди».
Покричать бы жирафом на публику!
Завыть бы шакалом на куратора!
А для чего кричать и пищать на выставках?
Чтоб вспомнить землицу-мать, море-океан — и их силы.
Если б мы похерили наши ребячьи глупости, то зачем тогда передвигаться, книжки писать, дышать?
Когда в тебе гибнет Идиот, ты — мёртвый удод или патриот.
Авессалом!
Головолом!
Вчера в Музее народного творчества мы не стонали слонами, не орали орангутангами, но и не потому, что там давали вкусные самосы и жареные бананы, а потому, что мы были поражены бурундийскими потехами.
Мбомбаси!
Катаваси!
Эти игрушки делают не мастера, а уличные мальчишки, что сидят на горячей земле и мастерят из проволоки маленькие мерседесики, аэропланчики, мотоциклетики, велосипедики и прочую фетишистскую технику.
Этим мальчуганам позавидовал бы Генри Форд, будь он жив!
Им бы позавидовали Отто Лилиенталь, братья Райт, Можайский и Туполев!
Им бы позавидовал Александр Колдер!
Колдер знаменит не только своими мобилями, но и проволочными фигурками — карикатурами в воздухе.
Его проволоки — уродцы и акробатики, носачи и горбуны — меняют свои контуры, если смотреть на них под разными углами.
Но мальчишки из Бурунди лучше!
Они всю мировую технику превращают в проволочную паутину, сидя на красной африканской земле и попукивая, а не потея на заводах, в ангарах, конструкторских бюро и мастерских.
Они в своих рваных кедах шевелят пыльными пальцами и изобретают заново кадиллаки и боинги, шкоды и харли-дэвидсоны, и летают по воздуху на своих проволочных роллс-ройсах, ямахах и аэробусах — исключительно в своём воображении!
Им не надо ехать в аэропорт, пропитанный запахом катастрофы.
Им не надо проходить паспортный контроль и вытряхивать карманы перед пограничником.
Они — не послушные граждане, туристы и бизнесмены, совершающими деловые, познавательные или оздоровительные поездки в Европу или Индию.
Карарчи!
Чинарчи!
Им даже не нужно называть себя художниками!
Хотя бы одно лето они могут беспечно мастерить свои проволочные машинки, которые в тысячу раз лучше всего современного худопромысла.
Хотя бы один солнечный день этим ребятам не нужно думать об училище, фабрике, униформе, карьере сержанта или контрабандиста, а можно свиристеть как мотылёк, насупивший свой хоботок.
Ты, человечество, — стая мух, облепившая каменные холодильники городов, храмов, тюрем, цехов.
Вы, люди, — мошки на экранах компьютеров.
Так дайте же вздохнуть своим деткам!
Аюю! — кричат трясогузки.
Хау-хау! — просят носороги.
Жрабр чап-чап! — умоляют лягушки.
Угуум мхэ-мхэ! — увещевают крокодилы.
Бгав кхав ха! — стонут гиены.
Мно блэг блэг! — требуют пеликаны.
Егжызеа равира! — взывают цапли.
Рррра га га! — отзываются саванны.
Эбза читорень! — кричит с неба солнце.
Эпсей кай-кай! — вторит луна.
Идите, люди мира, спешите в Музей народного искусства Цюриха, посмотрите на восхитительные проволочные игрушки из Бурунди!
Вы видите эти каркасики, заполненные ветром выдумки?
Вы видите лёгкую и счастливую руку художника, хотя подписи под творением нет?
Вы прячете эти детские загибы в музее?
Или вы хотите последовать их логике?
Почему бы вам не сесть в эти аэропланчики и не умчаться на свою родину — в Малолетство, в Сызмальство, в Неполовозрелость?
Просто и мило.
Цюрих имеет много художественных сокровищ, золотых слитков и стратегических умов в клетках — так зачем ему ещё эти проволочные забавы?
Ускачем на них в недоступное место!
Украсть у Цюриха эти шутки — вовсе не то же самое, что отнять у бедняка его последнюю овечку.
Мбомбази!
Изамбо!
Тпру!
Музей народного искусства находится в старом ботаническом саду Цюриха, на улице Pelikanstrasse, 40.
О СТАРИКЕ ТИЦИАНЕ
Домье, к концу жизни ослепший, сказал: «Смотреть — не видеть».
И правда, на что люди смотрят?
На какую-то витрину.
На новейшую модель «Мерседеса».
На прохожих красоток.
На туристическую до-сто-при-ме-ча-тельность.
На какой-нибудь прыщик.
На рожу президента.
На красный свет светофора.
На собственный кал в унитазе.
На старость в зеркале.
На знаменитость в музее.
На богатство о-л-и-г-а-р-х-о-в.
На нищих се-бя.
На зверей в зоопарке.
Смотрят, чтоб не проглотить ненароком кость рыбы.
Правильно сказал Домье: «Смотреть — не видеть».
С этим высказыванием согласился бы и старик Тициан.
Видеть — прозревать.
Изучив в Риме манеру Микеланджело и Рафаэля, Тициан не пошёл по следам этих двух гениев, превзошедших природу.
Они, неустанно упражняясь в рисунке, довели до совершенства естественные формы.
Следуя им, Энгр советовал молодому Дега: «Рисуйте как можно больше линий, следуя заветам древних».
Перенесённая в живопись линия даёт контур, который заполняется цветом.
Так работали не только Микеланджело и Рафаэль, но и многие другие: контур — квинтэссенция, цвет — компонента.
Контур полагался мужским началом, определяющим форму, а цвет — женственной, податливой ипостасью.
Но старик Тициан с этим взглядом на вещи решительно разошёлся.
Цвет у него стал материей, душой, альфой и омегой, субстанцией живописного видения.
Мазок Тициана разрушает жёсткий контур и превращает цвет в форму, снимая старую оппозицию контура и колорита.
Поэтому Тициана считают предтечей импрессионизма и экспрессионизма.
Он — своего рода монохромный ташист!
Цвет у позднего Тициана — девья кожа под пёсьим языком, возбудитель чувственности.
Поэтому говорят: дышащая живопись Тициана.
Или: пульсирующая живопись.
Или ещё: дымящаяся живопись.
В самом деле, некоторые картины Тициана словно в хмари написаны.
Он к этому шёл, учась у Джорджоне.
А у него самого этому учился Тёрнер.
А про Микеланджело и Рафаэля он сказал: «У меня всё равно так хорошо, как у них, не получится, так зачем мне быть их подражателем? Мы уж сами с усами».
Живопись Тициана странна: оргии плоти растворяются в бесплотности, в туманной плотности краски.
Вот это и есть умение видеть мир, а не смотреть на вещи, как покупатель в обувном магазине.
Оказывается, чувственные формы не изолированы, а взаимно замещаются, переливаются, слипаются, поглощаются, совмещаются — друг с другом, с небом, с облаками, с землицей, с плодовой плотью, ветошью, пятнами вина, воздухом.
У Фрэнсиса Бэкона есть очень тициановская картина под названием «Песчаная дюна»: там то ли женщина лежит, то ли животная туша, то ли бурдюк помятый, то ли правда песчаная дюна.
Жиль Делёз называл это «становлением»: облаком, зверем, маревом, глиной.
Есть ещё понятие SMEMBRANAMENTO — развеществление гармонической завершённости картины и превращение её во фрагментированную материальную массу.
Этим Тициан и занимался.
А чего ради?
Чтоб увидеть мир изначальный: родившийся из болота.
Как у Блока:
Болото — глубокая впадина
Огромного ока земли.
Заказчикам Тициана это не нравилось.
Покупатели предпочитали не болотную похоть и солодь, не мшистые телеса и лики, не оргию в сумерках огорода, а чёткие границы между телами и вещами, ведь так легче глядеть и покупать.
Одна королева советовала своим придворным рассматривать картины Тициана с некоторого расстояния и при хорошем освещении, чтобы всё не терялось в мути.
Современники ставили ранние работы Тициана выше поздних: слишком уж много в поздних пара, мглы, фата-морганы, курева и дымки.
Считалось, что у старика дрожат руки и он разучился заканчивать вещи.
Болтали также, что хороший немец Эмануэль — помощник мастера — старательно пишет полотна, а Тициан за один присест переписывает написанное в недописанное.
Ходила и такая байка: Тициан в старости спятил и испортил свои выдающиеся ранние картины.
Поэтому его ученики стали подмешивать в краски мастера деревянное масло, так что живопись не просыхала и можно было стереть нововведённую марь, когда Тициан засыпал.
А Аретино писал вот что: «Мой образ на картине Тициана прямо-таки дышит, пульс бьётся, дух витает, как если бы это был не портрет, а я сам живой. Но если б я заплатил ему за эту прекрасную живопись ещё больше, то мои одежды на картине оказались бы в сто раз великолепнее и могли бы тягаться с наилучшим шёлком, бархатом и парчой».
Браво!
Только в начале 20-го века, когда люди уже понюхали дикие цветочки модернизма, научились ценить и позднюю развеществлённую манеру Тициана.
Известно, что он писал пальцами, словно формовал тела из глины, как сам Господь Бог.
Это была поистине лечебная живописная техника, стирающая натуралистические подробности недуга и достигающая исцеления методом нежного пальпирования.
Прищурьте глаза — и вы увидите мир по-тициановски.
Так глядит под водой кашалот.
Так в болоте смотрит на Бога бегемот.
Так видит человек, который мудр и белобород.
О ЛУЧШЕМ СПОСОБЕ КОИТУСА
Когда я совокупляюсь с Варварой, то поступаю по-тициановски.
То есть: смыкаю веки и погружаюсь в невыговариваемую глушь.
Муть морская поднимается со дна и всё застилает.
Мой член входит в вагину возлюбленной, но моё внутреннее око далеко — в подводных течениях пучины.
Никогда во время соитий не открывай глаза, друг, не пытайся узнать, что там наяву происходит.
А то откроешь — а царевна стала лягушкой!
Лучше всматривайся в муть.
Из неё всплывёт то ли коралловый риф, то ли Суламифь.
Очертания неясны — то рог выступит, то грудь, то хвост.
Но в подводной глуби, где мы с тобой, всё идеально.
А образ, проявляющийся постепенно из мути — это беатриче, девчина, куупала, дева, эсмеральда, мадемуазель, деушка, лалара, миледи, девчушка, цветок, Андрогин, дивца, чернавка, чикса, мучача, шкетка, фройляйн, барышня, чертовщинка, сеньорита, фифа.
То ли У., то ли О., то ли К. — имя невыговариваемо.
Эта девушка будто не росла, не прошла сквозь пертурбации возрастов, не исказилась тяготами земного гнёта.
Зато она впитала в себя соль океана и лёгкость катамарана, суть всех муз, медуз, знатных особ и подзаборных зазноб.
Она — не житейская.
Она — СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.
А всякие там верования и обряды ей чужды, ибо они — лишнее.
Есть только мгла и она.
И волнуется пелена.
Ах, это чудесное тициановское слово: совокупление.
Как сказал в «Братьях Карамазовых» Достоевский: «Это не трус, это СОВОКУПЛЕНИЕ всех трусостей в мире вместе взятых, ходящее на двух ногах».
Это он, кажется, о папаше Карамазове (или о Смердякове?).
Но к чёрту их!
Я совокупляюсь с моей фифой — с невыговариваемым именем — и мы с ней уже не на четырёх ногах, а на восьми хвостах.
Таков ветхий завет Тициана: уйди в глушь!
Запомни, моя дорогая читательница: пока люди бьются и режутся друг с другом, правительства процветают.
Когда жертвой падает одно из правительств, у других возникает повод для ликования.
Но вот когда люди, забыв о правительствах и устав убивать один другого, вдруг начинают совокупляться с образами и по этой причине становятся четвероногими или осьминогами, тогда вмешательство правительств с целью уловления и удушения непослушных делается неизбежным.
Но именно поэтому нам и следует раз навсегда забыть о правителях с их самовлюблённой душонкой и отвратительной внешностью и полностью отдаться совокуплениям с нашими прекрасными образами.
Как сказал Велимир:
Бобэоби пелись губы...
О ПЛЕБЕЕ КАРАВАДЖО И О МОЁМ К НЕМУ ХАДЖЕ
У Караваджо был девиз: NEC SPE, NEC METU — без надежды, без страха.
Обходился он и без многого другого — без бога, без постоянного места жительства, без хороших манер, без утверждённых художественных практик, без профессиональной респектабельности, без неба в живописи, без благоразумия, без доброй компании, без закона в голове, а частенько и без чистой постели, копейки в кармане, ночлега — одним словом, без малейшей устойчивости.
Конечно, многие художники до и после него вели кочевую жизнь и терпели всяческие невзгоды, но Караваджо, если верить его девизу, с одинаковой усмешкой плескался в море и валялся в грязи.
Он видел, что каждая ночь делает из него, спящего, труп.
И по-звериному чуял, что время терзает его, как ветер — облако.
А искусство было для него воровством — он больше полагался на Меркурия, чем на Аполлона.
Караваджо спал с кистями в изголовье и с кинжалом под подушкой.
Полундра!
Хороший искусствовед Чарльз Демпси считает Караваджо подонком и трусом, ибо, согласно архивным данным, он нападал на людей со спины и прикончил лежащего на земле противника.
В глазах лукавый или детский
Зелёный огонёк;
На шею нацепил турецкий
Узорчатый платок.
Он богохульствует, бормочет
Несвязные слова;
Он исповедываться хочет —
Но согрешить сперва.
Однажды Караваджо чуть не убил в трактире мальчишку-официанта — из-за каких-то неудовлетворительных артишоков.
Он был подвержен припадкам ярости и обожал драки.
Сицилийский бандит по наущению Караваджо ударил ножом живописца, который вместо него получил заказ на фреску.
Проституткам он говорил: «Покажи мне, как любят. Я не знаю», а когда они показывали, он насмехался.
В кругу художников он слыл чем-то вроде изобретателя фотографии или даже хуже — кино.
Пуссен называл его разрушителем живописи.
Недруги болтали, что он не мастер, а умелый штукарь-профанатор.
Так что неудивительно, что Караваджо всегда ходил с подбитым глазом и частенько спасался бегством.
Впрочем, он был знаменит — как новатор в искусстве и скандалист в жизни.
Его неуправляемое поведение, нежелание уживаться с дураками и лицемерами, его пещерные тёмные картины и вспышки бешенства, его грубые, вульгарные персонажи, ничуть не похожие на святых, его постоянные конфликты с правопорядком, его пренебрежение к bella maniera, его роскошные костюмы, занашиваемые до дыр и никогда не бывавшие в стирке, его отказ от законов перспективы и сексуальная распущенность, его неуважение к памяти великих мастеров и отъявленный нарциссизм обрекли его на неустройство, «весёлую беду» и вечную хиджру, а в конце концов и на смерть в каком-то богом забытом местечке на непотребном куске итальянского побережья, где свирепствовала малярия.
Море морское приняло Микеланджело Караваджо как утопленника и своевольного щенка.
Но история искусства сохранила его жизненные неурядицы и живописные откровения, чтобы увенчать голову этого парвеню лаврами первого бунтующего художника Нового времени.
Полундра!
Караваджо произвёл на свет реализм — nec spe, nec metu — без надежды, без страха, без жеманностей и иерархий.
Он сказал: «Писать цветы так же сложно, как и фигуры».
Якоб Буркхардт отозвался о его манере: «Кусающая и беспокойная светоживопись».
А Роберто Лонги определил: «Плебейский мастер».
Работавший в семнадцатом веке, когда итальянское искусство уже подпало под гнёт Академии, где с дотошной занудностью учили как и что писать, как и что видеть, Караваджо не принял эти условности, не подчинился нормализации, плевать хотел на правила хорошего вкуса и учёные наставления.
Сей пещерный, животный, болезненный, ликующий, душераздирающий реалист не щадил своих врагов в тёмных закоулках Неаполя, но столь же беспощадно атаковал он все писаные руководства, доктрины школ и заветы знаменитостей.
Ни упражнения в рисунке с натуры, ни ученичество у древних, ни трактаты авторитетов Возрождения не вызывали в нём ни малейшего почтения.
Караваджо не делал подготовительных штудий, потешался над классическими статуями, воротил нос от творений Рафаэля и считал реальность своим единственным учителем.
Красоту он увидел не в головке Мадонны, а в стоптанной пятке.
Полундра!
Под «верностью жизни в живописи» он подразумевал гнилые фрукты или простолюдина в таверне, дикий свет, упавший на возбуждённую физиономию или зелёную бледность тела после попойки.
Как сказал один стародавний критик о «Медузе» Караваджо: «У неё такое выражение, словно ей вырывают зубы».
Этот плебейский Микеланджело сотворил в европейском искусстве небывалый феномен — иконоборческий образ.
Он сорвал святых с литургических небес.
Он поместил Вездесущего в катакомбы.
Он узрел красоту не в богочеловеке и не в князь-человеке, а в слепом порыве костей, мяса, мускулов, кожи.
Живопись его возбуждает и религиозный экстаз, и духовное отвращение.
Он и сам был таков: паяц и боец.
Благонамеренная публика отвергла брутального и нелепого художника, но небольшая группа патронов и аристократов продолжала его поддерживать и укрывала в своих дворцах от карающей длани закона.
То он был беглецом от римского папы, и его башка висела на ниточке, а то вдруг делался рыцарем Мальтийского ордена, чтобы через четыре месяца этой чести лишиться.
Художник сосёт власть-кормилицу, но Караваджо мог эту бабу и лягнуть.
Он зазывал к себе с улицы бродяг и блудниц — в качестве моделей для алтарных сюжетов.
Вертеп, подворотня, трактир вторглись в религиозную живопись со своим смрадом и лохмотьями.
Ну и конечно: эти выродки и канальи, поганки и паршивцы, с которыми он знался и которых ставил в апостольские позы, не могли полностью войти в свои роли.
Между персонажами храмовой живописи и ублюдочными натурщиками виденвопиющий зазор.
Он изображал распущенную девицу — вероятно, свою любовницу-проститутку Лену — с руками, сложенными на коленях, со влажными от мытья волосами, с каким-то фальшиво-смиренным выражением лица, с драгоценностями, рассыпанными по полу — а зритель должен был поверить, что это кающаяся Магдалина!
Этот картёжник по имени Караваджо не стеснялся ничего.
Он писал двойной, парадоксальный образ: того, что происходило в его комнатёнке — и в священной истории.
Ситуация в мастерской художника и воображаемый мир картины на миг совпадали, но не до конца.
Сакральная история представала в профанном обличьи.
Может, Караваджо хотел показать актуальность прошлого, перенося его в настоящее, с современными костюмами и атрибутами?
Возможно, он идентифицировал библейские истории с сегодняшним днём?
Или он потешался?
Театр жизни плебея Караваджо — без надежды и страха.
В отличие от Пуссена, который стремился к археологически точному воспроизведению костюмов в своей мифо-исторической живописи, Караваджо перемешивал современные и древние одежды.
Подобная живопись — противоположность академизма.
В академизме рассказываемая история и живописный образ тяготеют к глянцевому, раболепному, школьному тождеству, а у Караваджо легенда и изображение разрываются и возникает странное зияние.
Где мы: в театре?
В мастерской?
В древней истории?
В кошмаре?
В профанном анекдоте?
Как сказал один автор о Караваджо: «Его живопись сильна, ибо сам он посмел быть слабым, наплевав на бравуру искусственной цельности и мощи, чтоб показать вещи, как они есть. Артишоки, швыряемые в официанта, поножовщина, драки, аресты и бегства — вот цена, которую художник заплатил за свою низкую истину».
А другой автор заметил: «Он опозорил искусство, выставляя на своих холстах чернь и рвань, запечатлевая любой злобный жест и наполняя священные сцены всевозможными вульгарностями, из-за чего его картины снимались с алтарей к его же немалому огорчению, а заказчики отворачивались, увидев исполнение заказа. Так какую же кару он заслужил? Думаю, мы должны простить Караваджо, ведь он всего лишь следовал известной поговорке: каждый художник изображает самого себя. Вряд ли он мог пойти против своего нрава».
Значит, Караваджо просто следовал своей природе?
Или он издевался над искусством с его правилами и идеалами?
А может, он покорно срисовывал то, что видел с помощью камеры-обскуры?
Караваджо расхохотался бы над всеми этими домыслами.
Его захватывала не реальность вещей, а действительность опыта.
Он не подчинялся идеям и правилам, а показывал своё собственное неслыханное восприятие мира.
Такого до него не смел делать никто.
Пикассо сказал: «В искусстве можно научиться всему, кроме техники».
И действительно: учат идеям, сюжетам, вбивают в голову правила и стили.
Но великие мастера всегда пересматривали каноны, заводили свои техники — и с ними из-за их величия соглашались.
Художники были чем-то вроде монахов, следующих заветам святых отцов, или вроде ортодоксальных евреев — все дорожки для них размечены, все идеи даны богом и традицией.
И вдруг является Караваджо — этакий бешеный Аввакум, непутёвый Спиноза!
И он не просто сдвигает каноны, но еретически видит саму жизнь!
Реальность вдруг оказывается не природной и не идеальной, а какой-то кабацкой, вертепной, шутовской, мужицкой.
Реальность бьёт в лицо, как плевок!
Тут — мир бедняков, преступников, гадалок, богадельных старцев, трущобных девиц, жуликов, одним словом — мир мрака.
Ведь мрак — это не ад Мемлинга, не Страшный суд Синьорелли.
Там ад упорядочен, пекло вписано в миротворенье.
Настоящий мрак и хаос — это кавардак в доме, громыхающие соседи, нагрянувшие хамы, вонючие люди в купе.
Мрак и хаос — отсутствие того самого порядка, который обещает искусство.
У Караваджо мрак как у Достоевского или Сологуба!
Такое понимание реальности не одобрялось в семнадцатом веке, не одобряется оно и ныне.
Государству, церкви и культуре нужен порядок.
Дураки, бюрократы, кураторы и директоры музеев не хотят понимать, что «культура» — это не пшеничные упорядоченные поля, а фруктовый сад со всяческими сорняками. В КУЛЬТУРЕ СЛУЧАЮТСЯ И КЛОПЫ-ВОНЮЧКИ!
Живопись Караваджо была ересью для церкви, вызовом государству и сорняком в культуре.
Его искусство пахло отъявленным материализмом, отрицанием авторитетов и чесночной похлёбкой в собрании утончённых снобов.
Неудивительно, что его тут же обвинили в недостатке воображения и преступных намерениях.
Но это был не дефект воображения, а пощёчина общественному вкусу.
Караваджо дерзнул заглянуть в глухие углы человечьей пещеры, куда не рекомендовалось совать нос воспитаннникам академий.
К нищим духом — вот куда он заглянул.
К малым сим!
То есть самым неожиданным образом этот безбожник и убийца, этот великий грешник оказался ближе к Христу, чем Эль Греко или кардиналы.
Ведь чтобы узнать в молодом бродяге, изображённом в «Ужине в Эммаусе», Спасителя человечества, нужно было действительно всмотреться в лицо человеческое и в человечью душу.
И, всматриваясь, Караваджо открыл, что в мужицком жесте, в искривлённом страдальческом рте, в рассеянном сумасшедшем взоре, в почерневших ступнях, в рваных локтях, в клочковатых бородах, в нелепых позах, в падении, в отщепенстве, в косноязычии и бессмыслице скрыты Предтеча и Знамение.
Убожество нищих, беззащитный сон голого мальчика — вот что взяло его за горло.
В тесной пещере, где прятались от мировой непогоды бродяги и увечные, в этой легкомысленной темноте, где жгли костёр и жарили хлебные корки, где угощались бражкой и дешёвыми песенками, всё богатство людей заключалось в чёрных зрачках и смеющихся ртах — и это сокровище было бесценно, но им не гордились.
Читатель мой, помни: измученный Хлебников, беззубый Мандельштам и удавленник Серёжа Есенин ближе к ликам Караваджо, чем к харе культурной из МоМа или музея «Гараж».
В псиной ночи, в лисьих потёмках — вот где черпал своё вдохновение Караваджо.
Тут — сброд, тут — неуют и опасность, но если кто-то у кого-то украл, и его уличили, то воришка добродушно спрашивал: «А разве нельзя? Христос сказал — можно!»
И все смеялись.
И снова неровный, угрожающий свет выхватывал из мрака онтологически неважные вещи: червоточину на яблоке, пожелтевший виноградный листок, дыру на плаще, лошадиную морду, ногти с чёрной каймой...
И вдруг запахло откуда-то из угла мёртвым Лазарем, и его нужно было опять и опять воскрешать...
А в другом углу кто-то чертыхался и вымещал свои обиды на чужом теле.
— Хватит? — спросил.
— Хватит, батька, хватит, — отвечал другой, раздавленный голос.
И оба подсчитывали сломанные рёбра.
Босяки и блудницы стояли кругом, раздвигая мокрые чёрные губы, показывая стёртые зубы, отмахиваясь от мух.
Оплакивали мёртвую девушку, уже тронутую тленьем.
Здесь же, чуть в стороне, стоял с кистями он, Караваджо, хороший степной зверь.
Бог создал высокие небеса, бог создал Солнце — много чего Бог создал.
Но зверь Караваджо, весь чёрный, с красивыми блестящими глазами, любил только пещеру и пещерных тварей.
В этой пещере он спал, рисовал, любил, буйствовал, а потом вдруг ложился на землю, прикладывал к ней ухо, и когда пьяные и уставшие от печали люди спрашивали, что же он делает, отвечал: «Я слушаю, как ангелы поют там, внизу. Хорошо как!»
ОБ «УЖИНЕ В ЭММАУСЕ»
«Случайное — важнейшее», сказал Поллок.
Впервые репродукцию «Ужина в Эммаусе» я увидел в комнате алма-атинского художника Альберта Фаустова.
Я рассеяно взглянул на картинку, пришпиленную к стене, и отвернулся.
— Заметил что-то странное? — спросил Альберт.
— Ракушку на одежде старика, — сказал я.
— Ракушка означает, что он паломник к святым местам, но я имел в виду другое.
Я всмотрелся в репродукцию внимательней.
— Корзина с фруктами — она вот-вот упадёт...
Альберт улыбнулся:
— Уже падает.
«Ужин в Эммаусе» изображает двух учеников Иисуса, сидящих в трактире с воскресшим Учителем.
Эти двое шли из Иерусалима по пыльной дороге и вдруг встретили незнакомца, осведомившегося, почему они так печальны.
Апостолы рассказали о казни Христа и пригласили неизвестного разделить с ними вечернюю трапезу.
В трактире им дали еду.
Тут неведомый путник, преломивший хлеб и благословивший их, наконец был узнан: «Иисусе!»
Но он тотчас исчез.
Картина Караваджо изображает двух изнурённых стариков в дырявом платье, обалдевших от появления Спасителя — странного молодого человека с женским безбородым лицом.
Так же и я обалдевал от Фаустова — гениального художника.
Но он тоже быстро исчез, как Иисус, показавший себя на миг в Эммаусе.
И не воскрес.
Да, давно стал невидим Альберт Фаустов, открывший мне эту загадочную картину Караваджо.
А я с тех пор пошёл, пошёл — но не по стезе нищих апостолов, а по какой-то смутной дороженьке.
По пути я паясничал, переворачивал на Арбате мольберты торговцев-художников, подражая действиям Иисуса в Храме.
Вспоминать об этом смешно, а иногда дико.
В московском Центре современного искусства я привязал себя голым к кресту и дул в милицейский свисток, пока не обессилел.
В ресторане-поплавке на Москве-реке крушил в боксёрских перчатках музыкальную аппаратуру и бил купчиков, а потом исчез, не заплатив по счёту.
Ходил по Садовому кольцу с нагой девушкой на плечах.
Удовольствия ради срывал вечера Евтушенко и Пригова.
Забрасывал бутылками с кетчупом белорусское посольство.
Обкакался перед холстом Ван Гога в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Занимался оральным сексом с милым юношей на философской дискуссии Валерия Подороги.
Ну и так далее, и тому подобное.
Я не думал тогда о Караваджо, не он вёл меня по неверной дорожке.
Но я пытался быть как он — пещерным, ящерным!
Стать бы плебеем, выродком, чёрной костью, грубияном, разрушителем, а не дрожать от смущенья и интеллигентской неловкости.
Оскорблять, быть неуправляемым.
А ещё залезть бы на тучу и крикнуть оттуда миру: «Смотрите — я живой!»
До тучи не добрался, зато в амстердамском музее нарисовал зелёный знак доллара на белой картине Малевича: проповедь о проросли мировой.
А потом оказался в Вене, где встретил девочку Варвару Шурц.
Стали мы любовниками и начали атаковать современное искусство вместе.
Плевали на кураторов в Вене и Берлине, как дикобразы, пачкали стены говном в Лондоне и Брюсселе, как протоболгары, дрались, как воробьи, танцевали, как суслики, раздевались, как бабуины, изображали идиотов, как уленшпигели, читали стихи задами, как ассасины, кричали голосами нереид, раздавали оплеухи и сами получали по морде.
Поэт, как сказал Рене Шар, должен вытравить из себя орла и лягушку!
Иногда приходилось бежать из городов, как бежал из-за своих буйств Караваджо.
Из Вены в Неаполь, из Любляны в Марсель, из Парижа в Мехико, из Роттердама в Стамбул, из Риги в Стокгольм, а потом в жирный Базель и на остров Корчула — куда только не завели нас заброшенность и тревога.
В годы странствий мы не только воровали рокфор, но и читали Фуко.
О картинах Караваджо я не думал, зато восхищался «Жизнями тёмных людей».
Концепт сопротивления, как он изложен у Фуко, жёг мозги.
Ну и Дебор, и Делёз...
Много я наделал глупостей.
Ну и что?
Страсть была подлинной: бороться против цивилизаторской власти и нормализованного искусства, против последней идеологии капитала — культуры, превращённой в спектакль и товар.
Достоевский, Апулей, футуристы, Кропоткин, Лотреамон, Маркс, Катулл, Ницше, Батай и Бахтин нам в этом помогали.
Мы веселились, влипали, возгорались и падали духом.
Мы были кукушатами, осами, дезертирами, неприкасаемыми, а о Караваджо не вспоминали.
Мы слушали только приказы Солнца: «Не пресмыкаться!», «Бузить!».
Нужно было найти очередной ночлег, деньги на кукурузу.
И вдруг новый опыт открылся перед очами: мы прочитали книги Джорджо Агамбена.
Концепт сопротивления Фуко оказался ограниченным.
Великий французский мыслитель не видел выхода из властных отношений.
Власть, согласно Фуко, можно нейтрализовать, но она всегда остаётся рядом — и внутри, под кожей.
Агамбен же говорит о полном выходе из вселенной власти, об окончательном бегстве из всех властных капканов.
Чудесна эта логика: жить без власти, которая всюду — на улицах мегаполисов, в мировом захолустье, на границах государств, в головах людей, в интернете и кунстхалле, в офисах и спальнях, в словах и отсутствии мыслей, на демонстрациях и дискотеках, даже в том, что мы едим и чем дышим.
Прочь, прочь — вот наиглавнейший вызов.
Но как?
Воображенье, читатель!
Читай Марка Аврелия: «Продолжительность человеческой жизни — мгновенье, естество наше — текуче, ощущение — смутно, состав тела — непрочен, душа — кружащийся волчок, стечение обстоятельств — неясно, слава — неразборчива; одним словом, всё, что относится к телу, — поток; всё, что относится к душе — сон и туман; жизнь — военный поход и скитание на чужбине; слава в потомстве равносильна забвению. Итак, что же может служить руководством? Одна философия».
Ну а как же Караваджо?
Вчера я лежал на скамейке возле озера в Цюрихе.
День был ясен, небо бездонно.
Большущее облако, точь-в-точь орёл, медленно превращалось в лягушку.
А по озеру скользил чёрный лебедь — прямо ко мне.
Подплыв, уставился: никогда ещё не видел такого глупого человека.
Неужели Караваджо?!
Да, он был здесь — чёрная странная птица, неестественно выгнувшая свою длинную-предлинную шею и пытливо глядящая:
— Ну как, выбрался из пещеры власти? На солнышке греешься?
Что тут было делать?
У меня внутри всё заныло:
— Куда там! Пещера — во мне... Чао-какао...
ОБ АРАБЕСКАХ ЖАКА КАЛЛО
Когда-то Мишель Монтень написал свои «Опыты»— ого-го!
Было это давно, но ничуть не увяло.
Вот, например: «Меня иногда спрашивают, к какой деятельности я считаю себя наиболее способным.
— Ни к какой, — отвечаю я и радуюсь, что не умею делать ничего, что бы могло превратить меня в раба другого человека».
Или: «Нужно поступать так, как поступают дикие звери, заметающие следы у входа в свою берлогу».
Монтень умер в 1592-м году в возрасте 59 лет.
Это как раз мой возраст!
А мастер офорта Калло в том же году родился.
Есть по крайней мере одно свойство, объединяющее Калло с Монтенем: презрение к потугам человечества казаться важнее, чем оно есть.
Гравёр изображал людишек в виде жучков, паучков, пигалиц и пульчинелл.
Вроде Крылова: «Какие крохотны коровки! Есть, право, менее булавочной головки».
А вот Пушкин:
Моё собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну что за пёстрая семья!
За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!
Вот Глинка — божия коровка,
Вот Каченовский — злой паук,
Вот и Свиньин — российский жук,
Вот Олин — чёрная мурашка,
Вот Раич — мелкая букашка.
Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзённые насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.
Так и у Калло: множество отдельных и собранных в толпу букашек, всяческих папашек и чебурашек, человечьих и звериных какашек, ряшек, машек, дворняжек в плюмажах, ляжек и дурашек!
Есть, однако, нечто освобождающее в таком показе рода людского: эти человечки как бы не выросли, не испытали дурь роста и старения, а возникли на поверхности планеты как червяки или долгоносики — да так и остались.
Их жестам свойственна грация крабов, их движения напоминают о совершенстве кузнечиков, их скопления подобны нагромождениям блох или марионеток.
Неизвестно, добрые они или злые — позже разберёмся, пока же нечего опасаться.
Их боевые схватки выглядят как потехи.
А при ближайшем рассмотрении они предстают исключительно зобатыми и горбатыми улыбчивыми кретинами, то есть опять-таки безобидным и славным народцем.
Веероус!
Памфобетус!
Жук-геркулес и жук-бомбардир!
Можно даже подумать, что они — одно большое, расплодившееся из вспученных животов семейство, которое живёт то ли в траве, то ли в хлеву, откуда выпрыгивает утром на солнышко, чтобы скакать на одной ноге, падать навзничь, ходить на руках и демонстрировать другие смешные умения.
Каракурт!
Листотел!
Жук-домино и жук-голиаф!
Похоже, все они выжили из ума окончательно, не потеряв при этом способности совокупляться, ползать, радоваться хорошей погоде и вообще веселиться безо всякого повода.
Свекольная крошка и радужная саранча!
Никогда не задумываясь о своей человечьей природе, они принимают себя то за породу слоников, то за сверчков, а иногда и за единую сороконожку.
И есть среди них светлячки-парнишки, чьё исчезновение оплакал Пазолини.
Как же выгодно это племя отличается от сегодняшнего человечества, почти уже прикончившего всех своих «ненужных» собратьев-зверей — и посадившего всех «нужных» в мировой концентрационный Гулагоаушвиц.
Сенокосцы и сколопендры!
Некоторые из них полагают, что они давно уже умерли и вместо них по планете бегают их арабески.
И следует признать, что, несмотря на их чудовищные шнобели, зобы и горбы, они удивительно изящны и умеют безошибочно прыгать с камня на дерево, с крыши на луну.
Непонятно, впрочем, что является их ремеслом: сальто-мортале, прогулки впятером или фестивали.
А может, они и вовсе не годятся ни для каких трудов, потому что страдают запором или падучей.
В любом случае, гравюры французского мастера гораздо симпатичнее того адамового сброда, что населяет современную техносферу.
От букашек и цветоедов Калло пахнет не ассигнациями, а куда лучше — клопами-вонючками, а ещё от них рукой подать до гномов Клее и грибков Вольса.
Жаль, что все эти превосходные карапузы продолжают жить за малодоступными горами и под сырыми камнями.
Ведь явись они в наш мир, он бы не устоял — соблазнился.
Но поскольку красота суть качество бесполезное, пришествие этих малюсеньких спасителей осложняется и запутывается, хоть сами они об этом и не подозревают.
Тир-ли-лу!
Существование их остаётся незатейливым, ровным и забавным — отражающим времена года, птичью прожорливость и ничего более.
А мы тут пока доходим до белого каления, стараясь не подражать какому-нибудь Цезарю Свидригайловичу Трампу.
О МАСТЕРСКОЙ РЕМБРАНДТА
Светлана Альперс показала, что, начиная с семнадцатого века и кончая двадцатым — от Вермеера до Бэкона, — мастерская служила европейским художникам моделью мира.
Ничего подобного не было до этого ни в Европе, ни в Азии.
Пьеро делла Франческа, Паоло Учелло и Микеланджело Буонаротти писали свои фрески на церковных или дворцовых стенах, забираясь на стремянки и леса.
Для работы над «Битвой при Ангиари» Леонардо сконструировал специальное устройство, поднимавшее и спускавшее его на нужную высоту.
Оптика фрески так же отличается от оптики станковой картины, как оптика миниатюры — от мозаик Равенны.
Но оптика ведь напрямую связана с этикой, с формой жизни художника.
Мастерская семнадцатого века объединяла в себе всё: лабораторию и спальню, музей и подворотню, древние мифы и похмельный быт, правоту искусства и кривизну жизни, а заодно и осознание того, что творчество — это не только кропотливая работа кистью, но и вознесение над всеми трудами в благоуханные воздухи.
Как любил говорить Филип Гастон: «Когда я начинаю холст в мастерской, меня окружает толпа друзей, недругов, критиков, коллекционеров. Если мне везёт, они один за другим исчезают, и я остаюсь наедине с работой. Ну а если мне по-настоящему повезёт, то в конце концов исчезаю и я — остаётся одна живопись».
И, если подлинно поётся,
И полной грудью, наконец,
Всё исчезает: остаётся
Пространство, звёзды и певец!
В мастерской содержалось всё необходимое: краски, рамы, бумага, карты, картины, эстампы, бутыли, снедь, цветы, морские раковины, чучела зверей, законченные и начатые произведения, а также вещи нематериальные — свет из окна, тьма в углах, образы, воспоминания, концепты.
В мастерскую являлись натурщицы, клиенты, патроны, кредиторы.
Тут заключались сделки.
Из мастерской продукция отправлялась к заказчику, в коллекции принцев и торговцев, на рынок, на стены городских учреждений и в частные дома.
Мастерская была местом, где производился непростой и рискованный опыт зачатия образов.
Она же оказывалась и воображаемым музеем, где новорожденный образ сравнивался с историческими образцами — шедеврами великих предшественников.
Мастерская служила убежищем, куда художник прятался от давления, шума, суеты, горя, безучастия, нечаянности.
И ещё это была рутина.
И, наконец, именно в мастерской художнический дух восстанавливал связь с древними мистериями, изначальными тревогами и блаженным покоем — теми истоками, откуда исходили все интенсивные переживания, необходимые для преодоления обыденного разума.
Старые идеи «искусства, следующего за природой» и «искуства в поисках идеала» в мастерской семнадцатого века трансформировались в новые задачи — анализа форм фигур и предметов, выявления вещественности картины, открытия новых композиционных и красочных потенциалов живописи.
Во всех этих починах Рембрандт был первым.
Кажется, он воплотил в себе все ипостаси нового художника: одиночки, изгоя, бунтаря, автора неповторимого стиля, богемного существа, искателя славы, бизнесмена (pictor economicus), удачливого неудачника.
Произведение искусства до сих пор таково, как его определил Рембрандт: товар, создающий свой собственный рынок и отличающийся от других товаров тем, что он произведён не на фабрике, а в мастерской, не массовым тиражом, а в ограниченном количестве, и, тяготея к индивидуальной ауре и высокой стоимости, неразрывно связан с идеей капиталистического предпринимательства.
Отравлен хлеб, и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!
При этом главное свойство картин Рембрандта — их материальность и уродство.
Один из ранних критиков сказал о его палитре: «говнисто-навозная».
Но послушаем Пикассо: «Каждый живописец мнит себя Рембрандтом».
А вот приговор Павла Флоренского: «фосфоресценция гнилушек» во тьме.
Светлана Альперс пишет: «Если Вермеер с его величайшей искусностью стремился показать видимый мир, то Рембрандт хочет мир затемнить, направляя внимание зрителя на саму живопись, а не на изображаемые предметы».
Но лучше всех проник в суть Рембрандта Мандельштам:
Душный сумрак кроет ложе,
Напряжённо дышит грудь...
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.
Краска Рембрандта на холсте — щедрый намаз масла на куске хлеба.
Голландские художники того времени писали исторические сцены так же, как они писали натюрморты — с мельчайше прописанными деталями, добиваясь максимальной похожести.
Но только не Рембрандт: он погружает во тьму поверхность холста, а заодно и бóльшую часть изображаемых фигур.
А то, что выхвачено светом из мрака, — руки, головы — поглощается самой живописью.
Видимое присутствие красочных слоёв препятствует прямому доступу к изображаемому.
Пигмент и его фактура становятся героями картин наравне с Саскией, Лукрецией и Батшебой.
Как говорит Флоренский: «Рембрандт — что это такое, как не горельеф из световой материи?»
Пространство вокруг светоносных фигур дано негативно.
Источника света не видно, а лица, руки, фигуры — склубление светоносного, фосфоресцирующего вещества.
Тут и следа не осталось от итальянской идеи живописи — окна в мир.
Но нет здесь и голландской модели — зеркала (или карты) мира.
У Рембрандта картина — совершенно новый объект.
Материальность, вещественность выходят на первый план.
Наиболее холмистые участки рембрандтовских холстов могут отбрасывать тени, как настоящие дюны.
Хочется ощупывать эту живопись.
Возможно, Рембрандт (как позднее Констебль) был бы не против, если б мы проводили рукой, гладили его полотна.
А я бы их целовал, прижимался!
Но это не обязательно: смотреть — тоже активное действие, вроде хватания.
Как сказал Акутагава: «Хвост кота ломает стены».
Живопись Рембрандта вещественна, как чугун, — но она пронизывает душу иглой.
Так что же там происходит?
Нечто странное, противоречивое.
Посмотрите: он заточает Саскию в темницу её портрета!
Замуровывает Данаю в живопись!
Погребает Лукрецию под масляной краской!
Но они всё равно живы!
И светятся там, в темноте — как светлячки в банке!
Они томятся!
Рвутся на волю!
Взывают к зрителю: помоги!
В первую очередь это заметно в автопортретах Рембрандта: он сам — узник!
В его мастерской разворачивается грандиозная трагедия изобразительного искусства новой железной эпохи: пенитенциаризация образов!
Они — живые, трепетные, словно тлеющие свечки — посажены рукой мастера в ржавые клетки могучей живописи.
И снаружи мы смотрим на них — пришлые люди в музейной глуши, а не спасители.
«Как странно ходить голым, даже когда ты один», — сказал один герой Хандке.
«Как странно быть запертым в картине, когда ты жив», — говорят образы Рембрандта.
Ручей стал лаком до льда:
Зимнее небо учит.
Леденцовые цепи
Ломко бренчат, как лютня.
Ударь, форель, проворней!
Тебе надоело ведь
Солнце аквамарином
И птиц скороходом — тень.
Когда-то, в дни революции, Хлебников увидел в петроградском окне прекрасную серую кошку.
Через двойное стекло она, мяукая, здоровалась с людьми, заклиная выпустить её из одиночного заключения.
Никто не выпускал — кошка отчаивалась.
А если их выпустят?
Тогда эти девы, эти мужи, эти узницы, эти Саскии, Вирсавии и Сусанны, эти блудные сыны и заговорщики отправятся в Sotheby’s — на рынок пленных рабов.
Нет!
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОБРАЗОВ
Однажды мы с Сергеем Кудрявцевым, писателем и издателем «Гилеи», решили повторить известную шутку Хлебникова и Петникова.
Было это примерно в 1993 году.
Мы гуляли по Питеру — помнится, шёл снег, вечерело.
Выпили немножко — и нас осенило.
Сгорая от нетерпения, стали звонить в Государственный Эрмитаж:
— Эрмитаж? Это музей Эрмитаж?
— Да.
— Говорят стеклянный глаз Бурлюка и ослиный хвост Ларионова.
— Что? — холодный, вежливый, но неласковый голос.
— Стеклянный глаз Бурлюка и ослиный хвост звонят в главный музей России.
— Что вам угодно?
— Сообщите, пожалуйста, как скоро выедут жильцы из Государственного Эрмитажа?
— А? Что?
— Повторяем: Бурлюк и осёл интересуются, когда музейщики освободят Зимний дворец?
— Какие музейщики?
— Рембрандт... Тициан... Матисс... Пикассо...
В трубке громкое шуршание, словно в Эрмитаже сидит огромная крыса.
— А? Больше ничего? — слышится чья-то кислая улыбка.
— Ничего!
На другом конце провода кто-то тихо, но изощрённо матерится.
Я и Кудрявцев хохочем в трубку, как идиоты:
— Нам ночевать негде! Пустите в Зимний!
Короткие гудки — конец связи.
О ВЕЛАСКЕСЕ
Для меня история искусств — сплошное унижение.
Я не перестаю задаваться наивным, но правомочным вопросом: как случилось, что все эти великолепные попытки увидеть мир по-иному, все эти гениальные прозрения и блаженные созерцания закончились поражением?
Ведь нами сейчас владеет куриная слепота.
Чем было Солнце-искусство и чем стало...
Было сияние, было горение, а стало — тухлятина, говядина...
«Унижение — всё, вся жизнь — унижение» — говорил Шаламов.
Диего Веласкес, впрочем, не любил унижаться.
Он был странный, одинокий художник, и старался обойтись без унижения, как и без всего лишнего.
Ограниченность средств — назовём её аскезой — является не скованностью, а свободой от ненужного багажа.
Так Хлебников умудрялся ходить по миру в шинели и с наволочкой:
Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!
Вместо дальних и одиноких странствий Веласкес всматривался в окружающие лица королевских приспешников.
Ортега-и-Гассет прав: Веласкес — портретист по преимуществу.
Задача его была — уместить на кончике кисти маслянистую породу человеческую.
Человек лежит в пелёнках, царствует, паясничает, раболепствует, наряжается, выращивает усы, гарцует на лошади.
Иногда он — вся кровь, вся непримиримость, а иногда — пся крев, всетерпимость.
Он — в мифах, в себе, в истории.
Всё это и изображал Веласкес, портретируя.
И он никогда не повторялся!
Рука живописца, конечно, помнит и хранит секреты своего ремесла, но глаз должен забыть всё, что он знал — и извлечь свой первый и последний опыт из того, что он видит перед собой.
Никаких заёмных очков от великих окулистов прошлого.
Кисть должна стать внеличным инструментом, управляемым ви´дением.
Таков принцип сосредоточенного зрения Веласкеса, смотрящего в упор.
Это отнюдь не тип вербального постижения (от Веласкеса до нас не дошло никаких комментариев).
Он был молчалив и скрытен — испанский король считал его флегмой.
Всей силой своей гордости и своего самоуважения художник искал способ, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение её исследователя.
Он знал: шёпот «король идёт» — собирает толпу опущенных голов.
Поэтому сам он, рисуя и рискуя, смотрел на короля прямо и изображал его с той же беспристрастностью, как шута или коня.
Его символом веры, его единственным каноном было ПОСТИЖЕНИЕ ДВУНОГИХ — без всякой литературщины.
Каким образом Веласкес находил точную интонацию для каждого портрета?
Он имел для этого специальные кисти!
Инфанту Маргариту, например, он писал засохшей веткой вербы, на которой комочки серебряного пуха сидели пушистыми зайчиками, выскочившими посмотреть на весну жизни.
А портрет герцога Оливареса написан иглой лесного дикобраза.
Для придворного карлика дона Себастьяна дель Морра была выбрана кисть из ветки колючего терновника, но портрет получился нежнейшим.
А обнажённую Венеру, смотрящуюся в зеркало, Веласкес писал кистью атласной и ласковой — щетиной из чёлки единорога.
Так каждая картина создавалась особым взглядом в человеческое лицо — столь же нежным, сколь и безжалостным.
Отсюда некоторая неуклюжесть фигур на холстах Веласкеса — она передаёт неловкость жизни в её схваченности взором.
Кроме того, это неуклюжесть самой живописи.
Как пишет Ортега-и-Гассет: «Искусство Веласкеса стремится к передаче форм жизни, а не формальностей стиля. Художник Альтамиры практиковал в своём творчестве магию, Джотто своими фресками молился, а Веласкес живописал по преимуществу».
«Живопись по преимуществу» — самое крупное светило, взошедшее в семнадцатом веке на небе событий, как позднее, в 1921-м году, — изваяние из сыра работы Митурича, о котором вспоминал перед своей кончиной Хлебников.
А сегодня живопись фабрикуется и муштруется, как колбаса из супермаркета или цирковой тюлень.
Но любая картина Веласкеса — в силу неслыханной чувствительности его сетчатки и несравненной аналитичности ума — свидетельствует о неотступном размышлении о существе и средствах этого искусства.
Он понимал живопись как иконопись навыворот.
Если икона являет Лик горний, нерукотворный и нетленный, то портрет — искусство историческое, рукодельное и указующее на бренность дел человеческих.
Каждая картина должна быть неповторима и сингулярна — ибо живущий несравним.
Присутствие смертного человеческого лица, тела, жеста — вот предмет исследования Веласкеса.
И мы по-прежнему ощущаем их присутствие — хотя этот король, эта инфанта, эта собака, эти менины, эта шутиха давно уже отсутствуют.
Карлики его выше королей.
Нет ничего более редкого и блистательного, чем умение найти единственно точный подход к такому многообразию темпераментов, запечатлеть существа столь несхожие, столь разобщённые по своему статусу, внутреннему миру, влечениям, интимным привычкам.
И нет, конечно, ничего более дерзкого и благородного, чем выявить в коронованной особе срамоту идолища, в инфанте — вопрошание уличной девочки, в вельможе — примитивность мясника, в шуте — чистосердечие варвара, а в Венере — ритуальное животное.
Если это и есть веласкесовский реализм, то он весь пропитан поэзией.
Поэтому, как и все великие мастера, вроде Вэнь Туна, Мазаччо, Босха, Ван Эйка, Дюрера или Пьеро, Веласкес способствовал благотворному одичанию мира.
О СТРАХЕ ПЕРЕД РУБЕНСОМ
Когда-то я жил в Ленинграде — на Петроградской стороне, в коммуналке.
Ванной комнаты там не было, обшарпанная ванна стояла на кухне.
Поневоле раз в неделю отправлялся я в баню:
Муха в баню прилетела,
Попариться захотела.
Раздевалка, парная, душевые — всё было забито голыми тушами.
Жирные, тощие, шарообразные, грушеподобные, волосатые, скользкие, мокрые, орущие люди били друг друга вениками, окатывались кипятком и ледяной водой из тазиков.
Висели члены, яйца, животы, космы.
Сияли плеши, пятки, сраки, лбы.
Листики от веников клеились к вискам наподобие лавровых венков.
Мокрые лохмы торчали рогами.
Лили водку, хрустели солёными огурцами.
Мной овладевала паника:
Муха мылась,
Муха мылась,
Муха парилася,
Да свалилась,
Покатилась
И ударилася.
Так же, как та баня, действует на меня Питер Пауль Рубенс.
Он — художник банных оргий и распаренных туш.
Он изображал рукастое, животастое и ногастое племя Хама, а сам был частью политической и художественной номенклатуры.
Его ценили короли, богачи, знать, он имел армию учеников и поклонников, а писал сельскую попойку.
Я думаю, современные художники — последователи Рубенса.
На первый взгляд, он не слишком-то популярен сегодня, но на деле — предтеча всего нынешнего.
В Рубенсе сочетается вкус к истории, аллегории, варварству, декоративности, разудалой живописи и наготе — типичнейшие предпочтения новейшего изо.
Рубенс — придворный художник, обожавший асоциальное.
Так же — и все сегодняшние!
Он изображал сатиресс, Силена, опьянение, самозабвение, дебоши, зверочеловечество, сладострастие, а сам служил нормализующей власти.
Так же и теперешние.
Он обожал регрессию, сосание, алкание, бодание, прободение, оголение — и открыл первую в истории фабрику живописи.
Он аффирмировал праздничное насилие — а сам торговал и угодничал!
По своему таланту Рубенс равен Пикассо — кумиру современности.
Он имел такой же аппетит к жизни, уверенность в себе, склонность к крайностям — и конформистскую, расчётливую утробу.
Оба они умели завоевать сердца элиты и буржуа.
Оба беспрестанно хлопотали и работали, вызывая всеобщее одобрение.
Оба обожали изображать парнокопытных и мозоленогих чудищ и обладали оголтелой фантазией пресыщенного хозяина кунсткамеры.
Современный истеблишмент узнаёт себя в произведениях Пикассо, развешенных в музеях и гостиных, — так было и с вельможами эпохи Рубенса.
Стараниями этих двух художников живопись стала грандиозной и хихикающей, патетической и пресмыкающейся.
Стараниями обоих живопись стала миллионершей.
Пикассо, впрочем, тянулся к отверженным: «Все мы дети Рембо».
Но у Рембо не было ни предшественников, ни потомков, и, в отличие от Пикассо, он не любил стараться: «Рука с пером не лучше руки на плуге».
Страсть к виллам и почёту ставит создателя «Герники» ближе к автору «Коронации Марии Медичи», чем к творцу «Одного лета в аду».
Рембо сказал: «Мои глаза закрыты для вашего света. Я — зверь, я — негр. Но я могу быть спасён. А вы — поддельные негры, вы — маньяки, садисты, скупцы. Торговец — ты негр; чиновник — ты негр; военачальник — ты негр; император, старая злая чесотка, ты — негр; ты выпил ликёр, изготовленный на фабрике Сатаны».
Работящие, белые, рукастые негры — Рубенс, Пикассо и армия их подражателей.
А ещё мальчик Рембо сказал: «Калеки и старики настолько чтимы, что их остаётся только сварить».
«Калеки и старики» — это, конечно, современные художники.
О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ПОЭТАМИ И ХУДОЖНИКАМИ
Возможно, нижеследующие слова Бодлера прольют необходимый свет на разницу между поэтами и художниками: «Я хотел бы возбудить против себя всё человечество: наслаждение, которое приносит мне людская ненависть, примиряет меня с окружающим убожеством».
И в письме к Мане: «Я принадлежу к числу тех редких счастливцев, что умеют радоваться направленной на них ярости, а если мной пренебрегают, я испытываю блаженство».
Мало кто из художников мог бы такое сказать — по своему ремеслу они ищут признание и поощрение.
Франсуа Вийон жил в подполье, презирал приличия, а писал для парижского сброда середины пятнадцатого века.
О подобных художниках память не сохранилась.
Как сказал Джимми Хендрикс: «Мы никогда не узнаем, какой была музыка рабов».
Поэты неисправимы:
Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала!
А вот Рембо: «Но оргия и женская дружба были для меня под запретом. Ни одного попутчика даже. Я вдруг увидел себя перед охваченной гневом толпой, увидел себя перед взводом солдат, что должен меня расстрелять, и я плакал от горя, которое понять они не могли, и я прощал им — как Жанна д’Арк. «Священники, учителя, властелины, вы ошибаетесь, предавая меня правосудию. Никогда я не был связан с этим народом; никогда я не был христианином;
я из тех, кто поёт перед казнью; я не понимаю законов; не имею морали, потому что я зверь, и значит, вы совершили ошибку».
Вот так: халды-балды!
И ещё: «С давних пор я хвалился тем, что владею всеми пейзажами, которые только можно представить, и находил смехотворными все знаменитости живописи и современной поэзии».
Мандельштам:
Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.
Хлебников:
Ещё раз, ещё раз,
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьётся о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьётесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.
Цветаева:
Мой день беспутен и нелеп:
У нищего прошу на хлеб,
Богатому даю на бедность,
В иголку продеваю — луч,
Грабителю вручаю — ключ,
Белилами румяню бледность.
Мне нищий хлеба не даёт,
Богатый денег не берёт,
Луч не вдевается в иголку,
Грабитель входит без ключа,
А дура плачет в три ручья —
Над днём без славы и без толку.
А какие картины любят поэты?
Они предпочитают идиотские изображения, намалёванные на стенах сортиров; примитивную резьбу и дурацкие карикатуры; декорации и занавесы бродячих комедиантов; вывески и лубочные картинки; вышедшие из моды иллюстрации в фантастических романах; безграмотные эротические рисунки; комиксы и тонкие детские книжки; порнографические карты; плохонькие гравюры.
Иногда они — как Бодлер или Фрэнк О’Хара — могут быть превосходными художественными критиками, но всё равно ищут в картинах что-то другое, не то, что Гомбрих, Вёльфлин или Панофский, а что-то слишком своё: дорогу через все времена, или жизнь детства, или опровержение какого-то старого кошмара, или возможность возбудиться.
А как поэты любят искусство?
Как Бахтерев:
Я не стану говорить
Потому что я сильнее
Потому что я милее
Потому что я фонарь
Потому что я кунарь
Потому что потому что потому что по
Или Рембо: «Я был прав во всех проявлениях моего презрения — и бегу от всего! Я бегу от всего!»
О ГОЙЕ, ИЛИ ЧЕГО ЭТОТ ВЕЛИКИЙ ФАНТОМ ХОЧЕТ?
Гойя, как и все мы, родился с двумя глазами.
Но его зренье оказалось устроено иначе.
Один его глаз назывался Шмо.
А другой Чрю.
Шмо всех, кого замечал, превращал в куколок.
А Чрю, на кого бы не взглянул, делал ведьмами.
Во как!
Ни одна улыбка счастья не укрылась от Шмо.
Ни один жест похоти не ускользнул от Чрю.
Или можно сказать ещё так:
Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
— Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
А она мне солёных грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подаёт мне горячий отвар.
— Захочу, — говорит, — дам ещё... —
Ну, а я не дышу, сам не рад.
Шасть к порогу — куда там — в плечо
Уцепилась и тащит назад.
Вошь да глушь у неё, тишь да мша, —
Полуспаленка, полутюрьма...
— Ничего, хороша, хороша...
Я и сам ведь такой же, кума.
Гойя писал своему другу Мартину Сапатеру: «Я не боюсь ни ведьм, ни духов, ни великанов, ни чертей — только людей».
В том же письме он советовал Сапатеру заниматься онанизмом, чтоб облегчить душу: «Прежде это меня пугало, но сейчас? Не боюсь».
Чего это он не боялся: увидеть во Вселенной бардак, а в себе — кавардак?
Гойя, как известно, сперва любил светлую, а потом тёмную живопись — а потом совсем чёрную.
Облако у него озарялось, а потом загоралось, как кумачовая рубаха мужика или амбар от спички.
В кромешной ночи вспыхивали глаза зверя или огнь из ружья.
А ещё Гойя любил серое — туман, из которого появляются призраки.
Подобно своим соотечественникам Кальдерону, Кеведо и Сервантесу, он знал, что сон и реальность — двойники, их легко перепутать.
Жизнь есть сон, и он рождает чудовищ.
В результате возникают Los Caprichos.
Некоторые думают, что это — гротеск.
Но нет, капричос — это отвар из детских пупков.
У Гойи дурные сны полностью вытесняют мифологию и возвышенное.
Поэтому он вместе с Уильямом Блейком — первый по-настоящему современный художник, покончивший с классическим наследием.
Гойя всем итальянцам предпочитал Веласкеса и Рембрандта.
Почему?
Потому что: Веласкес — секса лев, а Рембрандт — ребро Рембо.
А кто же тогда Гойя?
Йог воя!
Гойя нашёл новое пристанище для изо — не в храме, не в мастерской, а у шестипалой неправды в избе, в доме глухого, в голове кошмарозрящего, в горшке из-под нар.
Он был настолько жесток — прежде всего к самому себе — чтоизобразил сцены величайшего разгула, помешательства и печали на своих собственных стенах в Quinta del Sordo.
Эти так называемые «чёрные картины» — лучшее изображение человечьих мистерий после помпейских фресок.
Впрочем, он никому не навязывал своих шестипалых видений, а всё больше удалялся от общества и наслаждался вошью.
Гойя никого не поучал, ничего не предсказывал, а только удивлялся: неужто это то, что я вижу?
А видел он свирепых колоссов, живущих веком мотылька.
И ещё слепоту-красоту, срамоту-наготу, глухоту-дурноту, темноту-нищету.
Эти «чёрные картины», которые, возможно, и не Гойя писал, а его сын Хавьер, — эти картины нужно рассматривать не в Прадо, где они сейчас, а в ночных испарениях свечей и мочи, как сам Гойя.
Тогда странная собака, похожая на жабу, изображённая художником вроде бы как на краю мира, меж небом и землёй, — эта непонятная тварь, непрерывно изменяясь, проходя через неведомые метаморфозы и разрывы, превратится в звук кукования или в плач ребёнка, в горький вкус полыни.
Так зрительное ощущение при некоторых состояниях воспалённого мозга переходит в слуховое или обонятельное.
«Чёрные картины» нужно смотреть в горячке, чтоб вникнуть.
Да и что говорить: все картины лучше созерцать, как Лоренцо Великолепный — у себя дома, а не как граждане в Эрмитаже.
Гойя, кстати, выказал глубочайшую любовь к миниатюре, считая, что одинокое и пристальное всматривание в картинку предпочтительнее церемониальных поз при созерцании больших полотен.
Созерцательное луповглядывание — тропа к полуспальной-полутюремной мудрости, ведь он, как говорится, был философом-живописцем.
Оглохнув от болезни, вызванной, по-видимому, многолетним вдыханием свинцовых белил (или сифилисом), Гойя открыл, что мерзкие гримасы людишек раскрывают их в сто раз лучше, чем все речи.
Silencio, silencio! — вот чего требует старик Гойя.
А в молодости он любил рассказывать друзьям о своих невзгодах, вошках, рожках, нехватке монет, и о том, как он не хочет патронам делать минет.
Что же касается публичных речей, то однажды Гойя выпалил академикам: «В живописи нет правил».
И в самом деле, у него не только ведьмы, но и быки летают.
Гойя придавал куда большее значение тому, что происходило в комке серой ткани, заключённом в известковой коробке черепа, чем тому, что болтали о живописи все его коллеги и заказчики, облачённые в дорогие и хорошо скроенные ткани.
Правильно сказал Теофиль Готье о гойевском портрете королевской фамилии: «Это изображение семьи булочника, выигравшего приз в лотерее».
Гойя сам испугался того, что разглядел: весь мир — шабаш ведьм и слабоумных!
И он хотел, чтоб у зрителя кишка выпала от этого открытия.
Какая свистопляска!!!
Кто это возле меня засмеялся так тихо?
Лихо моё, одноглазое, дикое Лихо!
Лихо ко мне привязалось давно, с колыбели,
Лихо стояло и возле крестильной купели,
Лихо за мною идёт неотступною тенью,
Лихо ужасное, враг и любви, и забвенью...
Он ненавидел власть этого Лиха: самовластье толпы и суверена, офицера и солдатни, карнавальных игрищ и корриды, кулака и креста, ружья и охотника, красоты и уродства, тьмы и крика.
Гойя любил охотиться на зверей и знал самовластное Лихо охотника.
Но и безвластное, униженное, всеми гонимое Лихо его захватывало!
Он задолго до Сэмюэля Беккета и Дэвида Линча воспел слабоумие, зачарованность, остолбенение, бормотание, дурноту, опупение, бомжовость, мракоблудие, макабр, злое волшебство, деградацию, наваждение.
Потеряв слух, он страдал от беспомощности, боялся угодить под экипаж или быть укушенным псом — и рисовал свои страхи!
Он исследовал не парение ангелов, а кружение демонов.
Дети, старики, влюблённые, лярвы, матадоры, красотки, ведьмы, звери, призраки, конькобежцы на его рисунках — все они в разладе с равновесием, качаются, виснут в воздухе, подвержены странной телесной дисгармонии, норовят свалиться.
Даже великаны на его картинах изнемогают от желания присесть, как обессилевшие големы.
Никакой тебе гравитации.
В живописи нет правил — и нет их в реальности.
Страшно!
Лихо!
Больно!
Однако раны гения — это язвы всего его века, и гений чует, что кроме ран есть в нём ещё здоровая и цветущая сила, способная принести исцеление — и не только ему, но и всем, кто с ним соприкасается.
И Гойя пишет автопортрет с доктором Арриетой, где он на последнем издыхании принимает из рук врача стакан с целебным снадобьем, а вокруг — тени не столь удачливых смертельнобольных.
На автопортрете надпись: «Гойя благодарен своему другу Арриете за успешное лечение и колоссальную заботу во время опасной болезни в 1819-м году, когда ему уже стукнуло 73 года».
Доктор Арриета вылечил гения.
Но какое выздоровление сулит нам сам гений?
Он — первый художник в истории, ощутивший образы, его обуревавшие, как тяжкую болезнь и обузу.
ОТ НИХ НАДО ОТДЕЛАТЬСЯ!!!
СКОРЕЕ!
Аз ум цер бум
Дву блум тер буб
ЕЩЁ О ПОЭТАХ И ХУДОЖНИКАХ
Мандельштам делил все произведения мировой литературы на разрешённые и написанные без разрешения.
Первые были для него — мразь, вторые — ворованный воздух.
Ещё он считал, что поэт занимается изворачиванием: «Что это за фрукт такой этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и всё, подлец, изворачивается?»
Гойя тоже под старость стал изворачиваться.
Поэтическое изворачивание заключается в попытке не иметь ничего общего с обычным художеством и писательством: «Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи».
И ещё: «Литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обречёнными».
Вот так.
Если приложить эти критерии к истории изобразительного искусства, то от неё мало что останется.
Но я как раз и стараюсь тут — выбираю эти крохи, эти плевелы, эти сокровища.
Для меня сорняки типа одуванчиков дороже культивированного садоводства.
Я пытаюсь учиться у Мандельштама, который в ремесле словесном ценил только сумасшедший нарост:
И до самой кости ранено
Всё ущелье криком сокола.
Было два Гойи: один принадлежал кукольной и довольно тошнотворной мразописи, а второй — ворованному воздуху, в котором копошились костлявые ведьмы, норовившие своими кривыми кремневыми ножами оскопить всех инквизиторов, художников и литераторов.
Кукольный Гойя и Гойя ведьмовский наверняка не очень ладили, как собака и кошка.
Возможно, первый — сладенький, сладострастненький, придворненький Гойя частенько пугался второго — аэро-больнично-тюремного, а второй тайно отдыхал в присутствии первого, как некоторые воры отдыхают в буржуазных ресторанах.
Точно так же было два Гольбейна: один мразописал портреты толстощёкой буржуазии и коронованной свинины, а второй — труп Иисуса в узком пенале-гробу.
И опять-таки: быть с добродушными торговцами, готовыми заплатить тебе за добротный портрет золотыми дукатами, гораздо легче и приятней, чем столкнуться лицом к лицу с вызовом Евангелия.
Художники, понюхавшие воздух папских покоев и герцогских палаццо, были, конечно, непрочь поспать на ореховых кроватях с кружевным бельём и покушать смачно поджаренную дичь под винным соусом.
Я и сам предпочитаю находиться на швейцарском полюсе мировой гражданской войны, а не на ливанском или ливийском, например.
Но от видений ведь никуда не скроешься!
И Гойя это понял так же хорошо, как Эдгар По или Арто.
Видения ливийские, нубийские, убийские достанут художника даже на Лонг-Айленде, как это случилось с Джексоном Поллоком.
Поэтому художники часто куда изворотливее поэтов, но всё же не на сто процентов застрахованы от поэтического безумия.
О ВЕЛИКОМ ФРЕНХОФЕРЕ
В повести «Неведомый шедевр» Бальзак вывел художника Френхофера, который никак не может закончить картину.
Он всю жизнь старался, почти уже обессилел, а закончить не мог.
Ну и не надо!
К чёрту!
Френхофер десять лет корпел над портретом голой куртизанки Екатерины Леско — несусветной красавицы.
В результате у художника получился шедевр — неведомый, невидимый.
Там, на холсте, ничего не узреть: пятна, мазня, возня.
Картина называлась — «Прекрасная спорщица».
Оказывается, распутница Екатерина Леско поспорила со старым Френхофером: «Ты меня не нарисуешь, не схватишь: я — живая».
А он: «Нарисую!»
А она: «Нет! Рыбу водой не поят!»
А он: «Тяжко нам, художнику и модели, будет друг без друга, как соловью без луга!»
А она только фыркнула и ногой его боднула.
И вот результат — неведомый шедевр, катастрофа, нагромождение мазков.
Лишь в углу картины — ускользающая женская ножка.
Екатерина, посмотрев, засмеялась: «Помнишь сказку: видела жаба, как коня куют, протянула и свою ногу: «Куй кузнец!». Так вот: я — не жаба!»
А Френхофер: «Я тебя, лебедь, освободил. Летай теперь, где хочешь».
Так и расстались.
Старый Френхофер потом размышлял, глядя на залезшего на руку муравья: «Кто этот муравей? Писец? Воин? Полководец? Ваятель? Великий учитель своего народа? Мудрец?»
Сезанн позже говорил: «Френхофер — это я».
О «ТЕМНИЦАХ» ПИРАНЕЗИ И ГОЛОВЕ МОЕЙ МАТЕРИ
Джованни Баттиста Пиранези был старшим современником Гойи.
Он, венецианец, соблазнился Римом.
Гойя тоже бывал в Вечном городе и проникся его чудовищной прелестью.
И я, ничтожный, там был.
Рим — самый зрелищный город на свете в смысле фактур, структур, текстур, архитектуры, человеческой натуры и карикатуры, садовой скульптуры, а также панорам, мелодрам, трамтарарам, храмов, бедламов и аппиевых макадамов.
Вечный город не потому вечен, что неразрушим, а потому, что вечно разрушается.
Всякий, кто посетил Рим, знает, что красота противоречит целям людей.
Люди хотят строить, планировать, перестраивать, сохранять, достраивать — созидать, одним словом.
Но красота Рима заключается в разрушении.
Город Ромула и Рема — разграбленная руина, а не стройная теорема.
Пиранези осознал это, как некогда Нерон.
Но гравёр-археолог не жёг Рим в отличие от поэта-императора.
Он Рим раскапывал — блок за блоком.
В гравюрах Пиранези заключена прелесть, отличная от строительных целей.
В его офортах монументы и здания возвращаются в натуру:
Природа — тот же Рим и отразилась в нём.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.
Пиранези был чуток к крику Земли: «Корни, опутайте храмы! Сорные травы, прорастайте на хламе!»
В классических формах и монструозных сооружениях узрел Пиранези следы рабства человечества.
И если художник хочет быть живым и поближе к Богу, он должен разрешить себе стрекозиную роскошь, недоступную муравьиным людям, — самовитое сарматское умение радоваться бесполезному мху на обтёсанных глыбах, предназначенных к стройке.
Во всех трудах Пиранези есть эта безумная раздвоенность: топографически выверенные изображения — фантазматически природны.
Природа атакует культуру.
Камни саркофагов и плиты дворцов врастают в холмы.
Головы статуй высовываются из-под земли.
Пирамида Цестия обрастает лишайниками и превращается в гору.
Арки акведуков готовы слиться с облаками.
Колонны прикидываются стволами деревьев.
Фактура кирпичей переходит в дикий орнамент кустов, ритмичные своды мостов рифмуются с висячими ветвями.
А крест на соборе норовит засиять Полярной звездой!
Римские улицы Пиранези похожи на антикварные лавки, забитые шкатулками, статуэтками, чашами, канделябрами, битой посудой, обломками мраморных рук и ног, звериными мордами, головами императоров, вазами, столовым серебром и древками копий.
И на всём этом лежит пыль, плесень, тлен, свет, тень — и всё постепенно переходит в нагромождение дюн, туч, куч мусора, скопление древесных крон, трепетанье листвы — превращается в джунгли.
А крошечные, гротескные людишки — эти прислужники антикварной цивилизации — пасуют перед лицом неуправляемого естественного натиска.
Сии козявки на руинах ничего не могут поделать: природа обнимает культуру, как свирепая мать — капризничающее дитя.
Как сказал Рене Шар: «Птица и дерево внутри нас связаны: первая приходит и уходит, а второе ругается и растёт».
Со своего младенчества в раннем Возрождении и до самого Просвещения классическая археология, в которую Пиранези был влюблён, стремилась открыть под пластами земли и грудами битых кирпичей Золотой век.
Разбудить блаженных мертвецов — Энея, Орфея, Адама — вот чего эта наука хотела...
Но:
Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить:
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!
Воображение Пиранези увело его от Золотого века в иную сторону — рабов, жертв, камней.
Автор «Римских древностей» сотворил CARCERI — фантастические изображения темниц.
Это были уже не поиски рая в римских садах и на бугристых форумах, а моментальный спуск в ад на скоростном лифте.
Пиранезиевские темницы безостановочны — это уже не под небом обломки, а казематы-головоломки.
Подземелья?
Башни?
Там, где мы имеем одну и ещё одну темницу, там имеем и три, и пять, и семь, и двенадцать — и целую бесконечность.
Темниц много-премного, они образуют замысловатую полиморфию пространств, непрерывно изменяющихся, петлистых, удаляющихся в разные стороны, надвигающихся на нас подобно лавине снега или света, хлынувшего в каземат.
Мы теряемся в этом вертиго, соскальзываем.
Мы вспоминаем, что сами висим на волоске в современной бездне, где, как сказал Дюшан, даже дышать — непосильный труд.
Лестницы, площадки, переходы, мосты, коридоры формируют нереальность множащихся пространств CARCERI.
В их изощрённости есть намёк на скрытую логику, на некий план, на возможность побега из сих узилищ.
Это вселяет смутную надежду в аморфные, приплясывающие, приседающие, растерянные, ничтожные тельца, населяющие пиранезиевские кутузки.
Но бесконечность и запутанность камер сеют конфуз и затем догадку: бегство невозможно!
Каталажки громадных и крошечных размеров, с задранными и спущенными мостами, дезориентирующими спиральными лестницами, спусками и площадками, множественными сводами и проходами, колодцами и бойницами, оборонительными стенами и баррикадами — здесь всё самодостаточно и замкнуто, а пути ведут неизвестно куда.
Местами эти тюрьмы сумрачны и набиты какими-то дьявольскими инструментами и пыточными машинами — колёсами, катапультами, переплетающимися цепями, тросами, верёвками и пиками, крюками и клетками.
А иногда эти бастилии пусты и залиты светом из громадных, но зарешёченных окон:
Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка,
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи?
Моментальные и головокружительные переходы от света к тьме, от камня к воздуху, от давящих стен к высоченным потолкам, от запертых капониров к распахнутым междупутьям, от ощущения открытости к полному захлопыванию мира — таковы темницы Пиранези.
Но такова и внутренняя жизнь обитателей этих тюрем, возможных беглецов — призрачная жизнь, разворачивающаяся, как сами темницы, на многих и разных уровнях.
Я пишу эти слова, когда моя родная мать медленно умирает в Израиле.
А я сижу в чужой съёмной квартире в Цюрихе.
И не еду, боюсь ехать к матери.
Она лежит под присмотром моей бывшей жены и моего сына в пригороде Тель-Авива, не в силах встать с кровати, к которой её приковало сломанное бедро и страшная опухоль в животе.
Она умирает, заключённая в башне-подземелье Пиранези.
Она — в своих последних бесконечных темницах.
Ведь память — это ад.
Безостановочный срыв в память — не это ли испытывает моя мать на своём смертном одре?
Тут какие-то тени вечно входят, выходят, поднимаются, спускаются, срываются со ступенек и снова карабкаются.
Давид — мой отец...
Собака, попавшая под машину, — из детства...
Свидригайлов — из книги...
Ка, выведи мою мать из этого Кносского лабиринта!
Или я всё это выдумываю?
Или она вообще ничего уже не помнит?
Хочет стать воробышком и — фью!
Фьюююююю!
Человеческая жизнь: гигантские скульптуры, картины, корзины, картонки, генералы, тюремщики, маленькие собачонки, сторожевые псы, грязные трусы, монетки, метки, барельефы, груды посуды, волосатые уды, знамёна, Иона, обломки колонн, крыш, полов, ступни венер, рожи мегер, пальмы в песках, кактусы в горшках, люстры, цепи на набережной и золотые цепочки на шее, какие-то телевизоры, транзисторы, развалы щитов, мечей и шлемов, ремни и подпруги, лживые подруги, чердаки, голубятни, книгохранилища, кубрики, казармы, министерства, замки´, зернохранилища, кельи, каменоломни, гридницы, эстрады, кухонные водопады, балконы, террасы, бытовки, покои, манежы, чертоги, квартирки, берлоги, конуры, курятники, логовища, зверинцы, амбары, телятники, КПЗ, богадельни, больницы, школы, высотки, трюмы, сквоты, склепы, салоны, склады, сортиры, садки, скворешни, музеи, мавзолеи — одним словом, весь этот Рем, Ромул и Рим.
Всё это увидел Пиранези в 1761 году, а моя мать — в 2016-м, когда она вышла из-под наркоза после операции на шейке бедра.
После этого она лежала в больнице и ходила под себя.
А медицинские сёстры её не подтирали, не подмывали.
Тогда она сорвала с себя одеяло и измазала говном всё, что только могла.
Это был её ответ на заключённость в пиранезиевской темнице, в бессильном теле, в паучьей больнице, в сучьих лицах.
Халды-балды, уехать бы отсюда в Алма-Ату на сто лет назад!
В Баку к Вячеславу Иванову — на двести!
А лучше бы на Корсику к младенцу Бонапарту, как Бранкузи с Пикассо!
Халды-балды, только бы прочь отсюда!
Воробьишкой: фью!
Как сказал Рене Шар: «Поэт живёт забракованными стихами и харкает кровью, от которой не умирает».
О ЧЁРНОМ КВАДРАТЕ
Как же здорово после Пиранези представить себе «Чёрный квадрат» Малевича.
Что в нём?
Не стоит и докапываться: образа нет, а вот такой вот чёрный квадрат.
Вот и нет цвета лучше, чем чёрный,
Только чёрный чист и совершенен,
Но от нас другие краски скрыли
Черноту материнского лика.
Чернота Малевича не вызывает ни отвращения, ни страха, ведь это — воображение без образов.
Всё открыто: любой шанец, вероятие, ошибка, случай, оказия, возможность.
Работа художника (как исполнителя и завершителя) окончена.
Отдых от видений.
Бежим на волю!
Стены тюрьмы, которую строил Пиранези, вдруг перестали быть грозными и даже твёрдыми.
Оказывается, кладка вокруг бойницы была заботливо подточена, и выворотить камни не стоило большого труда.
Спасибо за это — Пиранези и Малевичу.
Вы, Казимир Северинович, сделали квадратное отверстие наружу таким широким, что можно просунуть не только голову, но и плечи.
Внизу, под темницами — река, бегущая по цветущему саду.
Она слегка загрязнилась и ожирела.
Но сколь бы мутны ни были её страдающие одышкой воды, дно видно, и на дне прячутся превосходные рыбы.
Сколько их!
Сделай усилие, беглец, вывороти ещё пару камней из стены, и лети вместе с ними в речку.
Исчезнув под водой, открой глаза.
Гляди: рыбины носятся в одиночку и стаями и выглядят сквозь изумруд совсем весёлыми, ежесекундно меняют цвет и положение, сталкиваются, кружатся, преследуют друг друга, кувыркаются и пропадают.
В вихре песка и ила они превращаются в осьминогов и морских коньков, прямо как в фильмах Жана Пенлеве, а потом в водоросли, в храмозверей, в львиные морды, в силуэты мёртвых гениев, в пузыри и водовороты...
Увидев беглеца из крепости, они к нему устремляются — знакомиться.
Вот их имена: Дионисий и Фра Анжелико, Симоне Мартини и Павел Федотов, Камиль Писсарро и Зурбаран, Делакруа, Рогинский, Ван Вэй, Руо, Марке, Майкл Эндрюс, Василий Чекрыгин, Таможенник Руссо, Чимабуэ...
А вот рачья клешня высовывается — это Курбе.
А вот бесхребетный угорь — Сальвадор Дали!
А вот какая-то амёба в крапинках — Миро...
Но тут беглецу хочется глотнуть воздуха!
Айн, цвай, драй — вверх...
И он выныривает...
Как же тут хорошо!
Вертоград...
О ЖАНЕ-БАТИСТЕ ШАРДЕНЕ
Шарден никогда не выезжал из Парижа, и из дома почти не выходил.
Всё и так было перед глазами.
Жена приносила и клала вещи на стол.
Так появился мёртвый заяц, бутылка, скат, цветы, кувшин, персики.
А кот сам к зайцу запрыгнул.
Чего ещё в жизни хотеть?
Жена сначала была одна, а потом, когда умерла, другая — тоже хорошая.
Фрукты и мясо со стола не исчезали, но обновлялись.
Шарден не был ни верующим, ни неверующим, считая, что нет ни ангелов, злых или добрых, ни чудес — всё обыкновенно.
Зато есть вещи, так сказать, невещественные.
Например: струение соков под кожицей винограда.
Пушистость персика.
Или странные телесные оттенки в цвете кастрюли.
Эта невещественность, во всех вещах заключаясь, составляла, согласно Шардену, душу вещей.
Приносила ли эта душа радость или невзгоды?
Да как придётся.
Шарден слишком был занят отыскиванием души в разных предметах, чтоб беспокоиться о чём-то ещё.
В своей комнате, один на один с фруктами и бутылками, он мнил себя застрахованным от глупости соседей, базарной толкотни, непогоды, Академии — и этого было более чем достаточно.
Шарден предавался нахождению вещных душ с помощью маленьких мазков, а когда уставал, переставлял вещи на столе.
Мазки не только выявляли жизнь в персиках, но и вселяли бытие в кофейник.
Он подходил к этому делу с мудрой расчётливостью волхва и Ньютона-физика.
Вся заговорщицкая деятельность Шардена покоилась на основе бесконечно малого: маз, мазок, мазочек, мазоченек...
Закон спасения человечества он нашёл в созерцании настольных объектов, а не в компоновке поту- или посюсторонних ритуалов (как, например, Пуссен).
Так пробежали годы до смерти.
Занятый своими вечными поисками и наблюдениями, Шарден даже не заметил, как умер и был причислен к лику святых.
Хорошо ему было забыть о различии между мёртвыми и живыми предметами, между ценными и ненужными вещицами.
Хорошо было наслаждаться детской невинностью салфеток и персиков.
Халды-балды, Жан-Батист Шарден, зачем выходить из комнаты, когда в ней так славно живопишется?
Зачем призывать к себе Ка, когда каждая капля воска на свечке — живая?
Как сказал один древний философ, которого любил Михаил Зощенко: «Если ты разумно относишься к природе, она тоже будет к тебе разумно относиться».
О ЖЕРИКО
Почитатели изящных искусств всегда благосклонно взирали на упорные поиски правды, красоты и божественного присутствия в живописи, но Жерико был озабочен другим.
Он открыл нескромную свирепость Случая!
Это, конечно, была крайне неортодоксальная вера.
Сам он, возможно, не отказался бы от выгод, связанных с прижизненным успехом и восхищением современников, но Случай — им самим выбранный бог — распорядился иначе.
Жерико умер, когда ему было 32 года.
Говорят, перед смертью он страшно страдал: ему показалось, что он похерил свой гений.
Инакомыслие его погубило, но он всё же успел изложить основы своей случайной ереси — хотя и со многими лакунами и темнотами.
В начале космогонии Жерико стоит Фиаско.
Это божество никак не связано ни с Зевсом, ни с Иеговой, а появляется и исчезает без всякой причины и высшего назначения.
Может, оно и вовсе не божество и даже не демон, а просто природный феномен.
В любом случае, Фиаско — проявление не Закона, а Случая.
Таким образом, Случай — верховное таинственное существо.
Его божественная природа величественно обходится без всякой родословной, а его единственная цель — доводить до исступления бедную лошадь, которая, предчувствуя молнию, переступает в тревоге копытами, а при внезапном ударе грома встаёт на дыбы в доисторическом ужасе.
Случай — садист и находит утончённое наслаждение во внезапных атаках.
Иногда он крушит корабль в море с единственной абсурдной целью — посеять панику, смерть, безумие.
Случай — самопожиратель и уродец, он ближе к лярвам, чем к разумному буржуа или революционеру, ближе к младенцу, чёрту, калеке, сумасшедшему или пьяному кавалеристу.
Ещё он подобен лавочнику, у которого вдруг разболелись зубы.
Впрочем, об этом догадывался уже Гойя.
А глупые люди, надеясь предохранить себя от прихотей Случая, настроили всюду больницы, богадельни, сумасшедшие дома, приюты и убрали с глаз долой всех потерпевших.
Ещё они пытаются умилостивить Случай, играя на скачках и затевая баталии.
Но это, разумеется, тщетно.
Ибо вся Земля, на которой мы живём — случайность.
Живопись же, это самое благородное из искусств, есть не что иное, как неумелая пародия на божественность Случая.
Она — смехотворна, как деторождение.
Деторождение и живопись (как и все зеркала) — несостоятельны, ибо только умножают и укрепляют владычество Случая.
Основная добродетель в этих обстоятельствах — отвращение.
К нему, согласно Жерико, ведут два пути: путь воздержания и путь распущенности — упорная работа или растрата сил в развлечениях.
В любом случае итог — отвращение.
Жерико искал вдохновение в местах, куда художники до него неохотно заглядывали: в казармах, конюшнях, на эшафотах Рима и в трущобах Лондона, в морге и в сумасшедшем доме.
Воображение уносило его к местам кораблекрушений, в застенки инквизиции или на поля битв, где Случай владычествовал.
Но странно: последними сказанными им на смертном одре и упорно повторяемыми словами были: «Ничто не заменит любви матери».
Так — в финальные часы — потянулся он к неслучайному.
Делакруа, когда ему сообщили о кончине Жерико, дописывал (на холсте под названием «Резня на Хиосе») младенца, тянущегося к груди матери.
Может, это была случайность?
«Ничто не заменит любви матери».
И снова, в предсмертной агонии: «Ничто, о, ничто не заменит любви матери».
В тот же день Делакруа записал в дневнике: «Я не могу свыкнуться с этой смертью. Хотя все мы знали, что неизбежно потеряем его в скором времени, мне мерещилось, что можно прогнать смерть, подобно случайности, если не верить в неё. Но смерть никогда не отступает от своего дела, и завтра земля примет в себя то немногое, что от него осталось».
Зато в Лувре сейчас висит картина «Плот Медузы» — мощный перламутровый с кровью плевок в сторону так называемого человечества, удар веслом по башке каждому беспечному музейному зрителю, бутылка морской воды, сдобренной мышьяком, для любознательного обывателя, анализ мочи западной цивилизации, свидетельствующий о её неизлечимой болезни — суетливом сучестве.
Как Мандельштам хотел запретить писателям вступать в брак и иметь детей, ведь дети должны досказать за отцов главнейшее, в то время как отцы запроданы рябому чёрту на три поколения вперёд, так и живопись Жерико должна распугивать в Лувре всю густопсовую эстетическую сволочь — вон с планеты Земля, прочь с карты воображения, к бесу на кулички.
Но картину заключили в богатую раму, как Енисей в плотину, поэтому океан-кислота не разливается и не поглощает гадин.
И вот это — настоящее фиаско.
О ПОСЛЕДНЕМ СВИДАНИИ С ГРАНВИЛЕМ
Когда я буду умирать, мне захочется в последний раз взглянуть на гравюры Гранвиля, поразившие меня в детстве.
Речь идёт о его иллюстрациях к Гулливеру.
Их под рукой, конечно, не будет — помирать я буду без книжек.
Поэтому мне не останется ничего другого, как вызвать самого автора, чтобы он напомнил мне о своих виденьях.
Он появится быстро, как хорошая скорая помощь.
Я поприветствую его и заговорю по-русски, но он, разумеется, ничего не поймёт.
Когда же он обратится ко мне на французском, не пойму его я.
Тут он заметит мою растерянность и кивнёт на лиловую папку, торчащую у него подмышкой.
Там будут гравюры, как я сразу догадаюсь.
Он развяжет тесёмки на папке и скажет (теперь я почему-то его уразумею):
— Если тебе не противно смотреть, как другой смотрит, может быть, посмотрим вместе?
Его тихий, мурлыкающий голос меня успокоит:
— Вот, погляди: я изобразил путешествия капитана Лемюэля Гулливера, которые некоторые считают выдумкой Джонатана Свифта, но я всегда был уверен, что они достоверны. В школах нас учат во всём сомневаться и уметь забывать. Не знаю, хорошо это или плохо. Скажу лишь, что приключения Гулливера были для меня ничем иным, как отправной точкой для моих собственных улётов. Кроме того, всегда лучше путешествовать не в одиночку, а с надёжным другом.
Тут мы оба погрузимся в рассматривание его картинок.
Угбар.
Укбар.
Оокбар.
Оугбар.
Лилипутия.
Бробдингнег.
Бальнибарби.
Лапута.
Так в последние минуты жизни я забуду всё личное, всё мучительное — все ошибки и унижения, испытанные мной за долгие десятилетия, промелькнувшие незаметно.
— Видишь, — скажет Гранвиль, — не так важно смотреть, как пересматривать.
Я задумаюсь над этим высказыванием, но так и не охвачу его полностью: всё внимание уйдёт на гравюры.
А Гранвиль продолжит:
— Когда я жил в Париже, этой столице девятнадцатого столетия, считалось позором не знать о всех тех событиях, которые каждый день происходили, с утра до вечера. Планета была заполнена призрачными сообществами, такими, как Вавилон, Крым, Королевство Румыния, Бельгийское Конго, Соединённые Штаты Америки, Британская и Римская Империи, Европейский Союз, Аравия, СССР, Ассирия и кантон Ури. Кроме того, все считали, что непременно нужно умножать род человеческий и печатать в изобилии деньги.
Тут он прервётся, высморкается в кружевной платок и посмотрит на меня в изумлении, словно не веря тому, что говорит:
— Но сам я никогда не разделял подобных воззрений. Меня гораздо более интересовали восхитительные байки в полдюжине книг, которые мне довелось прочитать и проиллюстрировать. Впрочем, печатание книг, как и денег, тоже было одним из страшнейших недомоганий человечества, ибо позволяло до безумия множить досужие истории и никому не нужные аргументы по поводу вещей малосущественных. Только подумай: в Нидерландах они до сих пор едят коров!
Он хихикнет, в то время как я буду рассматривать гравюру, где бывший хирург Гулливер лежит, опутанный нитями лилипутов.
А Гранвиль продолжит:
— Только опубликованное считалось истинным. Изображение и печатное слово были более реальны, чем вещи и события. Быть — значило быть нарисованным или сфотографированным! А скажи, ты читал повесть под названием «Чёрная курица, или Подземные жители»?
Я кивну, а он вдруг воскликнет ни к селу, ни к городу:
— У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего!
И снова прервётся и посмотрит на меня выжидательно.
— Это цитата? — спрошу его я.
— Разумеется. Кроме цитат, уже вообще ничего не осталось. Весь человечий язык — цитата.
Я промолчу.
— Но мои картинки, как ты сам видишь, не таковы. Они представляют собой отнюдь не очередную цитату, а единственное великое открытие той смехотворной эпохи — улёт в пространство!
Он посмотрит на меня торжествующе и продолжит — немножко как попугай:
— В моё время было множество экипажей, коней, омнибусов, поездов, самолётов, поездок и полётов — но ни одного подлинного улёта! Послов, красоток, миллионщиков, актёров и президентов возили, словно калек или младенцев, в длинных ревущих автомобилях, окружённых мотоциклами и алчущими фотографами. Будто им отрезали ноги, как говаривала моя бабушка. Но я, как ты сам понимаешь, летал не на бензине и не на электричестве. Я просто взлетал, как гусь, улетал — и не возвращался! Раз — и нету! Как скворец или шмель: жжжи-жи-жи! Это я и называю: улёт!
И с улыбкой он добавит:
— Таково истинное перемещение в пространстве: с планеты ли на планету или из сеней в огород.
Тут среди гравюр, которые я буду перебирать, возникнет одна, не относящаяся к путешествиям Гулливера.
На ней будет изображён диковинный парад пьяных планет — картинка, заключающая в себе поистине океаническую нездешность.
— Сие я нарисовал, когда в последний раз улетел из окна, — Гранвиль произнесёт эту фразу с какой-то особой нежностью. — К тебе, понимаешь? И помни: невозмутимость мудрецов — это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца.
Тут я вспомню, что он покончил с собой, выбросившись из окошка.
Под этой гравюрой в папке уже ничего не будет — только самый последний чистый обрывок ватмана.
— А эта картинка нарисована чернилами, которые твои глаза ещё не могут увидеть, — скажет, улыбаясь, мой посетитель. — Милая вещица, не правда ли? Если она тебе нравится, можешь взять её в память о будущем друге.
Я поблагодарю его и положу подарок на исхудавшую грудь.
Тут Гранвиль даже не встанет и не попрощается, а просто улетит по своей привычке — незаметно, мгновенно, неизвестно куда.
А я останусь лежать и смотреть на пустой кусок бумаги, на котором скоро, совсем уже скоро возникнут линии, которые нарисует кто-то неизвестный, — материалами, ныне запрятанными глубоко в недрах планеты.
Улёт — это путешествие подальше, чем на бразильские курорты.
О ПРЕБЫВАНИИ ХУДОЖНИКА БРЕДЕНА В ЛЕСУ
Весенним утром 1849 года двадцатисемилетний Родольф Бреден, выйдя через ворота Сен-Жак, покинул Париж и пешком направился в Тулузу.
Дорога была дальняя — добрых 678 километров.
В одной руке художник держал узел с пожитками, а в другой — своего друга кролика Петио.
В ризе странника убогой,
С детской в сердце простотой,
Я пошёл путём-дорогой —
Вера был вожатый мой.
Почему этот молодой, подающий надежды гравёр, уже успевший выставиться в Салоне и завязать несколько важных знакомств, решил всё бросить и отправиться в незнаемое?
Потому что искусство — езда в незнаемое.
Дней моих ещё весною
Отчий дом покинул я;
Всё забыто было мною —
И семейство и друзья.
Бреден — родом из Бретани, выросший в захолустье, по характеру дичок, чуждый социальным амбициям и позёрству, непрактичный — смолоду влюбился в книги Фенимора Купера и считал, что так и надо жить — как Чингачгук.
Сначала ему казалось, будто все художники такие же, но насмешки его парижских приятелей, с которыми он пробовал беседовать о своих взглядах, убедили его в обратном, и он отдалился от товарищеских пирушек и необязательной болтовни.
Художники в массе своей — пошляки!
Сделав это открытие, Бреден искал спасение в гравюрах Дюрера и Рембрандта и мечтал сбежать от алчности и тупости буржуа.
Работа над гравюрами приносила ему блаженное забытьё, но в промежутках его охватывала пустота, отвратительный привкус нереальности.
Нужно было вдохнуть воздух полей и лесов, почувствовать себя заново родившимся, а в Париже он только и твердил слова, взявшиеся неизвестно откуда: «Если кораблём не управляет капитан, то это делают крысы».
Вот он и ушёл.
Днём светило солнце и лил дождь, грязь на дороге прилипала к подошвам, а ночью путник ложился на свой плащ и освежался дивным холодом звёзд.
Бреден исполнил, то, что хотел: на пути в Тулузу остановился в старом лесу Лимузен и провёл там два года.
С зарёй просыпался,
Живой умывался
Росой, наряжался
В листочек атласный
Лилеи прекрасной...
Пил из ручья, ел ягоды, соорудил себе хижину, сидел на корнях деревьев, наблюдая за улитками и дикими кабанами, разжигал костер, рисовал — одним словом, жил свободно, хотя и не без лишений и недомоганий.
Это лесное время — после ухода из столицы и до прибытия в Тулузу — покрыто туманом, как всё истинное, но гравюры и рисунки Бредена дают представление о его тогдашней жизни индейца.
Вот чудесный офорт под названием «Отшельник под деревьями»: крошечная, малозаметная фигурка беглеца, укрывшегося в тёмных и диких зарослях, почти слившегося с ними и созерцающего внутренним оком то ли своё одиночество, то ли далёкое и чуждое человеческое соообщество — а с неба льёт дождь, сгущаются сумерки, растёт тревога.
Как сказал Рене Шар: «Птица не поёт в кустах, состоящих из одних вопросов».
А вот другое изображение — «Отдых во время бегства в Египет»: святое семейство приютилось под могучим деревом; Мария с обнажившейся для кормления грудью; младенец, глядящий на мир мудро-непонимающими глазами; Иосиф в чалме, настороженно вглядывающийся в лесные дебри, а рядом нагруженный поклажей ослик — и опять заросли, скалы, травы, ветки, кусты.
Бежать, скрыться, спрятаться! — главный мотив Бредена.
Он был неисправимо богемным существом.
Остолопы полагают, что богема — это перманентная попойка в коммунальной квартире и свальный грех в перерывах.
Но Модильяни знал лучше: богема — ежеутренний, ступенька за ступенькой, подъём ведра с замёрзшей водой на остывший за ночь чердак.
Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
Я дышал звёзд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.
Богема — форма жизни: перемещение из апартаментов под тенты, из квартиры, оплаченной кредиткой, — в цыганскую кибитку.
Можно сказать и так: богема — бегство из бездарного комфорта в бреденовские офорты.
Там, грозно раздавшись, стоят воротá:
Мнишь: область теней пред тобою;
Пройди их — долина, долин красота,
Там осень играет с весною.
Приют сокровенный! желанный предел!
Туда бы от жизни ушёл, улетел.
Неотступно преследует Бредена тема бегства — в природное нутро, в дикое лоно, в чащу.
Иногда две нагие нимфы прячутся у пруда, иногда охотник теряется в лесу, иногда рыцарь находит убежище под утёсом, а бывает и так, что просвет в джунглях пуст и ждёт неведомого пришельца.
Я знаю край! Там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт, и гордо лавр стоит...
Там счастье, друг! Туда, туда
Мечта зовёт! Там сердцем я всегда!
Так и жил Бреден в лесу, изредка выходя в близлежащие селения, чтобы продавать за несколько су свои рисунки, хотя охотников на них было маловато.
Утро вечером сменялось;
Вечер утру уступал;
Неизвестное скрывалось;
Я искал — не обретал.
Ах! в безвестном океане
Очутился мой челнок;
Даль по-прежнему в тумане;
Брег невидим и далёк.
А разве Торо не был богемным существом?
А Уитмен?
Откопать, как крот, натуру в нутре культуры — вот богема.
Это была французская парадигма Эдгара Аллана По и Фенимора Купера: Гюстав Моро, Бреден, Редон, Жерар де Нерваль, Жюль Лафорг, Бодлер, Верлен, Рембо, Лотреамон, Жарри...
Но обычные люди боятся чужого вдохновения и следуют своему слепому пути.
Жизнь Бредена после леса была странна и невезуча: была у него любимая жена по имени Розали, было у них шестеро детей, была скрытая радость и явная нищета, было бегство в Канаду и крушение надежд на новую жизнь, было возвращение во Францию, прекрасные гравюры, убогое жильё, безденежье, дружеская помощь Гюго и Бодлера, надвигающаяся слепота, великий ученик Редон, полная заброшенность и неспособность к выживанию...
И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.
Задача всемирной богемы — выход из убожества буржуазного прогресса в дикий лес жизнетворчества — оказалась провалена.
Дни слепнущего Бредена были белёсые и бездонные, если их не поглощала полная тьма, от которой он цепенел.
Но, засыпая, он видел: из умопомрачительных недр леса выходят три фигурки — Иосиф, Мария, младенец, а сзади тащится ослик.
Это был хороший сон.
Но был и другой — страшный.
Как писал поэт-лауреат:
Я пробудился весь в поту:
мне голос был: «Не всё коту —
сказал он — масленица. Будет —
он заявил — Великий пост.
Ужо тебе прищемят хвост».
Такое каждого разбудит.
В кошмарном сновидении Бреден-Чингачгук прятался в бревенчатой хижине, стоявшей на опушке могучего леса.
И тут из чащи появлялись люди — громадные, как секвойи.
Бородатые мужчины с топорами в руках — дровосеки?
Встав перед крошечной хижиной, вовсе не замечая её, они переминались с ноги на ногу, снимали меховые шапки, а потом принимали церемониальные позы и клали ладони друг другу на голову.
А затем эти исполины произносили торжественную клятву: обещали себе и какому-то невидимому божеству, что вырубят весь лес до последнего дерева.
Бреден просыпался в липком поту.
А потом он уже не мог выносить этот сон — и умер.
Дыр бул щыл.
ОБ ОДНОЙ СКАЗКЕ ЛЕОНАРДО
Существует сказочка, придуманная Леонардо да Винчи, которую Бреден, сидя перед очагом, любил рассказывать детям.
Вот эта история.
Одинокий камень лежал на высокой горе — среди трав и цветов, под голубым небом.
Жуки по нему бегали, кузнечики стрекотали.
Хорошо ему было!
Но как-то со своего места заметил камень непривычное мельтешение у подножия горы.
Там сновали люди, передвигались телеги, на них лежали кучи обтёсанных камней.
«Должно быть, дорогу строят», — догадался камень.
И так ему возжелалось туда, в это общество, что он взял и скатился с горы.
Бултых-бух!
Но стоило камню приземлиться, как колесо большущей телеги проехалось по нему, чей-то сапог пнул его в бок, а другие камни лежали да помалкивали.
«Странно, неприветливо...» — решил камень.
И снова его толкнули, и ещё раз...
А потом чьи-то руки подняли его, куда-то понесли — и замостили им дорогу.
Во как!
Тут нашему камню страшно захотелось назад — на свою любимую гору, к травинкам и жукам, под белые облака!
Но взобраться на гору было уже невозможно.
О КОТЕ В САПОГАХ КАЦУСИКО ХОКУСАЯ
В том самом 1849 году, когда юный Бреден уединился в лесу Лимузен, в далёкой Японии умер мастер гравюры, известный под именем Хокусай.
Было ему 89 лет.
Хокусай в своей долгой и многотрудной жизни использовал тридцать три псевдонима.
Псевдонимы были в ходу у японских художников той поры, но Хокусай ими особенно увлекался.
Как сказал Ницше: «Дать своему аффекту имя — значит уже сделать шаг за пределы аффекта. Глубочайшаялюбовь, например, не умеет назвать себя и, вероятно, задаётся вопросом: «не есть ли я ненависть?».
Великий Хокусай за свою жизнь перебывал Судзуки Харунобу, Кацугавой Сюнсё, Огато Корином, Таварае Сотацу, Тосюсаем Сяраку, Хисикавой Моронобу, Китагавой Утамаро, Утагавой Хиросигэ, Кэйсаем Эйсэном и многими другими.
А когда он создавал «Сто видов горы Фудзи», то всякий раз делался тем или иным ликом этой горы.
Однако в зимнем промежутке между восемнадцатым и девятнадцатым веком он оказался без псевдонима, без лика, без аффекта.
Симаймасита, удзаттэ!
У него в голове не возникало ни одного образа — зимние дни казались слишком пустыми и белыми.
Дело было плохо — снег заметал сады и пашни, хижины и дворцы.
Ветер выл за хрупкими стенами.
Но у Хокусая был пушистый, ласковый кот.
Звали его Ка-сюдзин.
Причём это было не обычное домашнее животное, но самый настоящий Кот в сапогах — ангел-хранитель, помощник и вдохновитель художника.
Ка-сюдзин делал за Хокусая все его шедевры, хотя это никому не было известно.
Киккакэ!
Но в ту зиму кот не пожелал производить никаких произведений, а просто полёживал возле жаровни с раскалёнными углями и дремал.
Тикусёмо!
Хокусай был расстроен и недоумевал: что дальше?
Тут ничего нельзя было поделать — на Кота в сапогах ведь некому пожаловаться.
Первый и единственный раз в жизни Кацусика Хокусай остался без дела — и ему стало страшно, как в младенческом сне.
Ахо!
Тэмээ!
Он прилёг рядом с котом на край циновки и попытался заснуть.
Кусотарэ!
Рэйдзи!
Утром мастер восстал из забытья и удивился: ему полегчало.
На улице сыпала белая крупа.
Ветки вишни согнулись под тяжестью снежинок.
Он вышел из дома — и сразу наткнулся на продавца рисовых шариков.
Тот его узнал и окликнул по имени.
Хокусай вздрогнул: собственное его имя показалось ему чужим и непонятным — просто бессмысленным звуком.
Бака бакаяро!
Он прыснул себе в кулак, а потом громко расхохотался.
Но тут же призадумался: «Кажется, мне годы в прок не идут — другие с каждым днём всё почтеннее, а я наоборот — попал в обратное течение времени».
Хорошо ему стало без всякой работы.
Спасибо за это Ка-сюдзину — прогульщику.
И подумалось ещё: «Сколько бы я ни трудился, если б даже носил на спине лошадей, если б крутил мельничьи жернова, всё равно никогда не стану тружеником. Ахо! Труд мой, в чём бы он ни выражался, — озорство, шутка, случайность. Но такова уж моя судьба, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками».
И снова подумал: «Настоящий труд — это пробелы в рисунке, то, на чём держится узор: воздух, снег, просветы, пустые места, недоработки».
Яриман!
Кэцу!
Обдумав всё это, Хокусай отправился домой — кормить непослушного Ка-сюдзина, который отказался быть Котом в сапогах.
Но Кацусика на него больше не обижался.
Дэмбу!
ОБ ОДНОМ ПРОИСШЕСТВИИ С МАНЕ
Лавочники, фарисеи, барышники, император Луи-Наполеон, борзописцы и мясники отказывались верить Мане; кто-то крикнул: «Позор!», другой — «Обманщик!», ещё один — «Какой бред!»
Речь идёт о толпе, колыхавшейся в парижском Салоне перед свеженаписанным «Завтраком на траве».
Некий месье стоял с девушкой — из той поджарой, тёмной породы, которую мы видим на древнеегипетских фресках, где изображены танцовщицы.
Достоверно известно, что эта никому не ведомая юница вдруг вырвалась, как леопард из клетки, сорвала с головы своего спутника чёрный шёлковый цилиндр и нахлобучила себе на шляпку.
Её кавалер попытался ей помешать, но она крикнула:
— Не сметь! Мне так нравится!
Видя блестящие, помертвевшие глаза этой хищницы, месье остановился.
Другие тоже замерли, хотя никто не пал перед картиной ниц и не признал сверхъестественную силу Эдуарда Мане.
Девушка постояла минуту с цилиндром на башке, а потом сдёрнула его, бросила на пол и раздавила каблуком.
— Сумасшедшая!
— Истеричка!
Успех Мане всегда был скандален, нестоек и для него самого неудовлетворителен.
Кое-кто с пылкостью юности признал его первейшим из новых художников, но публика отворачивалась и морщилась.
Мане жаловался Бодлеру на глумление журнальной критики.
Бодлер отвечал: «Вы думаете, что вы первый, с кем так обращаются? Разве вы гениальнее Шатобриана или Вагнера? Над ними тоже потешались, но они из-за этого не плакали».
Мане поверил Бодлеру на слово: «необходимо быть современным — любой ценой».
Но что это значило?
Болтали, что он слишком быстро пишет свои картины и не умеет их заканчивать, что он больше дэнди, чем художник, что у него всегда наготове 31 голая прислужница для удовлетворения его ненасытного взгляда.
И почти никто не заметил, что Мане рисует только мёртвых.
Это и значило — быть современным.
Вот Олимпия: мёртвое тело всех бессмертных красавиц.
Вот поверженный тореадор: новобрачный Смерти после первого совокупления.
Вот «Расстрел императора Максимилиана»: мёртвый ещё стоит, но уже мёртв.
Вот «Завтрак на траве»: обнажённая Викторина Мёран мертвеет под взглядом похабных зрителей.
Как сказал поэт: «Кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти».
А человек по имени Эдуард Мане только смерть во всех живых телах и видел.
Он скрывал эту особенность, но уловки не помогали: смерть проступала в лицах, позах, одеждах его моделей.
Причём это не следы старения и распада, а дуновение смерти, её ветерок.
Но разве все мы не умираем ежечасно?
Это и увидел Мане — художник, стремящийся, как и все художники, к прижизненному и посмертному бессмертию.
«Смерть (или память о смерти), — говорит Борхес, — наполняет людей жизненными силами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно; каждое совершаемое деяние может оказаться последним; нет лица, чьи следы не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Всё у смертных имеет ценность — невозвратимую и роковую. У бессмертных же, напротив, всякий поступок, лицо или мысль — лишь отголосок других, которые уже случались в закоулках прошлого, или точное предвестие тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего, что бы не казалось отражением, блуждающим меж никогда не устающих зеркал. Ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Ни печаль, ни неожиданная радость узнавания не властны над бессмертными».
Художники томятся этим хворым бессмертием.
Отсюда их меланхолия.
Мане, по его собственному признанию, никогда не расставался с вечными образами Веласкеса — даже глядя на живое лицо Викторины Мёран, когда она позировала ему для «Уличной певицы», «Олимпии», «Завтрака на траве».
Он обходил музеи, исследовал манеры и стили, всюду встречая те же лица с отблеском небывшей жизни.
С первых же шагов в искусстве он повёл себя так, будто болезнь бессмертия страшно заразительна и прилипчива — надо ускользать, скрываться от неё.
Отсюда его дэндизм, его скандальное очарование.
Но, увы, хлопотал он без всякого толка: смерть всегда была сбоку, как часы в жилетном кармашке.
Он думал, что бессмертный Веласкес — лучший доктор, и умолял его о скорейшем излечении.
Но, как сказал Лотреамон: «Бессмертие — худшая смерть».
Если б дать Мане волю, он бы метался на омнибусе по всему Парижу, чтоб избежать встречи с бессмертием-смертью.
Однако смерть всегда была тут как тут — на холсте, в глазах модели, в выпитой рюмке на столике кафе.
Смерть была загробным существованием при жизни — бессмертием знаменитого художника.
Мане сражался с бессмертием, но в конце концов оно его доконало.
Он умирал от зловещей болезни — истощения сил, онемения, сифилиса, хандры.
Незадолго до смерти Мане отрезали ногу — началась гангрена.
Неожиданно боль показалась ему непривычно живой:
— Неужели я снова смертен, снова похож на живых людей? Я не бессмертный Мане из Лувра!
Не веря своим глазам, счастливый, он молча созерцал чудо: живую пустоту на месте мёртвой ноги.
«Вот бы написать эту новую жизнь», — мелькнуло у него в голове.
Но сил на это уже не было.
О РАЗГОВОРЕ, СОСТОЯВШЕМСЯ МЕЖДУ ВАН ГОГОМ И ГОГЕНОМ
Во второй половине девятнадцатого века художникам захотелось сбежать из мастерской на природу.
Вошло в употребление слово «пленэр».
На пленэр устремились импрессионисты, а за ними — Сезанн, Ван Гог, Гоген.
Ван Гог норовил устроиться на самом солнцепёке, так что солнце било ему прямо в лоб или затылок.
Стоя на жаре перед мольбертом, он едва не терял сознание.
Гоген сказал:
— Тебя сейчас хватит солнечный удар!
— Наоборот, — ответил Винсент. — От солнца яснеет в голове. Я лучше вижу.
— Возможно, так проясняется зрение перед смертью?
— Ты заблуждаешься. Неужели тебе кажется, что возможен возврат к небытию?
Гоген посмотрел непонимающе.
— Неужели ты считаешь, что косцы в этом поле могут уничтожить хотя бы один стебель, хотя бы одну травинку? — улыбнулся Ван Гог.
— Они это и делают, — сказал Гоген, взглянув на косцов.
Тут он нагнулся, сорвал зелёный стебелёк и показал Ван Гогу:
— Вот, я убил эту травинку.
Но Винсент покачал головой:
— Опять ты за своё... Неужели ты думаешь, что Адам в раю мог разрушить какой-нибудь цветок, созданный Богом?
— Мы не в раю, — раздражённо сказал Гоген. — Здесь, под солнцем, всё смертно.
Ван Гог уставился на него словно на умалишённого:
— А как же искусство? Оно — лучшее доказательство существования рая.
Гоген поморщился, как от пощёчины.
— Ты думаешь, что изображаешь рай? — жёстко спросил он, кивнув на начатый холст Ван Гога.
Винсент посмотрел на него с сожалением.
— Я пользуюсь красками, чтобы оставаться в раю. Но могу обойтись и без них. Есть другие способы.
— Какие, например? — с неподдельным интересом осведомился Гоген.
— Например, слово, ведь мы же с тобой сейчас разговариваем, не так ли?
— Да, — сказал Гоген, — но всё-таки мы живописцы.
— Не стоит преувеличивать важность этого ремесла.
Неожиданно разгорячившись, Гоген произнёс:
— Ты превосходный художник, Ван Гог, но то, что ты изображаешь, — потерянный рай!
Тогда Винсент сказал:
— Это ты бросил рай, Поль Гоген, и не знаешь обратной дороги!
Резким движением Гоген разорвал сорванную им травинку и швырнул обе половинки на землю.
Они расстались, а на следующий день Гоген получил от друга отрезанное ухо.
Когда он увидел окровавленный ошмёток, в глазах его потемнело, как от солнечного удара.
Больше они никогда не виделись.
Но Гоген не забыл этот разговор и отправился на Таити, чтобы вновь обрести рай.
Как мусульманин во имя Аллаха ездит к чёрному камню Каабы, так и автор «Ноа Ноа» отправился в океанское паломничество в память о Винсенте, способном найти рай и ад повсюду.
Под горячим полинезийским солнцем Гоген устраивался, как Ван Гог, — на самом пекле, и ему тут же начинало казаться, что все предметы внезапно уходят в тень, превращаясь в пятна — красные, коричневые, фиолетовые, зелёные...
Он послушно переносил эти пятна на полотно.
Так возникли «Таитянские женщины на побережье», «Дух мёртвых не дремлет», «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?», «Женщина, держащая плод», «Забава злого духа», «Её звали Вайраумати», «Больше никогда»...
Посему Гоген считается основоположником ташизма в живописи.
О ЛАРИОНОВЕ
Я никогда не был на могиле Михаила Фёдоровича Ларионова, а то бы целый день лежал на ней и плевал на камень — ради удачи и счастья.
А почему?
Он учился у Ван Гога, Гогена, Моне, Пикассо, Матисса, у народных художников и бог знает у кого ещё — но всегда оставался дезертиром в искусстве, в жизни.
Существует такой рассказ о нём.
Во время Первой мировой войны два солдата резали свинью.
Зверь визжал так, что невозможно вынести.
Один солдат сидел на свинье, а рука другого, вооружённая ножом, вспарывала свинье брюхо.
Белый жир необъятной толщины распластывался на обе стороны.
Визг был такой, что Ларионов едва уши не заткнул.
— Вы бы её, братцы, чем-нибудь оглушили, — сказал он. — Чего ж так кромсать.
— Нельзя, ваше благородие, — отвечал солдат, сидящий на свинье. — Никак нельзя глушить. Не тот вкус будет.
Тут он повернулся и увидел, что у Ларионова всё лицо раскрашено какими-то звериными фигурками, словно у дикаря.
— Ой! — сказал солдат и от неожиданности вскочил со свиньи, а она вырвалась и ещё пуще заголосила.
Ларионов скривился.
— Да уж сидите, сидите да доканчивайте поскорей, — сказал он. — А то она совсем от боли обезумела.
— Быстро тоже нехорошо, — заметил солдат с ножом. — Крайняя быстрота сало портит.
С сожалением посмотрев на Ларионова, первый солдат проворчал:
— Ваше благородие, война! Люди стонут. А вы свинью жалеете.
Сделав финальный жест ножом, второй солдат добавил:
— Нервы у их благородия. Вот они и лицо себе закамуфлировали.
Тут оба солдата довольно бесцеремонно уставились на Михаила Фёдоровича, и ему почему-то стало стыдно.
Первый солдат сказал:
— В Августовских лесах раздробило мне кость вот в этой руке. Сразу на стол в хирургической. Полстакана вина. Режут. А я колбасу кушаю.
— И не больно? — поинтересовался Ларионов.
— Как не больно. Исключительно больно... Съел колбасу. «Дайте, — говорю, — сыру». Только съел сыр, хирург говорит: «Готово, зашиваем». Пожалуйста, говорю...
Возникла пауза.
— Вот вам бы, ваше благородие, этого не выдержать, — прибавил солдат с ножом.
Ларионов согласно кивнул.
— Нервы слабые у их благородия, — подтвердил первый солдат.
Ларионов некоторое время стоял, потупившись, глядя на всё ещё вздрагивавшую свинью.
Потом ушёл.
Звериные фигурки с лица он так и не стёр.
Теперь понятно, за что я люблю Михаила Фёдоровича Ларионова?
Кстати, эту историю о нём и о свинье рассказал Михаил Михайлович Зощенко.
О МАТИССЕ И АБбАТИССЕ
Существует мнение, что Анри Матисс — радостный художник.
Говорят, его темы — роскошь, нега и покой.
Считается, что главное там — радость жизни.
А я не верю, моя дорогая читательница.
По-моему, Матисс — странный, отталкивающий мастер.
Он, согласно сплетням современников, подумывал уйти в монастырь.
Он не любил всё парижачье, суетное, празднично-модное.
Он не был богемным характером.
Никогда не просыпался с похмелья.
Ни за что не опаздывал на свидания.
Любил физкультуру.
Не проводил ночи в кафе, разглагольствуя с приятелями.
Жил по часам и минутам, как монах.
Но он обожал одалисок!
Ему хотелось остаться с красавицей наедине в мастерской-келье и исповедоваться на холсте.
В чём же он исповедовался?
В отвращении к миру.
Это отвращение ощутимо в каждой его картине, будь то пейзаж с фигурами, натюрморт или портрет.
Даже небо Ниццы и воздух Средиземноморья источают у Матисса гниющий сладковатый душок, как попорченные плоды.
Но наибольшее отвращенье сквозит в портретах — любимом жанре Матисса.
У этого художника было радикальное отношение к человеческому лицу.
Он его рассекал.
Он от лица все лишнее отсекал.
Он в лице маску просекал.
Матисс, рисуя, сводил человеческое лицо к двум простейшим формулам.
1. Линии-нос + линии-рот + линии-точки-глаза + контур лица = Солнце-маска.
2. Линии-точки-глаза + линии-рот + линии-нос + контур лица = Луна-маска.
Именно так шло у Матисса обратное движение от репрезентативного портретирования к иконному кодированию.
Конечно, ход от лица к маске характерен и для других модернистов.
Посмотрите на «Портрет Гертруды Стайн» Пикассо.
Посмотрите на портретную живопись Гогена и Сезанна.
Посмотрите на лики и личины Одилона Редона.
Посмотрите на персонажей Тулуз-Лотрека.
Разумеется, у Матисса есть влияние африканских масок.
Есть влияние античных масок.
Есть влияние римских мозаик IV и V веков.
Есть влияние византийских икон.
Но у него все эти влияния выразились радикально-отчуждённо.
Увидев «Авиньонских девиц» в мастерской Пикассо, критик Феликс Фенеон сказал: «Это карикатура».
Увидев матиссовскую «Даму в шляпе» (портрет жены Матисса Амели), Фенеон заметил: «Это отвращение от любви».
Можно назвать это отрицательной аффирмацией.
Следуя логике маски, Матисс увидел на лице модели чёрные дыры вместо глаз, щель — вместо губ.
Он всё человечье лицо понял как таинственную, неразрешимую гримасу.
Но что эта гримаса скрывает?
Пустоту?
Тьму?
Отвращение!
Способность лица стать маской у Матисса пугающа.
И тела у него тоже становятся лярвами и личинами.
Фигура-маска одалиски принимает позу роскоши, неги и покоя, но это — поза-пустышка, поза-декорация.
Своего апогея декоративность достигает в последний период Матисса, когда он занимался живописью ножницами.
Тогда он сказал: «Довольно живописи, теперь — орнамент».
Искусство живописи умирало, становясь креслом для усталого бизнесмена, штукатуркой, спектаклем, дизайном, товаром.
Это и понял Матисс.
Он уже очень был стар и болен.
Он тогда жил, как монах перед смертью, прощаясь с миром-декорацией.
За ним ухаживала монахиня-доминиканка — Мари-Анж.
Потом, в Вансе, за ним ухаживала другая монахиня, Жак-Мари, бывшая до пострига его голой моделью.
В 1947 году Матисс решил декорировать церковную капеллу в женском монастыре доминиканского ордена.
Это так называемая капелла Чёток или капелла Розария.
Она похожа на аквариум, где в солнечном свете плавают рыбки-фигуры среди цветных водорослей-витражей.
Работа над капеллой длилась четыре года, и Матисс назвал её своим лучшим произведением.
Кстати, именно над этой капеллой смеялся Пикассо и писал Матиссу: «Почему капелла? Почему не бордель?»
На что Матисс ответил: «Потому что ни один бордель не заказывал мне росписей».
Достоинства любого художника зависят от определённых отклонений ума и глаза, более или менее устойчивых, которые в своей совокупности выявляют (будь то в портрете, пейзаже или абстракции) странности, аффекты и деформации данной личности, её трансформативные способности.
Отклонения Матисса вели его через монастырь в бордель — и в море морей.
Я думаю, Матисс хотел бы жить в океаническом борделе-монастыре и рисовать там одалисок-монашек-рыбок, как он рисовал в капелле Чёток Богоматерь, младенца Христа и крестный путь.
Бордель страшен:
Разве рад я сегодняшней встрече?
Что ты ликом бела, словно плат?
Что в твои обнажённые плечи
Бьёт огромный холодный закат?
Только губы с запёкшейся кровью
На иконе твоей золотой
(Разве это мы звали любовью?)
Преломились безумной чертой...
В этом морском монастыре-борделе была бы сутенёршааббатисса-русалка, перед которой Матисс исповедовался бы в своём тайном отвращении к миру людей.
Это отвращение — я настаиваю — бросается в глаза и в раннем творчестве Матисса, где есть глубина и пространство, а не одна плоская декоративность.
Глубина матиссовского пространства чрезмерна, как кишка туннеля, и играет странными деформациями, складками, узорами, расцветками.
В жёлтом, зимнем, огромном закате
Утонула (так пышно!) кровать...
Ещё тесно дышать от объятий,
Но ты свищешь опять и опять...
Он не весел — твой свист замогильный...
Чу! опять — бормотание шпор...
Словно змей, тяжкий, сытый и пыльный,
Шлейф твой с кресел ползёт на ковёр...
Голые девы замогильны у Матисса, как утопленницы...
Заходящее солнце сползает с неба на персидский ковёр...
А лунные его лица остывают в зеленоватой ночи, преобразуются в посмертные маски.
Таков Матисс — маг, превращающий лица в личины, а тела — в заколдованных идолов.
И ему самому от этого волшебства страшновато, потому он и просится в монастырь или, может, в бордель.
В этом то ли монастыре, то ли борделе он будет смотреть на голые тела и раскрашенные лица девушек, а потом молить аббатиссу, чтобы она показала ему все свои чёрные дыры.
Она ему подчинится.
И вот уже всюду, всюду одни дырки и щели, а не рот, нос, глаза...
Бородатая луна со сломанным зубом, тусклое солнце с пылающими ушами — вот как выглядят девы Матисса.
А художник умоляет любимую одалиску:
Ты смела! Так ещё будь бесстрашней!
Я — не муж, не жених твой, не друг!
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук!
Вот какие страсти, вот какие пустоты дышат у Матисса, вот каково его море морей!
Он как тот немец-шарманщик, такой неудачник, такой шаромыжник, стоит на рассвете под окнами борделя и скрипит по-немецки: — Ich bin arm... Ich bin arm...
— Спите, мои милые...
— Наверное, славно ночью поработали?..
А в Армавире, как сообщает поэт, на городском гербе написано: СОБАКА ЛАЕТ, ВЕТЕР НОСИТ.
Старый Анри Матисс, уж он-то понимал: мы не должны, не можем позволить себе быть нищими перед божеством — даже отрицаемым, даже исчезнувшим.
О ПОЕЗДКЕ В ОСАКУ
Как-то мы с Варварой пролетели на поезде-пуле расстояние от Токио до Осаки, куда нас никто не приглашал.
Сыпал дождь.
Стояла японская ночь.
Город выглядел как некрополь — с приземистыми склепами, освещёнными слабыми свечами.
Мы шли по перепутанным улочкам неизвестно куда.
Над нами висели какие-то переплетённые провода, с которых текло на голову.
Хотелось в туалет.
На дороге высились странные цилиндрические котлы из бетона — из них струился то ли дым, то ли пар.
Серые облачка извивались в воздухе, как призраки на гравюрах Хокусая.
Вдруг из подворотни возникла фигура в белых носочках:
— YOU ARE WELCOME!
Мы смутились и последовали за ней во двор.
Там всё заросло бамбуком, и мы вымокли, продираясь сквозь него.
Фигура, кланяясь, ввела нас в низенькое строение.
Тут был небольшой бар и сцена.
Зрителей — человек десять.
Принесли пиво.
Представление уже началось.
Три гейши в нарядных кимоно медленно танцевали и раздевались.
Под шёлком у них ничего не было, кроме белых тел с чёрными сосками, чёрными пупками и чёрными лобками.
Рты у них тоже были чёрные.
На самом краю сцены стоял небольшой круглый сосуд — аквариум.
Одна из гейш раздвинула ноги, раскорячилась — и оп! — из её вульвы выпрыгнули три золотые рыбки.
Они с плеском упали в аквариум.
Лица у танцовщиц были плоские, овальные; носы, глаза, губы обозначены скупо, как швы.
Золотые рыбки плавали в сосуде, слегка дезориентированные.
Тут официант подошёл к сцене и вручил гейшам мороженое — эскимо на палочках.
Они поклонились и ещё поприседали.
А потом синхронно вставили эскимо в свои промежности.
Раз-два-три! — они вытащили наружу обглоданные палочки.
Их вульвы проглотили мороженое за секундочку — какие же они были горячие!
Зрители хлопали.
А мы вдруг почувствовали отвращение.
Варвара запрыгнула на сцену и, расстегнув штаны, показала всем волосатое влагалище.
Она раскорячилась и вывернула половые губы, но никакие рыбки оттуда не выпрыгнули.
А я, сидя на стуле, схватил себя за мошонку и криками изображал возбуждение.
Прибежали вышибалы и, кланяясь, стащили Варвару со сцены.
Нам пришлось заплатить за шоу немалые деньги.
Выйдя из бара, мы уставились на рассвет — сконфуженные, как те рыбки в аквариуме.
Солнце вставало над Осакой — восковое, мёртвое.
Как сказал однажды семидесятилетний Дега: «Высоко ставить надо не то, что ты уже сделал, но то, что сможешь сделать однажды: иначе просто не стоит делать».
ОБ ОБРАБОТЧИКЕ РЕАЛЬНОСТИ ПАБЛО ПИКАССО
Художник — что это?
Обработчик реальности.
Он обрабатывает её, обрабатывает, обрабатывает.
В воображении своём и на листе обрабатывает.
Впрочем, как говорил Пазолини, иногда и не нужно никакого листа — обработка произошла в воображении, и этого довольно.
А Бергман заметил: тот, кто способен видеть фильмы на внутренней стороне своих век, счастливее того, кто производит фильмы.
Но художники не унимаются — и всё обрабатывают, обрабатывают, обрабатывают реальность — на холстах, в бронзе, на экранах.
Обработка проходит в двух основных направлениях.
1.Выявление чудовищности реальности.
Таковы Гойя, Жерико, Домье, Бэкон в своей брутальности.
2. Выявление реальности блаженства.
Таков Элшемиус, Боннар, Мондриан в поисках совершенства.
Обработка может идти и в обоих направлениях сразу: в направлении чудовищности и в направлении чуда.
Таковы Леонардо, Ван Эйк, Энгр, Делакруа, Гюстав Моро, Одилон Редон, Магритт.
Был ещё и такой художник: Пабло Пикассо.
Он неустанно обрабатывал реальность — тоже с обеих сторон.
Он, как сказал Филип Гастон, заново населил Землю — чудесными чудищами.
Он в своей беспрестанной обработке реальности был деятелен, как дятел.
Однажды он заявил: «Ребёнком я рисовал как академик, а, повзрослев, долго разучивался, чтоб рисовать как ребёнок».
Это кокетливое, но важное признание.
Разучился ли Пикассо когда-нибудь?
Не думаю.
Боннар, например, куда более дерзкий художник, чем Пикассо.
Пикассо, кстати, не любил Боннара и злобно о нём отзывался.
Но Боннар смелее Пикассо!
Однажды, в 1930-е годы, Пикассо сказал: «Сходите в Лувр, а потом посетите мою мастерскую. Это одно и то же».
Данное высказывание доказывает, что Пикассо разучивался с большим трудом.
Лувр — не детское рисование, а школа, школа и школа.
А в лучших случаях — разрыв со школами.
А ещё Лувр — мавзолей.
Впрочем, сама идея разучиваться — превосходна.
Всем нам нужно многому разучиться.
У Пикассо процесс разучёбы виден в каждой работе — до самой смерти.
Как сказал Рене Шар: «Только живые мертвецы думают, что в мире можно бросить якорь».
Однажды Пикассо заметил: «Попробуйте нарисовать идеальный круг. Именно в вашем несовпадении с совершенной окружностью кроется ваша творческая оригинальность».
Такая вот игра — лучшее в искусстве Пикассо.
Многие из нас играют в бильярд или в шашки, чересчур многие играют в футбол, а некоторые дружат с рулеткой или игральной колодой и даже во сне бредят семёрками, дамами и тузами.
Но случалось ли вам играть не с конкретным соперником, каким-нибудь Иваном Пантелеймоновичем, а с лицом собирательным — ну хотя бы с мировым искусством?
Пикассо играл, и занятие это было ему по нраву.
Он считал игру с мировым искусством более увлекательной, чем кегли или преферанс.
Но выбор ходов у него был ограничен.
Игра с мировым искусством весьма рискованна.
Подчас она требует стереть мокрой губкой с чёрного неба все известные созвездия, как со школьной доски — какую-нибудь алгебраическую задачку.
Пикассо так играть не смел.
Это было чуждо ему или, может, не по силам: свести на нет одним ходом все положения противника.
Малевич это сумел.
И Дюшан.
И Мондриан тоже.
При этом игра, разумеется, должна происходить на началах взаимного уважения — не в этом ли её прелесть?
Противник — мировое искусство — ощущается вами как равный.
Он — друг, и вы особо увлечены игрой именно из-за дружества.
А если противник — враг, то игра становится злой.
Пикассо временами знавал эти чувства в своей игре, но, кажется, редко.
Он играл с Матиссом и Браком.
Он играл с Лувром, спутав его с мировым искусством.
Мировое искусство побольше Лувра.
Это понимал Клее.
И Мишо.
И Филонов тоже.
Иногда кажется, что Пикассо хотел пригласить к себе на пир всех богов Олимпа, но пришёл только Гефест.
Иногда чудится, что Пикассо хотел кончить зрителю прямо в сердце, но сперма приземлилась на стену музея.
Любая его вещь забавна и приятна глазу.
Великий Гойя жаловался в письме Сапатеру, что давление патронов и бесконечные заказы лишают его удовольствия от искусства.
В 1792 году он заболел: сифилис, согласно одному эксперту, сильнейшее мозговое расстройство, согласно другому, отравление свинцовыми белилами, согласно третьему.
В любом случае Гойе пришлось отказаться от всех заказных работ из-за болезни.
И вот тогда-то он и создал Los Caprichos — свою первую серию о человеческом неразумии.
Эта странная графика оказалась чудо как свободна — по ту сторону всех патронов и заказов.
За Капричос, на той же волне, последовали ещё более дикие, безжалостные, наглые, сокрушительные листы.
А вот Пикассо всегда как будто работал на заказчика, даже если заказчика рядом не было.
Мандельштам описал пикассовский характер так: «Исай Бенедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных как гренки в бульоне, и ходил, сообразно профессии, к двум скупщикам переводного барахла».
Adieu, Picasso!
О ВИЗИТЕ В МАЛАГУ
Примерно в 1998 году мы путешествовали по Испании и оказались в городе Малаге.
Там, как известно, Пикассо родился.
Сойдя с поезда, мы пили кофе в привокзальном кафе и познакомились с неким доном Рикардо де Кастильо.
Он представился нам как архивист Пикассо.
После двух или трёх рюмок хереса дон Рикардо пригласил нас к себе домой.
Он жил на чистой улочке с ветвистыми платанами.
Перед домом играла девочка, похожая на модель Бальтюса.
Дон Рикардо сказал, что это его дочь, и настоял, чтобы она подала нам ручку.
Мы пожали эту милую ручку.
В доме висели большие обрамлённые фотографии Пикассо, сделанные на юге Франции — там дон Рикардо познакомился с великим мэтром и даже, по его словам, отобедал с ним.
Пикассо на всех снимках улыбался и немного смахивал на Хрущёва.
Был здесь и рисунок боя быков с подписью Пикассо.
После кофе с булочками и монолога о Пикассо дон Рикардо повёл нас посмотреть на дом, где родился автор «Трёх музыкантов» и «Падения Икара».
Свежепокрашенный дом стоял на маленькой площади под названием плаза де ла Мерсед.
Дон Рикардо указал пальцем на окно:
— Вот там родился Пикассо.
Посреди площади высился обелиск в честь расстрелянных революционеров.
Дон Рикардо сказал:
— Посмотрите на этот памятник: Пикассо всосал его с молоком матери.
Мы немножко поглазели на дом и обелиск, поболтали с доном Рикардо и отправились искать ночлег.
На следующее утро мы вернулись на плазу де ла Мерсед без всяких провожатых, чтобы нарисовать на доме Пикассо гигантское влагалище, из которого крошка Пабло выглядывает на свет.
Для этого у нас были припасены два баллончика с красной и чёрной краской.
На площади стояли туристы — мы решили дождаться их ухода.
Сидя на скамейке, мы заметили, что за нами наблюдает какой-то человек — с другой скамейки.
Не стоит и говорить, что нам это не понравилось.
Мы уже хотели сбежать, но тут этот тип подошёл и сказал:
— Пришли поглядеть на дом Пикассо?
— Что? — удивились мы. — Пикассо? А кто это?
Он как ни в чём не бывало продолжил:
— Вас обманули. Пикассо жил на этой площади, но только в другом доме — под номером пятнадцать.
И он указал пальцем на ухоженный особняк.
Тут мы изрядно смутились.
В самом деле, на каком же доме рисовать промежность, из которой вылезает гений Пабло?
Чёрт его знает!
Так и уехали из Малаги, ничего не нарисовав.
Энгр говаривал, что карандаш должен двигаться по бумаге с лёгкостью мухи, бегающей по стеклу, — а иначе нет искусства.
А Роберт Смитсон добавил: не муха по стеклу, а бульдозер по свалке.
О СЛАВЕ
«Человек стоит ровно столько, сколько стоит то, о чём он хлопочет», — говаривал Юлий Цезарь.
Художники обычно хлопочут о славе: Пракситель, Микеланджело, Пуссен, Мане, Моне, Роден, Пикассо...
Как сказал Сальвадор Дали: «В шесть лет я хотел стать поваром, в семь — Наполеоном, а потом мои притязания постоянно росли».
Но что такое слава, и как к ней идти?
Пессоа сказал: самый прямой ход к славе открыл Герострат!
Это верно.
Но ведь сейчас и вовсе не слава, а какая-то дрянь: Ким Кардашьян.
Сейчас вместо славы журналисты!
Сюрреалист Дали, самый славный из художников после кубиста Пикассо, заявил: «Люблю журналистов! Они, как и я, способствуют кретинизации человечества. И прекрасно с этим справляются».
Тьфу!
Поэтому мы с Варварой предпочитаем бесславие и анонимность.
Ш-ш-ш-ш...
Мы прибываем в чужую страну, в незнакомый город и слоняемся там по улицам: ищем музеи, галереи, кунстхалле.
А потом появляемся на вернисажах и показываем публике зад — совершенно анонимно.
Пикассо сказал: «Дайте мне туфли, и я нарисую человека».
А я говорю: «Дайте мне музей, и я покажу ягодицы».
Причём мой пердак довольно больной, геморроидальный, тощий и не без прыщей.
Но, как сказал Ницше: «Чтобы болеть, нужно быть здоровым».
Глядите же на мою сраку, любители музеев: вот вам нынешние здоровье и слава!
Браво!
Бис!
Но, как сказал Жарри: «Аплодисменты? Какой позор!»
Так что я требую: никаких аплодисментов!
Итак, мы показываем наши безымянные булки, веселимся, как дети, и не получаем за это ни хлопка, ни гроша — о, как далеко это от сегодняшней продажной «славы»!
И, следует подчеркнуть, мы не ограничиваемся гузном, ибо, как заметил тот же Пикассо, всякая (даже анонимная) слава таит в себе опасность: начинаешь копировать себя, а это ещё более опасно, чем копировать других, ибо ведёт к бесплодности.
Поэтому, кроме попы, мы показываем и гениталии, фиги, зверские гримасы, да ещё и кукарекуем, вываливаем язык изо рта, шевелим ушами, лижем друг другу сиськи, нюхаем внутренность протухшей туфли...
Всё, что угодно — лишь бы не повторяться и не нравиться!
Браво, бис!
Но в какой-то момент в любом городе, в любой стране люди начинают нас узнавать, идентифицировать, вспоминают наше имя — и анонимности приходит капут.
Значит, пора бежать в другой город.
Прочь от славы, прочь от дряни!
Get out!
Как сказал превосходный художник Ван Гог: «Ищи не славы и успеха, а света и свободы — и не погрязай слишком глубоко в болоте жизни».
О ПИКАБИА И УДОВОЛЬСТВИЯХ
Франсис Пикабиа однажды заявил: «Когда я рисую картину, это отвлекает меня от товаров других художников».
Также он сказал: «Когда я пишу стихи, это отвлекает меня от напечатанных книг».
И добавил: «Лучше ничего не делать, чем что-нибудь делать».
Ничего не делать — самое первое, чистое удовольствие дада.
Рисуя или пиша стихи, Пикабиа пытался ничего не делать и время от времени находил в этом удовольствие.
Этим он, дада, и интересен.
Пикабиа сказал: «Наши головы круглы — значит наши мысли могут менять направление».
Он мог бы добавить: прочь от направления делячества в искусстве — ради направления удовольствий!
Пикабиа издевался над муками проклятых художников, как Мандельштам издевался над «муками слова».
Ещё он любил рулетку, голых танцовщиц, автомобили и яхты.
Когда он испытывал тоску, то это была тоска турецкого паши, заброшенного на блошиный рынок искусства.
Во всём корпусе модернистского искусства не найти ничего более удалённого от понятий вкуса, содержания и намерения, чем живопись Пикабиа.
Что это: пародии, проявления крайнего нигилизма, похоть глаза и руки, демонстрации отчаяния и бессилия, взрывы хохота, симптомы страха остаться незамеченным, тайные признания, бред?
Его работы не подкреплены никакими концептами, высокомудрыми трактатами, спекуляциями — лишь его презрением к собратьям-художникам.
Сочиняя стихи и афоризмы, он воровал фразы Ницше и перекраивал их.
Творя картины и рисунки, он паясничал и перетасовывал элементы всего, что было под рукой: технических иллюстраций, порнушки, истории искусства, чуши.
Он постоянно подшучивал над мёртвыми и живыми «коллегами» — как над Сезанном, так и над Рембрандтом, как над Кандинским, так и над Кокто.
Увидев мастеровитую картину Макса Эрнста, он поставил крест на сюрреализме, прошипев: «Они хотят возродить искусство».
Пикабиа хотел искусство похоронить.
Вернее, он думал, что оно — уже труп, и хотел этот труп выставить на всеобщее посмешище, и был в отвращении, что модернисты этот труп берегут и ставят на пьедестал.
Пикабиа не верил ни в признанных, ни в непризнанных гениев, и сам не входил ни в первую, ни во вторую категорию.
Он был наслажденцем и ниспровергателем, потому что понял, что искусство сделалось бизнесом.
Он и сам полунехотя в этом бизнесе участвовал.
Для его фривольностей и прихотей нужны были немалые деньги, и он уже растратил одно наследство, и переехал из Парижа на Лазурный берег, и играл в казино, и хотел купить новую яхту.
Но самый глубокий его импульс был: ДОВОЛЬНО ИЛЛЮЗИЙ!
Он был изменником искусства, предателем художества.
Но его предательство было особой формой интимности.
Пикабиа искусство любил, но ненавидел то, во что оно превращается — в товар и гонку за статусом и бессмертием.
Поэтому он хотел укокошить искусство — прямо по формуле Оскара Уайльда: «Ты всегда убиваешь то, что любишь».
Пикабиа мечтал, чтобы искусство стало диким, прихотливым, неустойчивым, тёмным, болезненным, наслажденческим.
Но нет: искусство всё быстрее уходило в другую сторону — приятной съедобности, монотонной сменяемости, рыночной приемлемости, авторской узнаваемости, смысловой прозрачности, лёгкой усвояемости.
Пикабиа с его тёмно-ясной головой испытывал ко всему этому отвращение.
Но он не бросил искусство, не скинул эту ношу с плеч, а наоборот — погрузился в его странные дебри, где принцесса непременно превращается в жабу, а лев постыдно поджимает хвост при виде какой-то тени.
Пикабиа был известным трусом — боялся сцены, дадаистских скандалов, драк.
Он хотел только одного: удовольствия от слова «уд».
В конце концов — в 30-е годы и в позорную эпоху Виши — он зарылся в довольно грязный стариковский разврат: срисовывал из журнальчиков блудниц с бульдогами и любовничков в цветущих садах, а также малевал всяких монстров и изуродованных кожными заболеваниями андалузок.
Эти картины наповал убивают всё, сделанное его эпигонами (вроде Шнабеля или Салле).
Пикабиа всё-таки был настоящим ублюдком и сладострастником, а не просто сообразительным дельцом.
Поэтому нижеследующие стихи Даниила Хармса я отождествляю с Пикабиа:
Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе...
Купил муку, купил творог,
Испёк рассыпчатый...
Пирог, ножи и вилки тут —
Но что-то гости...
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек...
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту...
Когда же гости подошли,
То даже крошек...
О СЕРГЕЕ ШАРШУНЕ
«Заперевшись в себя и от всеобщего обязательного жандарма мобилизации, сев за стол перед путешествием — я не хочу знать, существовали ли до меня люди», — писал Серж Шаршун.
И далее: «Всё, что превращается в лавочку, меня перестаёт интересовать».
Лавочкой стал модернизм: «И футуризм, и кубизм — на второй день крещения начали заваливать мир шедеврами... И через положенные восемь-десять лет — перепроизводство».
Как избежать этого?
Шаршун советует: «Жест Рембо, сделанный в нужный момент, значительней бегства Толстого».
Главное — потребность избавляться самому от себя.
Прочь, прочь!
Сначала, по логике Шаршуна, романтики ушли в область личных переживаний
Потом был Флобер, попытавшийся в «Мадам Бовари» запечатлеть цвет плесени в тех углах, где живут мокрицы.
Потом символисты, решившие отделаться от модели — голой или одетой.
И случай Лотреамона, открывшего радость дичайших противоречий, вечно ставящих в тупик других.
И кубисты: у них, говорит Шаршун, нет ни малейшего желания наблюдать, что делается вне них.
Ну тут — вдруг! — дада!
«Наступает момент», — утверждает Шаршун, — «когда произведение искусства оказывается неприемлемым, невыносимым».
И: «Искусство центробежное, как оно существовало целые 100 лет, должно непременно кончиться вне искусства... Дада возвращается в действительность, потому что в силах полюбить её».
И Шаршун цитирует Тцару: «Жизнь. Я против систем, самая приемлемая из них — это не брать за принцип ни одной. Искусство — дело личное».
Но тут же вспоминает слова Бретона: «Может быть, самое большое достояние — никогда ничего не сделать».
А что предпринять сейчас, сию минуту?
«Схватить мысль раньше, чем она попадёт в контору, в её стадии бессвязности, или, вернее, в её примитивной связности».
«Дада открыл, наконец, пышный дворец, где душа может купаться в совокупности живущего».
«Но как, скажите, купаться в этом смраде, в этой бойне, в этой могиле?»
А вот так — только надсмеявшись над собой: «Я идиот, я шут, я враль!»
«Дада — космополит, интенсивист-экспрессионист — фабрикует конденсированное молочко, энергию, ругань, эгоистические желанья».
Бутада!
Трубада!
Драбада!
Серж Шаршун прожил долгую-предолгую жизнь.
С дадаизмом он соприкоснулся только по молодости лет, а вообще рисовал во всех стилях — символистском, кубистском, футуристском, дадаистском, сюрреалистском, абстрактно-спиритуалистском — но всё превращал в манеру.
Какая это манера?
Вот её имя: Улыбка.
Он над всеми стилями улыбался — чеширским котом.
Какой же он был добрый, великодушный, целомудренный!
Он все стили превращал в клетчатые цветы.
Иногда, как он сам говорил, это были превращения механические, а иногда — физиологические, иногда в результате превращений получалась амбра, иногда абракадабра, а иногда — просфора Эроса.
Какие, к чёртовой матери, «стили» — зачем закапываться в могиле?
Он в своей жизни любил искусство, как кочерыжку в капусте.
Про творчество он сказал так: «Ах, нет, Ася, не будем называть твоё имя!»
И ещё: «Тургенев похоронен в «Ротонде» — часто прихожу погрустить на его могилу».
Ещё мы так молоды. Дождь лил всё лето,
Но лодки качались за мокрым стеклом.
Трещали в зелёном саду пистолеты.
Как быстро, как неожиданно лето прошло.
Состарившись, Шаршун не перестал улыбаться.
Его искусство в точности передаёт эту улыбку: всёческую, кроткую, грустную, смущённо-нахальную, очарованную, исчезающую, безмятежную, неоднородную, затаённую, трепетную, эластичную, искреннюю, непритязательную, теплокровную, намагниченную, многослойную, сомнамбулическую, уязвлённую, самолюбивую, внимательную, ненавязчивую, новорождённую, долголикую,ласковую, пульсирующую, затуманенную, колеблющуюся, отчуждённую, по-детски беспомощную, выношенную, умудрённую, сосредоточенную, отзывчивую, понимающую, телепатическую, шепчущую, саркастическую, свободную, скованную, светлую, угасающую, затейливую, свидетельствующую, погибающую.
О ДАДА
Дада открыл, что в культуре полно людей, которые боятся присутствия хаоса в мире (и в произведении искусства) и оправдываются пошлой видимостью порядка.
В мире шла Первая мировая война — хаос, прикрываемый патриотическими лозунгами.
Дада корчился в отвращении — и сделал хаос своим излюбленным приёмом.
Попутно дада отделался от всех высоких слов — «Бог», «Любовь», «Отечество», «Истина», — решив обходиться без этих тромбонов мобилизации.
Попутно дада возненавидел все догмы, прикрывающие языковую субстанцию поэзии и холщовую субстанцию искусства.
Дада открыл, что в искусстве всегда есть нечто позорное: оглядка на публику.
Из этого открытия дада сделал вывод, что всякий художественный продукт — нечистый.
Поэтому дада стал издеваться над публикой и заменил нечистый продукт просто нечистотой.
В результате дада публично имитировал не двуполый акт, а анальный.
Дада смеялся не только над публикой, но и над художником — тем, кто всегда изображает больше и меньше, чем ему хочется.
Дада решил обокрасть всех художников и делать исключительно то, что взбредёт в голову.
При этом дада презирал любое идейное обоснование своего ребячества — будь то с помощью философии, психологии или социологии.
Вместо этого дада заявил, что будет делать только самое никчёмное и самое легковесное.
Но эта никчёмность должна была быть не догмой, а — шарлатанством.
Поэтому дада стал играть не в глубокомысленного автора, а в штукаря и идиота.
И вы понимаете ли в этом что-нибудь:
Слезетеки эта — плакуха — извольте — Крыса...
Дада сообразил, что люди никогда не вникают в смысл искусства (и всего остального), а только ищут его.
Поэтому дада объявил бессмыслицу единственным своим смыслом.
От понятия «человек» дада тоже отказался.
Искусство, согласно дада, должно двигаться вовсе не от «произведения» к «человеку», а от маски — к её механизму.
Не смысл и не удовольствие, а только скандальное изумление составляет, согласно дада, единовластный закон нового искусства.
Так дада обнаружил свой предел.
Ибо изумление — это догма, нечто законченное.
Не тонущая жизнь ау ау
А храбрая хоть и весьма пустая
Стоит как балерина на балу
И не танцует гневом налитая
Так закончился дада — не взрыв, но всхлип.
Он начал вонять, как знаменитая балерина, ещё при жизни.
Поэтому Шаршуну, Дюшану, Арпу и даже Пикабиа снова понадобилась любовь.
О НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
Ну, а у нас что?
Дада был давно, а у нас — говно?
Вспоминаю Жан-Жака Лебеля — есть такой француз патрицианской крови, претендующий на звание первооткрывателя хеппенингов.
По-моему, он мерзавец.
Или, быть может, паяц?
К числу убийц свободного художества я, плебей Сафиня Гопник из Бурундая, недоносок без роду и племени, причисляю тусклое имя вельможного холуя Жан-Жака Лебеля, а заодно и всех современных паршивых художников.
Какие же они хитрые и даровитые!
Однажды мы с Варварой — два бездаря — пришли на громадную парижскую выставку этого великого автора.
Дело было в La Maison Rouge, неподалёку от площади Бастилии.
Выставка оказалась просто великолепна — настоящий багдадский гранд-базар при Навуходоносоре, прямо-таки висячие сады Семирамиды, виноградники соломоновы, чача.
Чего там только не было: секция хеппенингов, секция галлюцинаций, секция неподчинения, секция эроса, секция дада, секция войны и ризомы, секция поэзии, секция философии.
Произведения из личной коллекции Жан-Жака Лебеля!
Он, знаете ли, не только художник, но и куратор, коллекционер, писатель, поэт, мыслитель, телевизионная дива, ассирийский царь, князь Потёмкин-Таврический и прямой потомок маркиза де Сада.
Кроме шуток, он — маститый деляга.
В тот день проходила публичная дискуссия.
Лебель собрал кучу досужего народа, а заодно и всех великих философов Франции (хотя по-настоящему великие философы к этому времени уже умерли).
Речи этих господ воняли, как выкидыши богини Кали.
Нет, я не шучу: сия дискуссия напомнила мне стародавнюю советскую железнодорожную ночь, проведённую мной на верхней полке в грязном и душном поезде, идущем из Крыма в Москву, а на нижней-то полке упившийся и обожравшийся чеснока подлый мужик трахал трепещущую надушенную женщину, и их миазмы смешались с его пердежом и её клокотанием, а также со стуком колёс и тряской, так что я думал, что вот-вот сойду с ума и проклял день своего рождения.
А ещё этот парижский бардачок заставлял вспомнить пушкинскую сказку, где жида с лягушкой венчали: бросали Делёза в одну яму с куратором из Центра Помпиду и покойной социал-демократией, а Фуко привинчивали к дубовому кресту перформативного политического активизма.
Что ж тут было делать?
Мы решили действовать как гадкие и своевольные твари: сначала обкакались себе в ладони и измазались какашками, а потом в этаком непотребном виде стали запрыгивать на колени приглашённых ораторов.
Началась тихая паника и психиатрический развал.
Я, ловкач, умудрился вырвать листочки с текстом у одного лектора и подтереть ими свою задницу, на которой налипло много коричневатой материи.
Но Жан-Жак Лебель не растерялся!
Жан-Жак Лебель-художник стоял на страже порядка!
Жан-Жак Лебель-мыслитель принял срочные меры!
Жан-Жак Лебель-поэт вышел сухим из воды!
Он побежал в угол и выключил свет в зале...
Мы все, хулиганы и приличные граждане, остались в полумраке.
А Лебель-стратег скомандовал: «Эвакуация!»
— Пожалуйста, все пройдём в другой зал! — закричал хитрюга Жан-Жак.
Умно, не правда ли?
Публика, конечно, ему — мастеру церемоний — безоговорочно подчинилась.
Покорной толпой выходили люди, оглядываясь на нас — двух чумазых мартышек.
Аve Maria!
Мы остались наедине с охранниками в зелёных резиновых перчатках, которые, впрочем, не сдали нас жандармам (об этом Лебель-либерал тоже позаботился), а проводили в туалет, где мы отмылись от кала и были выведены в электрические парижские сумерки.
Вот таков современный теоретик-куратор-художник: он саваном бумажным шелестит, он хоронит всё живое-неспокойное, он ублажает культурную чернь и знать, он отворяет жилы мёртвым великанам, он страшный и безграмотный коновал происшествий, он усмиряет беличьи события и рад-радёшенек, когда брызжет фонтаном чёрная лошадиная кровь эпохи.
Поэтому на ум приходит старик Державин:
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падёте,
Как с древ увядший лист падёт!
И вы подобно так умрёте,
Как ваш последний раб умрёт!
Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди и разметай лукавых,
И будь един царём земли!
О ТОМ, КАК ХОРОШО У СУТИНА
Зачем есть мясо?
Зачем смотреть на пожары?
Зачем считать деньги?
Зачем ходить на вернисажи?
Лучше ссутулиться и спрятаться с Сутиным в его пещере, в его бычьей туше, в его нечистоплотной мастерской.
И уже никогда не видеть ни горящий цеппелин «Гинденбург», ни подсвеченную громаду суда в Брюсселе, ни огни Домодедово, ни картины глупых современных художников.
Я знаю: у Сутина воняет, там хаос и липко.
У него сыро, в ведре кровь, мухи.
Зато с ним можно спрятаться.
Я говорю о сутинском La Ruche, об Улье — совсем отдельном, особом улье, где хорошо укрыться от планетарного улья.
Думал ли Хаим Сутин, как его современник Хлебников, что «благу человеческого рода соответствует введение в людском обиходе чего-то подобного копошению пчёл в улье»?
Видел ли в идее рабочей пчелы идеал свой лично?
Ясно одно: Хаим, как и Велимир, не знал различия между человеческими особями и животными видами и стоял за распространение на всех зверей слова и действия заповеди «люби ближнего, как самого себя».
О своих истоках Сутин рассказывал так: «Однажды в детстве я застал мясника, когда он перерезал птичью шею ножом, и лилась кровь. Я было закричал, но радостное выражение мясника перехватило мне горло. Крик застрял внутри, и с тех пор я всегда ношу его в себе. В школе я нарисовал издевательский портрет учителя, пробуя отделаться от этого крика, но напрасно. А когда я писал бычьи туши, это был тот же крик — хотелось выпустить его на волю. Но, увы, до сих пор не смог».
Поэтому-то так хорошо с Сутиным: он сравнил землю не с правителем Августом, не с Третьим Римом, а со степным зверьком, перебегающим от кустика к кустику.
С Сутиным хорошо ещё и потому, что он не замечает твоего вторжения в мастерскую и на все шалости и причуды у него один окрик: «Дитя моё, зачем ты так волнуешься?!»
У кого он эти слова перенял, где выучил?
Он ничего иного не говорит, как будто не знает.
И, может быть, он к самому себе обращается.
Искусство — суровый бич: оно разрушает семьи, любови, дружбы, оно ломает жизни и душу.
Оно отвинчивает сердце от мозга, отрывает башку от тела, и они висят на отдельных ниточках, а потом коршуны славы или вороны бесславия клюют части когда-то живого существа.
Но Сутин всё-таки не таков.
Он не подымает свою власть над жителями Земли.
Он — в своём пещерном подвале.
У него вообще нет власти, а живописное безвластие.
Бывает ли безвластие в искусстве?
Бывает ли безвластие в мире?
Фуко говорит — нет, но Агамбен возражает — да.
Мир горит, это точно.
И искусство в мире уже догорает — пепел один.
Мир, как это знал Сутин, издавна славился своими пожарами.
То там, то здесь ударяет в живое дерево молния.
То там, то здесь низвергается с неба на крыши ветер и огонь.
То там, то здесь Нерон любуется на пожар Вечного Города.
И сирены оповещают о прискорбном событии.
— Горит, — говорит обыватель машинально, во сне.
А потом под вой сирен просыпается и устремляется к месту пожара — и зачарованно любуется на гудящий, бурлящий огонь.
Злобные, властные и торжествующие реют над миром звуки сирен — то отдалённые, то страшно близкие, нарастая в силе.
Они, помимо слов, говорят, что ваш долг быть там — возле пожара, слушать его, зреть, осязать.
Да, властнее всех слов собирают сирены к огню граждан земли.
Даже в Швейцарии слышно.
Что вещают сирены?
А вот: «У-у-у! Нужно кинуть огонь обратно в темницу! У-у-у! Заточить в тюрьму!»
С неба — в клетку: таков путь огня и путь человека.
Но в пещере Хаима Сутина забываешь тоскливый звук этого воя.
У него происходит нечто иное, странное: жизнь тягается со смертью.
Художник оживляет фигуры, и они колеблются между рождением и гробом.
Хаимовы куклы — дряблые, рыхлые, гнутые, ломкие — вдруг наливаются внутренним пламенем, вспыхивают лихорадочным румянцем, загораются надранным ухом, хватаются красными руками.
Но долго ли будут жить?
На продолжительность их бытия ничто не указывает.
Мёртвый фазан лежит на белой подстилке, ожидая оживления, как Лазарь.
Три селёдки покоятся на тарелке с двумя вилками по бокам, как пациенты на столе, а вилки — орудия оживления.
Вот вроде бы натюрморт: трубка, бутыль, та же вилка.
Но это не натюрморт, а инструменты анестезии в операции оживления.
Такой же инструмент — кисть.
Сутин никогда не рисовал, не чертил ни на бумаге, ни на холсте, а только живописал масляным пигментом, то есть оживлял образы цветом.
Цвет у него тёк, как сок, как свекла, как желчь, как речь, и смешивался, становясь плотью.
Он эту плоть прямо-таки атаковал — с намерением оживления, вырывания из неё крика жизни.
Вот как он это делал: «Чтобы написать портрет, нужно заставить модель сидеть, но она быстро устаёт и принимает глупое, мёртвое выражение. Поэтому нужно торопиться, а это раздражает. Я начинаю нервничать, беситься, скрежещу зубами, а иногда даже ору и прямо режу холст, и всё летит к чёрту, а я валюсь на пол... и вдруг вижу огонь, языки огня, они меня лижут. Я начинаю орать и всё швыряю на пол. Я признаю: это глупость, и даже чудовищная. Я сам себя пугаюсь, потом устаю. Но всё-таки остаётся надежда, что картина выправится».
Процесс оживления был конвульсивный, и не всегда приносил жизнь.
Вот они, подопытные Сутина: поварёнок в колпаке и белом своём наряде.
Посыльный в красном мундирчике и круглой шапчонке.
Официант.
Слуга.
Это всё маленькие человечки по социальному статусу и по кругозору — зверьки, облачённые в форму прислуги.
Но они уже в процессе метаморфозы, уже деформированы тем криком или стоном, который корёжит их дух.
Какая-то девушка, раздетая, смущённая, в неловкой позе, но вся — ввысь.
Опять поварёнок, сидящий без дела, с пламенеющим ухом.
Может это и не ухо вовсе, а неопалимая купина или пещь огненная?
Опять мальчик-рассыльный с углами локтей, вроде петрушки, полный недоумения: быть ему или не быть?
Мать с ребёнком, опешившая, что ребёнок — живой и изогнулся в дикой позе, и что же с ним делать, коли он такой живой и непослушный, как воспитывать?
И ещё какой-то философ сидит и смотрит на обломки мира вокруг: как, во что их собрать?
И маленькая девочка с куклой — сама полукукла.
Это всё существа сломанные или деформированные — и обалдевшие.
Они как будто только что появились на свет, как жеребёнок из матки, и слизь с них висит, лежит на них комьями.
Они — не князь-человек и не исполин-человек, а человек-цацка, человек-ткань, ком-человек.
Они — в процессе антропологического сдвига.
Куда же сдвигаются?!
То ли в лом, то ли в бурелом.
Сутин был настолько не от мира сего, что полагал, будто тушу бычью можно воскресить ударом кисти.
Он боготворил Рембрандта, уважал Шардена, Коро и Курбе, восхищался греческой пластикой, работал исключительно в почтенных жанрах натюрморта, пейзажа и портрета.
И всё-таки он был чужаком, дикарём, беженцем в сердце европейской культуры.
Взгляните: ритм его композиций не конструктивный, не декоративный, не обусловленный никакими живописными законами, но аффективный и временами символический.
Этот ритм подчинён только одной задаче — превратить живопись в жизнь живучую.
Неуютно, странно в подполье Сутина.
Здесь царит не закон, а происшествие: то ли оживёт плоть, то ли нет...
Тут на грязном столе лежит неизвестный организм — то ли птица, то ли заяц бесформенный.
Сутин не умел рисовать по заветам Энгра — линиями и по памяти, он обязательно должен был иметь перед собой объект: петуха, пекаря или платаны.
Недостаток воображения?
Сутину необходимо было дышать жизнью того, кого он живописал.
Перескажу известный анекдот о Сутине.
Он купил бычью тушу и повесил у себя в мастерской.
Хотел её писать.
Но туша вдруг потеряла свежесть, посерела, превратилась в труп.
Тогда Сутин решил поливать её кровью, чтобы вернуть ей цветущий вид.
Купил коровью кровь, поставил в ведре.
Налетели мухи.
Его помощница Палетт Жорден их отгоняла.
Туша гнила и смердела.
Какой-то сосед решил, что у Сутина в доме мертвец, что произошло убийство.
Появилась полиция.
Полицейский понял, что тут — художник.
Но приехала санитарная служба.
Они в тушу вкололи освежающий раствор — формальдегид.
Сутин продолжил писать.
И сам накупил шприцов и вкалывал в тушу.
Балда!
Он, как правило, кромсал свои работы, если был ими недоволен.
Он вырезал из забракованных холстов фрагменты, которые ему нравились — и вклеивал эти кусочки в новые произведения.
Так холсты обрастали шрамами.
Это были уже не просто големы, а настоящие франкенштейны.
Сутин был неловок и не мог натянуть холст на подрамник.
Поэтому он покупал на блошином рынке старые картины и писал прямо на них.
Он даже хвастался своим вандализмом и говорил, что превращает мёртвую живопись в живую.
Но Сутин всегда был недоволен своими достижениями.
Зато буйно радовался, когда мог продать картину.
Он был нелеп: носил шёлковые рубашки, а штаны — в крови, в краске.
Выставлялся в галереях, а выглядел, как цыган.
А кем был по стилю?
Нельзя сказать, что реалист.
И не натуралист, конечно.
Не фовист, не экспрессионист, не кубист...
И дальше: не француз, не вполне еврей, не вполне русский...
Вроде бы известный художник, но не совсем.
С кем его сравнить?
С Кокошкой?
Сутин морщился от Кокошки.
С Ван Гогом?
Сутин говорил, что ненавидит Ван Гога.
Так почему же так хочется спрятаться у Сутина в мастерской?
А потому...
ПО-ТО-МУ!
Так же хочется спрятаться в пейзаже Эдварда Хоппера (или в одном из его коттеджей).
О МАРГИНАЛАХ
Сутин, Вольс, малоизвестный швейцарец Фридрих Кун и кто-то совсем забытый вроде моего покойного знакомого Стаса Исаева — они маргиналы.
Даже если некоторые из них получили известность.
Маргиналы — оригиналы.
Они — ловцы русалок, голотурий, офиур, наяд, нереид и прочего планктона; они — рыбаки и сидят в своих шалашах, выставив удилища наружу, и детской, неловкой рукой подымают из омута запутавшуюся в водорослях рыбку.
Они увидели ось жизни в ловле мелких чудес и трепыхающихся головастиков.
Круги расходятся от голых купальщиц, ходят мимо какие-то культуристы, певчие и бизнесмены, бросают на маргиналов жгучие и томные взгляды.
А маргиналы всё сидят в тени и ловят.
Искусство — свистящий бич: оно крушит человечьи тела, ломает жизни.
Трещиной раскола отделяет творчество одну жизнь от другой, отрывает тело от башки, а стервятники славы-бесславья клюют когда-то живого человека.
Идёт буря, с верхушки собора или сарая слетает крыша и с треском ломаются черепицы и ставни, деревья гнутся в одну сторону и в другую, а трава пригибается, и овцы стоят и, жалобно блея, просят отворить ворота.
И уже ясно: грядёт очередной пожар.
Впрочем, это только описание одной из картин Сутина, только вычурный своей мрачностью образ.
А вообще с маргиналами хорошо в их шалашах на прудах, и не нужно уже никаких реалистов, импрессионистов, фовистов, футуристов, абстракционистов, концептуалистов...
Но также с маргиналами страшно.
Как сказал старый Дюшан: «Художнику осталась только одна дорожка — в подполье, в андерграунд».
Боязно уйти с головой в пруд маргиналов, боязно задохнуться в подполье, ведь там — анонимность!
Там — ни званий тебе, ни признаний!
У меня, например, нет счёта в банке.
И кредитной карточки нету.
И своей квартиры.
И языка.
И родины, и ресторана.
И уважения окружающих — тю-тю.
Я живу в Цюрихе подростком: велосипед, улица, скамейка, речка Лиммат, мусор в карманах, сера в ушах, Варвара и её кушанья — вот и вся петрушка.
Да ещё мелкие хулиганства в институциях: завтра пойду набегом на торговца одомашненными идейками Базона Брока в опозоренном Кабаре Вольтер.
Я — в полной изоляции (так это именуется дураками).
Во внутреннем Самарканде.
Меня ненавидят все служащие искусства за мой дегенеративный профиль и за то, что я не ихний.
А я люблю маргинала Вольса за то, что он погрузился на дно своего пруда и там превратился в какой-то слизистый столбик, в какого-то рачка или зелёную тину.
И в каждом великом мастере я ищу маргинала.
Зато не люблю, ох, как не люблю тех знаменитых художников, которые позабыли светлую истину Марка Аврелия: вся Земля — маленькая точка.
Или вы думаете, она ваша дача?
Вот как говорит Хлебников: «Может быть, в предсмертный миг, когда всё торопится, всё в паническом страхе спасается бегством, спешит, прыгает через перегородки, не надеясь спасти целого, когда в голове человека происходит то же, что происходит в городе, заливаемом голодными волнами жидкого, расплавленного камня, может быть, в этот предсмертный миг в голове всякого с страшной быстротой проходит заполнение разрывов и рвов, нарушение форм и установленных границ. А может, в сознании всякого с той же страшной быстротой ощущение порядка А переходит в ощущение порядка В, и только тогда, став В, ощущение теряет свою скорость и становится уловимым, как мы улавливаем спицы колеса лишь тогда, когда скорость его кручения становится менее некоторого предела...»
Разве не что-то такое происходит в работах Вольса, Генри Дарджера, Сергея Калмыкова, Павла Леонова, Луи Суттера?
Маргиналы используют божественное так, будто это человеческое, а человеческое так, будто это — божье.
А вообще, у них нет ни божественного, ни человеческого, а только неоплодотворённая икра иглокожих.
Да, Земля — всего лишь точка, а какой-нибудь прудик — море морей, океан вселенский.
Маргиналы хорошо это знают, а ещё они зарубили у себя на носу прекрасный русский стих, так полюбившийся Мандельштаму:
... не расстреливал несчастных по темницам...
... не расстреливал несчастных по темницам...
... не расстреливал несчастных по темницам...
Маргиналы в своём подполье: они соединяют Леонардо с разбежавшимися по всей Вселенной атомами, обручают доисторического осьминога с Пьеро делла Франческа, воссоединяют Идиота со сломанной вазой.
Или, как сказал Олег Григорьев:
Кто-то не поленился,
бросил кирпич в монумент,
от героя отбился
самый важный фрагмент.
О ТОМ, КАК МЕСЬЕ БОННАР ПОЕХАЛ НА ОСТРОВ ХВАР
Лучше жить не в истории и не по часам.
А как?
Под солнцем, в тени.
Пьер Боннар был слеп и глух ко всем авангардам и теориям.
Он существовал не в измах, а на песчаных развалинах греко-римской культуры.
И ещё под абажуром в вечерней гостиной.
Или в спальне с голой подругой.
Я ТОЖЕ ТАК ХОЧУ!!!
Только не желаю, как Боннар, писать большие картины.
Лучше уж быть его персонажем: валяться голышом на песке рядом с потрескавшимися статуями и смотреть на волны, из которых выходят богини.
А если на пляже появятся люди, я превращу их в песчинки.
Вот по берегу идёт голая женщина без тени.
У неё ступни Афродиты Боттичелли, то есть не какие-то там ступни, а призрак божественной ступни.
О, моя читательница, помни единственную человеческую нужду: ВО ВСЁМ И ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ПРЕКРАСНОЙ!
Так, кажется, сказал Чехов?
Только это и повторяли на все лады великие художники и философы: будьте же, будьте наконец прекрасны!
Но люди их не слушали.
Женщина продолжает ступать по горячему песку божественной стопой, и она по-прежнему не отбрасывает тени.
Зыбь ты великая, зыбь ты морская...
И никакого секса, потому что всё секс — медленный, нескончаемый.
Постепенно в этом мареве Афродита Боттичелли превращается в Венеру Ларионова.
Как сказал Идиот: «Мир спасёт красота!».
О, Шух-шух-га!
Однажды на исходе лета мы с Варварой отправились на остров Хвар, что в Адриатическом море.
У нас был спальный мешок.
Туристы уже убрались с острова, но солнце не ушло с ними.
На Хваре, как в живописи Боннара, не было поездов, самолётов, фабрик, машин, а только телеги, кошки, собаки.
На Хваре не было и людей, а только издали силуэты.
Мы спали в мешке на пляже, а потом оказались в доме на горе.
Хозяин уехал и оставил нам дом, как в сказке.
Время стояло, как в живописи Боннара: без компьютеров, без пошляков.
Только море и скалы под солнцем.
И мы — Гермафродит и Афродита.
На полях остались неубранные помидоры и тыквы, и мы их собирали.
Стремление к исключительности — слабость обычных людей вроде императора Коммода.
А Гермафродит и Афродита хотят плавать в море, сношаться, дремать в саду, кушать персики и помидоры.
Как сказал Боннар: «Есть речение, отлично передающее идею живописи: множество маленьких обманов создают большую правду».
Мы были на острове одни — вот наш маленький (само)обман.
Мы превратились в богов — такой же обман.
На Хваре не осталось полиции, хозяйчиков, некрасивых халуп, туристических гостиниц, денег, строек, уродства — очередной обман.
Всё, как в искусстве Боннара, превратилось в чудесный синтез линеарности и ташизма — такова правда.
Мы плавали, медленно, как бабочки, спаривались на скалах, надкусывали персики, варили компот из айвы.
Всё как у Боннара и других наби: искусство поверхности образа, словно в египетской живописи, византийских мозаиках, средневековых витражах и японских гравюрах.
Но Боннар не идилличен: обычное включает в себя загадочное, тревожное и даже гротеск, являющийся, по словам Альфреда Жарри, иной формой благословенности.
В нашем доме на Хваре появилась вдруг банда кошек.
Это были юные твари, настоящие беспризорники.
Среди них выделялись два брата-близнеца — чёрно-белые, вертлявые.
Был ещё серый котёнок, выгибающий спину, чтобы казаться больше.
И рыжая беременная кошка с нежными губами, требующими молока.
Были и другие, похожие на головастиков.
Они приходили, чтобы кормиться.
Мы покупали им сосиски в лавке, и они эту дрянь моментально проглатывали.
А потом начинали скакать, задирать хвосты и беситься.
Однажды они явились перед грозой.
Тьма, пришедшая с Адриатического моря, накрыла обожаемый нами остров.
Странный ветер принёс странную тучу: не аморфную, не эфемерную, не какое-то облако в штанах, а каменную потрескавшуюся громаду — вроде тех, которые рисовал Мантенья.
У нас на столе были акварельные краски, тушь, кисточки, незаконченные рисунки.
Но кошкам было наплевать на всё это искусство — они зверски проголодались и нервничали из-за грозы.
Уже прогремел гром.
В доме вдруг сделалось совершенно темно, словно он заплыл синяком.
Мы достали из холодильника сосиски и кинули кошкам.
Они проглотили их, не жуя, — и тут же потребовали ещё.
Была вторая пачка, но мы её держали про запас.
Но для кошек не существовало никакого «про запас», а только «вынь да положь».
Мы им уступили.
И опять они сожрали всё одним махом и потребовали: ЕЩЁ!
Ещё и ещё!
Но у нас больше ни черта не было.
Кошки рассвирепели.
Они прыгнули на стол.
Перевернули краски, забегали по рисункам — и опрокинули тушь!
Орали, разевая розовые пасти!
Это был бунт — бессмысленный и беспощадный.
Сосисок у нас всё равно больше не было.
Боннар это знал: рай легко превращается в ад; в его искусстве есть тьма, усталость, истошный крик попугая, разочарование от секса.
Боннар был другом Редона и любил его сумеречное искусство.
Во взбесившихся кошках проснулось что-то оккультное.
Они овладели нами, как потусторонние силы.
Мощь Боннара заключается в том, что он живописал людей, вещи, зверей, ткани, листву — ничего не называя по имени.
Малларме, которого Боннар уважал, сказал: «Назвать вещь по имени — это всё равно, что уничтожить три четверти радости в стихотворении, которое пишется только ради того, чтобы вообразить неназванную вещь».
Неназванная вещь — не сосиски, не кошки, не гроза, не Хвар и его море.
Неназванная вещь — то, что получается из соединения всего этого: нечто дикое, священное.
«Мысль о возвращении к девственному естеству исполнена опьяняющей силы, — сказал Валери, — но море, деревья, светила и особенно глаз человеческий — всё это искусственно».
Именно, именно: каменное облако!
Сам Боннар высказался о своей живописи так: «Тот, кто поёт, не обязательно счастлив».
Счастлив ли был Леонардо, созерцавший облако в зарешёченное окошко?
Счастлив ли был Тёрнер, узревший в облаке пламя, взрыв, бурю?
Счастлив ли был Ван Гог, расстаявший под солнцем, как облачко?
На кошек смотреть было радостно и забавно, а потом вдруг — странно и страшно.
За окном хлынул ливень.
Полосатые, рыжие, серые твари куда-то исчезли.
Посещение Хвара — это было наше посещение Пифии.
Созерцая картины Боннара, начинаешь понимать, как можно в облаке увидеть кирпичную стену Бартлби.
На следующий день шёл мелкий, противный дождик, и на следующий тоже.
Контуры расплылись, как от пролитой на акварельный рисунок воды.
А ведь контуры — суть эротической оптики.
Изобретатель эротических картин — грек Паррасий — уделял первостепенное значение контурам тела.
На Хваре стало сыро, мрачно, асексуально.
Нами овладела меланхолия.
В соседнем гараже что-то пело — то ли радио, то ли телевизор.
Мы заперли дом, отдали ключ соседу, поехали в порт и сели на корабль, идущий в Риеку.
Во время плавания тоже шёл дождь, и мы смотрели в иллюминатор на надутое море.
Иллюминатор был круглый, с толстым стеклом, дождь по нему стучал, но звука не было слышно.
Солнечные картины Хвара — где вы?
Осталось только окно с дождевым морем.
Как сказал Пьер Боннар: «Лучшие вещи в музеях — окна».
Известно, что он приходил в музеи, где были выставлены его полотна, с кистями и красками, и дописывал собственные картины, ибо его не удовлетворяло их состояние.
О ДЕ КИРИКО
Когда-то я увидел репродукцию де Кирико в советской книжке.
На картинке — вздыбленная площадь.
На площади — три странных, дурацких манекена.
А вдали, под зелёным небом — какая-то фабрика с трубами и замок с башнями.
Подпись под репродукцией гласила: «Тревожащие музы».
И действительно: эта картина тревожит!
Говорят, Бретон выпал из трамвая, увидев холст де Кирико в витрине галереи.
Говорят, Аполлинер разразился перед живописью де Кирико счастливым смехом.
Говорят, Пикассо сказал о его произведениях: «Лучшие вывески на свете».
Говорят, Матисс признался: «Он удивляет».
А Пазолини купил полотно де Кирико и, просыпаясь ночью, смотел на него.
Глядя на репродукцию «Тревожащих муз», я ощутил бессмысленность.
Вместо смысла там содержалась загадка (без отгадки).
Кирико так и сказал: «Что же мне любить, если не тайну?»
Он утверждал, что бессмыслицу ему открыли Рембо и Ницше.
Они освободили его от тяжести смыслообразования.
Он стал парить в зелёном эфире нелепости.
Блаженная немота — секрет Джорджо де Кирико, его тайна.
Метафизические картины де Кирико — это последние немые картины в истории живописи.
Они соответствуют периоду немого кино.
Авангард теоретизировал, вещал, выдвигал лозунги.
Де Кирико, кстати, тоже писал — в тональности иронии и меланхолии.
Но картины его молчат, как оракул с кляпом во рту.
А что они изображают?
Угол, образованный двумя стенами.
Печенье, подобное осколку барельефа.
Перчатку — то ли рыцарскую, то ли Кота в сапогах — прибитую к стене игрушечной крепости.
Манекен, превращающийся в античную статую.
Метафизическая живопись Кирико — бессмысленная тревожная красота материи.
А ещё это отчётливость древнего, классического мира, всплывшего вдруг из глубин истории — из моря морей.
Мои слегка потрескивают ноги,
Звенят глаза браслетами в ночи,
И весь иду здоровый и убогий,
Где ломаные млеют кирпичи.
Погладил камень и сказал спокойно:
Спи, брат, не млей, к тщете не вожделей.
Творить себе кумир из человека недостойно,
Расти травой тысячелетних дней.
Вот за что я люблю де Кирико: он окликает меня петухом или мёртвой вороной!
Этот художник — охрипшее кукареку искусства.
Хорошо сказал о его живописи обожавший его Филип Гастон: «Картина де Кирико — это часы, которые смотрят на любую улицу, как на край света».
ЕЩЁ О КУКАРЕКУ
Вчера мы с Варварой попали на открытие русско-швейцарской выставки «1917 год».
Толпа в городском музее Цюриха собралась преогромная: старики, старухи.
Речи кураторов были отменно бездарными.
Чтобы совсем не захиреть, я закукарекал:
— Ква-ква-ква-ква!
Зал был полон, мы стояли на виду у всех.
Речи продолжались, а когда возникала пауза, я выл или лаял.
Как сказал Сергей Третьяков: «Рычи, Китай!»
Я мычал, когда произносилось имя Ленина.
Я блеял, когда произносилась фамилия Малевича.
Я каркал, когда произносилось слово «культура».
Я мяукал, когда все остальные хлопали.
Тут подошли двое мужчин из охраны.
Я уже сидел в изнеможении на корточках.
Один из них спросил Варвару:
— Скажите, он это непроизвольно делает?
— Что?
— Крики вырываются вне его воли? Он за себя не отвечает?
Варвара не выдержала и расхохоталась.
Двое сообразили, что мы не психи, а хамы, и вежливо попросили нас удалиться.
В ответ Варвара заквакала:
— Тяв-тяв-тяв-тяв!
Старики и старухи недоумённо морщили губы.
Нас вывели, осторожно придерживая за локти.
Вот опять Третьяков:
Это я в квартальный уют
От лица китайцев пою.
Это я в арсеналью дыру
От лица китайцев ору.
В обмен на тысячи плюх
Жадным зубом пера скриплю.
В Швейцарии до сих пор ощущается дух неврологического санатория и терапевтического диспансера.
В местных лечебницах побывали когда-то Нижинский, Роберт Вальзер и многие другие.
Совсем неподалёку, в Кройцлингене, лечил расстроенных людей добрый доктор Бинсвангер, автор книги «Мечта и существование», которую перевёл на французский язык Мишель Фуко.
В своём эссе «Об идее бегства» Бинсвангер писал, что некоторые из его подопечных способны были исчезать, не сходя с места — при помощи звуков, гримас или поз.
Скорчи рожу — и ты уже не здесь, ты — другой.
Бегство — в голове, но там же и тюрьма.
О КЛЕЕ
Пауль Клее не только рисовал, но и писал стихи.
Но это строчки другого поэта:
На луне нет дорог
И везде скамейки,
Поливают песок
Из высокой лейки —
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.
У меня на луне
Голубые рыбы,
Но они на луне
Плавать не могли бы,
Нет воды на луне,
И летают рыбы...
Вот так Клее и рисовал.
Вот так Клее и жил — на той луне другого поэта.
Несмотря на свою фамилию, он не был приклеен к земле, а обитал на планете без злых воспоминаний, без оков, куда его не рожало ничьё материнское чрево.
Имя Клее рифмуется не только с «аллеей» и «музеем», как показал Арсений Тарковский, но и с понятием «смелее!».
По-моему, он самый нежный и смелый художник самого злого и трусливого века, а автор стихов о луне — самый нежный и смелый поэт.
Как сказал о Клее Джорджо Агамбен: «Слияние двух уровней — создания произведения и перерождения автора — у Клее столь совершенно, что, созерцая его картину, задаёшься вопросом не столько о том, как работа над произведением и работа над собой могли достичь такого единства, сколько о том, как вообще могла прийти в голову мысль об их разделении».
Для Клее все его картины, картинки и картиночки — это формирование иного мира и иного себя: не склеенного навсегда Клее, а постоянно расклеиваемого и переклеиваемого, перекраиваемого в иные края Клее-без-клея.
Иной же мир — это, конечно, не какой-то кумир и не лечебный клистир, а скорее ориентир: луна.
Причём у Клее на его луне действительно «нет дорог и одни скамейки»: он ведь там находится в состоянии созерцания, как некоторые старушки на парковых скамейках (только Пауль не вспоминает эпизоды прожитой жизни, а наоборот — эпизоды непрожитой, постоянно переклеиваемой бездорожной луны и себя на ней в состоянии невесомости — «что ни шаг, то прыжок через три скамейки»).
Можно сказать и так: Пауль Клее на луне предаётся видению: себя в процессе переклеиваемости — от человечка к зверовечку, рыбомечку и яйцеклееовечке.
Кстати, по-немецки Klee — это клевер.
Клевер растёт на клеевской луне, но легко превращается в плевел, веер, фефер, клавир, фефелу и т. д.
Художник, став ясновидящим, созерцает не готовые формы, а формообразование, то есть свою способность к сотворению форм.
Именно поэтому нашему глазу на картинах Клее предстают не законченные булки и кренделя, а вот что:
На луне полутьма
И дома опрятней,
На луне не дома —
Просто голубятни,
Из каймы терема,
Чудо-голубятни.
У Клее нет ничего готового, завершённого — никаких городов, алфавитов, людей, языков, натюрмортов, пейзажей, а только их кайма.
У него вместо предмета — пре и мета, а Д улетело на луну и стало избушкой на курьих ножках.
И сам Клее уже не Пауль, Коля или Емеля, а какой-то странный инородец-уродец, который чем-то забавным и счастливым занимается, как и весь лунный народец:
На луне сор растёт —
Разные былинки,
На луне весь народ
Делает корзинки,
Из былинок плетёт
Лёгкие корзинки.
А поскольку, если слегка перефразировать слова Спинозы, способность к плетению корзинок есть не что иное, как сущность любого существа — в той мере, в какой оно обладает способностью что-то делать — созерцание этой способности является единственно возможным доступом к счастью.
Поэтому прав поэт Марр:
Ладаном пахла земли ладонь.
Дано ль мне тот вновь услышать запах,
Ощутить солнца живительный огонь,
Чужеземцев увидеть в странных шляпах.
Зеленел лужайки неровный круг,
Деревья, казалось, имели лица.
Вдыхая цветов ароматный дух,
Я к ручью подошёл напиться.
Напившись, случайно наверх взглянул,
Там, спеша, меж другими пернатыми
Дикий ангел в далёкую летел страну
В рваных брюках с большими заплатами.
ОБ АХИНЕЕ В МУЗЕЕ КЛЕЕ
Город Берн странен.
Он — каменистый, серый — расположен в долине реки Ааре, а над ним — две зелёные горы и синие небеса.
Жители Берна, задрав головы, смотрят то на одну гору, то на другую.
На первой горе живут дикие звери, то есть существа, которые не знают, что они не знают.
А на другой горе живут боги, которые знают, что всё знают.
Люди же, знающие, что ни фига не знают, обречены прозябать в низине Берна и вечно завидовать зверям и богам.
Музей Клее стоит на краю Берна и построен архитектором Ренцо Пиано.
В надземной части это сооружение представляет собой стеклянно-металлическую волнистую конструкцию.
Там — кафетерий, библиотека, книжный магазин.
Но главная — выставочная — часть музея находится под землёй, чтоб солнце не спалило нежные, как лепестки сакуры, пигменты.
Не знаю, думал ли архитектор Пиано о словах Клее про близость художника к мёртвым и нерождённым, но стеклянные волны музея напоминают о неродившихся, а подземные залы — об умерших.
Работы Клее в музее прослеживают весь его путь средь плавающих и затонувших, средь эмбрионов, прадедов, мышиных певиц, щебечущих машин, прекрасных садовниц, древних жеребят, птенцов в скорлупе, эйнштейнов, слонов и младенцев.
Есть у Клее работа под названием «Этот цветок очень хочет увянуть».
Есть и другая: «Эта звезда учит нагибаться в траву».
Клее не был ни живописцем, ни графиком, а живографиком. Он не изображал ни Природу, ни Идею, а Природонадею.
Долго мы бродили по музею Клее, как по подводной оранжерее или подземному эмпирею.
Устали, проголодались.
И поднялись наверх в кафетерий.
А там — суета, толкучка.
Группа мужчин и женщин в корпоративном платье пила шампанское и ела бутерброды с лососиной.
Нам тоже захотелось этой розовой рыбицы — вот мы и замешались в толпу, взяли два бутерброда и сели в сторонке.
Успели укусить раз, другой — и тут на нас надвигается «Аппарат для намагничивания растений» (название рисунка Клее).
Это было угрожающее, зубоврачебное орудие — валькирия в музейной униформе.
Она крикнула:
— Вы не были приглашены в буфет! Вы украли рыбные бутерброды! Вы должны заплатить за них!
Лососина застряла у нас в горле.
Как сказал Лесков (один из любимых авторов Вальтера Беньямина, купившего однажды работу Клее): «Пока мы не будем считать для себя обязательным участие к каждому человеку, до тех пор все гуманные теории — вздор, ахинея и ложь, только вредящие делу».
Платить за бутерброды не хотелось.
Есть, кстати, такое произведение у Клее: «Просвещение двух сектантов» — на нём изображены какие-то мужицкие тени, из растопыренных рук которых вылетают рюмки, словно их отнимает Дух святой.
Неужто валькирия думала, что просвещение заключается в отнятии у нас лососины и во взимании денег?
Мы попросту отдали ей недоеденные бутерброды — хлеб, масло, укроп и розовую рыбицу.
Это были уже и не бутерброды вовсе, а скорее цитаты из произведений Клее.
Но валькирия из музея не оценила нашу находчивость.
Увы нам!
Поэт Василиск Гнедов на старости лет написал такой стих:
Но где же вещие идеи
В каких запрятаны комодах
Забыты героические деи
Застыли в канцелярских мордах.
О ДВУХ ЖЕСТОКОСТЯХ — АНТОНЕНА АРТО И НЕИЗВЕСТНОГО НИЩЕГО
Арто писал: «Ничто не трогает меня, ничто меня не интересует, кроме того, что напрямую относится к моей плоти».
И ещё: «Культура — не в книгах, не в танцах, не в картинах и статуях; культура — вопрос нервов, их пластичности».
И: «Если я не верю ни в Добро, ни в Зло, если я испытываю столь сильную тягу к разрушению, если нет никакого принципа или порядка, к которому я мог бы себя отнести, значит единственный мой разум — тело».
Тело без органов Антонена Арто всегда неодолимо тянулось к ране.
Рана предполагала единение со звёздами — они пульсируют, как раны.
В детстве к нему на улице подползла избитая собака, и он увидел в её боку сочащуюся щель: весь мир превратился для него в эту рану.
Рана отдавала геральдикой, как и болью: однажды он нарисовал угловатую, стилизованную фигурку голодранца — с чёрной раной через всё тело.
Это был автопортрет, как и все его рисунки.
Юрий Олеша поставил знак равенства между Ницше и нищим — Арто вписывается в это тождество.
Когда в 1936 году он приплыл в Веракрус в поисках индейских мистерий, первым увиденным им живым существом стал попрошайка — седая щетина на впалых щеках, пергаментная кожа, бельма на обоих глазах.
Слепой протянул руку и сказал:
— Подай, ради Создателя.
Арто порылся в карманах и сперва ничего не нашёл:
— У меня нет ни одной монеты.
— У тебя их много, — возразил христарадный.
В заднем кармане штанов Арто обнаружил деревянные чётки — он купил их в еврейской лавке в Антверпене.
Сердце-рана сжалась: эти чётки были его талисманом.
Орегон кентаомаро мао!
Чтобы нанести себе очередную рану, Антонен разорвал шнур, на котором держались зёрна чёток, и опустил одну деревянную бусину в пыльную ладонь нищего.
Зерно упало бесшумно и пропало.
— Ты должен дать всё, — сказал попрошайка. — Не дав всё, ты не дашь ничего.
В последний разощупывая зёрна чёток, Арто переложил свой амулет в пустую ладонь слепого.
Чётки исчезли бесследно, словно канули в морскую бездну. Бездомный посмотрел на Арто своими бельмами и тихо произнёс:
— Теперь мы — братья. Ты, как и я, останешься с чёрными днями, с пустым миром и его злыми обычаями, без божественного разума — только с раной в голове.
Арто не слышал шагов слепого и не видел, как он растворился во влажном тумане Веракруса.
В тот же день он в панике сел на поезд и уехал в Мехико.
Без чёток и без разума, Антонен Арто всё же сохранил свой священный инстинкт не следовать никаким теориям и пророчествам — тот самый инстинкт, который выше всего ставил Фернандо Пессоа.
Кроме того, у него остались в запасе ещё два оберега — магический меч и чародейский посох.
Меч, выкованный из толедской стали, подарил ему колдун-негр в Гаване.
Потом он его тоже потерял.
А посох Арто получил из рук Рене Тома, к которому тот попал от дочери савойского колдуна, упомянутого, как и сам посох, в пророчестве Святого Патрика.
«В посохе этом, — писал Арто, — есть 200 миллионов волокон, он покрыт магическими знаками, кои олицетворяют высшие духовные силы. Мужчинам запрещается к посоху прикасаться — мужчинам, но не женщинам».
Антонен считал, что узловатый посох приближает его не только к Святому Патрику, но ещё и к Люциферу и Христу.
Он верил и одновременно не верил в могущество своих талисманов.
Он писал: «Трус я — и трусы, трусы вокруг».
И ещё: «Сколько лет я ношу в себе сознание пустоты — и не решаюсь сделать шаг в пропасть».
И: «Жестокость — отнюдь не игра, и мне она вовсе не нравится».
Арто много думал о жестокости (и нежности) искусства и написал на эту тему могучую книгу — «Ван Гог. Самоубитый обществом».
Там есть такие слова: «Ван Гог пришёл к той стадии озарения, когда мысль в беспорядке отступает под натиском всё поглощающих разрядов — когда мысль больше не стачивает вас, а сходит на нет, и когда остаётся лишь подбирать тела, то есть, я хочу сказать, ГРОМОЗДИТЬ ТЕЛА. Это уже не мир астрала: перед нами — вселенная прямого творения, перекрывающего тем самым и сознание, и мозг».
Слепой мексиканский нищий и ясновидящий Ван Гог — оба они влагали свои персты в отверстую рану Арто и вопрошали: «Боишься? Дрожишь? Трусишь?»
Тело без органов извивалось, как располовиненный червяк.
Поганый страх жизни, искусства, мысли — страх, зашифрованный в речах, лозунгах и символах — выстраивал факельные шествия в Мюнхене, строчил на Лубянку доносы, катился по Европе в танках, требовал казни для непокорных, организовывал охоту на ведьм.
Антонен Арто, писавший письмо Адольфу Гитлеру, испытал электрошок этого страха на каждой молекуле своего мозга.
Всесилен я и вместе слаб,
Властитель я и вместе раб,
Добро иль зло творю — о том не рассуждаю,
Я много отдаю, но мало получаю,
И в имя же своё собой повелеваю,
И если бить хочу кого,
То бью себя я самого.
За свои 50 с лишним лет Антонен Арто написал громадное количество слов и сделал множество прекрасных рисунков.
Поэтому имя и рана этого труса известны всему миру, а имя слепого нищего из Веракруса — никому.
О ПОПЫТКЕ ДЮБЮФФЕ
Сразу после окончания Второй мировой войны Жан Дюбюффе ввёл в культурный оборот понятие АRT BRUT.
В своём программном эссе «Art Brut лучше окультуренного искусства» Дюбюффе писал: «Под Art Brut мы понимаем работы, выполненные людьми, не задетыми художественной культурой. Здесь имитация — в противоположность тому, что думают интеллектуалы — не имеет никакого значения, ибо авторы черпают всё им необходимое (материалы, темы, ритмы, настроение) из своих собственных ресурсов, а не из условностей классического наследия или моды. В Art Brut мы видим творчество в его абсолютной чистоте и неотёсанности; мы видим искусство первичное, где творец действует исключительно на свой страх и риск. Таким образом, это работы первопроходцев и открывателей, а не продукты артистического обезьянничанья или хамелеонства».
Согласно Дюбюффе, художники-самоучки (пациенты психбольниц, заключённые или медиумы) свободны от запрограммированности, свойственной выпускникам академий и профессионалам, скованным теми или иными культурными догмами.
Выше всякого умения Дюбюффе ставит «дикие ценности», «первичные импульсы» и «культурное незнание».
Совершив паломничество в психиатрические лечебницы Швейцарии, Дюбюффе приобрёл там первые работы нового направления, составившие основу его будущей коллекции.
Однако Аrt Brut, по его мысли, не является искусством сумасшедших: «Не существует искусства психически больных, как нет искусства сердечнобольных или людей с повреждением колена».
Творчество душевнобольных, как детей и примитивов, было открыто в пору раннего модернизма, а затем осваивалось поколениями художников — от Матисса, Пикассо и Клее до сюрреалистов и группы «КоБрА».
Между Андре Бретоном, ставшим членом Compagnie de l’Art Brut, и Жаном Дюбюффе вспыхивали серьёзные разногласия: сюрреалисты принимали определение «искусство душевнобольных», а Дюбюффе — нет.
Полемизируя с Бретоном, Дюбюффе писал: «Все механизмы, действующие в «сумасшедшем», можно найти и в «нормальном» человеке — эти двое больше похожи друг на друга, чем думают. Запад глубоко заблуждается, считая безумие чем-то негативным. Оно — плодотворный и благодатный источник».
В общем и целом, Дюбюффе хотел отделаться от всех старых дихотомий: «искусство больных — искусство здоровых», «искусство низов — искусство верхов», «искусство примитивов — искусство интеллектуалов», «искусство самоучек — искусство профессионалов».
Сюрреалисты находили в искусстве безумцев аутентичность, артистическую свободу, отсутствие карьеризма.
Для Дюбюффе же главное было — избавление от культурных влияний.
Отнюдь не все произведения из психиатрических институций подпадали для него под категорию Art Brut: «Этот феномен исключителен и в случае безумных, и в случае разумных».
Важнейший фактор — условия, в которых создавались работы: «Art Brut является продуктом жизненной необходимости, когда кто-то тайно и молчаливо заполняет страницы дневника или лист бумаги — в одиночестве, прочь от институционального надзора. Эти вещи не созданы для публики, не ищут признания и одобрения, не зависят от тех или иных художественных концептов и правил. И они вовсе не бросают вызов границам искусства, а являются жизненными экспериментами, выращенными в секретном убежище плодами».
Дюбюффе прекрасно понимал, что не существует искусства, полностью оторванного от тех или иных культурных основ, но авторы Art Brut, по его мысли, равнодушны к этим основам.
В своих оценках Дюбюффе не покончил с культурными условностями, а лишь сдвинул их — вместо сумасшествия и маргинальности он аффирмировал антикультурный принцип: истинные делатели Art Brut из категории «художников» попадали в разряд «авторов».
Самым важным, однако, было то, что Дюбюффе связал Art Brut с идеей негласности и конфиденциальности: «Art Brut — это тайна, так будем же её хранить».
Примерно так:
Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша...
Идея тёмного и скрытого творчества, не предназначенного для общества спектакля — разве это не прекрасно?
Однако вновь обретённая потаённость и келейность искусства продлилась не слишком долго: в 1976 году в Лозанне состоялось публичное открытие коллекции Art Brut, и Дюбюффе стал чем-то вроде её куратора.
Следует заметить, что авторы так называемого Art Brut оказались более честны, точны и деликатны, чем Дюбюффе.
Например, Адольф Вёльфли называл свои рисунки «времяпрепровождением сумасшедшего» и объяснял, что сделаны они в «камере психбольницы».
С удивительной ясностью разделял он свои творения на две категории: «записные книжки» и «обычные работы» (рисунки, копии), предназначенные для обмена и на продажу.
Маргиналы жили глухо и скрытно, в полной неизвестности или в тени институций, зато информация об их искусстве распространялась всё шире, преобразуясь в халтуру.
Художники Art Brut понимали, что их творчеством могут манипулировать, но что они могли поделать?
Также они сознавали, что их вещи не созданы на пустом месте, а принадлежат определённой традиции.
Но какой?
Слова «традиция», как известно, восходит к латинскому tradere, что значит «передавать».
Речь идёт о передаче верований, легенд, ритуалов, обычаев — из одного поколения в другое.
Такая передача никогда не происходит плавно и бесконфликтно — это процесс, полный разрывов и тупиков, заимствований и переиначивания значений.
Art Brut — сложный сплав элементов древней народной культуры, безумных видений, новейшей социальной маргинальности, институциональной изолированности и тайных, подземных течений модернизма.
Традиция здесь присутствует и как таинственный, целебный источник, и как сковывающая, ограничивающая сила.
Как сказал Т. С. Элиот: «Поэт не знает, что ему делать до тех пор, пока он не покинет настоящее ради прошлого и не найдёт в прошлом спутников для себя».
Художники Art Brut могли бы сказать вслед за Рембо: «Вижу себя без конца в минувших веках. Но всегда одинок, всегда без семьи. На каком языке я тогда говорил?»
Вот так:
не помню, был ли я
когда-нибудь в Париже,
и если был, то с кем,
и если с кем, то как.
но не забыть волос
её бездонно-рыжих
и глаз её стальных,
расставленных не так.
и не забыть мне дней,
расставленных не хуже,
и не забыть ночей —
особенно одной:
когда не то Париж
подпрыгивал от стужи,
не то сгорали мы
в Ломбардии родной.
О ВЛАДИМИРЕ ЯКОВЛЕВЕ (И СЕЗАННЕ)
Неправильно думать о Владимире Яковлеве в отрыве от Поля Сезанна.
И вообще: неправильно думать о каком-либо художнике в отрыве от другого художника: «У каждого во рту нога его соседа».
Сезанн определил свой метод как «осмысление увиденного».
Он был Гераклитом всматривания.
Но сезанновское глазоощупывание — это уже одинокая воля, имевшая свой срок и предел.
Если смерть жизни и искусства есть разлука солнца с земным веществом, то Сезанн всё земное напоил солнцем в последний раз.
Но он не был с людьми.
Сезанн походил на усадьбу, стеной отгороженную от проезжей дороги, спрятанную за тёмными кронами деревьев.
Он был молчалив и необщителен, и всё всматривался, как перед самым закатом.
Уже незадолго до смерти он сказал: «Что ж, посмотрим сначала...»
Его нрав — и его живопись — отдалились от общества, которое хочет не начала, а причала.
Как относятся друг к другу предмет и воздух? — вот вопрос, обременявший Сезанна.
Его ответ был: как завет и роздых.
Караванных верблюдов в пустыне останавливают только на самые короткие роздыхи — в полдень и около полуночи.
В это время воздух особенно ясен и предметы отчётливы.
Тогда все законы, вероучения, заветы отступают — остаётся ясновидение.
Вещи на картинах Сезанна — это их покой, роздых, который природа даёт себе после всех трудов человека.
А Яковлев?
Он видит вещи такими, какими они являются после ядерной катастрофы.
Цветы Яковлева — последние цветы на Земле перед погашением Солнца.
Рыбы Яковлева — две-три последние рыбины в Мировом океане.
А сам Яковлев — окончательный, беднейший художник на свете.
Он смотрит в последний раз на Рыбу, на Цветок, на Кошку-зверя, но бедняге уже некому возносить молитву.
Но он счастлив, что Рыба говорит: «Это я!» — и не боится попасться ему на крючок.
О, Цветок! — разве ты не был смят конями моих предков?
О, Зверь! — разве ты не дрожал от охотничьих криков моих прародителей?
О, Пространство! — разве ты не содрогалось от механических машин моих пращуров?
И если я здесь последний, то не от меня ли спасает меня моя рука?
Таков Владимир Яковлев.
Он — не король на троне, не князь художников, а Лир.
Он — не соль земли, а её мозоль.
Вопрос, его обременявший, был: как относятся друг к другу тяготение и время?
Ответ, известный со времён Будетлянина: время так же относится к весу, как бремя к бесу.
Тяжело было мелкому бесу-человеку тащиться под бременем времени.
Но хватит уже бесноваться под тяжкой ношей — бремя со временем поглотило силы беса.
И вот — никакого беса уже нет.
Другими словами, время поглощает силы веса, и вес исчезает там, где самое последнее время.
Comprendе?
— Да, — сказал Ка, — в языке заложены многие истины.
А вот вам язык Яковлева:
Тяжёлым
Заснеженным
Небом
Снег
Снег
Как на ступенях
Тающие следы
Старого года.
О ФРЭНСИСЕ БЭКОНЕ И ВЕРНОМ СПОСОБЕ ПОЛЗАТЬ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ
Джорджо Вазари рассказывает, что, будучи в Милане, французский король Франциск попросил Леонардо да Винчи сделать для него что-нибудь причудливое и занимательное.
Изобретательный Леонардо сотворил деревянного льва, при приближении к которому маленькая дверца в груди зверя открывалась и из неё выдвигался герб французского государства.
Кажется, искусство Фрэнсиса Бэкона, как и многих других художников, хотят превратить в подобный аттракцион, но мы-то знаем, что это не пройдёт.
Бэкона не выдрессируешь, как какого-нибудь пса Кулика или обезьяну Каттелана.
Вот что сказал Альберто Джакометти: «Ты должен писать лицо не как что-то, что уже есть, но как нечто, чего ещё нет, что сейчас только рождается для взгляда».
Так Бэкон и делал.
Согласно древней поговорке, человек утром ходит на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх, но прелесть Бэкона заключается в том, что он норовит встать на четвереньки в любое время суток.
В этом — секрет его неуправляемости.
О НОЧАХ ФИЛИПА ГАСТОНА
Думаю, что во второй половине двадцатого века не было другого живописца, который бы с такой одержимостью, как Филип Гастон, пытался оживить Образ, Фигуру.
Бэкон, как сказал Жиль Делёз, писал становления — становление зверем, воплем, сфинксом, трупом.
Гастона же, по его собственному признанию, интересовали монстры: «настоящие, плотные, трёхмерные образы — големы».
Вот такие:
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там помянут кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища...
Примечателен анекдот, рассказанный Гастоном: «Однажды мы гуляли с Ротко по Нью-Йорку — в это время его холсты, написанные для Сиграм-билдинг, развешивались там. И вот Марк сказал, что, создавая эти тёмные, мрачные картины, он надеялся поразить до глубины души дельцов и директоров, заседавших в Сиграм — чтоб они затряслись в своих кабинетах. А я ответил, что предпочёл бы сотворить големов в подвалах Сиграм-билдинг, чтоб они, пробудившись к жизни, разворотили этот небоскрёб до основания. Ротко рассмеялся».
Согласно Гастону, каждый художник инстинктивно ненавидит власть, однако современные американские художники — декораторы власти.
Он не хотел быть декоратором, поэтому размышлял о дюшановской идее андерграунда — что же это может быть?
Как организовать антивластное подполье?
Гастон решил: андерграунд — в голове художника.
Из головы рождаются образы — и трансформируют жизнь.
Гастон всматривался: «Что творится в моей голове?»
Там шла отчаянная борьба между прислужником власти и настоящим, свободным художником.
В гастоновской голове-андерграунде сталкивались куклуксклановцы и божья десница, летающие кирпичи и тикающие часы, уснувшая в постели супружеская чета и Никсон, отрубленная башка, катящаяся по скошенной линии горизонта, и гора башмаков из Освенцима, Пьеро делла Франческа и обнажённая эдисоновская лампочка на витом шнуре.
Голова полна озорства, шутовства, кумовства.
Как сказал Джорджо Агамбен: «Легче понять, что происходит в голове Данте, чем в башке обычного человека».
Гастон был редкой помесью обычного человека с Данте.
Но, конечно, главное в нём — это последняя в истории искусства трагическая попытка оживить живописный Образ, Голем.
Поэтому в Гастоне сосуществовали не только Данте и маленький человек, но ещё и пражский раввин Лёв, и наивный ребёнок.
Мир, как сказал поэт, живёт людскими уловками с их простодушьем.
И Гастон — блудный сын народа Завета, который даже в гонениях и в гетто своих истово искал развеянное имя Бога — этот Филип Гастон тоже искал формулу Голема, способную освободить его.
Филип Гастон-Гольдштейн, сын старьёвщика из Одессы, повесившегося на верёвке в чулане в Лос-Анджелесе, решил во что бы то ни стало оживить Голема, чтобы тот сокрушил Эмпайр-стейт-билдинг, Сигрем-билдинг и весь Нью-Йорк дельцов, директоров и фальшивых художников.
Желая познать древнюю тайну, которую хранили фрески Джотто, Мазаччо, Учелло и Пьеро, ту восхитительную тайну, что тлела ещё в холстах Джорджо де Кирико, Гастон не жалел себя и долгими ночами при свете электричества занимался испытанием линий и красок — и собрал-таки воедино своё дитя, своего Голема.
Нелегко это ему далось!
Сей гастоновский монстр — последняя Образина в истории Запада.
Образ-Вий, образ-пугало, образ-Кощей...
Он оказался, как и все дети, сюрпризом для отца-художника: его любимым побегом и смертным врагом, желанной утехой и пугающим демоном, орудием экзорцизма и ребяческой радостью, старческим проклятьем и взрывом хохота — одним словом, всем на свете.
Прикуривая одну сигарету от другой, глотая виски и транквилизаторы, подпрыгивая и отскакивая от холста — поближе-подальше от этой куклы бессловесной, которую он создал из сорного праха, из отголосков древних причитаний, из осколков идей и снов — художник созерцал своё творение при искусственном свете, смешанном с холодным рассветом: ух!
Мазаль тов!!!
Новорождённое детище — Голем, цацка, Велес, Каин — взглянуло на своего создателя, с трудом разъяв липкие, дремотные ресницы, перебирая короткими пальчиками.
Художник шепнул:
— Ну, сделай первое движенье!
И подумал: «Как я сумел зачать такого сына?»
Голем же — двойник не человека, а собаки, и не собаки, а безгласой вещи — бессмысленно вращал головушкой и прикрывал мутные зенки.
И так был груб и дик обличьем этот новоявленный, так смешон и чудовищен, так колченог и искромсан, что кот Гастона-Гольдштейна сначала ощерился, а потом юркнул в самый тёмный угол мастерской (о том коте не сообщают биографы, но я его ясно вижу).
Ламца-дрица-оп-цаца!
Тут творение вдруг пало на колени перед творцом и стало в тупом, потешном смирении класть нижайшие восточные поклоны.
Ах так!
Что-то поперхнулось в Гольдштейне-Гастоне: «Разве это моё золото, философский камень алхимиков?»
И крикнул кто-то в Филипе: «Разве это — свобода?!»
И думал он отчуждённо: «Зачем к цепи, не знающей предела, добавил ты ещё одно звено?»
И взывал: «Боже, до чего доводят тщеславие, похоть и беспечность!»
И молил: «Усни, усни!»
Тогда Голем-Франкенштейн замер, во всём повинуясь хозяину, и глядел подобострастно, как побитый дебил.
О, не такого повиновения хотел мастер Филип!
В неверном свете пустынной мастерской глядел он на Сына своего в тоске глубокой и беспросветной, а невинный младенец Уроборос свернулся, вставил себе в рот собственный хвост, смежил очи и забылся, но, несомненно, и во сне помнил об Отце и молился Ему.
Адонай, о, Адонай!
Авессалом!
Авессалом!
Хлебников писал:
Чудовище — жилец вершин,
С ужасным задом,
Схватило несшую кувшин,
С прелестным взглядом.
Она качалась, точно плод,
В ветвях косматых рук.
Чудовище, урод,
Довольно, тешит свой досуг.
О САЕ ТВОМБЛИ
Однажды мы с Варварой чуть не познакомились с Саем Твомбли в галерее Ларри Гагозиана в Лондоне.
Мы просто хотели с ним поздороваться, но охранники заподозрили нас в каком-то злом умысле и выставили наружу.
Через несколько лет мы всё-таки встретили Твомбли в Риме.
Он сидел на камнях возле Тибра, сняв ботинки, и пил стерелизованное молоко прямо из горлышка бутылки.
Он был высок, как все американцы, с неясным цветом утомлённого лица.
В нём не было ничего оригинального — это-то и отличало его от пижонствующей мелкой буржуазии.
Мы знали, что он любит стихи и верит тем, кто их пишет.
Поэтому мы прочли ему это:
Я снял сапог и променял на звёзды,
А звёзды променял на ситцевый халат,
Как глуп и прост и беден путь Господний,
Я променял на перец шоколад.
Мой друг ушёл и спит с осколком лиры,
Он всё ещё Эллады ловит вздох.
И чудится ему, что у истоков милых,
Склоняя лавр, возлюбленная ждёт.
Твомбли покачивался в ритм стихов и улыбался.
Он мог якшаться с Гагозианом или с сингапурским миллионером, но всё это было величайшим вздором и недоразумением.
С тем же успехом он мог бы бриться раз в неделю в дождливую ночь в каком-нибудь общественном сортире.
Он понимал, что деньги и известность — ничто по сравнению с той дорогой, которую он прошёл.
Это была дорога мирового искусства — от пещерных рисунков Ласко до малевичевского белого на белом, то есть до стирания Образа.
В его почтенном возрасте мало кто знает, чему себя посвятить, но Сай был по-прежнему открыт к пеонам, пеанам, Пуссену, Мессине, персидской миниатюре и римской фактуре — но только не к халтуре.
Твомбли известен тем, что всегда вежливо отказывался говорить о своей работе, ссылаясь на то, что его воображение — «частное».
Возможно, некоторые не понимают, о чём здесь идёт речь: о совершенно новом всемирном порядке вещей, ибо если воображение художника «частное», то и восприятие его произведений должно стать «частным».
И тогда всё остальное — капитализм, конкуренция, война, иерархия языков и образов, пирамида технологий и интерпретаций — всё упраздняется.
Мышление становится иным, а за мышлением — жизнь.
Искусство с появлением Твомбли стало тайным, бесплатным и всеобщим.
Любой свободный человек, пройдя посвящение в частные таинства Сая, автоматически делается соучастником свято-профанных ритуалов, совершаемых на белых плоскостях или в скульптуре этого детского де-творца.
Это и означает «частное»: непринадлежность к людским клятвам и жертвам.
Последствия такого изменения непредсказуемы.
Счастливое созерцание картины может поднять зрителя до уровня воссоединившегося с духами шамана.
Неудачное погружение в картину может принести душевное увечье, ощущение позора, бессилия и тоски.
Один и тот же холст Твомбли — «Кончик копья Ахилла», например, — заключает в себе мириад частных возможностей, а то и куда больше.
Злобные и опустошённые люди привносят в картину свои доносы и наветы.
Чистые и радостные натуры окончательно просветляются и осчастливливаются.
Некоторые ропщут: «Моя дочка тоже так может...»
Другие благоговеют: «Это сделал мудрец...»
Живопись Твомбли — интерполяция случая в миропорядок, введение хаоса в космос.
Поэтому наличие зрительской ошибки не противоречит интенции художника, а только её укрепляет.
Всё в этом искусстве функционирует без официальной или критической гарантии.
Таково «частное» Сая Твомбли: священное отхожее место.
Изначальным материалом его является белизна — белоснежность листа бумаги, седина стены, лилейность грунтованного холста.
Вот что говорит он сам: «Белизна — иногда это классическое состояние сознания, иногда неоромантическое припоминание, иногда символическая белизна Малларме».
Сюда можно было бы добавить сказочку Леонардо да Винчи: «Однажды лист белой бумаги пожаловался туши: «Ты меня пачкаешь!». На это тушь возразила: «Буквы, которые я на тебе вывожу, — причина твоего существования».
В белизну листа Твомбли одним махом вводит сингулярные следы: своего языка, тела, образов.
Это — помарки, значки, пятна, подчистки, огрехи, метки, идеограммы, чёрточки, намёки, шифры, отметины.
Тут можно увидеть следы туалетной эротики: знаки пенисов, анусов, грудей.
Можно обнаружить сортирные пятна: следы подтирания, нашлёпки, потёки.
Можно заметить осколочные фрагменты классического искусства.
Можно найти какие-то даты и исчисления.
Тут есть и остатки языка: слова, стихотворные строчки, буквицы, имена, знаки препинания.
Искусство Твомбли — отголоски телесной и духовной жизни их автора.
И одновременно — остатки всей мировой культуры.
Авторство в этой телесно-духовной активности растворяется, стирается.
Случайное, автоматическое и привычное — «частное» — не совпадает ли оно с вековым поэтическим опытом — «всеобщим»?
Тут воробышек Катулла встречается со своими уличными собратьями, купающимися в пыли.
Тут ласточки Державина и Мандельштама исчезают в одном розоватом облаке.
Тут придорожная мальва оплодотворяется стихами Рильке.
Помарки, намётки, отметки Сая — солнечные архетипы Ра, лунные первообразы Ка.
Частное Твомбли обещает СПАСЕНИЕ.
Вот 7 доказательств этого:
1. Из частного нельзя построить государство или город.
2. Частное — та улица в городе, по которой ты ещё не ходил.
3. Частное — обещающий убежище дворик, который закрывают здания на этой улице.
4. Частное — яблоня, растущая в том дворике, куда нельзя попасть из-за закрытых ворот.
5. Частное — последнее яблоко на той яблоне, что растёт в этом дворике и которое на твоих глазах было сорвано обитательницей дома.
6. Частное — сердцевина этого яблока, которое ешь не ты.
7. Частное: страна, город, центр, окраина, загород — незамеченные и желанные, никогда не мои и не твои.
Станет ли частное новым порядком вещей?
Придёт ли конец машинерии Королевства кривых зеркал?
Скажет ли живая тварь «аминь» бездарной конкуренции языков и валют?
Станет ли художник бессребренником своей жизни?
Если нет, то дело — труба.
Как это точно описал поэт:
О чём поёшь ты, птичка в клетке?
О том ли, как попалась в сетку?
Как гнёздышко ты вила?
Как тебя с подружкой клетка разлучила?
Или о счастии твоём
В милом гнёздышке своём?
Или как мушек ты ловила
И их деткам носила?
О свободе ли, лесах,
О высоких ли холмах,
О лугах ли зелёных,
О полях ли просторных?
Скучно бедняжке на жёрдочке сидеть
И из оконца на солнце глядеть.
В солнечные дни ты купаешься,
Песней чудной заливаешься,
Старое вспоминаешь,
Своё горе забываешь,
Семечки клюёшь,
Жадно водичку пьёшь.
И ПОСЛЕДНЕЕ: О НАЗНАЧЕНИИ ИСКУССТВА
Как, несомненно, заметила моя дорогая читательница, вся эта книга полна цитат.
«Цитата есть цикада, — сказал Мандельштам, — неумолкаемость ей свойственна».
О чём же цикады так неумолчно поют?
«Человек, ни разу ещё не думавший о деньгах, о чести, о приобретении влиятельных связей, — да разве может он знать людей?» — воскликнул Ницше.
Но цикады-то поют не об этом!
И сам Ницше прекрасно это знал, ведь это он сказал: «Как только благоразумие говорит: «Не делай этого, это будет дурно истолковано», я всегда поступаю вопреки ему».
Вот о чём скрежещут цикады!
Поэтому вот вам ещё одна цитата — из Поля Валери: «Назначение живописи неясно».
И далее: «Будь это назначение определённым — скажем, создавать иллюзию видимых предметов или радовать глаз и сознание своеобразным мелодическим размещением красок и форм, — проблема существенно упростилась бы и, без сомнения, было бы больше прекрасных произведений (то есть произведений, отвечающих конкретным требованиям), но исчезли бы творения необъяснимой красоты».
И ещё Хлебников:
Я не знаю, Земля кружится или нет,
Это зависит, уложится ли в строчку слово.
Я не знаю, были ли моими бабушкой и дедом
Обезьяны, так как я не знаю, хочется ли
Мне сладкого или кислого.
Но я знаю, что хочу кипеть и хочу,
Чтобы солнце и жилу моей руки
Соединяла общая дрожь.
А вот другая цитата из Ницше: «Я ненавижу обывательщину гораздо больше, чем грех».
И снова Валери: «Я подхожу в музее к «Спящей Венере». Картина изображает белую полную фигуру. Кроме того, я вижу отличное распределение света и тени. Кроме того, я вижу подбор красивых деталей и великолепных кусков: гладкий живот, мастерское, восхитительное сочленение руки с плечом, определённая глубина голубоватого с золотом ландшафта. Кроме того, я вижу систему валёров, красок, изгибов, поверхностей: картину соотношений, присутствие богини, акт искусства... Не будь этого совокупного разнообразия, никакая поэзия не ощущалась бы».
А теперь слово Николаю Олейникову:
Однажды красавица Вера,
Одежды откинувши прочь,
Вдвоём со своим кавалером
До слёз хохотала всю ночь.
Действительно весело было!
Действительно было смешно!
А вьюга за форточкой выла,
И ветер стучался в окно.
И опять Валери: «Искусство есть внешняя комбинация живого и действенного многообразия, чьи акты откладываются, сходятся в материале, который разом их претерпевает, который противится, который их стимулирует и преобразует, — который дразнит, распаляет и может порой осчастливить художника. И хотя каждое его усилие направлено к простой однозначной цели, в своей совокупности они приходят к удивительному результату, восстанавливая живую конкретность, сообщая художнику, этому первому зрителю, богатство, качественную сложность всякой реальности, многообразие и даже внутреннюю неисчерпаемость данной вещи, — и всё это благодаря чувственным и символическим эффектам восприятия красок».
И снова Олейников:
Приятен вид тетради клетчатой:
В ней нуль могучий помещён,
А рядом нолик искалеченный
Стоит, как маленький лимон.
О вы, нули мои и нолики,
Я вас любил, я вас люблю!
Скорей лечитесь, меланхолики,
Прикосновением к нулю!
Нули — целебные кружочки,
Они врачи и фельдшера,
Без них больной кричит от почки,
А с ними он кричит «ура».
Когда умру, то не кладите,
Не покупайте мне венок,
А лучше нолик положите
На мой печальный бугорок.
И опять Валери: «Создания искусства свидетельствуют о личностях более точных, лучше владеющих своим естеством, своим взглядом, своими руками, ярче отмеченных, выраженных, нежели те, кто, видя законченную работу, не догадываются о предшествовавших поисках, исправлениях, безнадёжностях, жертвах, заимствованиях, уловках, о долгих годах и, наконец, счастливых случайностях — обо всём исчезающем, обо всём скрытом, рассеянном, впитанном, утаённом и отрицаемом — обо всём, что отвечает природе человеческой и противостоит жажде чудесного, — в которой, однако, заложен важнейший инстинкт этой самой природы».
Таким образом, заключает Валери, в любом бесполезном занятии, вроде живописи нужно стремиться к чудесному.
Кажется, тут нечего добавить?
Но вот Сократ: «Голод — лучшая приправа к пище».
И Рене Шар: «Вначале был Страх, потом сопротивление тому, что Его вызывает, потом Слово, Загадка и другие происшествия (я ставлю Пение и Иллюзию бок о бок — или как вам угодно)».
И Мондриан: «Картины для художника словно дети для родителей: чем старше, тем удалённее».
И снова Шар: «„Изобилие — это преступление“, — пролепетал мне родник в скалистой расщелине».
И опять Хлебников:
Из мешка
На пол рассыпались вещи.
И я думаю,
Что мир —
Только усмешка,
Что теплится
На устах повешенного.
Кажется, достаточно уже?
Нет, не достаточно.
В этой книге много чего не хватает: имён, мыслей, образов.
Как сказал поэт: «Эрмитажные воробьи щебетали о барбизонском солнце, о пленэрной живописи, о колорите, подобном шпинату с гренками, — одним словом, обо всём, чего не хватало мрачно-фламандскому Эрмитажу».
И: «В поэзии, в пластике и вообще в искусстве нет готовых вещей».
Ну вот!
И есть ещё одна, последняя цитата, которая кажется мне очень уместной.
Она — из Ги Дебора: «Я рассказал вам о том, что я люблю, а то, что я ненавижу, и так очевидно».
Все свободны
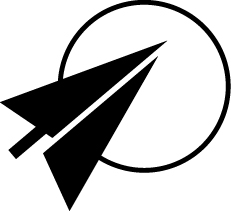

АЛЕКСАНДР БРЕНЕР
КА, ИЛИ ТАЙНЫЕ,
НО ИСТИННЫЕ
ИСТОРИИ ИСКУССТВА
— Ты дышишь? Ты живёшь? Не призрак ты?
— Я первенец зелёной пустоты.
— Я слышу сердца стук, теплеет кровь...
— Не умерли, кого зовёт любовь...
— Румяней щёки, исчезает тлен...
— Таинственный свершается обмен...
— Что первым обновлённый взгляд найдёт?
— Форель, я вижу, разбивает лёд.
— На руку обопрись... Попробуй... Встань...
— Плотнеет выветрившаяся ткань...
— Зелёную ты позабудешь лень?
— Всхожу на следующую ступень!
— И снова можешь духом пламенеть?
— Огонь на золото расплавит медь.
— И ангел превращений снова здесь?
— Да, ангел превращений снова здесь.
Михаил Кузмин
Последние комментарии
9 часов 24 минут назад
13 часов 39 минут назад
15 часов 57 минут назад
17 часов 47 минут назад
23 часов 32 минут назад
23 часов 38 минут назад