Рассказы
Банный день
Виктору Орловскому

Наш народец собирался у высокого крыльца уже к шести часам. Продажа билетов начиналась в восемь, но солидные люди, любители первого пара и знатоки веников, приходили, естественно, раньше. Первым в очереди всегда стоял загадочный лысый гражданин. В бане он был неразговорчив и сидел отдельно. За ним стоял бывший прапорщик Евсюков в широченных галифе с тонкими красными лампасами. Он держал душистый веник и застиранный вещмешок. Был там и маленький воздушный старичок, божий одуванчик, которому кто-нибудь всегда покупал билет, и он, благостно улыбаясь, сидел в раздевалке, наблюдая за посетителями. Эта утренняя очередь была единственной ниточкой, связывавшей старичка с миром, и все понимали, что будет означать его отсутствие. Я сам знавал такого старичка. Он был прикреплён куда-то на партийный учет и звонил своему пенсионному секретарю, переспрашивая и повторяясь, тут же забывая, о чём он говорил. Секретарем, по счастью, оказалась доброй души старушка, помнившая чистки и так натерпевшаяся тогда, что считала своим долгом терпеливо выслушивать всех своих пенсионеров. Готовя нехитрую одинокую еду, она, прижав телефонную трубку плечом и склонив голову на бок, как странная птица, внимала бессвязному блеянию. И жизнь перестала вытекать из старичка. Он пребывал в вечном состоянии уплаты взносов и дремоты на отчётных собраниях пенсионеров. Но, вернувшись к нашей бане, надо сказать, что множество разного народа стояло в очереди вдоль Третьего Иорданского переулка. Первые два были уже давно переименованы, а этот последний, третий, остался, и остались наши бани, отстроенные ещё сто лет назад, и вокруг которых в утренней темноте клубился банный любитель. Стояли в очереди отец и сын Сидоровы. Отец в форме офицера ВВС, а сын – в только что вошедшей в моду пуховке с пушистой бахромой на капюшоне. Стояли горбоносый Михаил Абрамович Бухгалтер со своим младшим братом, который, впрочем, появлялся редко – он предпочитал сауну. Раевский в этот раз привел своего маленького сына. Толстый Хрунич постоянно опаздывал, и сейчас появился, как всегда, в последний момент, когда настало великое Полвосьмого, дверь открылась, начало очереди сделало несколько шагов и упёрлось в окошечко кассы. Кассирша закричала как умирающая на сцене актриса: «Готовьте мелочь!», быстро прошли желающие попасть на вечерние сеансы, а те, кому упал в руки кассовый чек с надписью «спасибо» (завсегдатаи брали сразу два – на оба утренних сеанса), побежали вверх по лестнице с дробным топотом, раздеваясь на ходу и выхватывая из сумок банные принадлежности. Спокойно раздевался лишь Евсюков. Хрунич суетился, снимая штаны, щеголяя цветными трусами, искал мгновенно утерянные тапочки и вообще производил много шума. Рюкзаки братьев Бухгалтеров извергали из себя множество вещей, не имеющих по виду никакого отношения к бане. Вот пробежал в мыльню старший Сидоров, волоча за собой сразу три веника. Раевский торопливо расстёгивал курточку своего сына. – Дай мне твоего Розенкранца! – не ожидая ответа, Хрунич схватил губку Евсюкова и зашлёпал резиновыми тапочками по направлению к мыльной. – Чего это он? – удивился Евсюков, аккуратно складывая ношеное бельё на скамейку. – Это Хренич хочет свою образованность показать, – сказал Сидоров-младший и, собрав в охапку веники, устремился за Хруничем. Хрунича за глаза звали Хреничем, на что он очень обижался. Хрунич-Хренич был музыкант, то есть по образованию он был математик, и десять лет потратил на то, чтобы убедиться, что играть на скрипке для него гораздо приятнее, чем крепить обороноспособность страны. В нашей компании было много таких, как он, и никто не удивлялся таким поворотам карьеры. Один Сидоров-младший, который учился в том же самом институте, что и когда-то Хрунич, был неравнодушен к теме перемены участи. Дело было в том, что Сидоров и сам не сильно любил свою альмаматер, но бросить её боялся, и от этой нерешимости всем завидовал. Завидовать-то он завидовал, но показать это было неловко, и он молчаливо двинулся за всеми в дверь мыльного отделения. Евсюков же, пройдя в мыльню, стал напускать в таз горячую воду. Он положил свой веник в один таз, а затем прикрыл его другим, так что осталась торчать только ручка, перетянутая верёвочкой и подрезанная, чтобы никого, упаси Бог, не поранить в парной. К веникам Евсюков всегда относился серьёзно. Как-то, в конце весны, он выбрался в Москву, вернее, сразу же уехал в Подмосковье и взял меня в поход за вениками. Евсюков уверенно шёл по майскому лесу с огромным невесомым мешком за спиной. Он искал особые места - у воды, где росли берёзы с тонкими и гибкими ветками. Евсюков обрывал листики с разных деревьев, облизывал, сплёвывал, и, если листик был шершавым, переходил дальше, снова пробовал листья языком, пока не находил искомых – бархатистых и нежных. Евсюков учил меня тогда отличать глушину от банной берёзы, но я не слышал его. Вместо того, чтобы впитывать тайное знание, я пил весенний воздух, и совсем не думал ни о берёзовых вениках и их очистительных свойствах, ни о вениках можжевеловых, ни о вениках эвкалиптовых и дубовых. Не думал я и о вениках составных, с вплетёнными в них ветвями смородины, которые так любил вязать Евсюков. Я думал о любви, и лишь треск веток прервал тогда мои размышления. Это сам Евсюков обрушился с берёзы, на которую он не поленился залезть за нужными веточками. Евсюков сидел на земле, отдуваясь, как жаба, и отряхивая свой зелёный френч. Так нелегко давались ему уставные банные веники. У меня на даче мы повесили их, попарно связанные, под чердачной крышей. Крыша была прошита незагнутыми гвоздями, да так, что приходилось всё время вертеть головой. Евсюков уехал к себе, наказав следить за вениками. Ими он пользовался, приезжая в Москву. И сейчас, взяв один из них, хорошенько уже отмокший в тазу, ставший мягким и упругим, он поторопился в парную. В парной Евсюков забирался на самую верхотуру. Он сидел в уголке у чёрной стены, не покидая своего места по полчаса. Евсюков вообще любил высоту и жар. Лет восемь назад бравый прапорщик Евсюков нёсся над землей, сидя в хвосте стратегического бомбардировщика. Сидел он там не просто так, а с помощью автоматических пушек обеспечивая безопасность страны и безопасность своих боевых товарищей. Евсюков занимался этим не первый год, но восемь лет назад прозрачная полусфера, под которой он сидел, отделилась от самолёта, воздушный поток оторвал прапорщика от ручек турельной установки и потащил из кабины. Вряд ли бы он сидел сейчас с нами на полке с душистым веником, если бы не надёжность привязных ремней. Пока бомбардировщик снижался, с Евсюкова сорвало шлемофон, перчатки и обручальное кольцо. Когда его смогли втянуть в фюзеляж, Евсюков был покрыт инеем. Ещё высотный холод поморозил Евсюкову внутренности. Провалявшись три месяца в госпитале, он был комиссован, но с тех пор приобрёл привычку медленного, но постоянного обогрева организма. Летом после парной Евсюков употреблял арбуз, а в остальное время – мочёную бруснику. Теперь он сидел в уголку, рядом со стенкой, дыша в свой веник, прижатый к носу. – Ну ты чё, ты чё, когда это в Калитниковских банях было пиво? – пробился через вздохи чей-то голос. – Болтать начали, – сказал сурово старший Сидоров. – Значит, пора проветривать. Мы начали выгонять невежд-дилетантов из парной. Незнакомые нам посетители беспрекословно подчинялись, пытаясь, однако, проскользнуть обратно. – Щас обратно полезут, все в мыле... – отметил мрачно Хрунич. Наконец, вышли все. Начали лить холодную воду на пол. Евсюков, орудуя старыми вениками, сгонял опавшую листву с полок вниз, а Сидоровы, погодя, захлопали растянутой в проходе простыней. Дилетанты столпились у двери и, вытягивая длинные шеи, пытались понять, когда их пустят внутрь. И вот Хренич стал поддавать, равномерно, с паузами, взмахивая рукой. Поддавал он эвкалиптом, у нас вообще любили экзотику или, как её называл Сидоров-старший, «аптеку». Поддавали мятой, зверобоем, а коли ничего другого не было – пивом. – Шипит, туда его мать, смотри, куда льешь!.. – крикнул кто-то. – По сто грамм, по сто грамм, уж не светится, а ты всё льешь... – Пошло, пошло, пошло... Ща сядет... – Ух ты... – Эй, кто-нибудь, покрутите веником! – Да не хлестаться... Ох... – Ну ещё немножко...
Много времени прошло, пока наша компания выбралась из парной и двинулась обратно в раздевалку. Еврейский человек Бухгалтер был сегодня освещён особенной радостью. Неделю назад у него родился внук. Дочь Михаила Абрамовича вышла замуж по его понятиям поздно, в двадцать четыре года, и ровно через девять месяцев появился наследник. Михаил Абрамович разложил на коленях ещё необрезанные фотографии. На них была изображена поразительно красивая женщина, держащая на руках ребёнка, и темноволосый молодой человек, стоящий на коленях перед диваном, на котором сидела его супруга. Молодой человек положил голову на покрывало рядом с ней. Все трое, видимо, спали. – Ишь, библейское семейство, – вздохнул Хрунич. Михаил Абрамович поднял на нас светящиеся глаза. – Вот теперь мне – хорошо, – сказал он. – Мы принесли водочки, – произнёс его брат, похожий на приказчика из рассказов Бабеля. Заговорили о войне, продаже оружия и отказниках. Торопиться было некуда, время мытья, массажа, окатывания водой из шаечек и тазов ещё не пришло, и можно было лить слова как воду.
Так мы всегда беседовали, попарившись, потягивая различные напитки – чай со сливками, приятно увлажнявшими сухое после парной горло, морсы всех времён и народов, пивко, а те, кто ей запасся – и водочку. Теперь мы пили водочку за здоровье семейства Бухгалтеров. Сейчас я думаю – как давно это было, и сколько перемен произошло с тех пор. Перемен, скорее печальных, чем радостных, поскольку мы столько времени уже не собирались вместе, а некоторых не увидим уже никогда. Убили Сидорова. Самонаводящаяся ракета влетела в сопло его вертолёта, и, упав на горный склон, он, этот вертолёт, переваливался по камням, вминая внутрь остекление кабины, пока взрыв не разорвал его пятнистое тело. Убили, конечно, Сидорова-старшего. Сидоров-младший узнал подробности через месяц, когда вместе с бумагами отца приехал оттуда его однополчанин. Однополчанин пил днём и ночью, глядя на всех пустыми глазами. Впрочем, и особых подробностей от него добиться не удалось, а официальная бумага пришла ещё позже. Мы так и не узнаем, как всё произошло. Не узнаем, но мне кажется, что всё было именно так – горный склон, покрытый выступающими камнями, и на нём – перекатывающееся, будто устраивающееся поудобнее, тело вертолёта. Младшему Сидорову хотели выплачивать пенсию, как приварок к его стипендии, но выяснилось, что до поступления в свой радиотехнический институт он-таки проработал год, и пенсию не дали. Его мать давно была в разводе с майором Сидоровым, майора похоронили в чужих горах, и на том дело и кончилось. Сема, Семен Абрамович перелетел океан, без обратного билета. Последний раз мы увидели его в Шереметьево, толкающего перед собой тележку с чемоданами. Он ещё обернулся, улыбнувшись, и исчез, будто выйдя из раскалённого, как парная, аэропорта.
А пока они сидят все вместе на банной лавке, отдуваясь, тяжело вздыхая, и время не властно над ними. Но время шло и шло, минуло четыре часа, и уже появился из своего пивного закутка банщик Федор Михайлович, похожий на писателя Солженицына, каким его изображали в зарубежных изданиях книги «Архипелаг ГУЛаг». Он появился и, обдавая нас запахом переваренного «Ячменного колоса», монотонно закричал: – Паторапливайтессь, паторапливайтесь, товарищи, сеанс заканчивается... Не успевшие высохнуть досушивали волосы, стоя у гардероба. Хрунич всё проверял, не забыл ли он на лавке фетровую шляпу, и копался в своём рюкзачке. Евсюков курил. Наконец, все подтянулись и вышли в уже народившийся весенний день. Грязный снег таял в лужах, и ручьи сбегали под уклон выгнувшегося переулка. Мартовское солнце внезапно выкатилось из-за туч и заиграло на всем мокром пространстве между домами. – Солнышко-оо! – закричал маленький сын Стаховского, и весь наш народец повалил по улице.
08 января 2019
История про бабу Клёпу
Однажды в пятницу я жил в маленькой деревне. Она была такая маленькая, что никакой картограф, даже с самым университетским образованием, не мог бы её уместить на карте. Жил я у бабы Клёпы. Бабу Клёпу по-настоящему звали Асклепиодотта Власьевна, но она очень стеснялась своего имени и даже не стала получать паспорт. Стеснялась она, стеснялась, да так, что не вышла замуж. Потом, правда, выяснилось, что выходить уже не за кого, потому что все её односельчане вымерли.История про липучку
А с потолка у бабы Клёпы свисала липучка. На липучке были прикреплены мухи. Липучка была такая липкая, просто ужас! Однажды к ней приклеился даже страховой инспектор! Но это совсем другая история.История про творожные лепёшки
По утрам баба Клёпа пила молоко, днём кушала щи, а вечером делала творожные лепёшки. Лепёшки у неё были замечательные, и они нравились всем — мне, кошке Ласочке, которая всегда спала на подоконнике, тяжело вздыхая, приблудной собаке неизвестного имени и самой бабе Клёпе. Но вот беда, их запах очень нравился большому усатому таракану, который жил у бабы Клёпы за печкой. Он выходил оттуда и шевелил усами. Тогда баба Клёпа прыгала на стол, громко кричала и поминала нехорошими словами патриарха Никона, видимо насолившего ей чем-то в её стеснительной молодости. Баба Клёпа очень боялась тараканов. Тогда я бежал за стариком Пафнутием. Тот был амбарным сторожем и отменной храбрости мужчиной. Одну ногу у него оторвало на империалистической войне, другую на гражданской, правую руку он потерял в финской кампании, а левую — будучи в партизанах Отечественной войны. Зубы, правда, ему выбили в других местах, про которые все так много нынче пишут. Слава Богу, что в амбаре совсем ничего не было, иначе бы старику Пафнутию пришлось нелегко на его теперешней службе. Так что уж кто-кто, а старик Пафнутий был тем человеком, который не побоялся бы ничего. Итак, я зазывал старика, тот подползал к порогу и грозно цыкал на таракана, так что тот убирался восвояси. После этого мы пили чай втроем, а Пафнутий рассказывал нам, что своих тараканов он давно приструнил и даже научил ходить строем. В доказательство он даже подарил мне одного из них, самого смышлёного. Но в поезд меня с тараканом не пустили, и пришлось его привязать на верёвочке к последнему вагону. Однако, по пути последний вагон отцепили, и я приехал в Москву без подарка.18 июня 2002
Несколько историй про Раевского, записанные много лет назад
ПРО РАЕВСКОГО
Под вечер Раевский занемог. Он попытался заснуть, задрыгал ногами, вздохнул и всё-таки встал. Попробовал почитать, выпил чаю и умучил нескольких тараканов. На следующую ночь он позвонил начальнику домой. Всё равно не спалось. Так прошло несколько дней. В пятницу он почувствовал облегчение. Из него вылезло длинное нескладное существо и, пройдясь по квартире, исчезло. И тут Раевский понял, что любовь оставила его навсегда.РАЕВСКИЙ В ГОСТЯХ
Раевский пришёл в гости. За столом сидели Каракин и Лопатников. — А у нас марьяж, марьяжик, Андрей Владимирович, — сказал между тем Лопатников ехидно. — Сука ты, — ответил Каракин просто. Затем он обернулся к Раевскому и спросил: Чего тебе? — Я вам масло принёс, — неловко улыбаясь, сказал Раевский. — Соевое. — Положи на стол в кухне и иди. — ответили ему. Но в кухне Раевский увидел такое, что долго-долго бежал без оглядки по пустым улицам.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАЕВСКОГО С ДЕВУШКАМИ
Раевский был знаком с красивой девушкой, сколь глупой, столь и фригидной. Встречаясь с ней, он изображал трагедию неразделённой любви, а девушка — кокетливо делала намеки. Раевский пугал её интеллектом. Так у них ничего и не вышло. С тех пор остаётся непонятным — кто же кого надул?ВАРИАНТ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАЕВСКОГО С БАБАМИ
Раевский был знаком с одной замечательной бабой, глупой и холодной. Всеми силами Раевский показывал, как он тащится на неё, а эта чувиха всеми силами показывала, что ему не даст, но беспрестанно звонила. Так они и не трахнулись. С тех пор остаётся непонятным, кто же кого надул?26 января 2003
История про старый спектакль
Спектакль начался. Вышли несколько актёров-шизофреников. Шизофрения у актёров должна быть, всё в их жизни должно вроде бы провоцировать. Передо мной затряслись табакерки, накладные усы и накладные носы. Слышал я при этом бормотание суфлёра — надо сказать, это тоже вело к сумасшествию у неподготовленного человека, даже у зрителя. Таков был этот голос. Причём я-то сидел прямо на суфлёрской будке. Голос был женский, напряжённый — таким хорошо озвучивать порнофильмы. В зале зашелестели фольгой и стали наливать что-то из термоса. Актёр на сцене зарыдал и суфлёр тоже начал сморкаться и всхлипывать. Служанка, выбежавшая вперёд, была надушена духами Angel. Яростно, так, чтобы это унюхал весь партер. Я упал на пол и стал корчиться. Товаровед из зрителей с размаху ударил меня батоном колбасы. Меня вынесли.06 сентября 2008
Прапорщик Евсюков
Жене Денисову
Её рассказал сам Евсюков, распивая чаи в запутанной коммунальной квартире Володи Раевского. История эта относится к тому времени, когда Евсюков ещё был бравым лётным прапорщиком, и вместо зелёных петлиц с дубовыми листьями носил героические голубые. Таким образом, никто не может сомневаться в её правдивости. Нет, никто. Началось всё с того, что у Евсюкова украли сапоги. Самое обидное было в том, что их украли в бане. Баню Евсюков любил, и даже очень. Любил посидеть на полке со старожилами маленького городка, в народе называемого просто "Северопьянск". Да, любил баню военно-воздушный прапорщик Евсюков. Вот там и украли его новые яловые сапоги. Долго стоял он в предбаннике, размахивая чистой портянкой, но, наконец, устал и, кряхтя, засунул ноги в разбитые сапоги друга банщика, подхватил вещмешок с веником б/у и вышел. Грустно было Евсюкову. Будь он складским, жирным и вороватым прапорщиком, он, может, и не огорчился бы пропаже. Но Евсюков был начальником турельной установки и, сидя под гигантским колпаком-блистером, защищал заднюю полусферу носатого, похожего на половой член, стратегического бомбардировщика. Можно было бы обменять зелёные трёхрублёвые поллитра на такие же сапоги у настоящего складского вора, но Евсюков вчера не сошёлся с ним во взглядах на правительство Альенде и теперь возненавидел казнокрадство. Никто не мог помочь Евсюкову. Обида сжимала его сердце. Со скрипом перемещаясь в ранних полярных сумерках по деревянному тротуару, он наткнулся на любин магазин.
Магазин был замечателен ассортиментом и хозяйкой. В нём продавалось всё. Кто-то видел там даже мохер и японские транзисторные приёмники. А хозяйка… Да… Люба Татарова была звездой Северопьянска и прилегающих к нему воинских частей. Матросы дрались за субботний выход в город под любым предлогом (в воскресенье магазин не работал). Печальные офицерские жёны провожали своих мужей со слезами отчаяния на глазах, если они (мужья) собирались купить себе тренировочные брюки. Эх, да и что говорить… "Самый смелый летчик, самый сильный дембель Любу поджидали у ворот…" — вот как пели в гарнизонах. Лишь одному человеку Люба была готова отдать сердце. И этим человеком был Евсюков. Но напрасно глядела она своими влажными чёрными глазами в медаленосную грудь прапорщика. Прапорщик был женат. Для любившего порядок Евсюкова этим всё было сказано. Вот в этот-то магазин внесли Евсюкова горемычные банные сапоги. Печально поведал Евсюков Любе свою историю. Люба, сжав виски ладонями, ловила каждое его слово. — О Боже мой, Боже мой, — шептала Люба. Дослушав, она решила помочь ему, чем могла. Увы, не тем, чем желала. Всего лишь кирзовыми сапогами с начёсом, прекрасными сапогами огромного евсюковского размера, хорошими в зимнее время. Будь Любина воля, она бы чистила эти сапоги каждое утро сама, смазывала их, нет, не гуталином, а роскошным финским кремом, но не было это суждено Любе Татаровой, и она, вздохнув, повела прапорщика Евсюкова в подсобку. Прапорщик, крякнув, оторвал крышку от ящика и начал выбирать сорок шестой размер из кучи сапог, пахнувшей свежей кожей. Увы, сапоги были славными, но маленькими, годными лишь для уставного раздувания евсюковского самовара. Тут-то всё и началось. Евсюков, положив мешок в сторону, и снова прикрыв ящик, обнаружил, что находится один в подсобке. Потух свет. Не успев осознать себя между стопками охотничьих лыж, жестяным корытом и венгерским спальным гарнитуром, он услышал тяжелые шаги по лестнице и, как вонючий и горький на вкус летний заяц, прыгнул в тёмный угол. Это явно была не Люба. И вот стоит бравый Евсюков за холодильником "Север" и боится вздохнуть, а между тем загадочные гости, освещая себе путь фонариком, ввалились в подвал. Гостей было трое. Тонкая и изящная барышня в воздушном белом платье, с иссиня-чёрными волосами, рассыпавшимися волнами по её плечам, высокий чернобородый человек в широкополой шляпе и испанском плаще, и, наконец, пронырливое существо неопределённого пола. Незнакомцы по-хозяйски осматривались в подсобке, а маленький человечек вился вокруг чернобородого, приговаривая: — В туфике, в туфике, ах, простите в пуфике, я сам видел… Да, да, да! Человечек подбежал к венгерскому дивану, предназначавшемуся командиру пограничного катера "Прыткий", и с размаху всадил сверкнувший в темноте клинок в валик. Валик всхлипнул и затренькал пружинками. Но вместо пружин карлик вытащил из валика горсть блестящих камушков. — Но где же корона?! Где корона, мерзавец! — забеспокоился чернобородый. Карлик засуетился, народно-демократическая обивка затрещала… Вдруг подсобка осветилась мягким голубоватым светом. Карлик закрыл источник света спиной от невидимого Евсюкова и закрутил головой. — А вот и мешочек, сейчас мы её в мешочек… Не сразу Евсюков понял, что маленький человечек засовывает что-то в его вещмешок. В родной евсюковский вещмешок, с белой надписью "рядовой Денисов", и аккуратно пришитым дополнительным карманом. — Быстрее, быстрее! — загремел чернобородый, — я чувствую, что он уже близко!!! — Сначала жезл! Отдайте жезл! Где мой жезл! — завопил карлик. Бородатый достал из-под плаща полосатый милицейский жезл (раза в два длиннее обычного). — Поздно! Мы погибли! — метнулась к чернобородому девушка, и, подхватив вещмешок, взбежала по ступеням. Вся компания рванулась к выходу. — Стой! Куда! — только и успел крикнуть Евсюков, выпав из-за холодильника. — Отдай мешок, зараза! Для кого другого, может, в мешке не было ничего ценного, но Евсюков был возмущен пропажей своего веника и мочалки. Он споткнулся о потрошеный пуфик, упал, оглушительно загремел корытом, и полез наверх. Вся троица уже была на улице, странно пустынной для города. Впереди, в развевающемся платье, не касаясь ногами земли, и размахивая вещмешком, неслась прекрасная дама. За ней плавно скользил чернобородый, а в конце семенил, что-то выкрикивая, карлик. — Мешок! — заорал Евсюков, устремившись за незнакомцами. В ответ они только прибавили ходу и скрылись за углом. Евсюков выматерился и припустил за ними, но, свернув за угол, никого там не обнаружил. Прапорщик метнулся вперёд, побежал назад, потом в отчаянии заглянул в какую-то арку… Он не ошибся. Похитители мешка стояли во дворике вокруг седобородого старика. Черноволосый, к которому перекочевал вещмешок, держа полосатый жезл, наступал на старика, а тот пятился к стене, рисуя в воздухе какие-то письмена. — Ах ты, чмо галимое! — крикнул военно-воздушный прапорщик и, разбежавшись, саданул чернобородого похитителя по уху. Тот обмяк и выпустил из рук мешок. Жезл воткнулся в землю и немедленно пророс, покрылся листьями и зацвёл. Маленький человечек повалился на землю перед стариком с седой бородой и запричитал: — Я сразу узнал тебя! У меня и в мыслях не было! Я… Девица же медленно стала на колени.
— Что ж, — величественно сказал старик, обращаясь к карлику и поглаживая серебряную бороду. — Всё приходит к своему концу. Ты будешь закрашен. Он достал из-за пазухи баночку с помазком и стал им водить по телу заверещавшего карлика. При каждом взмахе часть карлика исчезала, и скоро его визг слышался из пустоты. — Ты, Елена, вернешься к кучумам и будешь там, пока стоит на земле дворец Ге, — старик сделал движение рукой, и девушка исчезла. — Дозвольте мешочек прибрать…, - влез в их разговор Евсюков, — там, дедушка, у меня веник с мочалкою. А они на дороге не валяются. — Не торопись, человек, — так же величаво произнёс старик. — Я помню о тебе. Чего ты хочешь в награду? Хочешь служить мне? Честный прапорщик Евсюков лишь пожал плечами: — Мне чужого не надо. Я извиняюсь, но этот, — он ткнул пальцем в чернобородого, открывшего глаза, — у меня вещмешок прихватил, пришлось, так сказать, по обстановке… — Ну что ж, — вздохнул старик. — Будь по-твоему. Он крепко взял усохшего чернобородого за руку (теперь тот не доставал старику до пояса): — А ты пойдёшь со мной, хан Могита, тебе не носить корону князя сумерек! И старик с чернобородым с размаху вошли в стену — Евсюков только крякнул. Только придя домой, Евсюков вспомнил, что забыл выложить из мешка и отдать их законному владельцу (кроме старика, по мнению прапорщика, на эту роль никто не подходил), ценности, украденные из магазина. Евсюков развязал непривычно тугой узел и вытряхнул содержимое. На пол упал веник с полотенцем, какое-то барахло, и туго свернутая пара яловых сапог, украденных у Евсюкова в бане.
Вот и всё. Остаётся сказать, что через неделю от Евсюкова ушла жена. Но это, видимо, к данной истории не относится.
24 ноября 2008 (обратно)
До Коломны и обратно
Настал июль, и все мои друзья разъехались. Один из них уехал в Европу, другой в Америку. Мои друзья разъехались по всему миру, а я остался в душной Москве, где асфальт не успевает остыть за ночь. Но я любил этот город и сумасшедшее лето в нём, когда одни готовятся к путешествию, а другие только что вернулись из него. Когда музыка несётся из открытых окон на старой ночной улице. Когда невидны отложенные дела и время течёт, густое и неторопливое, обволакивая, как нагревшаяся вода на мелководье. Угнетали меня тогда две вещи: неутомимые городские комары и отсутствие моей любимой. Но вот она приехала и села на краешек моей кровати. Моя любимая сняла чёрные очки и, заложив ногу за ногу, обернулась ко мне. — Давай праздновать мой приезд, — сказала она. И мы пошли по гостям — случайным и необременительным. Один из моих друзей жил у сортировочного узла, и в середине ночи, уже сметаемой восходящим солнцем, мы пробирались через пути, забитые составами. Выбрасывая вперёд сноп света, проносился одинокий тепловоз. Пространство станции было покрыто вспыхивающими огнями семафоров — ярко-синими, красными, жёлтыми, зелёными… Остатки ночи казались тоже зелёными, подсвеченными железнодорожным светом. Зачарованные этой красотой, мы на миг остановились, слушая пение птиц.Она приехала, подумал я, она приехала, и теперь всё будет хорошо. Но сразу же вновь мы зашагали через рельсы на огонёк чужой холостяцкой квартиры. Там мы пили коньяк из пузатых бутылочек. Еды не было, она была не нужна. Питались мы в те дни довольно странно, и часто ели в чьей-то кухне макароны под бой курантов, нередко забывали приходить домой, где в тонкой медицинской мензурке, сменяя друг друга, без нас вяли розы. Каждый день мы смотрели на мир, будто глядели в детский калейдоскоп, где стекляшки звякают, складываясь каждый раз в новый узор — треугольники, квадраты, круги. Однажды я, проснувшись, с недоумением рассматривал незнакомые крыши в окне. Однажды, слушая дыхание моей любимой, я долго лежал, вспоминая. Однажды длилось, превращаясь в когда-то. Оставив незнакомый пейзаж в окне, и слушая чужое-её-своё дыхание, я вспомнил, что несколько лет назад собирался съездить в город Мышкин. Не знаю, отчего мне так хотелось в него попасть — не знал я, где он и находится. Наверное, мне просто понравилось его название. Мышкин. Мыш-кин. А может, его название надо произносить быстро: Мышкин. Когда моя любимая проснулась, я рассказал ей эту историю. Рассказал, прибавив какую-то другую историю с запахом железнодорожного угля и горьким запахом степной дороги. Моя любимая задумалась, рассматривая потолок. — Поехали, — сказала она наконец. — Куда? — не понял я. — В Коломну. — А почему в Коломну? — недоумённо спросил я. — Я там не была, — ответила моя любовь.
Мы пересели из метро в электричку и прилипли к окну, разглядывая пригороды, а, минуя город химиков — Воскресенск, на мгновение вдохнули удушливый дым и успели увидеть поле, покрытое огромными загадочными шарами. В дороге я читал путеводитель семидесятых годов, большая часть которого отводилась описанию коломенских больниц и техникумов. В частности там было написано: "На четвёртом этаже гостиницы помещаются трёхкомнатные номера "люкс". В холлах установлены пианино и телевизоры, один — с цветным экраном. Это одна из лучших гостиниц в Московской области". Ровно через два часа поезд, проехав с консервным грохотом по жестяному мосту, ввёз нас в Коломну. В то время у меня отрастали волосы. Короткие, они топорщились на голове, как ворс недорогого ковра. Я подставлял макушку под водоразборные колонки, а когда разгибался, любимая ерошила мне этот подшёрсток. Из под её ладошек вылетали и оставались висеть в воздухе брызги. Поэтому вокруг лба сразу образовывалась радуга, похожая на нимб. Путешествуя по городу, мы зашли в гастроном. Он помещался в одноэтажной пристройке к гигантской колокольне. Вместо чеков кассир там выдавал кусочки картона со стёртыми цифрами. Сложив наш улов в пакет с иностранной надписью: "Wellcome to our best shops — GASTRONOMS", мы двинулись дальше. Я пил молоко в той башне, где умирала от сексуальной тоски Марина Мнишек. Всё время, кстати, хотелось пить. Потные граждане кормили с руки автомат с газированной водой. Пахло июлем и пылью. Наперекор зною в коломенском кремле стояла шерстяной статуей толстоногая девица в чёрных колготках. Это было удивительно, и это надо было запомнить.
Кроме девицы в кремле находился собор семнадцатого века, ампирный храм девятнадцатого, монастырь и какое-то барочное строение. Создавалось впечатление, что эти постройки свезли сюда, как в заповедник. Вокруг них располагались деревянные избы, лежали в пыли блохастые собаки, а идиот на завалинке следил мутным взглядом за своими курами. Мы вышли из кремля, запомнив всё это. Мимо по улице провезли на мотоцикле копну сена. Мотоциклист, красный человек в шлеме, похожем на яйцо, чуть не свалился со своего мотоцикла, засмотревшись на нас. Он вильнул у самой стены отштукатуренного домика и медленно поехал дальше, продолжая глядеть на ноги моей любимой, едва прикрытые ослепительно белыми шортами. Вообще, на неё многие обращали внимание — и это я с радостью тоже пытался запомнить. Потом мы пошли на переговорный пункт, и она долго звонила куда-то. Старик в соседней телефонной исповедальне беззвучно вопил за стеклом. Напротив меня томились невесть откуда взявшиеся в середине России океанские матросы, голый до пояса парень в пластмассовых штанах и старуха с петухом. Было жарко и липко, так что я с облегчением вздохнул, выйдя на улицу — всё же запомнив и петуха, и старика, и пластмассовые штаны.
В электричке мы заснули, постоянно сползая с сиденья. Тогда один из нас просыпался и втаскивал другого обратно. Очнувшись вдруг, я видел, как наша электричка на минуту остановилась среди переплетения путей, под красным глазком семафора. Это было то самое место, где мы слушали пение птиц. И опять мы были вместе, думал я, и пока всё шло хорошо. Всё шло хорошо, только птиц не было слышно в это мгновение. В воздухе набухала гроза. Мы бежали по улицам, чтобы успеть вбежать в подъезд. Лестница нашего дома была наполнена густым летним мраком. Я воткнул ключ наугад в темноту, и мы ввалились в квартиру, уронив что-то с вешалки. Моя любимая так устала, что уснула сразу, свернувшись калачиком поверх покрывала. Наконец на ночной город обрушился косой московский дождь. За открытой форточкой слышалось мерное перемещение воды, сопение и бульканье. Я включил маленький свет и, поглядывая на спящую, сел за стол. Передо мной лежала чистая бумага и неисправная автоматическая ручка с золотым пером, которую приходилось каждый раз макать в чернильницу. Некоторое время я сидел, гладя обеими руками свою круглую голову, а потом начал записывать.
Темнота дышала в комнату, и её дыхание было влажным. Это дыхание колыхало занавески, и я вспомнил о другом — о том, как много лет назад, мальчишкой, я вбежал в маленький, мощённый камешками феодосийский дворик. Лил южный ливень. Нет, я вспомнил: дождь только что кончился, вода пузырилась на камнях, и вот я вбежал в этот дворик и увидел открытое окно, занавеску, колышимую сквозняком, а за ней — высокую вазу с неизвестными цветами. Там, внутри, была чернота чужой комнаты. Много раз я пытался найти это окно на первом этаже феодосийского дома, вновь пережить то, что чувствовал тогда, вернуться в насквозь мокрый брусчатый двор. Но не было ни двора, ни вазы, ни занавески, как не было на свете города Мышкина. На это воспоминание уже надвигалось другое — я вспомнил знаменитую книгу, из которой прочитал всего несколько страниц, но то, что я там нашёл, было выше всяких похвал. Кто-то лежал в бессоннице и видел вдруг полосу света под дверью. Свет был надеждой на утро, избавлением от ночного одиночества… Но нет, это всего лишь слуги прошли по коридору. Это было не описание чужой жизни, а крохотная картинка её, кадр ощущения. И я стал писать о суетливости жизни, состоящей из сотен деталей, о торопливости событий, уводящих нас от важных чувств — потому что больше ничего не умел. Однако эти случайные картинки — курицы, дом расстрелянного писателя в коломенском кремле и мотоциклист с сеном казались мне в ту ночь содержащими особенный смысл. Их нужно было задержать, продлить в себе — как сон девушки, как свежесть ночи за открытым окном или медленное движение копны сена на коляске мотоцикла. Это нужно было
20 декабря 2008 (обратно)
На улице Марата
 По улице Марата, дребезжа, прокатился трамвай, но соседи мои даже не повернулись во сне. Трамвай слышал только я – не спавший и временный в этой квартире человек.
А жил в квартире народ в основном степенный, утром, ещё в темноте, разъезжавшийся по заводам – на Охту, к Обводному, куда-то в Парголово.
Вечером коридор наполнялся топотом, шарканьем и восклицаниями. Хлопала дверь.
Жильцов встречали их жёны с вислыми грудями и животами, а кухня была уже полна паром из кастрюль как плохая баня.
Перед сном жильцы коротко любили своих жён. Тяжёлая кровать застенного соседа, кровать с огромными литыми шишечками, равномерно била в мою стену над моим ухом.
Впрочем, это продолжалось недолго, а к одиннадцати наступала мёртвая тишина.
Тогда я шёл в ванную и зажигал колонку. Вода текла из крана, в окошечке становилось видно, как на газовых трубах вырастало целое поле синих цветов. Колонка работала неровно, пульсировала и шумела в ней вода, с грохотом ударяясь потом в ванну.
Скрючившись, я, погружённый в дымящуюся воду, рассматривал чужое бельё – грязное и стираное, шкафчики, тазы, трещины и пятна на потолке.
Я грелся.
После тщательного вытирания можно было вернуться в комнату. Коридор был тёмен, и пробираться нужно было вытянув руки – одну по стене, другую вперёд – маленькими шажками, осторожно.
Квартира тряслась от проходящих по ночной улице трамваев. Дребезжало мутное зеркало в раме, уходящей к недосягаемому потолку. Подпрыгивала на облезлом столе лампа под зелёным абажуром. Перекатывались отточенные карандаши в стакане.
Даже в ламповом приёмнике, в самой его сердцевине, что-то потрескивало, и мелодия на мгновение пресекалась. Но всё же лампа горела исправно, и исправно бухтел приёмник, огромный, в человеческий рост, с круглыми дутыми ручками, золотыми полосками на полированном деревянном корпусе, заслуженный и надёжный.
По улице Марата, дребезжа, прокатился трамвай, но соседи мои даже не повернулись во сне. Трамвай слышал только я – не спавший и временный в этой квартире человек.
А жил в квартире народ в основном степенный, утром, ещё в темноте, разъезжавшийся по заводам – на Охту, к Обводному, куда-то в Парголово.
Вечером коридор наполнялся топотом, шарканьем и восклицаниями. Хлопала дверь.
Жильцов встречали их жёны с вислыми грудями и животами, а кухня была уже полна паром из кастрюль как плохая баня.
Перед сном жильцы коротко любили своих жён. Тяжёлая кровать застенного соседа, кровать с огромными литыми шишечками, равномерно била в мою стену над моим ухом.
Впрочем, это продолжалось недолго, а к одиннадцати наступала мёртвая тишина.
Тогда я шёл в ванную и зажигал колонку. Вода текла из крана, в окошечке становилось видно, как на газовых трубах вырастало целое поле синих цветов. Колонка работала неровно, пульсировала и шумела в ней вода, с грохотом ударяясь потом в ванну.
Скрючившись, я, погружённый в дымящуюся воду, рассматривал чужое бельё – грязное и стираное, шкафчики, тазы, трещины и пятна на потолке.
Я грелся.
После тщательного вытирания можно было вернуться в комнату. Коридор был тёмен, и пробираться нужно было вытянув руки – одну по стене, другую вперёд – маленькими шажками, осторожно.
Квартира тряслась от проходящих по ночной улице трамваев. Дребезжало мутное зеркало в раме, уходящей к недосягаемому потолку. Подпрыгивала на облезлом столе лампа под зелёным абажуром. Перекатывались отточенные карандаши в стакане.
Даже в ламповом приёмнике, в самой его сердцевине, что-то потрескивало, и мелодия на мгновение пресекалась. Но всё же лампа горела исправно, и исправно бухтел приёмник, огромный, в человеческий рост, с круглыми дутыми ручками, золотыми полосками на полированном деревянном корпусе, заслуженный и надёжный.
Прозрачная осень вползла тогда в город. Сухая осень с ватным туманом по утрам, с сочным голубым небом, с променадами по городским паркам. Но нерадостной была эта осень, и витало в воздухе предчувствие беды. Я долго и тяжело болел, жил на прежней своей квартире и разглядывал из постели потолок, выгибался к окну, из-за которого раздавался шум строительной техники – там строили подземный переход через широкую улицу. Надо было что-то делать, менять жизнь, а я не мог пошевельнуть пальцем и проводил дни в бесцельном блуждании по городу со своими знакомыми. И слонялся я по улицам, не зная, куда приткнуться, заходил в закусочные, где орала музыка, стучали стаканами, ели грязно, чавкая, роняли крошки на брюки. В пустом фойе кинотеатра, куда я забрёл случайно, дородная певица, вибрируя всем телом, пела Шуберта. Какие-то лица мелькали вокруг меня, хотя никого не было рядом. Кто-то дёргал за рукав, говорил в ухо... «Ах, как много людей я видел!» – подумалось мне тогда, и в сонной квартире на улице Марата я вернулся к этой мысли. Знал я, например, одного человека – относился он к жизни, как к обязанности, норовил увильнуть. Увильнул – так и умер, никем не замеченный. Знал я другого, тоже неприметного, со странной судьбой. Служил он, кажется, бухгалтером в каком-то тресте. Почему-то мне хотелось назвать его счетоводом. Счетоводом-бухгалтером стал этот человек в самом начале его жизни, уже имея двух детей, встретил войну, ушёл, не добровольцем, а так – по мобилизации. Отмесил, отшагал он всё, что было ему положено, а стрелял редко, потому что пехоте больше приходилось работать сапёрной лопаткой – перекидывать землю туда и обратно. Был он в плену. Потом его хотели посадить за что-то, не помню, за что. Может быть, за плен, а может быть и нет. Но он вышел из дома и затерялся – невод оказался неподходящим – ячейки были слишком крупны, а человек этот очень маленьким. Было у него две или три семьи, и ещё дети. Последний раз я видел его в Москве, на скамейке в Калитниковских банях. У края его лысины шевелился старый шрам, вздрагивал, пульсировала в этом шраме тонкая розовая кожица. Почему так – не знаю. Истории этих людей были страшны своей простотой, от них пахло дешёвым вином и плохими папиросами, запах их был терпок и горек, как запах железнодорожной травы, эти люди и росли, как трава, и умирали, как трава, – с коротким сожалением, но не более того. Но это была жизнь – ничем не хуже другой, а моей – в особенности. А ещё знал я немного о жизни тех, кто спал сейчас вокруг меня, о тихой соседке, запасавшей тушёнку ящиками, вкладывавшую в это всю свою небогатую пенсию, о рабочих пяти заводов, о другой женщине, которая сдавала мне комнату. У неё, например, давно не заладилась семейная жизнь. Муж как-то раз уехал на рыбалку, да так и не вернулся. На второй день она обнаружила пропажу отцовских никчемных облигаций и двух мельхиоровых ложек. Через полгода она родила сына. Сын оказался недоумком, часто плакал, пускал слюни. Некоторое время она ещё надеялась, приглашала к себе мужчин, запирая недоумка во второй комнате, где жил теперь я. Приглашала, кормила, а потом бессильно плакала в ночной кухне над грязной посудой. Сначала мне казалось, что она положила глаз и на меня. Но нет, это была просто привычка, так сказать, готовность. Один раз я случайно видел хозяйку через полуоткрытую дверь, когда она переодевалась. Крепкое, ладное тело тридцатипятилетней женщины, с ещё гладкой, упругой кожей, с красивыми бедрами. Только шея портила всё дело. Одна моя тогдашняя знакомая, писавшая этюды в Мухинском училище, рассказывала мне о натурщицах, голова которых на двадцать лет старше тела. Такой была и моя хозяйка. В ту минуту она подняла голову и встретила мой взгляд спокойно, без раздражения, но и приглашение отсутствовало в её глазах. Как будет, так и будет – казалось, говорили они. И вот она спала, и её история спала вместе с ней. Сынок тоже спал, пускал слюни, плакал изредка, но тут же вытягивался трупиком на своей кушеточке. Он был незаметен, часто пугался и мог просидеть весь день в каком-нибудь укромном месте – за занавеской, под кроватью или за шкафом. Он спал, а никакой истории у него не было.
Между тем История поворачивалась, как поворачивается старая деталь в машине, всё смещалось, скрипело и двигалось в этом безлюдном городе вместе с трамваями. Трамвай, первый после ночного перерыва трамвай, ехал по улице Марата, но нельзя было понять, 28-й это или 11-й. Невозможно было определить, куда он едет, может, на остров Декабристов, а может – это 34-й, торопящийся на Промышленную улицу. В остальном всё было тихо, лишь одинокий Русский Сцевола стоял и махался топором в пустом музейном зале. Висели на улицах бело-сине-красные флаги и иллюминированные серпы и молоты – потому что других фигур не было, а окончились ноябрьские праздники. И вдруг я понял, какой огромный кусок жизни мы отмахали, помня округлые синие троллейбусы с трафаретной надписью «обслуживается без кондуктора» у задних дверей, керосиновую лавку с очередью, небожителей-космонавтов, изредка спускавшихся на землю, дешёвую еду в кажущемся изобилии, перманентные торжественные похороны и окончившиеся военные парады... Кончалась эпоха, я чувствовал это, хотячесть этого открытия принадлежала не мне. Всё это прошло, и пройдут приметы нынешнего времени – созвездие рюмочных, сегодняшний праздник, языческие огни Ростральных колонн, войны на окраинах умирающей империи и сонное дыхание коммунальной квартиры. Люди, тяжело спящие вокруг меня, люди, которых я знал, и те, которых не узнаю никогда, жили своей, недоступной мне жизнью, уходили куда-то прочь. Всё проходит, но миг истории ещё длится неизменяемым, зависает в нерешительности, истории спящих ещё не продолжаются – в то время, когда по улице Марата грохочет утренний трамвай.
02 января 2019 (обратно)
Школа
 Тогда я работал в школе. Работа эта была странной, случайной, не денежной, но оставлявшей много свободного времени.
Пришли холода. Школьники мои стали сонливыми и печальными, да и у меня на душе было, как в пустой комнате, застеленной газетами. В комнате этой, куда я возвращался из школы, уныло светила над пыльной пустотой одинокая сорокаваттная лампочка. Как избавления ждал я снега. Он выпал, но вместе с ним пришла и зимняя темнота, когда, выехав из дома рано утром, я возвращался обратно в сумерках.
Итак, приходилось вставать рано, пробираться мимо чёрных домов к метро, делать пересадки, лезть, кряхтя, в автобус. Он приходил несколько раньше, чем нужно, и потом я долго прогуливался в школьном дворике. Небо из чёрного становилось фиолетовым, розовело.
Толпа детей с лыжами и без, переминаясь, тоже ждала человека с ключом. Мимо, по тропинке, покрытой снегом, проходил юноша в очках. Он всегда проходил в это время. Если я опаздывал, то встречал его у самой остановки, если шёл вовремя, то на середине пути. И, видимо, зачем-то он нужен был в этой жизни. Молодой человек был студентом – часто я видел его с чертежами или тетрадью под мышкой.
Тогда я работал в школе. Работа эта была странной, случайной, не денежной, но оставлявшей много свободного времени.
Пришли холода. Школьники мои стали сонливыми и печальными, да и у меня на душе было, как в пустой комнате, застеленной газетами. В комнате этой, куда я возвращался из школы, уныло светила над пыльной пустотой одинокая сорокаваттная лампочка. Как избавления ждал я снега. Он выпал, но вместе с ним пришла и зимняя темнота, когда, выехав из дома рано утром, я возвращался обратно в сумерках.
Итак, приходилось вставать рано, пробираться мимо чёрных домов к метро, делать пересадки, лезть, кряхтя, в автобус. Он приходил несколько раньше, чем нужно, и потом я долго прогуливался в школьном дворике. Небо из чёрного становилось фиолетовым, розовело.
Толпа детей с лыжами и без, переминаясь, тоже ждала человека с ключом. Мимо, по тропинке, покрытой снегом, проходил юноша в очках. Он всегда проходил в это время. Если я опаздывал, то встречал его у самой остановки, если шёл вовремя, то на середине пути. И, видимо, зачем-то он нужен был в этой жизни. Молодой человек был студентом – часто я видел его с чертежами или тетрадью под мышкой.
Учителей в школе было шестьдесят или семьдесят, но я знал в лицо только десять. Среди моих приятелей был один из трёх математиков, высокий и лысый, студент-информатик и литератор в огромных очках. Мы курили в лаборантской, и белый сигаретный дым окутывал поцарапанный корпус компьютера «Электроника». Преподаватель литературы часто изображал картавость вождя революции. Выходило комично, и многие смеялись. Делал он это часто, оттого «товаищь» и «батенька» бились в ушах, как надоедливые мухи. Приходил и милый мальчик, похожий на Пушкина, но с большими ушами, отчего его внешность также была комичной. Ушастый мальчик учился в каком-то авиационном институте, а сам учил школьников компьютерной грамотности и премудростям стиля кёкошинкай. Приходил, впрочем, ещё один математик в измазанном мелом пиджаке, весь какой-то помятый и обтёрханный. Этот математик по ночам работал на почте и всегда появлялся с ворованными журналами. Они, эти журналы, всегда были странными, странными были и путаные речи математика. Сколько я ни напрягался, всё равно не мог закрепить в памяти их смысл. Много позднее, уже к концу года, я увидел других учителей. Перед 8 Марта, странным днём советского календаря, когда даже название месяца пишется почему-то с большой буквы, учителя собрались в кабинете домоводства. На свет явились доселе мной невиданные крохотные старушонки и плоскогрудые преподавательницы младших классов. Выползли, как кроты из своих нор, два трудовика. Стукнули гранёные стаканы с водкой, с большим трудом выписанной по этому случаю из соседнего магазина. Остроумцы приступили к тостам. Я тоже сказал какую-то гадость и сел на место, продолжая спрашивать себя: «Зачем я здесь?».
Но шло время, мерно отделяемое звонками в коридоре, и постепенно в мире стало светлее. Стаял снег, приехали рабочие с ломами и лопатами – и вот, я обнаружил, что тропинка, по которой я ходил в школу, была вымощена бетонными плитами. Отчего-то это изменение поразило меня. Я продолжал всё так же ездить в школу, входить в светлеющий утренний класс, но странные внутренние преобразования происходили во мне самом. В какой-то момент я понял, что научился некоторым учительским ухваткам. Это не было умением, нет. Похоже, это состояние было, скорее, на чувство человека, освоившего правила новой игры. Школа моя была с обратной селекцией, как объяснила мне завуч. То есть, как только в других школах по соседству освобождалось место, из моей исчезал мало-мальски смышлёный ученик. Зато у меня в восьмом классе учился Бригадир Плохишей. В ту пору появились, как их называли, "Гайдаровы команды" – школьники, размазывавшие грязь на лобовых стёклах машин, остановившихся в пробках и на светофорах. От них откупались несколькими большими рублями – потому что они могли просто разбить стекло или зеркало. Бригадира отличало то, что он нанял себе охранника – из десятиклассников. Вот и я учил плохишей странным премудростям этики и психологии семейной жизни. Должен был учить и сборке-разборке автомата, но они знали это без меня. Да и автоматы Калашникова исчезли из школ, а второй мой предмет назывался теперь "Обеспечение безопасности жизнедеятельности". Впрочем, учителей не хватало, и я ещё шелестел географическими картами и крутил на своём столе облупленный глобус. И вот, угрюмым ранним вечером, когда я проверял тетради, ко мне пришёл Бригадир Плохишей. – Мне нужно три в четверти, – уверенно сказал он. – Хорошо, – отвечал я. – Приходи завтра, ответишь. – Нет, вы не поняли, – уже угрюмо сказал Бригадир Плохишей. – Сколько? Тут я вспомнил, что один мой бывший родственник писал как-то в такой же школе сочинение про советского Ивана Сусанина. Советский Иван Сусанин завёл в болото немецко-фашистскую гадину, а когда та пыталась выкупить свою гадскую жизнь, отвечал: – Советские офицеры не продаются за такую маленькую цену. Однако Бригадир Плохишей не был любителем юмора, а был, наоборот, человеком практическим. Поэтому тем же вечером меня за школой встретило пятеро его подчинённых. Тут есть известная тонкость воспитательного процесса – я не был настоящим педагогом. Оттого, меня не мучили угрызения совести, когда я разбил нос одному и вмял двух других стеклочистов в ноздреватый чёрный снег городской окраины. И правда, устраиваясь на работу по знакомству, я не подписывал никаких обязательств. Никто не довёл до моего сведения, что нельзя драться с учениками. Отряхнувшись и подняв шапку, я продолжил дорогу домой.
Много лет спустя, я ехал к хорошему человеку в гости. Перепутав автобус, я оказался неподалёку от места своей учительской работы. Чёрная тень овального человека качнулась от остановки. И это меня – правильно, сразу насторожило. – Владимир Сергеич, вы меня не узнаёте? – спросила тень, и я на всякий случай подмотал авоську с бутылкой на запястье, чтобы разбить бутылку о тёмную голову. Тень качнулась обратно: – Ну, Владимир Сергеич, я же вам пиво проспорил, а вы тогда сказали, что только после школы можно. Базаров нету, пиво-то за мной. Заходите... Но история про спор с пивом – уже совсем другая история.
А в школе происходили перемещения, шла неясная внутренняя жизнь. Она, впрочем, не касалась меня. Вот однажды я заглянул в учительскую и обнаружил там странное копошение. Оказалось, что учительницы разыгрывают зимние сапоги. Происходило это зловеще, под напряжённый шепот, и оставляло впечатление набухающей грозы. Одна дама со злопамятной морщиной на лбу тут же, у двери, рассказала мне историю про учительскую распродажу, про то, как сеятельницы разумного, доброго, вечного с визгом драли друг другу волосы и хватали коробки из рук. Рассказчица говорила внятно, чётким ненавидящим голосом. Сапог ей не досталось. Кстати, после дележа выяснилось, что одну пару сапог украли. Сидя за партами, мальчики и девочки смотрели на меня, ведая об этой особой жизни, и наверняка знали о ней больше меня. Они смотрели на меня беспощадными глазами учителей, ставящих оценку за поведение. Иногда их глаза теплели, иногда они советовались со мной, как сбежать с уроков. Впрочем, однажды учителя по ошибке выбрали меня председателем стачечного комитета несостоявшейся забастовки. Однажды я сидел на уроке и отдыхал, заставив учеников переписывать параграф из учебника. Солнце било мне в спину, в классе раздавались смешки и шепот. Почему-то меня охватило чувство тревожного, бессмысленного счастья.
Нищие, надо сказать, наводнили город. Они наводнили город, как победившая армия, и, как эта армия, расположились во всех удобных местах – разматывая портянки, поправляя бинты и рассматривая раны. Один из них сидел прямо у моего подъезда и играл на консервной банке с грифом от балалайки. От него пахло селедкой, а звук его странного инструмента перекрывал уличный шум.
Пришёл любимый мой месяц, длящийся с пятнадцатого марта по пятнадцатое апреля. Начало апреля стало моим любимым временем, потому что апрель похож на субботний вечер. Школьным субботним вечером я думал, что у меня ещё остаётся воскресенье. А после прозрачности апреля приходит теплота мая, лето, праздники и каникулы. Апрель похож на субботу. В этом году он был поздним, а оттого – ещё более желанным. На каникулы школьники отправились в Крым, а я с ними. В вагоне переплетались шумы, маразматически-радостным голосом дед говорил внучеку: – У тебя с Антоном было двадцать яблок, ты дал Антону ещё два... К проводнику же приходили из соседних вагонов товарищи и однообразно шутили – кричали: – Ревизия! Безбилетные пассажиры есть?! Ходили по вагонам фальшивые глухонемые – настоящих глухонемых мало. Фальшивые заходили в вагон и раскидывали по мятым железнодорожным простыням фотографические календарики, сонники и портреты Брюса Ли. Поезд пробирался сквозь страну, а я думал о том, что вот вернулись старые времена, вломился в мой дом шестнадцатый год, и так же расплодились колдуны и прорицатели, и вот уже стреляют, стреляют, стреляют...
Настал день последнего звонка. Во внутреннем дворике школы собрали несколько классов, вытащили на крыльцо устрашающего вида динамики, а директор спел песню, аккомпанируя себе на гитаре. Вслед за директором к микрофону вышла завуч и заявила, что прошлым вечером у неё «родились некоторые строки». Я замер, а подъехавшие к задним рядам рокеры засвистели. Завуч, тем не менее, не смутилась и прочитала своё стихотворение до конца. Плавающие рифмы в нём потрясли моё воображение, и некоторое время я принимал его за пародию. Праздник уложился в полчаса. Побежал по двору резвый детина с маленькой первоклашкой на плечах, подняли свой взор к небесам томные, теперь уже одиннадцатиклассницы, учителей обнесли цветами... И всё закончилось.
Через несколько дней я встретил завуча в школьном коридоре. Улыбаясь солнечному свету и ей, я остановился. – Почему вы вчера не вышли на работу? – спросила меня завуч. – Вы ещё не в отпуске и обязаны приходить в школу ровно к девяти часам, а уходя, отмечаться у меня в журнале. Я поднялся на третий этаж и открыл дверь своим ключом. В пыльном классе было пусто и тихо.
Я посмотрел в окно и увидел, как по длинной дорожке от остановки, по нагретым солнцем бетонным плитам, мимо школы идёт юноша в очках. В одной руке юноша держал тубус с чертежами, а в другой – авоську с хлебом. Проводив его взглядом до угла, я достал лист бумаги и положил перед собой. Лист был немного помят, но я решил, что и так сойдёт. Ещё раз поглядев в окно, я вывел:
Директору школы 2100 г. Москвы Клеймёнову П. Ю. от Березина В. С.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу уволить меня по собственному желанию.
Затем я поставил дату и расписался.
02 января 2019 (обратно)
Кормление старого кота

Февраль похож на весну. Эта фенологическая мысль посещает меня при разглядывании солнечного дня за окном. Плакатное голубое небо, золотой отсвет на домах – в такую погоду опасно, как в известной песне – волнам, предаваться философическим размышлениям. Однако – холодно. В середине февраля ударили морозы, да такие, что я пробегал по улице быстро, зажимая ладонью дырку в штанах. Морозный и весенний февраль в этом году.
Я сменил жильё, переехал в маленький четырёхэтажный домик рядом с вечной стройкой. В этой квартире умерла моя родственница, оставив семье рассохшуюся мебель и множество своих фотографий в девичестве. Квартира эта была выморочной, как перезаложенное имение. Скоро её должны были отобрать. Пока же по стенам там висели портреты человека с орденом Красного Знамени в розетке. Был и человек с трубкой – но пропал не так давно. Ещё унаследовал я кота – пугливого и пожилого. Именно здесь, глядя из окна на незнакомый пейзаж – серый куб телефонной станции, офис без вывески и мусорные ящики, – я открыл, отчего февраль похож на весну. Он похож на весну оттого, что нет в Москве снега.
А День Советской Армии переименовали в День Защитника Отечества. В наступающих сумерках по Тверской двигалась демонстрация. Красные флаги вместе с чёрными пальто придавали ей зловещий вид. Продавцы в коммерческих киосках споро собирали свой товар и навешивали щиты на витрины. Я купил у них бутылку водки и пошёл домой. Там моя жена уже варила гадкие пельмени. Пельмени эти снаружи из белого хлеба, а внутри из чёрного. Друг мой тоже принёс какую-то снедь, и, сразу захмелев, все присутствовавшие вспомнили фильм нашего детства, где советский разведчик пёк картошку в камине. Тогда мы запели «Степь да степь кругом» – протяжно и хрипло. За окнами зимний вечер расцветал салютом, а мы тянули печальные солдатские песни. Длился и длился этот час в начале масленицы, час, за которым открывался новый день, спокойный и пустой.
Наутро я пошёл по своим хозяйственным делам. Я шёл мимо нищих. Были, впрочем, и не нищие. В Москве откуда-то появилось много цыган. Нет, не то, чтобы их не было раньше, но новые цыгане были другими. У здания гостиницы «Белград» хорошо одетых прохожих окружали стайки детишек, мгновенно вырывая сумки, сбивая шляпы, и тут же исчезали. Обороняться от них было невозможно. Единственное, что имело смысл, так это схватить самого неуклюжего, и тогда в ближайшем отделении милиции состоится обмен малыша на принесённые цыганским бароном вещи. Одна иностранка, изящная молодая девушка, когда её окружили толпой цыганята, начала хладнокровно расстреливать их из газового баллончика. Была она изящная, можно сказать, грациозная. Потом я узнал о ней много другого. Губы её были на службе у правительства. Того, далёкого правительства. Официально она занималась Мандельштамом и Пастернаком, но эти занятия пахли чеченской нефтью и артиллерийским порохом. Ещё её интересовал Афганистан. Мы говорили о нём и русской литературе, а мой одноклассник уже шестой год лежал в горной местности, где топонимы раскатисты, как падение камня по склону. Вернее, он был рассредоточен по одному из таких склонов, но это не тема для разговора с иностранкой.
Каждый день я хожу мимо нищих. Нищие приходят на свои места, как на работу, в урочное время, рассаживаются, расчёсывают, готовясь, свои язвы. Они курят, будто солдаты перед боем, и переговариваются: – Твои пошли, я беру на себя левого... Однажды, на Мясницкой, я забрёл в блинную. Пухлая деревянная баба в кокошнике печально смотрела со стены. Облезлый кот грелся у батареи, и он был похож на моего старого кота. И это было место кормления нищих.
Напротив меня сидел кудлатый старик и переливал чай из одного стакана в другой, щурился, закусывал принесённой конфетой. Ещё один, в кавалерийской шинели, сидел справа, двигал под столом ногой в валенке. Нищие хмуро смотрели на деревянную бабу, прикидывая дневной заработок. Блины наши были покрыты одной и той же жидкой кашицей яблочного сусла. И мы были одной крови – я и они.
Итак, я шёл мимо нищих, мечтая, между прочим, заработать сколько-нибудь денег. Для этого мне нужно было пройти под железнодорожным мостом, гудящим от электричек, пересечь скверик и войти в арку большого старого дома. Нужно было бы идти дальше, но на моём пути возник покойник. Он лежал аккуратно, но в неудобной позе. И по виду, он был тоже нищим. Окровавленный палец выбился из-под дерюжных покровов, и покойник грозил им кому-то. Впрочем, никого рядом не было. Из подъезда вышла старуха и сурово сказала: – Убили. Вчера ещё. – Ну-ну... – ответил я и пошёл дальше через двор, чтобы действительно заработать немного денег.
Это печальная история, и поэтому я расскажу другую. Это будет история про кота.
Однажды у меня поселился кот. Это был толстый, лохматый кот Васенька, десяти лет от роду. Это был кот моей двоюродной бабушки. И это был партийный кот, который питался исключительно партийным мясом из партийного распределителя. Однажды он съел макаронину и его вырвало. Так он жил у нас, пока хозяйка лежала в больнице. Наконец, настала пора отправлять его обратно. Я уминал кота в сумку, как тесто в квашню. Из сумки торчала голова и задняя лапа. Кот хмуро рассматривал прохожих. В воздухе пахло черёмухой и духами. Женские платья, противно законам физики, уменьшались в размерах с ростом температуры. Я так подробно рассказываю это оттого, что зимой хорошо вспомнить летнее тепло. Итак, по аллее Миусского сквера шла молодая мать и курила, волоча за собой детскую коляску. Табачный дым был похож на дым паровоза с прицепным тендером. Кот молчал и смотрел на троллейбусное гнездо имени Щепетильникова. Я тащил кота в сумке, где под ним, в газетах, лежало партийное мясо. А в нашем доме от кота остался клочок шерсти на диване и болотный запах. Но оказалось, что мы снова встретились с ним. Хозяйка кота умерла, и он достался мне в наследство. Была в нём, видимо, моя судьба.
Так вышло, что в детстве у меня не было никаких животных – ни собаки, ни черепахи, ни попугая, ни хомяка. Теперь у меня появился кот. Звать его теперь стали Василий Васильевич Шаумян. Моего подопечного отличало то, что он вошёл в мою жизнь печальным дедушкой, испуганным старичком. Коту минуло уже тринадцать, и он встретил свой день рождения лохматым некастрированным девственником. Нечто мистическое было в этом существе. Ранним утром я вышел в коридор и увидел его стоящим на задних лапах. Кот в одиночестве учился прямохождению. Нет, я слышал от одной девушки историю о кошке, которая открывала холодильник, доставала яйца и целыми тихо клала в хозяйские тапочки. Но кот, который на старости лет учится ходить на задних лапах – это уже слишком. Как-то я заметил, что он сидит перед мышью и грозит ей лапой. Поймать её он не мог. Был он также невоспитан, гадил где придётся и удивлял всех безмерной пугливостью. Однажды он исчез, и мы уже прошлись по морозным февральским улицам в его поисках, уже повесили в подъезде объявление: «Кто приютил старого глупого кота...». Уже разошлись, не поднимая глаз по комнатам, уже всплакнули, уже печально легли спать, как я, замешкавшись, увидел несчастное животное. Кот вылезал из-за буфета, где просидел сутки. Сначала появилась задняя лапа, нащупала пол, за ней вылез хвост, появилась вторая лапа... И тут Василий застрял. Он жалобно вскрикнул, и слёзы навернулись мне на глаза. Никому-то он не нужен на этом свете... Я вынул кота из-за буфета и посадил на ободранное кресло. Будем вместе жить.
Однажды моя иностранка подвозила меня домой и зашла посмотреть на кота. Кот испугался её и сразу спрятался в безопасное место – за буфет. В квартире было тихо. Жена куда-то уехала, а друг пошёл в гости – в свою очередь, и к своей бывшей жене.
Через некоторое время я понял, что лежу и гляжу в потолок, гладя свою гостью по волосам. Это давно и хорошо описанная сцена, и об этом я больше ничего говорить не буду. Кот всё же вылез из-за буфета и жалобно, по-стариковски мяукнул. Шлепая босыми ногами, я пошёл на кухню и достал из холодильника кусок рыбы. Кот ел, воровато оглядываясь – он боялся моей гостьи. Иностранка подошла ко мне сзади и облокотилась на моё плечо. Спиной я чувствовал прохладу её кожи. Понадобилось ещё много дней, чтобы кот привык к ней, но через месяц он даже начал брать еду из её рук. За это кот хранил нашу тайну. Как-то я сидел на столе и наблюдал за ними – старым дряхлым котом и красивой молодой женщиной, не в силах понять, чем она займётся сегодня – русской поэзией, шпионажем или любовью. Но пока мы, странно связанные, были вместе.
Я расскажу ещё одну историю. Чем-то она напомнила мне историю кота. Ещё через некоторое время я поехал в совсем другое место – правда, с прежней целью – заработать несколько денег. Я перемещался по длинному переходу между станциями, где играют на гармонике и продают газеты. На гармонике играл нищий, похожий на Пастернака. Он сурово смотрел на толпу, бредущую мимо него, и выводил вальс «На сопках Маньчжурии». Он стоял на одном конце перехода, а на другом сидел нищий, похожий на Мандельштама. Мандельштам не играл и не пел, а просто сидел с протянутой рукой, уставившись в пол. Голова Мандельштама поросла грязным пухом, и он был невесел. Перед мраморной лестницей меня встретил печальный взгляд. Уворачиваясь от людского потока, стоял на костылях молодой инвалид. Я подошёл к инвалиду, и он улыбнулся. Прижав костыли к груди, он обнял меня за шею, нежно и бережно, как девушка. Был он странно тяжёл и пригибал меня к земле. Когда я начал задыхаться, инвалид принялся шептать мне на ухо: «Терпи, братка, терпи, ещё долго, долго идти, экономь силы, силы надо экономить...». Непросто в мире всё, очень непросто.
03 января 2019 (обратно)
Банный день
Виктору ОрловскомуУ высокого крыльца бани народ собирался уже к шести часам. Продажа билетов начиналась в восемь, но солидные люди, любители первого пара и знатоки веников, приходили, естественно, раньше остальных. Первым в очереди всегда стоял загадочный лысый гражданин. В бане он был неразговорчив и сидел отдельно. Бывший прапорщик Евсюков в широченных галифе с тонкими красными лампасами держал душистый веник и застиранный вещмешок. Был и маленький воздушный старичок, божий одуванчик, которому кто-нибудь всегда покупал билет, и он, благостно улыбаясь, сидел в раздевалке, наблюдая за посетителями. Эта утренняя очередь была единственной ниточкой, связывавшей старичка с миром, и все понимали, что будет означать его отсутствие. Я сам знавал такого старичка. Он был прикреплён куда-то на партийный учет и звонил своему партийному секретарю, переспрашивая и повторяясь, тут же забывая, о чём он говорил. Секретарем, по счастью, оказалась доброй души старушка, помнившая многие партийные чистки и так натерпевшаяся тогда, что считала своим долгом терпеливо выслушивать всех своих пенсионеров. Готовя нехитрую одинокую еду, она, прижав телефонную трубку плечом, склонив голову на бок, как странная птица, внимала бессвязному блеянию. И жизнь перестала вытекать из старичка. Он пребывал в вечном состоянии уплаты взносов и невинно-голубоглазого взгляда на отчётных собраниях. Но, вернувшись к нашей бане, надо сказать, что множество разного народа стояло в очереди вдоль Третьего Иорданского переулка. Первые два были уже давно переименованы, а этот последний, третий, остался, и остались наши бани, отстроенные ещё сто лет назад, и вокруг которых в утренней темноте клубился банный любитель. Стояли в очереди отец и сын Сидоровы. Отец в форме офицера ВВС, а сын — в только что вошедшей в моду пуховке, стояли горбоносый Михаил Абрамович Бухгалтер со своим младшим братом, который, впрочем, появлялся редко — он предпочитал сауну. Стаховский в этот раз привел своего маленького сына. Толстый Хрунич постоянно опаздывал, и сейчас появился, как всегда, в последний момент, когда настало великое Полвосьмого, дверь открылась, начало очереди сделало несколько шагов и упёрлось в окошечко кассы. Кассирша трагически закричала "готовьте мелочь!", быстро прошли желающие попасть на вечерние сеансы, а получившие в руки кассовый чек с надписью "спасибо" (завсегдатаи брали сразу два — на оба утренних сеанса) побежали вверх по лестнице с дробным топотом, на ходу раздеваясь и выхватывая из сумок банные принадлежности. Спокойно раздевался лишь Евсюков. Хрунич суетился, снимая штаны, щеголяя цветными трусами, искал тапочки и производил много шума. Рюкзаки братьев Бухгалтеров извергали из себя множество вещей, не имеющих по виду никакого отношения к бане. Вот пробежал в мыльню старший Сидоров, волоча за собой сразу три веника. Стаховский торопливо расстёгивал курточку своего сына. — Дай мне твоего Розенкранца! — не ожидая ответа, Хрунич схватил губку Евсюкова и зашлёпал резиновыми тапочками по направлению к мыльной. — Чего это он? — удивился Евсюков, аккуратно складывая ношеное бельё на скамейку. — Это Хренич хочет свою образованность показать, — сказал Сидоров-младший и, собрав в охапку веники, устремился за Хруничем. Хрунича за глаза звали Хреничем, на что он очень обижался. Хрунич-Хренич был музыкант, то есть по образованию он был математик, и десять лет потратил на то, чтобы убедиться, что играть на скрипке для него гораздо приятнее, чем крепить обороноспособность страны. В нашей компании было много таких, как он, и на это уже никто не обращал внимания. Один Сидоров-младший, который учился в том же самом институте, что и Хрунич, был неравнодушен к теме перемены участи. Дело было в том, что Сидоров и сам не сильно любил свою Alma Mater, но бросить её боялся, и от этой нерешимости всем завидовал. Завидовать-то он завидовал, но показать это было неловко, и он молчаливо двинулся за всеми в дверь мыльного отделения. Евсюков же, пройдя в мыльню, стал напускать в таз горячую воду. Он положил свой веник в один таз, а затем прикрыл его другим, так что осталась торчать только ручка, перетянутая верёвочкой и подрезанная, чтобы никого, упаси Бог, не поранить в парной. К веникам Евсюков всегда относился серьёзно. Как-то, в конце весны, он выбрался в Москву и взял меня с собой в поход за вениками. Евсюков уверенно шёл по майскому лесу с огромным невесомым мешком за спиной. Он искал особые места, у воды, где росли берёзы с тонкими и гибкими ветками. Евсюков обрывал листики с разных деревьев, облизывал, сплёвывал, и, если листик был шершавым переходил дальше, снова пробовал листья языком, пока не находил искомых — бархатистых и нежных. Евсюков учил меня тогда отличать глушину от банной берёзы, а я вместо этого пил весенний воздух, и совсем не думал ни о берёзовых вениках и их очистительных свойствах, ни о вениках можжевеловых, ни о вениках эвкалиптовых и дубовых. Не думал я и о вениках составных, с вплетёнными в них ветвями смородины, которые так любил вязать Евсюков. Я думал о любви, и лишь треск веток прервал тогда мои размышления. Это сам Евсюков обрушился с берёзы, на которую он не поленился залезть за искомыми веточками. Евсюков сидел на земле, отдуваясь, как жаба, и отряхивая свой зелёный френч. Так нелегко давались ему уставные банные веники. У меня на даче мы повесили их, попарно связанные, под чердачной крышей, прошитой незагнутыми гвоздями, так что приходилось всё время вертеть головой. Евсюков уехал к себе, наказав следить за вениками. Ими он пользовался, приезжая в Москву. И сейчас, взяв один из них, хорошенько уже отмокший в тазу, ставший мягким и упругим, он поторопился в парную. В парной Евсюков забирался на самую верхотуру. Он сидел в уголке у чёрной стены, не покидая своего места по полчаса. Евсюков имел на это свои резоны. Лет восемь назад бравый прапорщик Евсюков нёсся над землей, сидя в хвосте стратегического бомбардировщика. Сидел он там не просто так, а посредством автоматических пушек обеспечивая безопасность страны и безопасность своих боевых товарищей. Евсюков занимался этим не первый год, но восемь лет назад прозрачная полусфера, под которой он сидел, отделилась от самолёта, воздушный поток оторвал прапорщика от ручек турельной установки и потащил из кабины. Вряд ли бы он сидел сейчас с нами на полке с душистым веником, если бы не надёжность привязных ремней. Пока бомбардировщик снижался, с Евсюкова сорвало шлемофон, перчатки и обручальное кольцо. Когда его смогли втянуть в фюзеляж, Евсюков был покрыт инеем. Высотный холод поморозил Евсюкову внутренности. Провалявшись три месяца в госпитале, он был комиссован, но с тех пор приобрёл привычку медленного, но постоянного сугрева организма. Летом после парной Евсюков употреблял арбуз, а в остальное время — мочёную бруснику. Теперь он сидел в уголку, рядом со стенкой, дыша в свой веник, прижатый к носу. — Ну ты чё, ты чё, когда это в Калитниковских банях было пиво? — пробился через вздохи чей-то голос. — Болтать начали, — сказал сурово старший Сидоров, — пора проветривать. Мы начали выгонять невежд-дилетантов из парной. Незнакомые нам посетители беспрекословно подчинялись, пытаясь, однако, проскользнуть обратно. — Щас обратно полезут, все в мыле… — отметил мрачно Хрунич. Наконец, вышли все. Начали лить холодную воду на пол. Евсюков, орудуя старыми вениками, сгонял опавшую листву с полок вниз, а Сидоровы, погодя, захлопали растянутой в проходе простыней. Дилетанты столпились у двери и, вытягивая длинные шеи, пытались понять, когда их пустят внутрь. И вот Хренич стал поддавать, равномерно, с паузами, взмахивая рукой. Поддавал он эвкалиптом, у нас вообще любили экзотику или, как её называл Сидоров-старший, "аптеку". Поддавали мятой, зверобоем, а коли ничего другого не было — пивом. — Шипит, туда его мать, смотри, куда льешь!.. — крикнул кто-то. — По сто грамм, по сто грамм, уж не светится, а ты всё льешь… — Пошло, пошло, пошло… Ща сядет… — Ух ты… — Эй, кто-нибудь, покрутите веником! — Да не хлестаться… Ох… — Ну ещё немножко…
Много времени прошло, пока наша компания выбралась из парной и двинулась обратно в раздевалку. Михаил Бухгалтер был сегодня освещён особенной радостью. Неделю назад у него родился внук. Дочь Михаила Абрамовича вышла замуж по его понятиям поздно, в двадцать четыре года, и ровно через девять месяцев принесла сына. Михаил Абрамович разложил на коленях ещё необрезанные фотографии. На них была изображена поразительно красивая женщина, держащая на руках ребёнка, и темноволосый молодой человек, стоящий на коленях перед диваном, на котором сидела его супруга. Молодой человек положил голову на покрывало рядом с ней. Все трое, видимо, спали. — Библейское семейство, — вздохнул Хрунич. Михаил Абрамович поднял на нас светящиеся глаза. — Вот теперь мне — хорошо, — сказал он. — Мы принесли водочки, — произнёс его брат. Заговорили о войне, продаже оружия арабским странам и проблеме отказников. Торопиться было некуда, время мытья, массажа, окатывания водой из шаечек и тазов ещё не пришло, и можно было просто беседовать о том и о сём.
Так мы всегда беседовали, попарившись, потягивая различные напитки — чай со сливками, приятно увлажнявшими сухое после парной горло, морсы всех времён и народов, пивко, а те, кто ей запасся — и водочку. Теперь мы пили водочку за здоровье семейства Бухгалтеров. Сейчас я думаю — как давно это было, и сколько перемен произошло с тех пор. Перемен, скорее печальных, чем радостных, поскольку мы столько времени уже не собирались вместе, а некоторых не увидим уже никогда. Убили Сидорова. Самонаводящаяся ракета влетела в сопло его вертолёта, и, упав на горный склон, он, этот вертолёт, переваливался по камням, вминая внутрь остекление кабины, пока взрыв не разорвал его пятнистое тело. Убили, конечно, Сидорова-старшего. Сидоров-младший узнал об этом через месяц, когда вместе с бумагами отца приехал оттуда его однополчанин. Однополчанин пил днём и ночью, глядя на всех пустыми глазами. Подробностей от него добиться не удалось, а сухое официальное извещение пришло ещё позже. Так что мы не знаем, как всё произошло. Не знаем, но мне кажется, что всё было именно так — горный склон, покрытый выступающими камнями, перемещающееся, устраивающееся поудобнее тело вертолёта. Младшему Сидорову хотели выплачивать пенсию, как приварок к его стипендии, но выяснилось, что до поступления в свой радиотехнический институт он-таки проработал год, и пенсию не дали. Его мать давно была в разводе с майором Сидоровым, майора похоронили в чужих горах, и на том дело и кончилось. Сема, Семен Абрамович, уехал в Америку. Путь его за океан начался на берегу Малой Невы, в доме сталинского ампира, рядом с пожарной каланчой. Там, при знакомстве с иностранной гражданкой Джейн Макговерн, началась его новая жизнь. Последний раз мы увидели его в Шереметьево, толкающего перед собой тележку с чемоданами. Он ещё обернулся, улыбнувшись в последний раз. Отъезд в Америку равнозначен смерти. Это давно отмечено. А пока они сидят все вместе на банной лавке, отдуваясь, тяжело вздыхая, и время не властно над ними.
Но время шло и шло, и уже появился из своего пивного закутка банщик Федор Михайлович, похожий на писателя Солженицына, каким его изображают в зарубежных изданиях книги "Архипелаг ГУЛаг". Он появился и, обдавая нас запахом отработанного "Ячменного колоса", монотонно закричал: — Па-торапливайтес-сь, па-торапливайтесь, товарищи, сеанс заканчивается… Не успевшие высохнуть досушивали волосы, стоя у гардероба. Хрунич всё проверял, не забыл ли он на лавке фетровую шляпу, и копался в своём рюкзачке. Евсюков курил. Наконец, все подтянулись и вышли в уже народившийся весенний день. Грязный снег таял в лужах, и ручьи сбегали под уклон выгнувшегося переулка. Мартовское солнце внезапно выкатилось из-за туч и заиграло на всем мокром пространстве между домами. — Солнышко-оо! — закричал маленький сын Стаховского, и вся компания повалила по улице.
24 декабря 2008 (обратно)
Старообрядец
 Молодого инженера разбирали на собрании: тесть его оказался старообрядцем.
Один из друзей инженера, побывав на его недавнем дне рождения, сообщил об этом обстоятельстве родства в партком.
В заявлении говорилось, что в доме у члена партии и при его пособничестве собираются религиозные мракобесы.
Тесть тогда действительно молился в своём закутке, не обращая внимания на гостей, которые с испугом глядели на него.
Пил он, кстати, из своей специальной кружки, и это тоже всех раздражало. Инженер и сам не любил тестя – сурового человека, заросшего до глаз бородой, высокого и жилистого, но его возмутило предательство друга.
Инженер наговорил глупостей, и дело запахло чем-то большим, чем просто исключение из партии.
Однако счастье инженера состояло в том, что по старой рабочей привычке (ибо он стал инженером на рабфаке, придя в вуз по комсомольскому набору), он крепко выпил, идя с собрания, и свалился в беспамятстве.
Врачи объявили диагноз его жене, фельдшеру, которая и сама понимала, что это «нервная горячка». Исключённый и уволенный инженер переждал свою беду, валяясь на больничной койке.
Молодого инженера разбирали на собрании: тесть его оказался старообрядцем.
Один из друзей инженера, побывав на его недавнем дне рождения, сообщил об этом обстоятельстве родства в партком.
В заявлении говорилось, что в доме у члена партии и при его пособничестве собираются религиозные мракобесы.
Тесть тогда действительно молился в своём закутке, не обращая внимания на гостей, которые с испугом глядели на него.
Пил он, кстати, из своей специальной кружки, и это тоже всех раздражало. Инженер и сам не любил тестя – сурового человека, заросшего до глаз бородой, высокого и жилистого, но его возмутило предательство друга.
Инженер наговорил глупостей, и дело запахло чем-то большим, чем просто исключение из партии.
Однако счастье инженера состояло в том, что по старой рабочей привычке (ибо он стал инженером на рабфаке, придя в вуз по комсомольскому набору), он крепко выпил, идя с собрания, и свалился в беспамятстве.
Врачи объявили диагноз его жене, фельдшеру, которая и сама понимала, что это «нервная горячка». Исключённый и уволенный инженер переждал свою беду, валяясь на больничной койке.
Его тестю повезло меньше. На исходе короткой летней ночи за ним пришли и увезли вместе со святыми книгами. Через несколько дней началась война, и тюрьмы стали этапировать на восток. Вот тут старообрядцу повезло. Его не расстреляли, как многих других, поскольку у него не было даже приговора, а посадили в эшелон и повезли в тыл. В другом эшелоне, идущем прямо вслед тюремному, двигалась вдоль страны его дочь, снятая с учета как родственница социально-опасного элемента. Её муж, попав в ополчение, погиб на второй день, и сейчас она ехала в эвакуацию с сыном, на станциях задумчиво глядя на вагоны, в одном из которых спал её отец.
Старообрядца везли сквозь Россию. В вагоне им никто не интересовался, и называли его просто – старик. Он не знал, где его везут, и видел в забранном решёткой окошке только серое осеннее небо. Его, впрочем, это мало волновало. За Владимиром их разбомбили. К тому моменту весь эшелон был в тифу, и те, кто уберегся от бомб, лежали в бреду на откосе. Этих больных без счёта, вперемешку с мёртвыми, закопали в ров. Путевой обходчик и его помощник увидели на следующий день, что изо рва вылез седой старик, и, не зная того, что он в тифу, положили его на дрезину. Его привезли в посёлок, и обнаружилось, что старик забыл всё и даже не мог сказать, как его зовут.
Дочь, обосновавшись в рабочем поселке, тем временем, отправилась на базар продавать платье и услышала о каком-то человеке, лежащем у складов. По странному наитию она повернула в закоулок, прошла, измочив башмаки в осенней грязи, и увидела на земле кучу тряпья. Это был её отец.
Старообрядец поправился довольно быстро, но память долго не возвращалась к нему, и он, с болью вглядываясь в лицо дочери, твердил древние молитвы. Но вернулась и память. Вернее, она пришла не вся, рваная, как его ватник, с лезущей в неожиданных местах ватой, но своё прежнее столярное дело к весне он вспомнил. Дочь плакала и пыталась заставить его вспомнить что-нибудь ещё, а старик не слушал её. Это было для него неважно. Понемногу он начал вставать и, опираясь на штакетину от забора, вылезал во двор, щурясь на зимнее солнце.
Кроме них в бараке жила ещё одна эвакуированная – молодая женщина. Она приехала из Киева, где была преподавательницей музыки. Женщина гуляла с офицерами местного учебного полка, и они часто оставались ночевать в её комнате. Оттого жизнь этой эвакуированной была сравнительно сытой. Хозяйка, суровая женщина маленького роста, хмуро говорила про неё: кому война, дескать, а кому мать родна...
Весной третьего года войны началась совсем уж невыносимая бескормица. Старик сидел в своём отгороженном углу и молился. Сперва ему приносили заказы на мебель, но скоро этот источник дохода иссяк. Теперь их маленькая семья жила на больничный паёк дочери. Старик высох, но в его глазах всё так же горел огонь веры. И вот он молился. Из-за перегородки время от времени раздавался плач младенца, которого родила соседка этой весной. Сама она куда-то вышла, а дочь старика повезла внука к родне мужа, в деревню неподалёку. Это был лишний шанс продержаться. Деревня была лесная, в ней не пахали и не сеяли, а по старости или малости лет трудовой повинности никто не подлежал. Поэтому старик не ощущал вокруг никого. Был погожий день, и, помолившись, старик вышел на крыльцо. Он медленно прошёлся по двору и, отворив дверь сарайчика, увидел на уровне своего лица круглые колени его соседки. Старик внимательно осмотрел лицо молодой женщины. Теперь оно приняло обиженное выражение. Постояв так, он вернулся в дом. Старик пошёл к хозяйке. Хозяйка с испугом взглянула на него. Она впервые видела, чтобы её квартирант заговорил с кем-то кроме своей дочери и внука. Старик коротко объяснил, что случилось. Женщина всплеснула руками. Война вытравила из неё болтливость, и она молча пошла за стариком. Одноногий муж хозяйки, железнодорожник, отправился за милиционером. Милиционер был безрукий. Так они и шли по лужам – безрукий поддерживал безногого, помогая ему выдирать из земли деревяшку, а когда милиционер обрезал верёвку в сарае, уже безногий помогал ему, безрукому, снимать твёрдое негнущееся тело и класть его на земляной пол. Женщину накрыли рогожей, милиционер составил протокол и дал его подписать всем присутствовавшим. Он пробовал заговорить со стариком, но тот молчал, и безрукий милиционер ничего не смог от него добиться. Он отстал от старообрядца только тогда, когда хозяева объяснили ему, кто их жилец. Ребенка нужно было сдать в детский дом, но милиционер не мог его нести и обещал скоро прислать телегу. Хозяевам нужно уже было уходить. Безногий поковылял в свои мастерские, а женщина отправилась мыть полы в ту же больницу, где работала дочь старика. Перед уходом женщина попросила было его последить за ребёнком, но натолкнулась на отсутствующий взгляд квартиранта. Старик думал о грехе. Он думал о том, что теперь ребёнок будет страдать за грехи других людей, за грехи своей матери и даже за грехи тех людей, которые начали первыми стрелять в этой войне. Все равны перед Ним. Всё от Него и к Нему. Всех будет Он судить, и страшна будет кара Его. О себе старик не думал. Он не мог вспомнить о себе многого и поэтому не держал своего зла на людей, а знал лишь, что за грехом должно следовать наказание. Он помнил свои молитвы и то, как нужно держать рубанок. Для него этого было достаточно, а рассказам плачущей дочери старик не верил. Все ушли, но за перегородкой снова раздался крик ребёнка, про которого забыли. Старик внезапно понял, что он должен пойти на этот крик. Ребёнок замолчал, он смотрел на старика немигающими глазами, а потом снова зашёлся в крике. Старик взял свою, тщательно сберегавшуюся в чистоте ложку и начал кормить ребёнка. Сначала у него не получалось, но вскоре дело пошло на лад. Старик завернул его в новую тряпку и унёс на свою половину. Когда он понял, что ребёнок уснул, то осторожно положил свёрток на верстак. Ребёнок крепко спал, и не мог выпасть из ложбины, в которой обычно лежала деревянная заготовка. Тогда старик вышел на двор и, сев на крыльцо, снова стал думать о своей вере, о тяжких людских грехах. Он как будто продолжил свои мысли с прерванного когда-то места. Была настоящая весна. Солнце, отражаясь в лужах, било ему в глаза, а снег совсем сошёл и чернел только в глубоких ямах у забора. Что-то было с ним в эти дни тогда, в его прошлой жизни. Это воспоминание не было для него сейчас необходимым, и он вспоминал спокойно, без напряжения, будто перелистывая обратно страницы своих книг. Он начал вспоминать и, наконец, вспомнил всё – вечеринку, испуганное лицо дочери и насупленные лица гостей. Он вспомнил зятя-инженера. Но тут же снова забыл их всех за ненадобностью.
14 декабря 2018 (обратно)
Путешествие Свистунова
 Как только поезд тронулся, на столе разложили газету.
На газете появились четыре помидора, варёные яйца, и варёная же курица. Баранов достал картошку в мундире и кусочексала.
Поэт вытащил из чемоданчика маленькую баночку с солью и коврижку.
Все начали есть.
По вагону, задевая пассажиров этюдником, промчался живописец Пивоваров, а за ним пробежал проводник. Из носа проводника росли дикие косматые усы, а в руке у проводника была клеенка с кармашками для билетов.
Понемногу всё успокоилось, но поезд тут же остановился, а пассажиры кинулись докупать провизию.
– Пойдёмте сочинять стихи, – сказал поэт. – Я как раз не могу подыскать рифму к слову «завтра».
Поэт, Баранов и писатель Свистунов вышли и начали прогуливаться между путей. Один Володя остался сидеть на своём месте, опасаясь, как бы у него не украли данные на сохранение Пивоваровым двадцать рублей.
Поэт кланялся знакомым пассажирам и говорил:
– Видите ли, я думаю написать большую поэму. Она должна называться «Собиратель снов».
– Иные сны опасно видеть, особенно в гостях, – отметил Свистунов. – А я вот собираюсь написать роман. В моём романе будет жаркое лето, степь и положительный герой-служащий. Он будет рассуждать о судьбе культуры. Представляете, герой мой торчит, как пень, среди высокой травы. «Этот камень, – будет думать мой совслужащий, – говорит нам о постоянстве мира. В этом смысле камень талантлив. Структура его не имеет значения. Он образ бездарного творения, пробудившего мысль».
– Только что мы с вами видели чрево паровоза, где беснуются шатун и поршень. Подумайте, во имя чего он, этот паровоз, несёт нас через пространство? – жеманно произнёс поэт.
– Да, – ответил Свистунов, – не лучше ли природа, эти волы, пасущиеся на горизонте...
Володя всё-таки вылез из вагона и присоединился к прогуливающимся. Рядом с ними внезапно появился Пивоваров и заинтересованно спросил:
– Вы опять о кризисе романа? – и тут же унёсся по направлению к паровозу.
Стоянка кончилась, и люди полезли на подножки, стукаясь головами о жёлтые флажки в руках проводников.
– Душно-то как... – сказал Баранов.
– Давайте пойдём в тамбур и откроем там дверь, ведущую на волю, – предложил поэт.
Так и сделали.
– А теперь будем рассматривать степь, свесив ноги! – приказал поэт.
Сам он достал книжечку и записал в неё такое стихотворение:
Как только поезд тронулся, на столе разложили газету.
На газете появились четыре помидора, варёные яйца, и варёная же курица. Баранов достал картошку в мундире и кусочексала.
Поэт вытащил из чемоданчика маленькую баночку с солью и коврижку.
Все начали есть.
По вагону, задевая пассажиров этюдником, промчался живописец Пивоваров, а за ним пробежал проводник. Из носа проводника росли дикие косматые усы, а в руке у проводника была клеенка с кармашками для билетов.
Понемногу всё успокоилось, но поезд тут же остановился, а пассажиры кинулись докупать провизию.
– Пойдёмте сочинять стихи, – сказал поэт. – Я как раз не могу подыскать рифму к слову «завтра».
Поэт, Баранов и писатель Свистунов вышли и начали прогуливаться между путей. Один Володя остался сидеть на своём месте, опасаясь, как бы у него не украли данные на сохранение Пивоваровым двадцать рублей.
Поэт кланялся знакомым пассажирам и говорил:
– Видите ли, я думаю написать большую поэму. Она должна называться «Собиратель снов».
– Иные сны опасно видеть, особенно в гостях, – отметил Свистунов. – А я вот собираюсь написать роман. В моём романе будет жаркое лето, степь и положительный герой-служащий. Он будет рассуждать о судьбе культуры. Представляете, герой мой торчит, как пень, среди высокой травы. «Этот камень, – будет думать мой совслужащий, – говорит нам о постоянстве мира. В этом смысле камень талантлив. Структура его не имеет значения. Он образ бездарного творения, пробудившего мысль».
– Только что мы с вами видели чрево паровоза, где беснуются шатун и поршень. Подумайте, во имя чего он, этот паровоз, несёт нас через пространство? – жеманно произнёс поэт.
– Да, – ответил Свистунов, – не лучше ли природа, эти волы, пасущиеся на горизонте...
Володя всё-таки вылез из вагона и присоединился к прогуливающимся. Рядом с ними внезапно появился Пивоваров и заинтересованно спросил:
– Вы опять о кризисе романа? – и тут же унёсся по направлению к паровозу.
Стоянка кончилась, и люди полезли на подножки, стукаясь головами о жёлтые флажки в руках проводников.
– Душно-то как... – сказал Баранов.
– Давайте пойдём в тамбур и откроем там дверь, ведущую на волю, – предложил поэт.
Так и сделали.
– А теперь будем рассматривать степь, свесив ноги! – приказал поэт.
Сам он достал книжечку и записал в неё такое стихотворение:
Вот и тронулась телега, увозя в смешное завтра
Оси, спицы и ободья словно солнцем золочены
Но нечёсаны, косматы лошадей хвосты и гривы
И лениво и неспешно их возница понукает
Словно тайну постигает своего перемещенья
– Завтра, завтра, не сегодня, – старый немец у дороги
Говорит мне на прощанье, когда я сажусь на сено...
Когда я сажусь в телегу, старый немец лишь кивает
Тоже втайне понимая невозможность возвращенья.
Придорожное распятье, немец древний исчезают,
Когда я сажусь в телегу, уезжая без печали.
Через некоторое время в тамбур вошла проводница, возмутилась, но скоро остыла и начала курить, пуская дым над сидящим Барановым. Поезд шёл медленно, и Баранов различал отдельные стебельки травы. Километровые столбы Баранов тоже различал, но они пугали его непонятностью цифр. Незнакомый Баранову человек прикурил у проводницы и, сев за спиной Баранова, стал пускать дым Баранову в ухо. Проводница ушла. Поезд совсем замедлил ход, и тогда человек произнёс: – А знаете что? Здесь путь делает петлю, и если вы дадите мне рубль, я могу вон там купить арбуз и успею вернуться. Баранов вытащил бумажку, и человек с папиросой спрятал её в карман пиджака. Потом он ловко спрыгнул с подножки и исчез из жизни Баранова навсегда.
К вечеру Володя и Баранов настрогали щепок и растопили кипятильник. Проводница высунулась из своего закутка и попросила оставить ей немного воды – помыть голову. За это Володя разжился у проводницы кренделем. Стали пить чай. К компании подсел старичок, стриженая девица и какой-то человек в железнодорожной фуражке. Поезд пронёсся мимо моста, на котором, в маленькой будочке, стоял совсем иной человек. На голове у человека была белая кепка, а на плече висела винтовка. Человек на мосту не думал о Баранове, Володе, Свистунове или о других пассажирах поезда, и не занимала его мысль, как уберечь их от вредительства, а думал он о том, как бы скорее выпить водочки. Мысль эта сгустилась вокруг белой кепки и была подхвачена воздушным потоком от локомотива. Она догнала вагон, проникла внутрь и равномерно распределилась между всеми участниками чаепития. Так у всех возникло желание выпить водочки. Человек в железнодорожной фуражке исчез на время, и, вернувшись, принёс две бутылки водочки, одну бутылку достал Пивоваров, и ещё бутылка оказалась в портфеле у Баранова. Сорвав пробочку и разлив живительную влагу по железнодорожным стаканам, поэт спрятал бутылку под лавку. Володя заметил, что он очень боится, что к ночи водочки не хватит... К столу внезапно подсел солдат в мохнатой шинели. – Я боец Особенных войск, – сказал он. – Давайте я расскажу вам про это. Постепенно в купе начал приходить неизвестный никому из присутствовавших народ. Пришли трое – хромой, косой и лысый. Лысый принёс гитару с бантом. Они сели с краю и тут же закурили. – Вы читали у Горького, – спросил Свистунов. – Там, где он говорит, что гитара – инструмент парикмахеров? Троица сразу же обиделась и ушла к соседям, оставив на полу три папиросы «Дели» с характерно прикушенными мундштуками. От соседей ещё долго доносилось рыдание гитары и нестройное трёхголосое пение: «Счастья не-е-ет у меня, ади-и-ин крест на гру-у-уди...» – Я вам сыграю, – предложил Баранов. Он достал из портфеля чёрный футляр. В футляре лежала дудочка. Баранов приладил к дудочке несколько необходимых частей и вложил мундштук дудочки в рот. Однако в этот самый момент живописец Пивоваров привел на огонёк двух женщин – проводницу Иру и Наталью Николаевну. Проводница Ира сразу же положила ногу на ногу, а Наталья Николаевна была рыжая. Обе были очень молоды и слушали Пивоварова, открыв рот, а Пивоваров между тем подливал себе водочки. Когда писатель Свистунов захотел рассказать план своего нового романа, Пивоваров строго сказал ему: «Ты – царь. Живи один». И Свистунов пошёл в другой вагон. Там он поймал за пуговицу пиджака грузина, который сел не на свой поезд, и начал рассказывать ему печальную историю своей жизни. – Я – Свистунов, – говорил он. – А они... Представляете, как они переделали мою фамилию?! Грузин отбивался и мычал.
В это время Ира и Наталья Николаевна уже изрядно наклюкались. Иру Пивоваров увел блевать в тамбур, а Наталью Николаевну посадил на отдельный стульчик поэт и стал читать ей стихи, поминутно проверяя, на месте ли находятся колени Натальи Николаевны. Наталья Николаевна склонила голову ему на плечо и стала вспоминать своего покойного мужа, бывшего офицером Генерального штаба.
Разбудила всех Ирочка. От её громкого крика пассажиры проснулись и стали прощупывать свои бумажники сквозь ткань брюк. На Ирочке не было лица, а через незастёгнутую форменную рубашку был виден белый лифчик. – Он там висит... Там висит, язык вылез, синий весь... – кричала Ирочка. Все пошли за Ирочкой к туалету. В мокром туалете, согнув ноги, висел писатель Свистунов. – Н-да, – сказал Баранов, и все закивали. Расталкивая присутствующих, к висящему Свистунову пролез боец Особенных войск. Перочинным ножиком он обрезал верёвку и посадил согнутого Свистунова на толчок. – Странгуляционная борозда чёткая. Так. – боец Особенных войск поднял голову. – Теперь, граждане, каждый скажет мне свои установочные данные. Вы кто? – он ткнул пальцем в Баранова. – Я – Баранов, – сказал Баранов. – Хорошо. А вы? – он показал пальцем на Володю. – Я – Розанов.
Когда всех записали, Свистунова положили в тамбуре. Вернувшись на своё место, Баранов сказал поэту: – Вот и нет человека. – А вы знаете какую-нибудь молитву по усопшим? – спросил поэт у попутчиков. – Я только читал про морскую молитву. Она кончается словами «Да будет тело предано морю», – вклинился на бегу в разговор проносившийся по проходу Пивоваров. – Морская тут не подходит, – со знанием дела отметил Баранов. Когда поезд снова встал в степи, они вынесли Свистунова на курган у полотна и выкопали там круглую яму. – Приступим к обряду прощания, – сказал боец Особенных войск. Ирочка заплакала. Прибежал живописец Пивоваров и встал, выпятив живот. Из соседнего вагона пришёл человек, как оказалось, знакомый Свистунова. Он произнёс речь. Какой-то проводник принёс палку с хитрым железнодорожным значком на конце. Её воткнули по ошибке в ногах покойника, и кинулись догонять поезд, набиравший скорость. Лишь один грузин замешкался, нашаривая что-то в грязной луже.
Рассевшись по своим местам, пассажиры стали смотреть друг на друга. – Надо помянуть, что ли, – наконец произнёс проводник, который принёс железнодорожную палку на могилу. Люди загалдели, а, загалдев, шумно согласились. Водочки уже не осталось, но нашёлся самогон. Выпили за знакомство и за прекрасные глаза Ирочки. Ирочка застеснялась и скоро с Барановым ушла к себе в закуток, чтобы посмотреть вместе с ним схему пассажирских сообщений. Через некоторое время за столом остался один Володя. На душе у Володи было нехорошо – в нём жил несостоявшийся звук барановской дудочки, план свистуновского романа и поэма сновидений. Он снова вынул четвертушку серой бумаги и написал: «...И когда они обернулись, домов и шуб не оказалось».
06 января 2019 (обратно)
История про путешествия на Север
Иногда мне кажется, что лучшая профессия для меня - обозреватель. Обозреватель всего. Например, окрестностей. Как те западные писатели, которые приезжали перед войной в Советскую Россию. Они дивились на мрамор и бронзу московского метрополитена и предрекали великое будущее "несмотря на те пули, что убили Каменева и Зиновьева". И вот я представляю себе сход французских крестьян: - Езжай, Владимир, езжай... Погляди, чё там, расскажешь... Я тоже так хочу. Да вот, болтливой корове Бог рогив не дал.В этом смысле интересны были путешествия на Русский Север. Север был как бы трёх типов: просто Север, или Верхний Север - это торосы с вмёрзшим телом неизвестного Челюскина, призрак Леваневского в шевиотовом костюме, заправленном в унты, два хмурых капитана и ненцы на собачьих упряжках. Средний Север состоял из деревянных церквей, поморских изб и сумрачной иконописи, составлявшей две трети антикварного трафика за рубеж. И, наконец, был Нижний Север, где в крупных промышленных центрах памятникам никому непонятной русской истории стояли монастыри и храмы, а так же немногие уцелевшие человечьи дома. Но всё равно, все три слоя Русского Севера представляли собой царство чистой духовности - она била там из-под земли как нефть. Русский Север в советское время - это вам не Сочи с прикупом, не Геленжик с расторопным мужиком. Путешественник, вернувшийся с Русского Севера, потрясал знакомых народным словом - шатёр, бочка, палатка, луковка. Говорил человек "охлупень", "лемех", "повал" и "курица" - и было видно, что деревянная русская духовность снизошла на него. Не говоря уж о том, что всегда была надежда, что выйдут двое из леса и после невинного вопроса "Вы нас не подбросите до Соловца?" жизнь твоя пойдёт сказочным образом. Сейчас это куда-то подевалось. Впрочем, стали лучше дороги, но некоторые стали искать духовность среди замков Луары и в венецианских каналах. Интересующиеся ночными библиотеками и те, что могут выйти из леса, нынче ничего не спрашивают. Ни-че-го. Им и так всё ведомо.
Неизвестно, где на Севере духовности было больше. Нижний Север был гуще и история его круче, а средний Север был недоступен и населён куда меньше. С Нижним Севером я познакомился давно, когда плыл по его долгой воде вместе с давним своим другом. Лодочка наша была старая, трухлявая, заплатанная и напоминала только что поднятый со дна авианосец. Друг мой начал её клеить, а я - разрабатывать маршрут. Сначала я думал идти по Свири - оттого, что прочитал "Заметки о Русском", а уж где тогда была духовность, так это в книгах Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Однако, обстоятельства щёлкнули у нас перед носом пальцами как фокусник, и вот мы купили билеты до Череповца. Нужно было ехать до Белозера, начального пункта нашего путешествия, на автобусе. Ожидая грязный междугородний ЛАЗ, такой же что вёз меня теперь по Среднему Северу, я пошёл прогуляться по Череповцу. Было видно, что здесь тесно от заводов. Гарь, запах выделанного железа и химии неслась над водой. Я ходил и думал о том, что вот в этом городе отбывал ссылку брат моего деда. Но я не знал точного места, где он жил в этом изгнания - сначала вынужденном, а потом добровольном. Целые моря воды утекли с тех пор, разлилось и Рыбинское водохранилище, на берегу которого я стоял. Автобус тяжело вздохнул и вывалил нас на пыльную улицу. Поднатужившись, мы вытащили рюкзаки из ещё более, чем улица, пыльного багажного ящика. Тележка с лодочкой поскрипывала по грязным улицам Белозерска. Город был чуть не древнейший на Севере. При этом он кочевал с одного озёрного берега на другой, перемещался в сторону. На Каменном мосту через сухой, с нежно-зелёной травой ров у Покровского собора, висели белые простыни со старинными буквицами - там была какая-то путаница с поздравлениями с неровной годовщиной основания, судя по всему уходившая в Новый завет. Мимо по улице бежала блохастая собака и чесалась на бегу. Было пусто, и шумел ветер. Уединённость сохранила культуру, и теперь она кажется необычной по сравнению с духом Смоленщины или Московии. Много лет спустя я чуть не остался ночью на острове, что отделяет канал от Белого озера. Шлюзовой мост отвели, и если бы не добрые рыбаки, то жечь бы мне костры до рассвета. А тогда мы отшвартовались и тихо пошли древним судоходным каналом на восток и юг. Особый, щемящий тон был в нашем путешествии, мы наверняка знали, что эти места предназначены для начала разворота северных рек на южные хлопковые поля. Именно здесь что-то должно было повернуться в природе, и никаких сомнений в неотвратимости преобразований у нас не было. Вряд ли осознанная скорбь об этом присутствовала у нас на сердце, но вспоминали мы об этом часто. Мы будто прощались с Шексной, с её рукотворными морями, уже подтопившими свои берега. Наша лодка вплывала в наполненную водой церковь. С потолка срывались тяжелые капли, а стены щетинились арматурой. Закат освещал внутренности храма, но они пугали нас. Мы торопились выбраться оттуда, чтобы стать на ночлег. Утренняя Шексна была покрыта туманом, и из него беззвучно выплывали чёрные борта кораблей. Потом откуда-то сверху раздавался протяжный гудок, и снова всё исчезало в прохладном молоке. Расходящиеся волны подкидывали лодку. Однажды мы успели лишь развернуть байдарку носом к медленно движущейся, просверкивающей на солнце водяной стене. Волна была выше нас, сидящих на воде. Но вот, ударив нам в лицо, она расходилась на мелководье, обнажала целое поле стволов, будто спиленных аккуратно, вровень с водой, - остатки давнего леса. Как-то лодочка села на один из таких пней, вот другой прошёл по её днищу, срывая заплатки, но чиниться было негде, и мы двигались дальше, весла прогибались, на запястья стекали ручейки серого алюминиевого абразива. Это была мокрая пыль от крутящихся в руках вёсельных сочленений. Мимо нас проходил Горицкий монастырь, что стоял на высоком холме, мы, внезапно для самих себя, пересекли реку перед носом у огромного сухогруза и долго потом бились о валуны противоположного берега, слушая невнятно-злобный крик мегафона с капитанского мостика. Протащив лодку по мокрому деревянному жёлобу, заросшему ивняком, мы попали в канал Северо-Двинской системы, иначе называемой Екатерининской. Мы миновали все шлюзы, но у одного, разговорившись с двумя старухами-хозяйками, которым помогли убрать сено с откоса, шлюзовались персонально. Друг мой опускался в чёрную яму бревенчатого шлюза, табаня веслами. Всё было по-домашнему. На краю шлюза бегала сумасшедшая курица, а из домика тянуло жареной картошкой. Однажды издалека мы услышали страшный скрежет. Им был полон воздух, но ничто не указывало на его источник. Я втягивал голову в плечи, хотя бы для того, чтобы мой друг, сидящий выше, мог разглядеть что-нибудь. Но река всё петляла и петляла, пока, наконец, не открыла нам землечерпалку, похожую на сразу двух чудовищ, схватившихся в смертной схватке. Она что-то перемалывала в своих недрах, скрежетала транспортером, вздрагивала, плевалась грязной водой, и всё же - медленно удалялась за корму. Так и стих её голос. Мы кружили в узкой протоке канала и внезапно я, сидящий на носу, увидел мальчишек в синих шортах и пилотках, копошившихся на берегу. Подплыв ближе, мы увидели, что они запасают веники. Решив показать собственную образованность и поговорить о вениках, я вступил в разговор. - Здорово, пионеры! - заорал я. - Сам гондон! - бодро закричали мне в ответ: - Мы - курсанты Высшего Военного Командно-строительного училища имени генерала армии Комаровского, совершаем здесь курсантский шлюпочный поход из Ленинграда в Архангельск... Мы шли по Свири, а потом пройдём вниз по Сухоне и Северной Двине, чем укрепим наши мышцы и обороноспособность страны. Я только втянул голову в плечи. А когда на следующий день мы вышли в озеро, военно-морские шлюпки поставили паруса, а на горизонте вместе с вспыхнувшими на солнце белыми полотнами выросли из воды стены Кирилло-Белозёрского монастыря. Кириллов был одним из первых монастырей, которые заколачивали как гвозди в этот северный край. Москвичи укрепляли свои северные фланги. Кириллов, Ферапонтов, Воскресенский, Череповецкий, Нило-Сорская пустынь. Кирилл был учеником Сергия Радонежского, и это всё, что я о нём помнил. К восемнадцатому веку обитель совершила странное, но обычное на Руси превращение из монастыря в место тюрьмы и ссылки. Мы чалили к его подтопленной стене свою лодку, а военно-морские курсанты давно уже исчезли, прокладывая курс своих шлюпок на банный дым из длинной чёрной трубы.
Отойдя от города, мы очутились в озерах, где стояла тишина, а вода тихо журчала о резиновое днище. В нежно голубом небе заходило солнце, но экипаж, давая себе волю, лежал на спинах, глядя в безоблачную пустоту. Вода затопила кусты и, покрыв отмели, изменила кривизну поверхности. Теперь мы перемещались по гребню огромной выпуклости, пока не съехали с неё в пенистый прибой Кубенского озера. В недоступном его центре маячил крест очередного монастыря. Глядя на него, я кувыркался в волнах, надев ярко-оранжевый спасжилет. Прибой переворачивал меня, и перед глазами оказывался то озёрный горизонт, то небо с редкими тучками, то пустынный берег, где мой друг ковырял ложкой в котелке. Когда мы достигли Вологды, небо набухло и разразился ливень. Теперь дышалось легко, и мы шли, подпрыгивая, ступая прямо в глубокие лужи. Город резного палисада был вымыт недавним дождём, а мой друг фотографировался на фоне бронзового Батюшкова, отражаясь во всё тех же скользких лужах. В краеведческом музее висела старая газета, и заголовки были главнее названия: "Март - фронтовой месяц на лесозаготовках! Больше авиаберезы - ближе победа". Скучающая длинноногая девушка за два гривенника пустила нас в Софийский собор, и наши шаги гулко отдавались в прохладе пустого храма. Мы дивились на высокие шляпы иностранцев, что ожидали Страшного суда будто послы - первого звука колокола в фильме Тарковского. Иностранцев нарисовал Дмитрий Григорьевич Плеханов, человек примечательный и понимавший толк в жизни. Как-то сложно было представить свою страну вытянутой к Белому морю, с главной связью с внешним европейским миром не через Балтику, а через Белое море, тянущейся не на запад, а на север. Да что там поляки в Великом Устюге, русские в Америке - достаточно одной фигуры ослеплённого Шемякой Василия Тёмного, что стоит в виду ненавистного Галича и озирает город перед битвой пустыми глазницами. Эта картина была посильнее Толкиена, которым мы тогда увлекались как необщим и непопулярным писателем. Вежливый служитель на колокольне предупреждал нас от фотографирования Особых Секторов, с благоговением, правда, оглядываясь на японцев, снимающих видеокамерой круговую панораму. А сейчас, за двадцать пять лет, три любви спустя, ничего, по сути, не изменилось, кроме того, что пропал с колокольни этот специальный человек, от которого осталось только пожелание: - Вон в ту сторону фотографируйте, а в ту - нельзя. У нас там секретный завод. Мы шли от Верхнего посада к вокзалу, подивившись на город, разбегающийся к краям в большую деревню. Итак, он был вымыт и чист, но мы без сожаления покидали его, запихивая мешки под лавки общего вагона. Время бежало, бежали и мы, не отставая, ведь тогда мы изучали физику и хорошо знали, что вслед за тремя пространственными координатами, за x, y и z, вопреки алфавиту, всегда следует t, что есть время. История этих мест была историей нашей родины. В моём детстве к истории было очень странное отношение. Не то, что бы её знание не ценилось, нет. Но в среде снобов, с которыми я был знаком очень ценилось умение было правильно угадать век. Увидя церковь, икону, вообще - любой предмет, нужно было бросить числительное. Шестнадцатый или семнадцатый век. Восемнадцатый угадывался легче, а девятнадцатый безошибочно. Это числительное замещало всего Ключевского вкупе с Соловьёвым. В школе было всё понятно, история как в Петергофе, логично текла из ванны одной формации в ванну другой. Какие-то косматые люди жевали коренья, затем они переодевались в белые рубахи, потом их безжалостно убивали толстые вислоусые татарские всадники. И вот, откуда не возьмись, возникал русский царь - его черты были размыты, но он стремительно превращался в Ивана Грозного и, сразу же - в Петра. Выбегали декабристы, стремительно проносился заспанный Герцен и вот уже "Аврора" сносила своим залпом половину Российской империи. Да что там - всю. И только много лет спустя эта стройная схема начала не просто обрастать новыми деталями, а разворачиваться, скрипя снастями, как огромный древний корабль, показывая какие-то странные, а то и ужасные, не виденные ранее детали. История из абстракции, сцен рублевских времен из одноимённого фильма, превращалась в какой-то кровавый хаос, одновременное развитие нескольких сюжетных линий. Все одновременно стали неправы. И, наконец, оказалось, что всё решительно непонятно. Непонятно, что к чему.
Я тоже всегда хотел духовности. Я всегда хотел духовности, но предмет этот был чем-то вроде табачного дыма - цапнешь его пятернёй, но он куда-то просочится. И вот, в давние времена я туда уехал. Уезжал я плохо. Любовь моя оставалась дома, и у этого чувства было чейн-стоксово дыхание. Когда подошёл последний срок, всё моё желание исчезло. Путешествие разваливалось. Я то сдавал билеты, то снова брал и, наконец, засунув в рюкзак свои государственно-геологические сапоги, уехал один. Главное, я совершенно не понимал, куда еду. Вагон шелестел по рельсам, подпрыгивал на стыках, шум распадался на отдельные звучания - лязг, скрежет, шуршание. Пробуждение в этом вагоне было внезапным, но самостоятельным. Всё так же качался железный дом, но тяжесть отъезда покинула меня. И что всего удивительнее - я почувствовал себя совершенно счастливым. Выгрузившись из поезда, я увидел мокрую станцию - преддверье северного города. Была это Няндома. Няндома оказалась довольно крупным городом, составленным из бараков и невысоких административных зданий. Двухэтажные бревенчатые дома, будто червивые грибы, состарились на мокрой земле. Город этот был хмур, и я оставил его.
Я поехал в Каргополь. Туда меня вёз странный, дополнительный и случайный автобус. В его неисправном двигателе закипала вода, автобус пускал пар и останавливался у каждого ручья. Пассажиры, ехавшие в нём без счёта, выползали наружу и начинали собирать малину. Шевелились придорожные кусты. Переговаривались, бормотали что-то с набитыми ртами пассажиры. Двигатель остывал, залитая в него вода вновь заполняла какие-то полости, и путешествие продолжалось. Город был тих и сер, а погода переменчива. Хмуро было вокруг, однако вскоре утренний туман исчез, а небо засинело. Продавали глиняные игрушки - по большей части коров и собак. В центре города, в том месте, которое во всех городах называется Красной площадью, а в Каргополе - Соборной горкой, стояла духовность из белого камня. Один из соборов был похож на домик кума Тыквы. Он утыкан главами, возникшими на нём, как опята на пне, оброс пристройками и пристроечками, контрфорсами и кучами мусора. Стояла там и шестидесятиметровая колокольня. Над её нижней аркой был укреплён фанерный герб - серебряная корова на ярко-синем поле - след каких-то недавних торжеств. Ангелы на колокольне были с круглыми разъевшимися лицами. Крест колокольни при постройке ориентировали не по сторонам света, а относительно бывшего Санкт-Петербургского тракта. Это уже след приготовлений к приезду Екатерины II. Приезд не состоялся. На пристани, в деревянной портомойне колыхалось чьё-то бельё. Бельё крутилось в токе воды из источников. Вода с упрямым запахом коричневого мыла текла в Онегу. Там я встретил сумасшедшего московского еврея-программиста. Программист путешествовал с семьёй в поисках духовности и, рассуждая о ней, произносил непонятные слова. Произносил он их специально для меня, доверительно, с важной значительной интонацией. Слова катались у него во рту, как фасоль. Было слово "кубоватость". И я запоминал: надо бы сказать, вернувшись "Налицо некоторая дубоватость. Как на Севере".
Для рассказа о том, как ты приобрёл духовность, больше всего подходили рассказы об иконах и архитектурные термины. Вот стоял на Сухоне город Тотьма, живший своим морским прошлым. Тогда ещё в нём было мало пришлых людей, а дороги, разбитые лесовозами, были непроходимы. Родом из Тотьмы был основатель Форта-Росс, и прочие русские американцы. В гербе этого города крутила хвостом американская чёрная лисица, а в краеведческом музее висели морские карты. Так вот, говоря о Тотьме, следовало сказать "тотьминское барокко" и закатить глаза. Путешественники из Тотьмы, насмотревшись в чужих краях разного, украсили стены нескольких своих церквей, похожих на парусные корабли, картушами и загогулинами. Вот эти слова и следовало бы запомнить - "барокко", "картуши". Иначе что докажет, что ты прикоснулся к духовности? Ведь передать то ощущение, когда ты бродишь среди церковной утвари, невозможно. Вот деревянные люди и боги - Господь, что сидел в темнице был печален. Его охраняли два гнома с татарскими лицами. А женщина на вазоне была пухлой и щекастой. Глаза её катались в разные стороны, а рот был изумленно приоткрыт. И там, в музейном склепе, тоже были разные слова - фелонь, стихарь, митра, орарь, поручи. А так же - борушка и головодец.
Или вот Великий Устюг, что теперь объявлен вотчиной Деда Мороза, не знаю уж, что теперь там творится зимой, как там камлают во имя старца с посохом и его внучки, но, думаю, изразцовые птицы всё так же, как и сотни лет назад, клюют своё зерно на стенах церквей. Там встречался Юг с Сухоной, превращаясь в Северную Двину. А духовности я там не нашёл и только пил утомительный портвейн с рабочими судоремонтного завода, в общежитии которого жил. Завод медленно разрушался и остовы буксиров, стоявших во дворе, напоминали стаю Летучих Голландцев - особенно на закате. Иногда, прямо через завод проезжали грузовики на переправу и в наше окно бил чёрный дизельный выхлоп. Много было странных городов в этих краях - чем севернее, тем было в них больше серебряного и серого цвета, который, как известно, цвет времени и брёвен, а чем южнее, тем были они белее, как торговые ряды Галича и Солигалича. Начался проливной дождь, и я уехал на запад, в сторону Лядин. В Лядинах стояла колокольня и две церкви. Вход в одну из них был укрыт огромным козырьком, спадающим до самой земли. Про этот козырёк написано во всех архитектурных справочниках, а сидела на нём блохастая лопоухая собака. Я не думал о цели пути, а просто смотрел на серебряное дерево церковных стен. Дерево от времени теряет свой цвет, становясь из жёлтого чёрным, а потом - серебряным. В те дни я боялся оставаться один, со страхом представляя себе ночную тоску, которая подступит ко мне, когда все дела будут переделаны, а ночлег мой - обустроен. Я боялся этой внезапной тоски, которая сжимает вдруг сердце, и хочется бежать куда-то, бежать, бежать без оглядки. Оттого разговорился я со случайными капроновыми попутчиками. Мы познакомились, и они предложили ехать вместе. Есть такой тип парных путешественников, когда мужчине за сорок, а спутница сравнительно юна. Была они из Киева, и тогда я впервые увидел украинских националистов. Они подбегали к церквям, быстро фотографировались и бежали дальше. И вот они, пританцовывая, сверкая белыми высокими кроссовками, двинулись по накатанной дороге. А я отошел за куст, вынул из кармана рюкзака портянки, торопливо намотал их, натянул государственно-геологические сапоги и кинулся нагонять два ярких пятна на дороге. К шести часам лес нахмурился, начался дождь, сначала изредка прыскавший в лицо, а потом зарядивший ровно и надолго. Мы поставили палатки и принялись варить сушёное мясо. Был такой странный советский продукт - сублимированное мясо, что продавалось в серебряных пакетиках. Черноволосый украинец сидел у костра и ругал Советскую власть. А тогда власть эта была крепка, да и я был человек незнакомый. Но тогда я впервые столкнулся с национальной нелюбовью - нет, видал я уже тогда армянские разговоры об азербайджанцах и наоборот, видал и мотивированный антисемитизм, но тут не любили меня и честно говорили, что я из племени мучителей и оккупантов. Вслед Ростову я стал думать "Как это они? Неужели это мне? Меня? Меня, кого так любят все?"… - Это у вас народ принял бесовскую власть, - наставительно заметил мне мой попутчик. - А мою Украйну пришлось истоптать, а потом заморить, чтобы воцариться над нею. Я остерёгся отвечать и просто слушал. Так я, наверное, сидел у костра, который жгли близ Белозерска черкесы, литовцы и русские воры пана Песоцкого. В России холодные ночи, а на Севере - особенно. Пётр отрёкся на юге, где тепло - в России счёт к холодным ночам и отречениям выглядит совсем иначе. Но пан Песоцкий давно утонул в Белоозере. Мы мокли под дождём - мои спутники в замше и польской синтетике, а я в старой экспедиционной энцефалитке. Наутро мы снова отправились в путь, и вновь стал накрапывать дождь, он сочился сквозь прорехи в небе и окутывал меня хмурой водяной взвесью. Хмурый цвет и хмурый запах был у этой дороги. Хмуро шумел ветер в елях. Хорошего пути хватило ещё на пятнадцать минут ходьбы, а дальше на обочине возник географический щит. На щите было написано: "КАССР. Пудожский район". За ним дорога обрывалась в болото. Делать было нечего. Нужно было идти. Поскальзываясь по грязи, кувыркаясь по ней, мы пробирались на запад. Через два часа я увидел озеро, покосы с копнами сена и холмы. Открылся мне край холмов. И писать мне о нём надо было что-то называвшееся "Песнь Холмов". Очень мне понравилось это название. Рядом была деревня. Она состояла из нескольких маленьких, в пять-шесть изб, поселений, перетекавших одно в другое. Где-то между этими кучками домов я внезапно оторвался от своих спутников. В ближайшем доме я увидел двух людей - совершенно пьяного человека и человека, пьяного не совсем. - Посиди, попей чайку, - предложили мне они. - Твои вперёд не уйдут. Успел я подумать, что не помню, так и не спросил имён своих украинских попутчиков, как остался. Остался я там надолго.
Вечером один из моих хозяев уехал за водкой, а другой, что назвался больным, уныло бродил по избе, стукаясь о столы и стулья. Приятель его так и не вернулся. Что мне соблюдать чужие правила, я пишу то, что вижу. Неприхотливо сочетая настоящее и прошедшее, падеж и залог, злоупотребляя прописными буквами и этнографическими отступлениями, я печалюсь только о том, что ничего передать никому нельзя. Ничего объяснить нельзя и настоящий обозреватель должен давать себе отчёт, что родом с Крита. С ним останутся, никому не вручённые, запах дождевой воды, давление света и температура растущей травы. Свидетель, пустившийся в странствие, всегда теряет путевой дневник, даже если вместо степенного рассказа в кругу односельчан он доверился бумаге. Он пишет донос неизвестному читателю, потому что каждая деталь и событие должны жить и после того, когда они произошли. Я сидел на сосновых чурбаках, положив один из них под блокнот. Писать можно было и в доме, но там стояла духота, яркое солнце било в окна, и стало невозможно дышать. В сенях прохладно, даже холодно, но там темно, и поросёнок в хлеву у соседней избы поёт свою нескончаемую песню, полную неясных предчувствий, мешая сосредоточиться. Поэтому я сидел на сосновых чурбаках, попеременно записывал тягучие ленивые мысли и читал журнал "Советский воин". Итак, в доме жили два друга. Одного, того, что старше меня вдвое, звали Юнттиле. На другом конце деревни был дом его семьи, а он ночует то там, то здесь, у своего приятеля, вечно страдающего похмельем. Пьяны они были оба с пятого марта, но в политическую подоплёку этого обстоятельства я не верил. Через день Юнттиле надевал для солидности свою старую рубашку с петлицами лесника и начинает развозить на тракторе хлеб по окрестным деревням. Друг его работал грузчиком. Сегодня я несколько раз просыпался от раздумий - ехать ли вглубь Карелии, или отправиться с Юнттиле. Он так и не пришёл ночевать, и я было подумал, что он уехал без меня. Выбежал на улицу, доехал на попутке до запертой двери магазина. Нет никого. И нет ничего мучительнее сознания, что тебя не взяли, про тебя забыли. Случайно, через пять минут, я встретил на дороге трактор Юнттиле, и он, улыбаясь, сказал мне, что поедет в интересное место как-нибудь на следующей неделе после обеда и обязательно возьмет меня с собой. Тогда я вернулся в дом его друга. Стали мы говорить о жизни и о судьбе, достав из буфета какую-то корочку и преломив её как библейский святой хлеб. И говорили мы о жизни и судьбе. От хозяина ушла жена, и он болел чем-то более серьёзным, чем утренняя сухость в горле, пил каждые полчаса непонятные таблетки и читал на ночь толстый партийный роман. Чтобы скоротать дни я пошёл к соседям, которые решили менять нижние венцы в избе, и стал у них поднимать тяжёлое и таскать длинное. Хозяин мой, протёр свои интеллигентские очки, ушёл на склад, чтобы пропасть из моей жизни навсегда. Но я верил, что сейчас, вот-вот сейчас Юнттиле приедут со склада и повезут меня. Куда-нибудь. Я долго ехал в прицепной тракторной телеге, сидя на слое старых ценников, потом пересел в кабину и услышал рассказ о непростой судьбе моего финна, отсидевшего восемь лет по трём совершенно пустяковым делам. Наконец мы ударили друг друга по рукам и простились. Спрыгнув на песчаную дорогу, я подтянул лямки рюкзака, сделал несколько шагов и оставил моего знакомца в воспоминаниях. К вечеру пришёл в деревню у озера. Там навалилась на меня холодная ночь без комаров. В небе происходило струйное движение невидных в темноте облаков. Я ощущал, как огромные массы водяного пара и воздуха крутились и расходились надо мной. Я подкинул дровишек в костёр. Сосна заполыхала, и я открыл, что записывать можно и в свете костра. Это была большая удача. Настало было хмурое утро, холодное и ветреное. Затащив рюкзак в лес, я укрыл его полиэтиленовой плёнкой и пошёл гулять. Как-то погожим летним днём я спал на кладбище. Время в этом месте смело кресты и ограды, и я пристроился на ровном месте. Я спал, и мёртвые усталые крестьяне лежали подо мной. И я, и они плыли в этом сонном пространстве, а рядом стояла церковь с выломанным иконостасом. Ничего страшного в этом соседстве не было. ...а рядом стояла церковь с выломанным иконостасом. Ничего страшного в этом соседстве не было. У переводчика Сергеева в "Альбоме для марок" действительно страшная история про то, как его дед работает в Гохране ювелиром. Он выколупывает драгоценности из дворянских украшений, и как-то ему приносят погнутую диадему с налипшими волосами и кровью. Сергеев мне не нравился своими предубеждениями, но их я был готов простить за одну фразу в этих воспоминаниях: "За бутылку, с нами же и распитую, сторож пустил нас в двадцатиглавую Преображенскую церковь. Пили мы натощак и фигуры в иконостасе зашевелились". И вот я лежал рядом с большой деревянной церковью, пока мальчик Петя ходил за матерью, а она - за ключом. В церкви жужжали забытые мухи. Пахло березовыми листьями, горячими и ссохшимися. Иконостас был пуст и сквозь его арки были видны бревна. Я молился в этой церкви, чтобы отвяли от меня беды и страхи. На другом старом погосте, в окружении десяти могил, вдруг обнаружил новую часовню. Часовня та была срублена одним московским писателем, жившим в прошлом году на Озере. Часовня украшена резьбой, а в крышу её врублена головка-шишечка. Я отпер дверь и помолился вслух. Потом вышел, перекрестился и сел на скамеечку. Стал думать. Вокруг меня ползали муравьи, хлопотали, перебегали по серому мягкому ягельнику. Бесконечное движение муравьёв окружало меня. Наконец спустился к Озеру и разговорился с косцами, приехавшими из дальней деревни. Их было четверо - одна семья - старик, его жена и двое сыновей, один мне ровесник, другому лет одиннадцать. Старик-карел бормотал: - У нас нарот хороший, хороший, да... А там, в Архангельск-от области - нет. Попросишь напиться - проходи, скажут, хозяйна дома нету... Вот как... А у нас нарот хороший... Попил, именно попил, а не поел, я с ними ухи, сделанной для экономии времени из сушёной рыбы, и мы разошлись навсегда. В одной из изб на полуострове, впадавшем в озеро, жил тот самый Писатель. Весь день у воды маячила его фигура, а к вечеру я увидел, как он собирал грибы. Писатель ходил по лесу с большим ножиком, а рядом кругами бегал его сын. Сын указывал отцу на гриб, торчащий изо мха, и тогда Писатель начинал размышлять, оставить ли такую красоту, или всё же срезать. Мой путь лежал мимо него - обратно в Архангельскую область. Стены соснового леса здесь были изрезаны бороздками, парадоксально называвшимися "ёлочкой", а в остром её углу воткнуты жестяные конуса, куда стекала терпкая смола. Сбором смолы занимались "химики". Химиками в моей стране звались поселенцы, часто подневольные. Им выделялись участки леса, предназначенные к вырубке, и химики проживали там в охотничьих избушках, зарабатывая по пятьсот рублей за сезон - деньги немалые по тем временам. Я не видел, впрочем, ни одного из них, что немедленно не пропил бы эти деньги. Говорят, что этот вид деятельности перевёлся, но тут уж ничего не скажу - подробности мне неведомы. А тогда я шёл по лесу, изрезанному ёлочкой с удочкой на плече.
Одним из писателей моего детства, сформировавших меня, был Олег Куваев. Об этом приходится говорить, потому что Куваев сейчас забыт, а был он из тех немногих, кто имел дело с дорогой. В его описаниях тундры было что-то завораживающее. Правда много лет спустя, прочитав его письма, я расстроился. Какое-то в них было несоответствие стиля описываемой дороге. Видимо, есть переживания, о которых читатель должен догадываться сам. Этот писатель, бывший ходоком немеханизированной геологии, писал о дороге и времени то, что казалось настоящей духовностью: "Жизнь - это новый маршрут, каждый раз в новую местность". Он сочинил знаменитый когда-то пассаж о тракторных санях. "Почему вас не было на тех тракторных санях, и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер? - спрашивает своего читателя Куваев. А? Отчего тебя нет там, где севернее и восточнее? Смотри в глаза, отвечай. А жизнь жестока, и потом твои юношеские пристрастия покажутся тебе стыдными. Ведь перемещение на тракторных санях есть такое же бегство от настоящего движения, такое же, как водка и телевизор. И со временем я стал ненавидеть путешествия своей юности, их какой-то странный задор родом из прошлого, из трифоновского романа, где герои то в Загорск, то в Суздаль, то на Святые Горы. И всё поближе к монахам, к старине. То где-то под Москвой нашли церквушку, познакомились с попом, и тот разрешает одному из них забираться на колокольню и звонить. "Все это, конечно, было вздором, причудами полусладкой жизни, и меня не так смущало или коробило, как попросту удивляло". Вся эта духовность, в поисках которой ты проводишь несколько десятилетий, оказывается всё тем же чужим звоном, сигаретным дымом, снегом в зазимке. Вот, думаешь, поймал, а разжал кулак - на ладони пусто, как в брошенном месте. …Я вошёл в пустую деревню. Выбрав из трёх сохранившихся домов один, огромный и пустой, но не страшный, я ступил в него и скинул рюкзак. В доме было две двери - одна напротив другой, и вот, когда я стоял среди тлена, битой посуды и древесной трухи, они, эти двери, внезапно раскрылись. Двери раскрылись медленно, первая и вторая, будто кто-то прошёл мимо меня из одного конца избы в другой и вышел - по своему неизвестному делу. В таком же доме я жил однажды у двух старух. Одна из них бегала зимой за керосином на лыжах, а летом совершала этот путь в два дня пешком. Её сестра смотрела за домом, потому что была младшей - лет восьмидесяти. Попал я к ним случайно, путешествуя по Северу с компанией охотников. Охотники пили спирт из маленьких пластмассовых канистр как из бутылок и без промаха стреляли в белый свет. Однажды один из них увидел на ветке какую-то тень и вскинул ружьё. За его двустволкой заговорили автоматические ружья приятелей. Жахнул, наконец, из своего обреза какой-то паренёк. В обрез был вставлен вкладыш под автоматный патрон, и знакомо запахло зачётными стрельбами. На ветке сидел ястреб-тетеревятник. С первого выстрела ему снесло голову крупной дробью, и он в предсмертной муке вцепился когтями в ветку. Когда дым рассеялся, мы увидели эти когти - единственное, что осталось от бедной птицы. Я отделался от моих тогдашних приятелей и через два дня набрёл на остатки деревни с одной обитаемой избой. Там и жили эти сестры. И их дом был такой же огромный, со многими дверьми, клетями, подклетами, но не было в нём одного - того праха, который шелестел у меня под ногами. Их домбыл живым, населённым. В ту осень я впервые попал на охоту со своим ружьём и по-детски радовался, чувствуя его тяжесть на шее. Ночью я выходил из старушечьего дома, долго шёл по дороге и переправлялся через озеро, стоя в текущей плоскодонке. Для этого нужно было пихаться в дно длинным шестом. Шест уходил куда-то в камыши, натыкался на твёрдое и вновь начинал преодолевать сопротивление воды и травы. Лодка медленно перемещалась. На другом берегу я выслеживал уток, а к вечеру возвращался той же дорогой, мимо розоватых шариков клюквы, лежавших на подушечках мха как ордена на похоронах. Тогда же, думая о скором возвращении и уже перемещаясь на восток, я устроился на ночлег у озера, на низком мысу спасаясь от комаров. Ночь была светла, и когда я решил лечь, вдруг увидел, как светло-серое небо внезапно окрасилось по горизонту жёлтым, вспыхнуло. Беззвучно пошли по нему цветные полосы. Загадочный катаклизм приключился там, на востоке. Огромное яйцо зашевелилось на краю земли. Оно ворочалось, меняло цвет, раздавалось вширь, и, наконец, лопнуло. Я сел на мох, охваченный ужасом: вот оно, началось. А я один, и, может быть, буду последним из людей, оставшимся в живых. Через два дня мне объяснили, что я видел старт с лесного космодрома.
Однако, возвращаясь к литературе, я заметил, что все края, в которые я заезжаю по своей или неведомой воле, уже освещены чьими-то книгами. Север уже хорошо описан, описана его деревянно-посконная экзотика, комары, мошка, пролезающая в сапоги через портянки. Описаны монастыри и брусника, байдарочные походы и лесные избушки. Сначала во мне жил запах казаковской прозы, и Север подослал ко мне его героя "странной, тёмной тогда для меня судьбы. Был он сух, костист и как-то пронзительно, часто до неприятности даже, остёр, стремителен. Чёрные глаза его во хмелю горели фанатическим огнём человека, потрясаемого дивными воспоминаниями. И ничего не помню из его слов, помню только, что не давал он никому слова молвить, кричал, стучал маленьким костистым кулачком и открыто презирал всех. А презирал он потому, что прошёл и проехал когда-то от Пинеги до Мезени. - От Пинеги до Мезени! - говорил он шепотом, зажмуривался и крепко стукал кулачком. - А? Эх, ты!.. Понимаешь ты это? От Пинеги до Мезени я прошёл весь Север!". Но у Казакова на календаре на дворе стояло иное тысячелетие, шестидесятый год, дыхание коммунизма и рассказы о том, что и когда доберётся, поблёскивая чешуёй, до прилавков Москвы и Ленинграда. А у меня было хмурое путешествие. Одним словом, я, полюбив Казакова, стал придумывать себе этого писателя. И то верно, какое мне дело, как всё происходило на самом деле! Человеческие судьбы перерастают в историю, становятся её частью. Толкования этих судеб множественны. Я записываю только свои.
Потом я начал вспоминать Москву, как по ней сейчас ходят девушки, как они поднимаются по эскалатору метро, а ветер от проходящих внизу поездов колышет их лёгкие платьица. Я вспоминал друзей и понимал внезапно, что нельзя в один момент открыть дверь, выйти из избы и оказаться перед своим домом. В этом был род какого-то особого мазохизма, и было совершенно непонятно, зачем забираться на край света, чтобы так ругать себя. Как в студенческое экзаменационное время, я представлял, как вернусь домой, и жизнь, такая бестолковая раньше, пойдёт по-другому. Однако я знал, что всё будет как и прежде, и как и прежде переставлял ноги, чувствуя, как намокает энцефалитка под рюкзаком. После нескольких сухих дней зарядили дожди - как на зло, в тот момент, когда я покинул пустую деревню. Дождь шёл сначала мелкий, а потом настоящий, спорый и тяжёлый, с крупными каплями. Дорога наполнилась водой, как жёлоб. Силы оставили меня, и я заночевал в насквозь мокром лесу. Было непонятно, с какой стороны падают капли. Сверху? А, может быть, справа или слева? Ночью я несколько раз просыпался, искал часы, не находил и засыпал снова. Снаружи бубнил дождь, текла по стволам вода, и возвращаться в тот мир не хотелось. Днём я наловил в озере неизвестной рыбы, а после обеда меня подобрал трелёвочный тягач. В какой-то прореженной архангельской деревне полуслепая бабка бормотала, переставляя горшки на печке: - Хороший у нас-то народ, хороший. А вот у карелов - совсем не тот. Зайдёшь в избу - напиться не дадут. Местность была здесь - Ветряный Пояс.
Приближаясь к озёрам, я почуял запах дыма. У подножия холма сидел краснорожий хмурый человек и чистил гигантскую рыбу. Он сдал мне своё место, будто пост номер один. Я остался на озере и принялся строгать жерлицы. Теперь, как и несколько лет назад, я ставил жерлицы на озерах - втыкал в твёрдое дно палки, вязал к ним леску и, выпуская изо рта рыбешек крючок-тройник, продевал через них проволоку. Часто я просыпался от страшного сна - я тяну за леску, а там... Кто там? Реальность была другой - пройдя несколько километров и окунувшись по пояс в озеро, я вытягивал только обрывок лески. Кто-то большой унёс мою рыбу. Это был Страшный Кто-то Большой, живущий в озере. Иногда, правда, щуки шатающимися зубами только мяли наживку и уходили с рассветом от жерлиц. Рыбак мой ушёл дальше подманивать новую Большую Рыбу. Я же, откормившись, вновь двинулся по заросшей дороге. От озера дорога стала прекрасной, гладкой и приятной для ходьбы. Говорят, её строил монастырский люд, и сам настоятель, иеромонах Питирим, проверял её качество посохом. Сев в коляску, настоятель держал перед собой посох, и как только палка подскакивала вверх, народ бежал с лопатами. Монастырь у него, впрочем, был страшный. Один князь, говорят, был переведён в него за непослушание из Соловков. Зато теперь тут повсюду была духовность, и я лил её в чай заместо сгущенки.
И снова я на чем-то ехал, ехал... Грязный грузовик выплюнул меня у речного причала. Я пошёл искать столовую, оказавшуюся длинным бараком с запахом свежей стружки. У входа в барак стоял иссохший бородатый человек и говорил каждому входящему: - Знаешь, брат... Тяжела жизнь, брат... Съев сметану с хлебом, я вышел. ...На пустых ящиках у причала сидел баянист и пел Злобную Песню. Песня была непонятна, всё в ней - мелодия и слова - было непонятно, кроме припева со словами: "Когда вдруг заскрипели сапоги...". Баяниста слушали две многоцветные собаки и существо неопределённого пола, тут же выхватившее у меня из пальцев окурок.
Но главной деталью пейзажа был совсем другой человек. У самой воды стоял Морской Волк. Я сразу понял, что это Морской Волк, даже Старый Морской Волк. На голове Старого Морского Волка была фуражка с немыслимой красоты кокардой. По размерам кокарда была похожа на капустный кочан. В руке он держал кривую морскую трубку и, время от времени затягиваясь, смотрел в хмурую даль. - Хочешь стать таким же, как я? - спросил меня Старый Морской Волк. - А хочешь выработать настоящую морскую походку? Он прошёлся передо мной, и тут я заметил, что силуэт его фигуры похож на квадрат. Морская походка заключалась в том, что Старый Морской Волк припадал сразу на обе ноги, причём припадал куда-то вбок, попеременно направо и налево. - Конечно, хочу! - закричал я. - А ты научишь меня курить морскую трубку? - Отож! Пойдём со мной. - А что это за катер? - спросил я его, только чтобы поддержать разговор. - Мудило! - натопорщился на меня Старый Морской Волк и прибавил уже поспокойнее: - Сам ты... катер. Это малое судно. Мы туда и идём. - Эй, на судне! - крикнул Старый Морской Волк. На палубе появился толстый старик в кителе. По рукаву этого кителя, к самой шее старика, подпирая его стариковское горло, поднимался золотой шеврон. Ясно, это был капитан. Увидев моего спутника, старик в кителе с неожиданной легкостью соскочил на причал и стал медленно приближаться к нам, расставив руки. Наконец они схватились, кряхтя, как дзюдоисты. - Хо-хо! - крикнул мой провожатый. - Старый хрен! - отвечал ему капитан. - А это кто? - Он - специалист, - солидно отрекомендовал меня Старый Морской Волк. - Ну, тогда он нам рацию починит. Сердце моё пропустило удар.
Как жениха к невесте, меня подвели к месторасположению хитрого аппарата. Я выгнал всех из закутка радиста. Радист, кстати, был в запое на берегу. Итак, я выгнал всех из закутка и закрыл дверь. Я всего один раз имел дело с рацией. То была знаменитая "Ангара" - подруга геологов, и использовал я её тогда только как неудобную подушку под голову. И ещё я понял, что сейчас меня будут бить. Был в моем детстве один такой человек. Он обитал в Смоленском гастрономе около того прилавка, где расположился отдел вин и коньяков. Человек этот собирал себе компанию, покупал вместе с ней в складчину бутылку и произносил, обтирая грязной ладонью горлышко: - Позвольте мне как бывшему интеллигентному человеку выпить первым. Ему позволяли. Тогда он подносил бутылку к губам подобно горнисту и в одно дыхание выпивал её всю. Потом снимал очки, аккуратно складывал их и говорил: - Бейте! Но у меня не было даже очков.
Справившись с головокружением, я всё же дунул на отвертку и снял заднюю крышку с надписью "Блок питания". Первое, что я увидел, был крохотный проводничок, отпаявшийся от клеммы. Я зачистил его и, вместо того, чтобы его припаять, просто обмотал вокруг контакта. Рация захрипела. Я повернул ручку настройки. Тогда рация внятно сказала бесстрастным голосом: - ... и письма ваши получил. Получил. Привет тётке. Повторяю: Привет тёт-ке. Конец. Всё умолкло. Я привинтил крышку обратно и закурил. Руки у меня дрожали, а сердце выпрыгивало из груди. Через полчаса я позвал капитана. Он заворожённо вслушивался в музыку сфер, а потом молча пожал мне руку.
Вечером мы снялись с якоря. Снялись с якоря... Разве так это называется?! Я ждал, ходил взад и вперёд, но вот, наконец, задёргала, застучала машина, будто кто-то там, внизу, зашуровал огромной кочергой, в такт этому стуку задрожала палуба, заполоскал на гафеле бывший гордый флаг Российской Федерации, а ныне вылинявший розовый прямоугольник с тёмной полосой по краю... И я представил себе эту землю и море, представил себе это пространство всё, целиком, с островом Моржовец, с небывалой деревней Нижний Маркомус, со всем пространством от Белого моря до Шпицбергена, от Баренцева моря до моря Лаптевых, с мысом Желания, вылезающим на самую рамку карты, с проливом Карские ворота - набитым судами, как городская улица машинами, с полуостровами и островами, городами и железными дорогами, областями, республиками и национальными округами... Мы снялись с якоря и мимо раздвигающихся берегов пошли в Белое море.
А ночью мне приснился Патриарх Никон, плывший на лодке и вопрошающий: - Кий остров? В лодке у него сидел губастый аквариумист с Птичьего рынка. Этот аквариумист был сумасшедший. Его тощая фигура постоянно маячила среди рыбных рядов и была их необходимым добавлением. Добавлением к тому странному и причудливому миру моего детства, который то ли исчез, то ли преобразился. Изредка он кидался к какой-нибудь испуганной девочке, с размаху тыча ей в живот майонезную баночку с неясным, неразличимым в мутной воде содержимым. Кричал он при этом страшно: - Купи гупяшек!!! Так вот, этот губастый что-то втолковывал Патриарху, а тот внимательно слушал, склонив голову на плечо. Когда они проплывали мимо меня, медленно и сонно, я услышал его голос: - А жёлтые сейчас по пятифану, по пятифану, - говорил губастый.
Кружки кругами перемещались по столу от вибрации. Механик зашивал огромной иглой мешок с почтой, лопнувший по шву. Я задумчиво глядел, как он не глядя, случайно пришивает к нему конверт с надписью: "Архангельская обл. Новая Земля. Московский военный округ". Увидев непорядок он поднял на меня глаза и назидательно сообщил, что это ещё что, земля Франца-Иосифа - Архангельская область... Мешок надо перекинуть кому-то на борт, и механик торопился, а я, в силу врождённого любопытства постоянно приставал к капитану, чтобы он рассказывал мне Занимательные Истории. А он и рад был поговорить. Был капитан, кстати, мал ростом, цветом лица похож на кирпич, с носом, торчащим как сучок из-под огромной фуражки. Он рассказывал, а я записывал. - А потом, когда меня перевели в Беломорск, я другое видал, - говорит он. - Иду, дак, по набережной, вижу - офицер, в юбке, сапогах, с погонами-от... Поглядел - вижу борода от здесь и усики над верхней губой, прада маленьки-от. Ну дак я прошёл, честь одал, а смотрю, маленька сама-от, но не карлица. Карлиц я тоже видал... Что-то важное означала эта встреча с бородатой женщиной в жизни моего собеседника, неспроста повторял он, что непросто дак она, а офицер, и погоны таки, капитански, дослужилась, значит... Была особа прелесть в моём капитане - не нужен был ему мой отклик, а дак нужна лишь улыбка, да согласное кивание головой. Прелестен был также его странный, не похожий ни на что говор. И я записывал эти рассказы и этот говор, потому что важнее этого ничего тогда для меня не было. Ещё капитан говорил, что мы везём Секретный Вентиль. А допуск в погранзону-то у тебя есть? - спрашивал меня капитан. - Не-е-ет... - жалобно отвечал я. - Не беда. Ты будешь числиться у нас судовым оборудованием.
Впрочем, чаще всего капитан был хмур. На рассвете ему нужно было выгрузить наш оборонный Вентиль. Малое судно, квохча, как курица, стало рыскать вдоль берега, выискивая зерно-пристань. С берега просигналили, и капитан облегчённо вздохнул. Мы подошли как положено и сделали выброску. На секретном причале томился солдат восточной национальности. Одет он был в мокрую шинель с чёрными погонами. Погоны светились большой буквой "Ф". - Што, салага стоишь? - невопросительно крикнул ему механик и ловко спрыгнул на причал. Оказалось, однако, что причал - только видимость, поскольку механик по колено ушёл в серую глиняную жижу. Ругаясь, он полез обратно. Завыла лебёдка, схватив клювом ящик с Секретным Вентилем, поднатужилась, но всё же не удержала его. Ящик гулко хлопнул о кузов подогнанного к катеру грузовика. Стенка зелёного ящика отскочила, обнажив нежный лак спального гарнитура. Капитан мой сплюнул, а я пошёл вниз, чтобы не слышать набухающий в горлах крик.
Малое судно вползло в Беломоро-Балтийский канал, раздвигая его узкие берега, большой рыбиной плескаясь в шлюзах. Но вот мы пропрыгали по всем ступеням Повенецкой лестницы и очутились в Онежском озере.
По правому борту показалась серебристая громада. Это был собор Трансфигурации, стояла за ним церковь Интерсепшена, и храм Нативити, а так же прочие деревянные постройки. Николай Тауматургус покровительствовал нам. Малое судно выкатывалось на простор озера. Водяной сильный ветер, называемый Онего, ударил мне в лицо. Внезапно хмурая серость окружила малое судно. Капитан, напряжённо всматриваясь и вертя головой, сбавил ход и стал медленно пробираться в тумане, подавая звуковой сигнал. Казалось, он сам гукал из рулевой рубки, как старый филин. Наконец, туман кончился. Впереди был Петрозаводск.
Петрозаводск оказался городом новым. Центр его зарос послевоенным ампиром, здание вокзала венчал социалистический шпиль со звездой и листьями. Вокзал этот был совершенно развалившийся, пустой, на ремонте. Я поселился рядом с ним, и в первый же вечер оказался втянут в странный спор. К старику-хозяину пришёл его сверстник, и они стали спорить, кому хуже жилось во время войны. Хозяин сидел в немецком лагере, а гость - в финском. По всему выходило, что у финнов было сидеть хуже. Днями я бесцельно бродил по городу и нашёл, между прочим, на улице Антикайненна загадочный магазин "Спецпринадлежности". Было воскресенье и купить спецпринадлежность не удалось. Надписи в этом городе надписи делались на двух языках - русском и карельском. Оттого продукты в моём доме были обозначены как Ruokatavaraa. Можно было, правда, предположить, что это финский - в силу преклонения перед соседней державой. Ещё на улицах города Петрозаводска часто встречаются синие (с белыми буквами) аккуратные щиты. На них написано: "Здесь переходят дорогу невоспитанные люди". Дорожки к этим щитам прилежно заасфальтированы и обрываются на проезжей части. Пошёл я и на базар, где ташкентцы с плоскими лицами продавали арбузы. Они резали их на части - в зависимости от состоятельности покупателя. Арбуз в те времена дорог, и особенно дорог на Севере. Тогда я вспомнил губастого аквариумиста, его магическое заклинание "по пятифану...", купил кусок за пять рублей, тут же сел на камушек и стал есть. Сразу же ко мне слетелись голуби и стали склёвывать за мной арбузные семечки. Я обдумывал большие буквы, предметы с больших букв, жизнь с большой буквы, которую нужно прожить так, чтобы... Уж давно я сплёвывал голубям семечки, разглядывая восточный народ на северном рынке, а потом помыл липкие арбузные руки в действующей модели водопада Кивач в одну одиннадцатую натуральной величины. Русский Север - опасная штука. Чтобы не желая сказать о нём, всё скажешь какую-нибудь глупость - такова оборотная сторона русской духовности. Как скажешь про лапти и картошку, так тебе кто-то начнёт, кривляясь, спрашивать, как, дескать, вы относитесь к репе. И тут уже обязательно нужно сказать, что ты серьёзно относишься и к песне "Интернационал", и к войне и к 1937 году. Никуда от этого не денешься. При этом стоит остаться в этих местах чуть подольше. Однажды ландмайстер Тевтонского ордена в Ливонии Йохан Вильгельм фон Фюрстенберг держал оборону в городе Феллин. Оборонялся он от русских войск умело, да всё ж наёмники его предали. Попал Йохан в плен. Фюрстенберга свезли в город Любим. Ландмайстер содержался вольно, но сменялись зимы и лета, и он понемногу забывал, что когда-то написал целую книгу духовных стихов "Ein sch?n geistlick ledt dorch Wylhelm Forstenberch in Lyfflandt". Мне кажется, что потом он забыл языки и приучился ходить в русскую баню, точно так же, как тот мой родственник в Череповце, с которого я начал своё повествование. Мой предок забыл пять языков, забыл университетский курс и врангелевские погоны и понемногу врос в свою новую жизнь, исчезая, растворяясь в Русском Севере. Тёзка пленника, грозный царь Иван, по слухам, предложил ему стать герцогом, а Йохан Вильгельм отказался. Точно так же, как и мой родственник, исчезал понемногу Фюрстенберг в пространстве Любима, оплывал как исчезающие городские валы, врастал в землю, как врастают в неё брошенные избы. Наверное, он приучился сидеть на крыльце и смотреть на городские валы почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами... Всякий чужак, попавший на Русский Север и догадавшийся, что вернуться обратно у него не выйдет, быстро учится такому взгляду. Ему это даже нравится. Ему нравится, что у северорусского народа глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в чужака, пусть даже и невольного жителя этих краёв, чувство законной гордости. Можно себе представить, какое. Это в прошлой его жизни, где ладскнехты и ландсграфы всё продавалось и покупалось были глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... А тут - совсем другие глаза! Постоянно навыкате, но никакого напряжения в них - лишь северное небо. Полное отсутствие всякого смысла - но зато какая мудрость вековых елей и чистота лесных озёр! Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной. В дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий - эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса, им всё Сиверко да Онего... И духовность - да-да, та самая духовность, что я говорил. А тогда, не зная про духовность ровным счётом ничего, Орден писал прошения о его обмене и выкупе, но никакого Йохана Вильгельма фон Фюрстенберга уже не было. Он понемногу превратился в траву, деревья и землю города Любима. И всё это, конечно, требовало описания. Но напоследок, вздохнув перед трудной работой, стал размышлять, вернувшись в мыслях к тому, с чего начал: как я был бы счастлив, будучи соглядатаем, будучи тем самым из западных писателей, которые, вернувшись из дальних российских краёв, вновь собирали вокруг себя толпу своих французских пейзанов. Вот они сидят кружком в тени виноградника и качают своими кудрявыми пейзанскими головами: - Вот-ка, братка... Так-то оно-от... Как ты жив ишшо... Эвона них-то нарот како-о-ой… Но нет мне того счастья. Хмурится жизнь вокруг меня, и нет утешений.
14-18 августа 2009 (обратно)
История про "центонную прозу"
Я был гном, а она, понятное дело, эльф - из того народца, что принял длинные звонкие имена и забыл, что бывает иная жизнь, кроме описанной в их священном Писании. Да что там - просто они верили в то, что эта описанная жизнь не сочинена, а была на самом деле - со всеми именами и названиями. На следующую ночь всё повторилось, но сила была уже на стороне гномов. Война была зла, повторяема, механична, но высшая власть и успех были у меня. Балин тупым клином входил в плодородную землю, прорезал Шир и Эриадор, выдвигался передовым отрядом в Рохан. Я завоевывал эту землю неспешно, но не отступая ни на шаг, пристально наблюдая за всеми движениями противника. Пришло то время, когда отступает отчаяние и тебе всё уже нипочем. Да что там! Не наш хрип и тяжёлое дыхание, а лязг боевых колесниц стоял во всём подлунном и полнолунном мире. В пропасть, подземный карст, в заброшенные тоннели и шахтные выработки валилось всё зло мира, а тут восстанавливалось царство справедливости. Руническая вязь, написанная на стенке рядом была кривой, но выведенной старательно. Значки, наверное, была прекрасны, но двоились в глазах, залитых потом. И вот наступил эквилибрум - поверженный Рохан дышал рядом. Я видел себя со стороны: лысого смешного гнома, что ворвался во дворец, нахулиганил и упал среди шелков и подушек. И, как и положено, я толкнул в бок сопящего рядом Рохана. Но сон его был крепок, не то, что мой.* * *
...Вдруг Владимир Павлович побелел лицом. Что-то было не так, он чувствовал что-то, что не чувствовал я. Математику тоже стало резко не по себе, и он, как мешок, свалился на вибрирующий пол кабины. Я бросился к Владимиру Павловичу: - Что это, что? - тряс я его за плечо. Он повернул ко мне лицо с почти закатившимися глазами и выдохнул: - Это генератор Гельмгольца… Не знаю, откуда он взялся, и где он, но это генератор. Смотри, сынок, мы сейчас можем начать отсюда прыгать, держи нас… - последнее он проговорил уже валясь на пол. Математик меж тем уже полз к дверце, несмотря на то, что из ушей у него текла кровь. Я выдрал из его штанов ремень и аккуратно привязал Математика к стойке с аппаратурой. Потом тоже самое я проделал с Владимиром Павловичем и встал на его место машиниста. Что-то мне слышалось, какое-то странное бубнение, может посвистывание, и больше ничего. Я не чувствовал ровно никакого дискомфорта. И, видимо, это была плата за мои ночные кошмары и за то, что я двадцать лет просыпался в поту. Наш поезд шёл мимо совершенно обычной местности. Про генератор Гельмгольца меня, конечно, развели. А ведь я знал, что такое генератор Гельмгольца - любой сосуд с узким горлышком был таким генератором. Или даже наши головы вполне себе тоже, особенно с раскрытыми ртами, были генераторами Гельмгольца. Название было красивое, но ничего страшного в нём не было. И в том звуке, что я слышал, тоже не было ничего страшного. Так примерно бубнили свинари, когда шли мимо своих подопечных. Один жаловался на то, что у него болят ноги, второй ругал начальство, третий напевал под нос… Вот что такое было это бубнение. Но на Математика с Владимиром Павловичем оно произвело удивительное действие. Даже привязанные они скреблись по железному полу ногами, загребали руками, будто плыли в воздухе. При этом оба пели какую-то удивительную песню. Наверное, такие песни пели предки покойного Мирзо, когда ехали на своих маленьких осликах по горам и разговаривали с мирозданием посредством пения. Что вижу, о том и пою, как сказал однажды начальник станции "Сокол", когда ему намекнули, что свиных консервов мы произвели больше, чем он раздал зарплаты.* * *
...Владимир Павлович заглянул мне в глаза: - Ты вот по молодости это не очень хорошо помнишь, а я тебе расскажу. Сразу после Катаклизма множество людей из тех, кто спасся, пребывало в эйфории. Для них это было освобождение. Ведь раньше они мучились, переживали, суетились. В их жизни было начальство, семьи, где часто счастья никакого не было, и главное, соображения о том, что все они - неудачники. Они недостаточно зарабатывают, у них не сделан ремонт, не достроена дача… И тут - бац! Всё исчезло. Конечно, жизнь теперь была не сахар, и болеть стали больше, но те, кто по-настоящему болел, быстро вымерли. А вот те, кто пришёл в такое упрощённое состояние, почувствовали себя очень комфортно. Это был второй шанс для неудачников и, главное, никакого офисного рабства. Ведь у нас масса людей занималась не своим делом: люди протирали штаны в конторах, с нетерпением ждали пятницы, чтобы радостно напиться, пить всю субботу и воскресенье, сносить упрёки нелюбимых жён или мужей, с ужасом думать, что дети непослушны, попали в дурную компанию, понимать, что годы уходят, а ничего не сделано. Узнавать с завистью, что сверстники разбогатели, уехали за границу и вообще успешнее тебя. Душевные муки всегда тяжелее физических: к физическим ты привыкаешь или умираешь, в зависимости от их тяжести. А тут, после Катаклизма, в одночасье, разом, успех стал осязаем. Успех - это то, что ты жив, что ты получил пайку... Это новое Средневековье, о котором так долго говорили. Ну, ты не знаешь, но поверь, что говорили. И это гораздо более простая цивилизация, чем была. В ней есть все те же связи начальник-подчинённый, но теперь это хозяин-работник. Марксизм - ты не представляешь, вообще, что такое марксизм, но поверь, моё поколение всё было на нём воспитано… Так вот, марксизм снова стал настоящим, мир - понятным. Вот они, вот мы. Вот еда, а вот одежда. - Но так нельзя жить долго. И я читал про марксизм. - Ну, почему нельзя? Впрочем, что считать - "долго"? Что для нас это "долго"? - Если ты говоришь о марксизме, то количество должно перейти в качество. - Это не марксизм. Это в тебе от невнимательного чтения. Переход количества в качество - это Гегель, диалектика… - Ну, хорошо. Гегель. Но что-то должно случиться. - Да понятно что, должен случиться выход на поверхность. - Или нас съедят какие-нибудь монстры. - Ну вот подумай, зачем монстрам нас есть? Что им в нас? Что такого мёдом намазанного в людях, что спаслись? Отвоевать у них их жалкие подземные норы? Но если разумные мутанты, да и неразумные, жили двадцать лет у себя, даже в случае дельта-мутации какой им резон лезть под землю?* * *
...От нечего делать я тоже бродил среди поломанной мебели и обнаружил, что в одной из комнат, ровно посередине неё, пол пробит. Я чуть было не полетел вниз, куда вместо меня ливанул дождь старых газет и журналов. Сто лет назад это были бы, наверное, книги в твёрдых переплётах, или сборники по статистике какого-нибудь профессора экономики, а я отправил вниз подшивки "Знамени" и "Нового мира" - тех журналов, что я читал когда-то в заброшенной библиотеке близ метро "Аэропорт". Времена поменялись и ценности тоже. Я заглянул вниз и увидел, что на нижнем этаже дыра тоже симметрична моей и в темноте вовсе не видно, в какую преисподнюю отправилась настоящая литература прошлого века. Потом я нашёл шкаф, в котором обнаружился труп крысы - высохший и мумифицированный. Рядом были пластиковые корытца, и в них, наверное, раньше была еда, превратившаяся в серый прах. Наличествовали даже бутылки - одна разбитая, и вторая просто пустая с выкрошившейся пробкой. Ничего больше тут не было, только в дальней комнате я нашёл настоящий письменный стол, заваленный пыльными книгами. Рядом на стене было написано непонятное: "Лукас, я на Ваське", какая-то белиберда и странные каракули. Там были изображены два человечка занятых воспроизводством рода и странное существо с поднятыми руками справа от них. Этот рисунок явно изображал ядерного мутанта, пришедшего пожрать спящих селян. Для полноты картины неизвестный художник пририсовал ко рту мутанта воздушный пузырь с какими-то стёршимися уже от времени словами в нём. На столе стоял старинный телефонный аппарат с диском. Машинально я поднял трубку, и вдруг в ней затрещало. "Чёрт, что это, - подумал я, - неожиданная электризация что ли? Какие-нибудь слабые поля?". И я очень аккуратно положил трубку на рычаги.01-06 января 2010 (обратно)
Репа
Сейчас, в разговоре с могущественным организатором всего Пегасовым об эпопеях, я довольно хамски заявил, что легко, под заказ сделаю изо всего эпопею. - И из "Репки"? – спросил Пегасов. - И из «Репки». Ведь эпопея - это что? Это история нескольких людей или семей на фоне исторических катаклизмов. Итак роман-эпопея:
РЕПА
Узел первый: 1914 год, август. Дед, впрочем, тогда он не был дедом, а вполне ещё молодым человеком и собирался на войну. Ремни хрустели и казачья шашка болталась на боку как дополнительный символ мужественности. Водка лилась рекой и молодой парень даже забыл о своём главном просчёте в жизни - как-то он послал свою коллекционную репу премьеру Столыпину, но не уследил, и с почты посылку украл местный хулиган и вор по прозванью "Репа". А теперь он уходит бить германца, а перед уходом в армию велел завести своей суженой собаку и посадить репу. Так она и поступила. На фронте он сдружился со своим командиром, хорунжим Мелиховым - несколько раз они спасают друг другу жизнь, азартно споря, чья на этот раз очередь. Узел второй: год 1919, май. Второй год шла Гражданская война. Жучка с тоской вспоминала своё довоенное житьё, а особенно – кормёжку. Теперь же приходят то белые, то красные, и некуда крестьянину податься. А уж крестьянской собаке – и говорить нечего. Еды мало, приходится грызть кости красноармейцев. Вернулся с каторги большевик по прозванию "Репа", приговаривая: "Посадил Дед Репу, а Репа вышел и посадил Деда на перо". Пришлось деду бежать в лес. На следующий день в селе появился ободранный и окровавленный Мелихов и долгое время скрывается от чекистов. Когда он исчезает, молодая женщина понимает, что беременна. Узел третий: 1924 год, январь. Бабка ещё не была бабкой, она стала просто матерью краснощёкого младенца. Бутуз носился взад-вперёд по двору, по клети и подклеткам, по полатям и охлупеням, и ничто не могло его удержать. Правда, голова у её мужа была похожа на репку хвостиком вверх, а головка сына - на репку хвостиком вниз, но на это в тот год обращали мало внимания. Она смотрела на него и сердце выпрыгивало из груди. И ничто - ни фильдеперсовые чулки, ни новый самовар, ни прочие предметы, что привозил из города её муж, не могли затмить радости материнства. Она нежно зовёт сына "репкой" Узел четвёртый: 1930, октябрь. Застучалась в ворота осенним холодным ветром коллективизация. Раскулачили дедушку, не дождавшегося ещё внуков. Из деревенской церкви сделали амбар колхоза "Красный реповод". Объявили Деда врагом-мироедом, да и поехал он в вагоне с маленькими окошками на север. Долго он скитался я по подворотням ГУЛаг, долго валил лес, добывал руду, вёл караваны горными тропами и варил сталь... Однажды он встретил там бывшего секретаря Столыпина, и узнал, что если бы вовремя послал бы премьер-министру свою репу, если бы Столыпин имел в руках этот исконно русский метательный снаряд, то убийца Богров и на двадцать шагов не подобрался бы к великому человеку. Узел пятый: 1952, июнь. Про Деда в деревне-то не вспоминали. Сын его вырос, да и сгинул на фронте, расстреляли его в спину заградотряды, и упал он под рекою Сурою, обхватившись с землёю, только ветер обрывки письма разметал. Но осталась от него дочка, что жила вместе с бабкой. Звали её просто Внучка и была она музыкальной - разжившись балалайкой на базаре. И вот как-то Внучка приехала в Москву на сельскохозяйственную выставку, чтобы хвастаться продукцией колхоза «Красный Реповод», а вечером пошла гулять по Москве. Вот она идёт по улице и её приглашают в машину - красивую и блестящую, откуда призывно сверкает чьё-то пенсне. Человек в пенсне вспоминал становление большевистских организаций в Закавказье. Он давно не был там и забыл вкус чурчхелы и лаваша, вкус лобио и шашлыков. Теперь, готовясь к новому будущему, он думал о том, как стать русским более, чем сами русские. Вот репа… Он смотрел на милую девчушку на сиденье рядом с собой – та и вправду была похожа на репку. Узел шестой: 1963, январь. Деда, чьё честное имя полностью восстановлено и ему даже были вставлены железные зубы за счёт государства, выбирают председателем колхоза. Однако тут же его заставляют сажать кукурузу. Кукуруза не вырастает, а вырастает странный гибрид – «Репуза», который может перемещаться по полям самостоятельно и до смерти жалит зазевавшихся колхозников. Местный участковый в сером кителе выходит на борьбу со страшным растением и лишается обоих рук, так его и зовут с тех пор - Безруков. Многое приходится предпринять героям, пока не задуют новые ветры, наново не выпрямится партийная линия, волюнтаризм не будет осуждён, а репузу не пожрёт борщевик. Узел седьмой: 1980, февраль. В колхоз приезжает Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР товарищ Леонид Ильич Брежнев. Когда Брежнев посещает передовой колхоз и к нему выходит беззубый дед, то смутное воспоминание тревожит Генерального секретаря: где-то он видел эту голову, похожую на репу, только хвостом вниз. И точно: он вспоминает о том, как сын этого дедушки погиб рядом с ним на "Малой земле", и вот Генеральный секретарь уже забыл, зачем он здесь, забыл про удои и надои, и просто плачет, вспомнив войну. «Надо попросить кого-нибудь написать об этом книгу», - думает он. Узел восьмой: без даты. Случилась Перестройка, колхоз «Красный Реповод» сперва обанкротился, потом обнищал, а вскоре просто разорился. Заявившийся из города крестный отец международной мафии и кооператор по кличке "Репа" продал приватизированный амбар на сторону и уехал в Израиль. Новые владельцы церкви-амбара Мансур и Джохар открыли фабрику по производству гексогена. Посреди пустых изб доживает бабка дедка. Автолавка уже не приезжает из райцентра, голодно. И тут престарелая внучка-инвалид вспоминает давний рассказ бабушки про 1914 год. Они вспоминают, что много лет назад она посадила за амбаром Репку. И точно, с тех пор она выросла такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тяжело тащить репку, но им помогает местный милиционер, а теперь околоточный полицейский Безруков, одетый, впрочем, в ту же мышиную форму. Он обещал внучке "любить её по-русски", и обхватил, чем у него осталось, её тонкий стан - та схватилась за бабку, дед вцепился в репку, и началась мала. Все вместе они выдернули репку, которая перетерпев Советскую власть, стала величиной в дом. А в образовавшуюся яму упали Мансур и Джохар со своим заводом. Радостно залаяла Жучка VI, и все поняли, что спасены, и жизнь теперь пойдёт на лад.24 августа 2011 (обратно)
История про охотничье счастье
 Мужчина и женщина, американцы вышли на него через посредника. Сперва у Сталкера было впечатление, что всё это психологические штучки. Совет психолога для сбережения брака, или ещё что-то.
Он не вдавался в подробности – не его это дело.
Мужчина сказал, что ему нужно убить кровососа. Убить и всё, именно кровососа и только его. Американец был очень высокого роста, очень хорошо сложен, если рост баскетболиста не считать недостатком. У него были тёмные волосы, аккуратно подстриженные как у офицера. Сталкер отметил, что клиент кажется очень молодым – вряд ли ему больше тридцати пяти. Сама по себе охота на кровососа была не наказуемой.
Обычно богачи оформляли себя как независимых исследователей-зоологов – за деньги можно было сделать всё. Наказуемым актом был вывоз за пределы Периметра живого материала, или живого, ставшего мёртвым.
Эрик тогда стоял в сторонке, а учёные пили горилку за другим столом. На одном столе лежал разрезанный труп, а люди в белых халатах резали сало и хлестали водку за другим, стоявшим рядом. Это Эрик одобрял – цинизм спасает разум.
Учёные при этом спорили, как кровососы размножаются – и характерен ли для них гермафродитизм или нет. Причём и те, и другие спорщики время от времени тыкали пальцем в труп, лежавший у них за спиной. Видимо, он подтверждал одновременно разные их версии.
Как хороший сталкер-проводник, Эрик знал повадки всякой твари, охотно рассказывал о них туристам, но понимал, что всё в Зоне условно.
К примеру, кровосос очень любил комнатную (или близкую к комнатной), температуру – потому что его тело собственной постоянной температуры не имело и подстраивалось под окружающую среду. Но однажды он увидел кровососа, спокойно прогуливающегося по снегу и явно не очень страдавшего от холода.
Сталкер собрал группу из трёх человек и через некоторое время они были готовы отправиться в путь.
Но вдруг всё осложнилось.
Американка пришла к Сталкеру в номер, когда они остановились в гостинице при баре «Пилав». Гостиница пустовала, но условия там были очень хорошие.
Причина сложностей была в том, что американец ужасно трусил, он начал трусить уже на подходе, задолго даже до того, как они встретились. Жена им была чрезвычайно недовольна, ей было стыдно перед людьми, стыдно перед собой, перед прожитой с мужем-трусом жизнью. И, видимо, чтобы отомстить, пришла в номер к Сталкеру – всё равно её муж оплачивал обе комнаты.
Она пришла и отомстила.
Сталкер Эрик Калыньш отнёсся к этому равнодушно, он и не такое видел.
А теперь она думала, что между ними возникало какое-то напряжение. Плохо было то, что Американец это заметил, и ему было не всё равно. Но Эрику было это интересно только с той точки зрения, не начнётся ли у них взаимная истерика. Истерика может помешать, а дуться они могут сколько угодно.
Американец, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о кровососах, проснулся и понял, что жена ушла. Он пролежал без сна два часа, а потом жена скрипнула дверью и долго принимала душ. Он спросил её, где она была, хотя сам уже догадался. Жена ответила, что выходила покурить. «Ну и подышать воздухом», добавила она.
– Шлюха! Шлюха! Шлюха! – и голос его сорвался.
– А ты – трус. Вот так-то.
Это был мощный аргумент, жена попала в самое яблочко, так что они начали ругаться. У них давно было всё плохо, и насчёт семейного психиатра Эрик был прав. Они ругались, и Американка говорила, что хочет спать, а потом Американец говорил, что хочет спать и завтра тяжёлый день, но они не могли остановиться, и обменивались репликами ещё час.
А Эрик Калыньш по прозвищу Сталкер спал спокойно, вовсе не думая о женщине, что была у него. Если будешь думать о таких мелочах, то на работу останется мало времени. Он думал о кровососе, который сейчас тоже не спит в своём убежище, а может, и спит, чтобы утром выйти и искать себе подругу – если не врут те из учёных, кто считает, что им нужны подруги. Кровосос, до которого он хотел добраться, сидел в развалинах, а днём должен выйти на большой луг перед ними. Лучше всего, конечно, было выманить кровососа на открытое пространство, где Американец, вероятно, смог бы пострелять их с меньшим риском.
Ему не хотелось охотиться с Американцем ни на кровососов, ни на какого другого монстра, но он был профессионал, и контракт, пусть и устный, был для него законом. Если они завтра найдут кровососа, то сделают своё дело быстро, и даст Бог, всё обойдётся. А вот если они будут искать кровососа долго, то может произойти невесть что. Этот трусливый бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Американец тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват.
Плохо только одно – она переспала с ним до основного дела, а не после. После – это часто бывало, когда туристы возвращались обратно, но их ещё трепал адреналиновый шторм. Они тут же напивались, и мужчины часто напивались сильнее своих женщин.
Эрик знал свою клиентуру – веселящаяся светские львы и львицы, спортсмены-любители из всех стран, их женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке со сталкером. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. И этих своих клиентов, как ему казалось, он вычислил. Это такой очень стабильный союз, который он не раз видел. Союз, в котором мужчина и женщина похожи на зомби и наперегонки выедают мозг друг другу. Красота жены была залогом того, что муж никогда с ней не разведется; а богатство мужа было залогом того, что жена никогда его не бросит.
Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока он был нанят, их мерки были его мерками.
И он перестал думать об этой супружеской паре и принялся думать о гипножабе. Он всегда думал перед сном о гипножабе, то есть о Чернобыльском Земноводном Контролёре, потому что поймать Земноводного Контролёра – было главной мечтой его жизни.
Мужчина и женщина, американцы вышли на него через посредника. Сперва у Сталкера было впечатление, что всё это психологические штучки. Совет психолога для сбережения брака, или ещё что-то.
Он не вдавался в подробности – не его это дело.
Мужчина сказал, что ему нужно убить кровососа. Убить и всё, именно кровососа и только его. Американец был очень высокого роста, очень хорошо сложен, если рост баскетболиста не считать недостатком. У него были тёмные волосы, аккуратно подстриженные как у офицера. Сталкер отметил, что клиент кажется очень молодым – вряд ли ему больше тридцати пяти. Сама по себе охота на кровососа была не наказуемой.
Обычно богачи оформляли себя как независимых исследователей-зоологов – за деньги можно было сделать всё. Наказуемым актом был вывоз за пределы Периметра живого материала, или живого, ставшего мёртвым.
Эрик тогда стоял в сторонке, а учёные пили горилку за другим столом. На одном столе лежал разрезанный труп, а люди в белых халатах резали сало и хлестали водку за другим, стоявшим рядом. Это Эрик одобрял – цинизм спасает разум.
Учёные при этом спорили, как кровососы размножаются – и характерен ли для них гермафродитизм или нет. Причём и те, и другие спорщики время от времени тыкали пальцем в труп, лежавший у них за спиной. Видимо, он подтверждал одновременно разные их версии.
Как хороший сталкер-проводник, Эрик знал повадки всякой твари, охотно рассказывал о них туристам, но понимал, что всё в Зоне условно.
К примеру, кровосос очень любил комнатную (или близкую к комнатной), температуру – потому что его тело собственной постоянной температуры не имело и подстраивалось под окружающую среду. Но однажды он увидел кровососа, спокойно прогуливающегося по снегу и явно не очень страдавшего от холода.
Сталкер собрал группу из трёх человек и через некоторое время они были готовы отправиться в путь.
Но вдруг всё осложнилось.
Американка пришла к Сталкеру в номер, когда они остановились в гостинице при баре «Пилав». Гостиница пустовала, но условия там были очень хорошие.
Причина сложностей была в том, что американец ужасно трусил, он начал трусить уже на подходе, задолго даже до того, как они встретились. Жена им была чрезвычайно недовольна, ей было стыдно перед людьми, стыдно перед собой, перед прожитой с мужем-трусом жизнью. И, видимо, чтобы отомстить, пришла в номер к Сталкеру – всё равно её муж оплачивал обе комнаты.
Она пришла и отомстила.
Сталкер Эрик Калыньш отнёсся к этому равнодушно, он и не такое видел.
А теперь она думала, что между ними возникало какое-то напряжение. Плохо было то, что Американец это заметил, и ему было не всё равно. Но Эрику было это интересно только с той точки зрения, не начнётся ли у них взаимная истерика. Истерика может помешать, а дуться они могут сколько угодно.
Американец, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о кровососах, проснулся и понял, что жена ушла. Он пролежал без сна два часа, а потом жена скрипнула дверью и долго принимала душ. Он спросил её, где она была, хотя сам уже догадался. Жена ответила, что выходила покурить. «Ну и подышать воздухом», добавила она.
– Шлюха! Шлюха! Шлюха! – и голос его сорвался.
– А ты – трус. Вот так-то.
Это был мощный аргумент, жена попала в самое яблочко, так что они начали ругаться. У них давно было всё плохо, и насчёт семейного психиатра Эрик был прав. Они ругались, и Американка говорила, что хочет спать, а потом Американец говорил, что хочет спать и завтра тяжёлый день, но они не могли остановиться, и обменивались репликами ещё час.
А Эрик Калыньш по прозвищу Сталкер спал спокойно, вовсе не думая о женщине, что была у него. Если будешь думать о таких мелочах, то на работу останется мало времени. Он думал о кровососе, который сейчас тоже не спит в своём убежище, а может, и спит, чтобы утром выйти и искать себе подругу – если не врут те из учёных, кто считает, что им нужны подруги. Кровосос, до которого он хотел добраться, сидел в развалинах, а днём должен выйти на большой луг перед ними. Лучше всего, конечно, было выманить кровососа на открытое пространство, где Американец, вероятно, смог бы пострелять их с меньшим риском.
Ему не хотелось охотиться с Американцем ни на кровососов, ни на какого другого монстра, но он был профессионал, и контракт, пусть и устный, был для него законом. Если они завтра найдут кровососа, то сделают своё дело быстро, и даст Бог, всё обойдётся. А вот если они будут искать кровососа долго, то может произойти невесть что. Этот трусливый бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Американец тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват.
Плохо только одно – она переспала с ним до основного дела, а не после. После – это часто бывало, когда туристы возвращались обратно, но их ещё трепал адреналиновый шторм. Они тут же напивались, и мужчины часто напивались сильнее своих женщин.
Эрик знал свою клиентуру – веселящаяся светские львы и львицы, спортсмены-любители из всех стран, их женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке со сталкером. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. И этих своих клиентов, как ему казалось, он вычислил. Это такой очень стабильный союз, который он не раз видел. Союз, в котором мужчина и женщина похожи на зомби и наперегонки выедают мозг друг другу. Красота жены была залогом того, что муж никогда с ней не разведется; а богатство мужа было залогом того, что жена никогда его не бросит.
Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока он был нанят, их мерки были его мерками.
И он перестал думать об этой супружеской паре и принялся думать о гипножабе. Он всегда думал перед сном о гипножабе, то есть о Чернобыльском Земноводном Контролёре, потому что поймать Земноводного Контролёра – было главной мечтой его жизни.
<...>
И тут они увидели Кровососа. Тот, как и думал Эрик, выполз в тумане из развалин и вынюхивал что-то. Кровосос почуял кого-то, вовсе не обязательно людей – просто почуял какое-то изменение в ландшафте. Он выпрямился, и щупальца его затрепетали. Он пытался определить местонахождение еды. Сейчас главное понять, как он будет атаковать – в скрытом режиме, или, зарычав, пойдёт вперёд. Но кровосос вдруг пропал. Эрик теперь лихорадочно соображал, забрался ли он обратно, или перешёл в состояние невидимости. Американец тронул его за плечо: – Я бы пошел, но, мне, понимаете, просто страшно. – Я пойду вперед,– сказал Сталкер, – а ребята поищут его тепловизором. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он вдруг возникнет перед нами, и мы увидим его и услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять – разом. Как «Катюша». Знаете, что такое «Катюша»? Американец кивнул. – Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам в самом деле лучше не ходить? Право же, лучше. – Нет, я пойду. – Как знаете,– сказалСталкер.– Но если не хочется, не ходите. – Я пойду, – сказал Американец. И они пошли вперёд, стараясь не разрывать строй. Американец шёл потный, и Эрик видел, что у Американца не хватает духу попросить его отпустить. Теперь он внутренне был готов сдаться и умолять, чтобы тот пошел и покончил с кровососом без него. Он не мог знать, что Сталкер в ярости потому, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене. – Мне бы глотнуть воды, – сказал Американец. Эрик сказал что-то своему приятелю, и увидел, что и того трясёт. В тридцати метрах от них кровосос присел в ямку среди уже высокой летней травы и готовился к прыжку. Он сидел неподвижно, подрагивали только его ротовые щупальца. Он был стар и теперь не мог становиться прозрачным, вернее, это отнимало очень много сил. Но старость имела оборотную сторону в виде мудрости и сообразительности. Поэтому кровосос залег сразу после того, как почуял запах свежего мяса. Но недавно его ранили – случайно, просто так, наобум пущенной пулей за два километра. Пуля попала в набитое брюхо и он ослабел. С возрастом процессы регенерации шли медленнее, и уже заросшая было рана несколько раз открывалась. Её облепили мухи, и глаза кровососа от боли стали почти человеческими. Они были сужены и полны ненависти к этому огрызающемуся металлом мясу, подбирающемуся к нему. Всё в нем – боль, тошнота, ненависть и остатки сил – напряглось до последней степени для прыжка. Теперь он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание – напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда кровосос почувствовал, что голоса приближаются, он хрипло зарычал и кинулся. Эрик Калыньш выстрелил первым, и попал – но не туда, куда хотел, а в живот. Затем он попал ещё раз, и тут его поддержали автоматным огнём ребята. Наконец, заговорили и винтовка в руках Американца. Тот, когда кровосос вылез из своего укрытия, впал в ступор и вообще не думал ни о чём. Он знал только, что руки у него дрожат, и, встав с винтовкой, едва мог заставить себя поднять ствол. Руки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился кровососу в шею и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опустил ружье, чтобы перекинуть флажок. При этом, он сделал неуверенный шаг назад. Кровосос, оценив расстояние, в свою очередь, сделал шаг к нему. Наконец, Американец выстрелил и, услышав характерное чмоканье, с которым крупнокалиберная пуля попадает в живую плоть, понял, что не промахнулся; но кровосос шёл все дальше. Американец выстрелил еще раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтанчик пыли, земли и травы прямо под ногами кровососа. Но кровосос шёл вперёд, и шёл он прямо на американца, пока, наконец, тот не выстрелил в третий раз. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться в голову или шею, и даже через грохот автоматных очередей все услышали, как чмокнула пуля, пробив позвоночник. И тогда кровосос, у которого к этому моменту другими попаданиями снесло полголовы, завалился на бок. Американец стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись. – Я попал в него,– сказал Американец.– Два раза попал. Попал. Я точно в него попал. – Вы пробили ему позвоночник в районе пятого позвонка и, кажется, попали в грудь, – сказал Сталкер без всякого воодушевления. – Я думаю, что вы его и убили. Эрик решил, что он минуту был уже мёртв – такая плотность огня была сконцентрирована на монстре, но не стал отнимать у Американца победу. Ведь, в конце концов, это были деньги клиента. И им, клиентом был оплачен каждый автоматный патрон, каждый глоток воды из фляжки, который делал Эрик или его ребята. Кровосос издох. Щупальца несколько раз открылись, раскрылись и опали. Из развороченной груди на траву неохотно подтекала чёрная жидкость. Эрик повернулся к Американцу и, посмотрев на него, сказал: – Снимки делать будете? «И всё же нам повезло, – думал Эрик, – Я не был до конца уверен, что получится». Он был готов, что потеряет всех охотников, а уж то, что даже опытные сталкеры становились добычей кровососа, всем было известно. Но американец убил кровососа.Почти сам – его, конечно, страховали, а потом ударили со всех стволов, чтобы уж кончить тварь наверняка. И всё-таки он не испугался, вернее, победил свой страх. Он лучше многих, а этих многих Эрик уже повидал».
Они уже миновали пространство между холмами, и Сталкер стал думать, что напрасно пугал американца, который сиял как блин. Они остановились, чтобы хлебнуть воды, а американец снова приложился к фляжке. И тут на них выскочили два снорка. Видимо, они вынюхали след кого-то другого, но в какой-то момент он пересёкся со следом группы Эрика. Снорки выскочили из-за кустов как гончие и стали стремительно приближаться. Хоботки на их мордах стремительно мотались, что стороннему наблюдателю могло показаться смешным. Но Эрик не был ни новичком, ни сторонним наблюдателем. Он открыл огонь с дальней дистанции. Его помощники не отставали, но первым счёт открыл именно Эрик. Первого снорка Сталкер снял очередью, почти не целясь. Второго застрелил его друг Абдулла. А вот третьего они как-то упустили. Стрелял по нему американец, а его жена была слишком далеко и просто громко кричала. Американец взял прицел повыше и снова шарахнул по снорку из автомата экономной очередью в три патрона. Снорки подпрыгивали, как бы отжимаясь от земли всеми четырьмя конечностями. Они пришли сюда по запаху, догадался Сталкер. Нет ничего более сильного, чем запах секса, и вот они пришли по этому запаху, и теперь, из-за этого приключения, счёт идёт на секунды. Он вскинул ствол и выстрелил в третьего снорка. Американец стоял на месте и стрелял в грудь, каждый раз попадая чуть-чуть ниже, чем нужно, его жена выстрелила издали, когда снорк прыгнул на её мужа. Она попала своему мужу в череп, сантиметров на пять выше основания, немного сбоку. Теперь Американец лежал ничком всего в метре от того места, где валялся дохлый снорк. Сталкер опустился на колени, и осмотрел коротко остриженную голову американца. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю. Потом он встал и увидел лежащего на боку снорка: ноги его были вытянуты, а по животу, в рваных дырах истлевшего обмундирования ползали вши. «А хобот хорош, черт его дери, – автоматически отметил его мозг. – Маска противогаза просто вросла в кожу. Я, правда, не буду отдирать, чтобы посмотреть, что там. Потом Сталкер свистнул товарищу, чтобы тот обшарил карманы убитого американца, а потом пошёл к женщине, что плакала в стороне. – Конечно, это несчастный случай, – сказал Сталкер. – Я-то знаю. – Перестаньте, – сказала она. – Будет много возни, – сказал он. – Это хорошо, что вы так придумали. Обычно комиссары ООН не выезжают на труп, если он находится внутри Периметра. Можно было убить его как-нибудь иначе. Мы не сумеем составить акт, мы сталкеры, и нам вовсе не хочется под суд. Хотя мы что-нибудь придумаем, если в Америке подойдёт невизированный администрацией Периметра документ. – Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! – крикнула женщина. Сталкер посмотрел на неё своими равнодушными глазами остзейской голубизны. – Больше не буду, – сказал он. – Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться. – О, пожалуйста, перестаньте, – заплакала она. – Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, перестаньте. – Ладно, – сказал Сталкер. – Пожалуйста – это много лучше. Теперь я перестану. И группа пошла дальше. Американец остался лежать чуть в стороне от тропы, и смотрел в низкое пасмурное небо Зоны открытыми глазами. Лицо у него оставалось абсолютно счастливым.
22 сентября 2011 (обратно)
История про Зоологический музей
 ...Группу разогнали, заместитель Маракина Трухин попал в больницу, а потом и вовсе уволился – по собственному желанию», конечно. Потом он сгинул где-то в одном из трёх научных городков на Периметре Зоны. А так-то ему насчитали за нецелевое расходование средств тыщ триста ущерба для страны. А это лет пятнадцать отсидки.
...Группу разогнали, заместитель Маракина Трухин попал в больницу, а потом и вовсе уволился – по собственному желанию», конечно. Потом он сгинул где-то в одном из трёх научных городков на Периметре Зоны. А так-то ему насчитали за нецелевое расходование средств тыщ триста ущерба для страны. А это лет пятнадцать отсидки.
Но я помнил их иными – гордыми и сильными. Сейчас отчего-то я вспомнил, как он стоял перед своим огромным письменным столом и разглядывал на мониторе огромные фотографии. Ему только что прислали эти фотографии с Зоны, где его ученики ковырялись в гнилой плоти, быстро регенерирующей плоти зомби, в плоти животных, превратившихся в уродов. Но Маракина тогда интересовали только мозги – как и зомби, впрочем. Там было много всего, и в университетском музее на Моховой, а тогда ещё проспекте Маркса было несколько экспонатов с пояснительными табличками: «Кровосос… Добыт экспедицией М. И. Трухина, препарирован доктором А. В. Маракиным». Были там и препарированные бюреры и контролёры (контролёром Маракин очень гордился, потому что мозг контролёра подтвердил самые смелые его предположения). Однако на части табличек студенты-остроумцы то и дело приписывали к названиям прилагательное «sapiens». Служители музея не дремали, и с табличек эти слова быстро исчезали, потому что на стороне смотрителей была современная бытовая химия. Мгновение – и не останется ни одного штриха… Я видел, как приезжал Трухин из первых экспедиций – как герой, на монстров его дивились, в перестроечном журнале «Огонёк» его печатали на фоне чучела кровососа. Очень красивые, помню, были фотографии. Тогда ещё у него была кличка «Бэкингем», потому что он говорил со странным акцентом, будто набрал в рот камешков, как недоучившийся Демосфен. Он говорил точь-в-точь, как Бэкингем из фильма про трёх мушкетёров, картавя и не произнося половину букв. Он был друг Маракина, только чуть моложе – но Маракин пережил его на несколько лет. А тогда я запомнил необычный разговор. Бэкингем привёз очередную партию уродцев – тогда это было ещё возможно, только потом, по Второму межгосударственному соглашению биоматериал исследовался только на месте, так вот тогда он привёз партию уродов, и их спешно изучали. Но Бэкингем выглядел недовольным. И вот я застал их в кабинете Маракина за бутылкой. Они хорошо тогда нагрузились, и, кажется, Маракин принимал меня за аспиранта Трухина, а Трухин – за аспиранта Маракина. Так я и просидел за шкафом, подслушивая их разговор. Трухин горячился. – Они живые, живые, – кричал он. Имелись в виду, как я сразу понял, существа Зоны. Маракину было наплевать, живые или мёртвые. Он бы и родную мать препарировал, если бы это продвинуло вперёд работы по их нейронному ускорителю. А Трухин орал и орал. Из-за дефекта дикции, из-за этого его «английского» произношения слушать его было смешно, но потом мне стало не до смеха. Выходило, что один кровосос вместе с более молодой особью, то есть, детёнышем, встретился ему у самого Саркофага. Однако кровосос не напал на Трухина, а спас ему жизнь, вернее, не стал бросаться на него. Кровосос вытолкнул Бэкингема в последний момент с гравиконцентрата, над краем которого Трухин занёс было ногу. Можно было предположить, что кровосос хотел его оставить на ужин, а после гравитационного концентрата, то есть, после «комариной плеши», от него мало что бы осталось. Но Бэкингем утверждал, что кровосос отпустил его и удалялся, и тут нервы у Бэкингема не выдержали, и он засадил в своего спасителя достаточно много разрывных пуль – прямо в спину. Он, как хороший анатом, знал, куда стрелять, и оттого завалил монстра сразу. Такое вообще-то невозможно, но Бэкингему я верил. Что, собственно, не верить, когда голову этого кровососа с расправленными щупальцами вместо рта сейчас, уже выпотрошив, заливали в прозрачный пластик? Я-то верил. Бэкингем, кажется, тронулся в этот момент. – Ты понимаешь, мы не знаем, что они хотят. Мы о них вообще ничего не знаем. Они часть Зоны. Её организм, неотъемлемый орган, они живут в симбиозе с Зоной, и если бы мы туда не лезли со своим оружием, может быть, никакого ужаса бы не было. А вдруг я послужил спусковым крючком – вот маленький-то убежал, и в его мозгу начался виток импринтинга , и этот образ будет повторяться раз за разом в следующих поколениях, а? Как знать, а? Но вдруг они успокоились, и Маракин деловито спросил: – Чем порадуешь на этот раз? ведь с Яйлы?.. – Прямо с болота, что на юге, – ответил Бэкингем и окутался облаками английского табака как дымовой завесой. – Но ничего интересного. Я, слушая их, понимал, что да – «ничего интересного», это по сравнению с тем самым трупом кровососа, что прославил Трухина-Бэкингема. – Нет, Андрюш. Одни пустяки. Чернобыльский волк, ещё один. Тушканчики. Несколько крыс, они разные там все. Зайца какого-то встретил чудного, но не поймал. Ещё десяток двухордовых змей, несколько новых видов многостворчатых моллюсков... Они вышли из кабинета, и пошли по музею – два старика, как мне тогда казалось. Сейчас-то понятно, что тогда они были немногим старше меня нынешнего. Залы были пусты, и они быстро прошли мимо чернобыльского стенда, под стеклом которого были и волки, и пауки, и тушканчики, и крысы… Зайцев там, правда, не было, но было много разного другого. Например, там было чучело бегемотожабы, ментального контролёра из тех самых южных болот, откуда только что вернулся Бэкингем. (углеродный цикл, тип «полихордовые», класс «кожедышащие», отряд, род, вид «Гипножаба»). Это чучело было одним из первых экспонатов нашего музея. Все любили с ним фотографироваться – это сейчас был день, свободный от посещений, а так-то школьники и иностранцы фотографировались так, что от вспышек их техники рядом с гипножабой стоял мерцающий белый свет. – Да, были у стариков дела… – подумал я. – Такое, поди, не забудешь. Тогда на жаб охотились все – спецбатальоны ООН, охранявшие Периметр, войска Украины и России, вольные сталкеры и просто загадочные бандиты, которым гипножабы мешали рекетировать вольных сталкеров. Эти чудовища, почти полностью истребленные, неожиданно размножились вновь – причём в каждом болоте. Поговаривали, что это последствия каких-то экспериментов, но так всегда говорят. Началась знаменитая глобальная облава. Скептики замечали, что нужно подождать, но ждать, разумеется, никто не хотел. Я видел документальные фильмы о той облаве, когда в Зону по разведанным тропам двинулись джипы и бронетранспортёры с солдатами и грузовики со сталкерами. Под это дело объединились даже заклятые враги. Вот они подъезжали к границе болот в своих касках, облепленных отражающей фольгой, и все начинали стрелять. А на переднем плане хроники, какой-то молоденький солдатик, всё возился со своим небольшим миномётом, и никак не мог привести его в действие. Командир его беззвучно открывал рот, но хроника не доносила до меня его слов. Да что там, понятно было, что он говорит, ужас сплошной, матерился командир, но всё равно все стреляли. И вот полетели мины, и край болота заволокло густым белым дымом – это загорелся торф. Кажется, торф там до сих пор горит. Бронетранспортёры останавливались, из них лезли люди – одни в голубых касках, другие в зелёных, а третьи в касках, обмотанных серебристой фольгой. Они тоже беззвучно орали и размахивали автоматами. Они беззвучно орали, и я понимал, что они кричат всё те же матерные слова, но только теперь радостно и победно. Никакой победы не было, хотя фильмов было снято много, и даже два художественных – в Америке. Один – полная дрянь категории «С», а другой, очень известный, «Периметр». У нас его крутили в видеосалонах. Но жабы никуда не делись и нападали на зазевавшихся ещё целый месяц. А потом резко похолодало (в тот год вообще была ранняя, очень холодная осень), и жабы пропали. Часть из них замёрзла, и их чёрные трупы, покрытые утренним инеем, казались трупами убитых немецких солдат.
Другая часть вернулась в болота, по-прежнему вонявшие горелым торфом. Тут-то скептики и сказали ещё раз, что нужно было подождать, и просто на время свернуть активность в Зоне. Но кто же слушает скептиков? Скептиков никто не слушает, тем более что в ходе большой зачистки было много потерь, а признать, что жертвы были напрасны, никто никогда не хочет. Никто и никогда. А вот Маракину было всё на пользу. Я смотрел на них – вернее, на их спины. Прямую спину Маракина и сгорбленную – Бэкингема. Бэкингем несколько протрезвел и притворялся, что все отлично, как сегодняшний отличный солнечный день. Солнце и вправду било через высокие окна и стёкла витрин рассыпали блики по залам. Маракин хлопнул Бэкингема ладонью по спине и нарочито бодрым голосом воскликнул: – Ну, всё! Я зверски хочу есть, Ваня, и мы пойдем сейчас ко мне и славно пообедаем. Сегодня дочка приготовила в твою честь настоящий борщ. Пойдем, герцог, зуппе ждет нас. – Пойдем, – тихо ответил Бэкингем.
24 сентября 2011 (обратно)
Таксидермист


Всё началось с того, что Старуха Извергиль обнаружила в своём супе таракана. Непонятно, как он мог попасть в её кастрюльку, закрытую крышкой. Старуха Извергиль обвела ненавидящим взглядом всех, кто был на коммунальной кухне, и в горле её заклокотало. К горлу был приделан специальный аппарат – старухе сделали операцию, и сама она говорить не могла. Аппарат засвистел, кашлянул и выплюнул короткие слова: - Вы все умрёте. И ты, ты… Ты первый…. Но тут его хрип стих, и Старуха Извергиль, хлопнув дверью, покинула кухню Мальчик и Евгений Абрамович переглянулись. Их сосед по прозвищу Зенитчик, ничего не заметил. Он страдал жесточайшим похмельем и раскачивался на своём стуле, сжав стакан прозрачного лекарства. - Не обращай внимания, - сказал, наконец, Евгений Абрамович. – Ты же знаешь, она всегда так. Женщины в этот час ушли на работу, и дома остались только мужчины. Евгений Абрамович наслаждался прелестями библиотечного дня, Зенитчик не мог выйти из запоя, новый сосед ночью вернулся из командировки, а мальчик уже месяц продлевал себе справку в поликлинике, чтобы не ходить в школу. Но сладкий день начался с проклятия, и они молча разбрелись по комнатам.
В своей комнате Мальчик посмотрел на дождь, который лился за окном, и, вздохнув, лег на диванчик с книжкой. Но чтение не шло – он вспоминал Старуху Извергиль и её ненавидящий взгляд. Он действительно боялся смерти – было непонятно, какая она, как происходит встреча с ней, но мальчик знал наверняка, что это что-то очень стыдное и неприятное. И ещё неприятнее ему становилось от того, что, как ему казалось, глупая старуха смотрела тогда прямо на него. Однажды он видел смерть – самую настоящую, с косой. Тогда он пришёл с улицы Марата на Пески и сидел на лавочке у двери чужого дома, ожидая друзей. Настало время белых ночей, и в этот вечерний час город казался жёлтым и тревожным. Мальчик время от времени оглядывался, на низкорослые облупленные дома, но вдруг из арки вышла фигура в чёрном балахоне. Она приближалась к нему, и самое страшное, что мальчик не мог различить её лицо. Фигура была всё ближе и ближе, и коса дрожала в её руке – но он прилип к скамейке. Смерть прошла совсем рядом и исчезла. Друзья сказали, хохоча, что он принял за смерть сумасшедшую старуху из соседнего дома, которая действительно всюду ходила с гигантским посохом, но мальчик не верил им до конца. Он помнил ужасный холод, которым повеяло на него, а затем отпустило. Потом, спустя несколько лет, он рассказал эту историю Евгению Абрамовичу, и тот отнёсся к ней на удивление серьёзно. Он спросил мальчика, помнит ли он, в какую сторону была направлена коса, и какой в точности был чёрный балахон. Но прошлое ускользало, и мальчик помнил только жёлтый свет и чёрное пятно с узкой полоской сияющей стали. Тогда Евгений Абрамович повёл его к себе в комнату и разложил на столе несколько книг со старинными гравюрами. Там была смерть с косой, смерть с кинжалом, голый скелет с косой и скелет в царской короне. Мальчик так увлёкся разглядыванием этих картин, проложенных тонким и хрупким пергамином, что понемногу забыл о своём страхе. Он узнал, что всё кривое оружие - символ женщины, а прямые мечи и кинжалы – мужской символ, прочитал о Хароне и корабле мёртвых. Евгений Абрамович стоял над ним, и рассказывал о том, что смерть вовсе не так страшна и во всех преданиях связана с рождением. - Вот ты привык к тому, что вода – это жизнь, - говорил он, - а она у многих народов как раз начало смерти, и когда человека крестили, он выныривал из воды, будто из объятий смерти. Понемногу разговор перешёл на алхимию, и они вместе разглядывали чертежи странных приборов в другой книге. Сейчас хорошо было бы пойти к Евгению Абрамовичу, но тот уже собрался и вышел из дома.
Мальчик отложил книгу и задумался. Надо сходить к Чучельнику. Чучельник был его старым приятелем – и сам казался мальчику стариком. На самом деле, ему было едва за сорок, и он вечно сидел в здании Зоологического музея на соседней улице. Чучельник не любил, когда его звали таксидермистом – чучельник он был, просто чучельник. Мальчик оделся, криво обмотал вокруг шеи шарф и шагнул в гулкий подъезд под грохот уже кем-то вызванного лифта.
Чучельник курил на лестнице, в закутке, образованным широким подоконником и какими-то коробками. Курить в комнате-мастерской было нельзя, воздух там был легко горюч, и даже взрывоопасен. - Прокляла, говоришь? – он затянулся, и так забросил голову назад, что лицо его пропало – торчала только борода. - Это не беда. Знаешь анекдот? Сидит мужик дома, а к нему звонят в дверь. Он открывает, а там маленькая смерть, сантиметров десять ростом. Он на неё смотрит, а она ему и говорит: «Не дрейфь, мужик, я за канарейкой». Ха! А потом он добавил посерьезнее: - Я ведь сам, как Харон для канареек. Они все по моей части. Впрочем, что - сейчас я тебе лося покажу. Действительно, в мастерской мальчик увидел огромную голову лося. Таких голов он не видал никогда. Широкие разлапистые рога заполняли полкомнаты, они росли из головы животного, как дерево. Пока ещё безглазый, лось с удивлением смотрел на мальчика, будто спрашивая, как он тут оказался, и где остальное его тело. Всё было в том, что Чучельник часто брал левую работу – и вот сейчас какие-то охотники привезли ему свой трофей. Начальство знало об этих делах, но закрывало на них глаза – как специалист, Чучельник был гораздо дороже своей небогатой зарплаты. Мальчик потрогал рога и обратил внимание на длинный спелёнутый свёрток, лежавший в большой эмалированной ванночке под слоем резко пахнущей жидкости. Чучельник перехватил его взгляд, и резко произнёс: - А вот туда смотреть не надо. И, укрыв ванночку плёнкой, стал рассказывать о мамонтах. В Зоологический музей привезли мамонта и уже целый год складывали его скелет, крепя одну кость к другой специальной проволокой. Оказалось, что когда мамонта нашли, то у него ещё была шерсть, и доброхоты начесали Чучельнику огромный клубок мамонтовой шерсти. Теперь он хотел связать из неё свитер. Мальчик потрогал шерсть, и про себя решил, что она ничуть не лучше той самой проволоки Они говорили о том и о сём, потом Мальчик помогал Чучельнику точить на токарном станке какие-то специальные палочки-распорки, и они опомнились, только когда начало темнеть. Скоро должна была вернуться с работы бабушка, и мальчик ушёл домой.
Бабушка уже вернулась и разговаривала с Евгением Абрамовичем возле телефона в коридоре. - Он полковник. Я это точно знаю. Евгений Абрамович что-то ответил, и бабушка возразила: - Я это точно знаю, у меня нюх. Мальчик проскользнул мимо них, и забился в свой уголок с книжкой. Бабушка и сосед вошли в комнату и продолжили свой разговор. Стало ясно, что они обсуждали нового жильца. - Я некоторые вещи знаю наверняка. И многое помню, как если бы было вчера. Например, я помню похороны Кирова. Вот вас на свете не было, а я помню, как его несли к Московскому вокзалу, и весь город был чёрный, а когда его проносили по улице, то дома сгибались к нему, будто кланялись. - Да ладно вам, такая поэзия… - Какая там поэзия, с этого и начались все наши неприятности, - бабушка тоже курила, и Евгений Абрамович курил вместе с ней. - Мы надымили, у мальчика будет болеть голова, сказал он вдруг, – всё, пойдёмте на кухню. Они ушли, а мальчик ещё долго обдумывал их слова и представлял, как гнутся дома, идёт волнами мостовая, и трещат мосты. Так город прощается со своим мёртвым правителем.
Их сосед не был полковником. Ему не хватало одной звёздочки - Семён Николаевич дослужился до подполковника в одной могущественной организации, но давным-давно с ним случилось что-то, что сломало его карьеру и остановило ровный уверенный взлёт. Сейчас ему оставалось два месяца до пенсии. Он лежал в своей комнате и тоже думал о смерти. Его многие хотели убить, а многих убил он сам. Он был на войнах знаменитых и не знаменитых, но сейчас прошлые заслуги ничего не стоили. Теперь он разъехался с детьми и оказался в этой коммунальной квартире, в которой ему предстояло умереть. Но перед тем как стать настоящим пенсионером и начать процесс движения к смерти, он хотел утереть нос своим соратникам. Сейчас он вернулся с юга и привёз оттуда тонкий портфель с документами. В них не было на первый взгляд ничего необычного, но эти бумаги в его голове давно превратились в ниточки. Эти ниточки уже давно утолщались в его воображении, сплетались в сеть, и в этой сети, сами не зная того, барахтались непростые люди из разных городов. Смерти он не боялся, он боялся медленного умирания, стариковской беспомощности и запаха, который наполняет комнаты одиноких людей. Семён Николаевич поглядел в грязное окно и подумал, что неплохо бы начать приборку с него. Завтра, завтра - и покрывало сна, маленькой смерти, опустилось на него в раннее, детское ещё время.
А вот Евгений Абрамович не спал. В его дверь постучали, и сразу же, скрипнув, она отворилась. - А, здравствуй, мальчик… - Раковский поднял левую руку, забыв, что держит в ней сгоревший чайник. Получилось так, что Раковский гордо показывает маленькому соседу – посмотри, дескать, что я наделал. Он смутился и снова сказал: - А, здравствуй, - произнес Евгений Абрамович. - Что нового? - Я написал стихи, новые. - Ну-ну. А про что? - Про дачу. Вы посмотрите? - Конечно. В этот момент пришла Старуха Извергиль и дребезжащим жестяным голосом позвала Евгения Абрамовича к телефону. Мальчик подошёл к столу и увидел три стопки бумаги - две ровные, а одну растрепанную, из которой листы торчали во все стороны. На верхнем, под вписанным от руки номером было написаны две буквы «А.Л.». Под буквами было написано ещё что-то от руки, но потом густо зачёркнуто. Мальчик подумал, что Евгению Абрамовичу может не понравиться, что он читает его рукописи без спроса, и сел в кресло. Кресло окуталось облачком пыли, и Мальчик чихнул. Евгений Абрамович появился снова, пытаясь отвязаться от старухи Извергиль. Старуха снова хотела судиться с кем-то, а для этого ей было нужно, чтобы Евгений Абрамович написал ей какое-то прошение. Наконец, Старуха Извергиль была выпихнута из комнаты. - Давай твои стихи… Евгений Абрамович зашевелил губами. - Это - лучше. Это даже хорошо, и то, что это хорошо, даже настораживает. Будь аккуратнее со стихами, - сказал он. - А то получится из тебя Павло Тычина: «Трактор в поле дыр-дыр-дыр, кто за что, а я за мир». - А он жив? - Кто? - Павло Тычина. - Не знаю, это не важно. У вас в школе уже был Блок? - Угу. Перед каникулами. - Ну что тебе понравилось у Блока? - «Девушка пела в церковном хоре», - сказал мальчик. – Правда, его не было в программе. - Я тебе дам почитать одно – и Евгений Абрамович стал рыться в бумагах. Мальчик прочитал в углу листа эпиграф из какого-то Чезаре Павезе: «Смерть придёт, у неё – будут твои глаза». - Да, - невпопад подумал про себя Евгений Абрамович. – в церковном хоре… Вот можно написать целый роман о женщине, которая пела в церковном хоре, и вот человек приходил к ней, высматривая её среди певчих, а зарплата её была маленькая, и выдавал эту зарплату церковный староста, а церковный староста был нетрезв, и всё этот человек, стоящий в церкви, знал, знал и о трех детях, и о том, что в 14.00 на станции метро у эскалатора, и помочь было нечем - ни тем, ни другим, ни детям, ни ей, и вот хор длился, сочетался в этом человеке с его невесёлыми мыслями, а волосы этой женщины были разного цвета, и это возвращало его к совсем другой женщине в его воспоминаниях... Что? - Евгений Абрамович, - повторил Мальчик свой вопрос - А безответная любовь, это очень плохо? - Да как тебе сказать. А что ты называешь безответной любовью? Она всегда чуть-чуть безответная, потому что ничего нельзя до конца объяснить. Никому. Если ты любишь, тебе уже хорошо, потому что самое главное - твои чувства, а не что-то другое. Единственное страшно - смерть любимой. Когда она просто уходит, это не так страшно, потому что ты всегда будешь надеяться на возвращение. Гораздо хуже, чем просто расставанье, когда за уходом следует смерть - где-то вдалеке, задним числом, смерть, обрекающая на верность. Тебе остается не касание к телу, а жизнь в воспоминаниях. Об этом прекрасно сказано в «Жизни Арсеньева»... Знаешь, мой отец был тяжело ранен на войне, и один осколок так и остался у него в груди. Этот осколок опасно трогать, потому что он может, чуть двинувшись, попасть по артерии в сердце. И потеря любимой - как осколок в груди. Сначала он болел - вот интересно - болел, а неживой, а потом зарос. Он врос в тело, и отец перестал его чувствовать. Но время от времени, когда что-то происходило, рана начинала ныть. Тогда отец ворочался, прижимая ладонь к груди, а мать сразу бежала вызывать скорую... …Да, а имущества у неё было - вертящийся стул и антикварное немецкое фортепиано, да и те остались на её прежней квартире. - Что? - спросил Мальчик. В горле у него пересохло, и он не узнал своего голоса. - Ничего-ничего, - ответил Евгений Абрамович. - Это я так, задумался. - Ну, я пойду, - сказал Мальчик, и, не дождавшись ответа, выскользнул за дверь. Евгений Абрамович прошелся по комнате и снова посмотрел в окно. Вместо домов, составлявших двор, перед ним было знакомое, родное лицо, которое он запретил себе вспоминать. - Да, - снова сказал он себе, вспоминая, - имущества у неё было - вертящийся стул и антикварное немецкое фортепиано, да и те остались на её прежней квартире. Пожалуй, единственный плюс тут в том, что смерти я не боюсь. Но Мальчика уже не было в комнате.
На следующий день мальчик снова не пошёл в поликлинику, но школа напомнила ему о себе странным образом. В дверь позвонили (он сразу вспомнил анекдот о канарейке), но на пороге оказалась молодая женщина в чёрном. Она улыбнулась и назвала его имя. Оказалось, что она новая учительница в школе и её послали проведать ученика, болеющего уже почти месяц. Они стояли между двойными дверями, почти прижавшись друг к другу, и мальчик почувствовал, как всё плывёт у него перед глазами – он и раньше представлял себе девочек, приходящих в его дом. Это были разные одноклассницы, одна недотрога, а другая – разбитная циничная девчонка, но тут всё было другое. Чувствуя запах духов и чужого тёплого тела, он повёл женщину в свою комнату, с ужасом оглядываясь и видя вокруг беспорядок. Учительница перебирала книги на его тумбочке и хвалила за то, что мальчик много читает. Рассудительность оставила его, когда они сели рядом на диванчик, и женщина начала диктовать ему номера пропущенных им глав учебника. Внезапно в дверь не позвонили даже, а забили кулаками. На пороге стоял всклокоченный Чучельник. - Она у тебя? – выдохнул он, делая странные знаки. Мальчик с ненавистью посмотрел на него. - У меня учительница… - начал он. - Идём на кухню, скажешь ей, что сделал чай. И Чучельник сжав его локоть, поволок мальчика по коридору. - Я всю дорогу бежал, боялся, что опоздаю. Это вам не канарейки. Это… Он говорил что-то бессвязно и долго, но мальчик вырвался и побежал к себе. В комнате никого не было, только медленно выправлялась вмятина на диване. Он оглянулся в растерянности. Чучельник, меж тем, ввалился в комнату, радостно улыбаясь. Мальчику захотелось ударить его. Но Чучельнику было не до этого. - Это ведь смерть твоя приходила, а ты и не понял, дурачок. - Какая смерть? Что? - Твоя, твоя смерть. Смерть ведь к каждому приходит своя. Тебе ещё повезло, у тебя вон какая. А ко мне приходила приёмщица стеклотары с островов. Был там один пункт посуды, приёмщица там была в центнер весом, ну и… Чёрт, не о том, я – главное, успел. Я ведь её на улице увидел, как она идёт – и сразу понял, что к тебе. Балахон такой чёрный… И холод, такой холод, будто меня окунули в формалин… Мальчик слушал его молча, и понимал, что почти верит в эту историю.
Наступил третий день – всё такой же будний и пустой. На этот день Старуха Извергиль заказала женщину из одной фирмы помыть окно. Эта женщина мыла её окно уже лет двадцать. Два раза в год она приходила в её комнату и под придирчивым взглядом старухи молча мыла стёкла по старинке – досуха протирая их старыми газетами. Но сейчас оказалось, что женщина полгода как умерла, и неизвестно, какова будет новая. С работниками был дефицит, и теперь окно ей помоют в непогожий день, что удивительно неправильно. Стоп-стоп, подумала она, а назначила ли я день? Она так была удивлена новостью, которую рассказал ей равнодушный работник, что не помнила, на какой день назначила работу. Она злилась, аппарат, синтезирующий голос, хрипел, и на том конце провода всё переспрашивали по десять раз. Днём раньше, днём позже – не в этом дело. Дело в том, что привычный порядок рушился, и это больше всего раздражало старуху. Гулко тикали напольные часы, мальчик возился в своей комнате, новый сосед, насвистывая, прошёл по коридору в туалет. В середине дня он вернулся откуда-то довольный, звенел графинчиком у себя, а потом решил прибираться. Несколько раз он сходил к мусорным бакам, вынося какие-то пакеты, а потом начал вынимать из оконной рамы вбитые туда ещё в блокаду гвозди. Старуха вбирала в себя эти звуки, нервно ожидая прихода уборщицы. И тут случилось страшное, то, что не случалось с ней давным-давно. Старуха Извергиль заснула посреди дня. Нервное напряжение пересилило что-то в её организме, и она, открыв рот, захрапела, сидя на стуле. Мальчик поставил себе чайник и с завистью прислушался к посвистыванию нового соседа. Внезапно ему стало так тревожно, так тягостно, что поход в поликлинику показался ему избавлением. Он собрался и, взяв книжку потолще, убежал закрывать свою справку. Подполковник открыл окно и закурил в тусклый дневной свет.
В коридоре затенькал звонок. Никто не шёл открывать, и подполковник слез с табуретки и впустил в квартиру девушку в серой куртке. Сердце его кольнуло. Девушка была похожа на его давнюю любовь, он чуть было не обратился к ней по имени – и в последний момент удержался - разница была в сорок лет. Той женщины, должно быть, и нет сейчас на свете – только откуда взялось это движение, поправляющее чёлку, упавшую на лоб? Перед ним помахали бланком квитанции – и он махнул рукой в сторону комнаты старухи Извергиль, не переставая думать о той девушке, которая сорок лет назад билась и кричала под ним на узкой койке общежития. Подполковник знал, что к старухе придут, вернулся к себе, и плеснул воды на грязное шершавое стекло. Вдруг скрипнула дверь, и он увидел уборщицу, что тихо подошла к нему. Быстрым движением она вцепилась ему в ногу, а потом толкнула вперёд. Стукнула об пол табуретка. Подполковник ещё успел схватиться за шпингалет, но пальцы тут же выпустили его круглый шарик. И он ощутил себя в воздухе. «Как же так», - успел он подумать в недоумении. – «Как же так, всё не так, как надо».
Мальчик шёл по пустой улице и думал о своей новой учительнице. Он вспоминал её голос и запах. Теперь есть хороший стимул идти в школу. Но вдруг её там нет? Зачем она пропала так странно? А вдруг это практикантка из пединститута, и практика скоро кончится? А вдруг Чучельник прав? А вдруг всё не так? Город был промыт прошедшим дождём. Чистые окна домов сверкали на солнце.
28 января 2019 (обратно)
Слово о Гамалее

Давным-давно, на одной научной конференции, приехавший из провинции докладчик говорил у доски, перемежая свою речь следующими ремарками: – Как ещё в 1936 году показала покойная Гамалея... – Следствие из вот этого утверждения, высказанного покойной Гамалеей... – Покойная Гамалея убедительно доказала, что... Внезапно, откуда-то из президиума встал старичок и дребезжащим голоском произнёс: – Позволю сообщить уважаемому докладчику, что покойная Гамалея – это я. И хоть я и не вполне мужчина, но ещё жив... В других местах эту историю рассказывают по-другому, как заметил в конце какого-то своего рассказа Ги де Мопассан.
12 мая 2016 (обратно)
Слово о ромашке

Однажды я долго, мучительно долго ехал по железной дороге, приближаясь к родному дому. Приближение это оттягивалось, мой зелёный поезд проедал, как короед, разноцветные слои Забайкалья, Прибайкалья, Восточные и Западные Сибири. Ехал я с людьми солидными, понявшими толк в той, прошлой уже, жизни. А в той прошлой жизни, надо сказать, мы были гражданами самой читающей страны мира. В поезде с печатным словом было туго – разве пробежит по вагонам слепоглухонемой человек, разбрасывая на грязное бельё мутные фотографические календарики со Сталиным и порнографические карты. Всю дорогу домой мы искали печатного слова. Дорога была – пять дней, а когда ещё мы ехали на восток, было прочитано всё имевшееся в запасе. Скоро мы в третий раз жадно перечитывали газету «Забайкальский Комсомолец». И вот, о радость, кто-то из нас стащил из соседнего купе журнал «Здоровье». Целый день мы читали этот журнал, зная наверняка, что в его середине обязательно найдётся статья о морали и нравственности, иначе говоря, о половом воспитании. Известно так же, что такие статьи сопровождались особым нравственным снимком: например, это была полутёмная комната, где лежала, отвернувшись к стене, девушка, а рядом её с ней, комкая в руке платочек, плакала её мать. Добросовестно прочитав статьи о геморрое и плоскостопии, будто объедая края булочки с повидлом, мы приступили к главному. То есть, к тем описаниям, что были похожи на аннотацию к книге «Здоровый секс: «В данной книге в яркой и увлекательной форме изложены вопросы сексуальной жизни, половых извращений и венерических заболеваний» Но в нашем журнале мы обнаружили странный сюжет. Школьница обратилась к гинекологу за направлением на аборт. Когда же врач спросила её об отце, она, улыбнувшись, сказала: «Не знаю, мы играли в «ромашку»». Дальше говорилось только о том, что если заниматься спортом и активной комсомольской работой, то подобного конфуза никогда не выйдет. Мои спутники подняли головы и переглянулись, а один молодой человек предусмотрительно сбежал в туалет. Старики как-то странно натопорщились на меня и произнесли замогильно: – Ну-у-у?.. Тщетно я пытался убедить их в своей неинформированности. Оправдания лишь усугубляли моё положение. Старшие мои товарищи, среди которых был и железнодорожный генерал, всю оставшуюся дорогу гадали о сути этой фантастической игры. Отправными пунктами были наличие процесса, внешний вид цветка ромашки и мысль о том, что девочка проиграла. Догадки я не рисковал пересказывать даже в мужских компаниях. Через неделю я обнаружил себя в пончиковой близ метро «Университет», рядом со своим познавшим жизнь товарищем. Познал он жизнь в разных её проявлениях, и я, как бы невзначай толкнув его локтем, спросил о тайной игре. Он произнёс, вытягивая слова, как макароны из тарелки: – Не знаю, это, кажется, когда все собираются и пробуют, у кого лучше получится... Ну, кто кричит громче, что ли... Я понял, что мой собеседник некомпетентен. Впрочем, и другие мои знакомые ничего не могли сказать. Делились они на три категории: недоумённо вопрошающих, а что, дескать, это не тогда, когда отрывают лепесточки, любит-не-любит, и всё такое прочее? – с ними я просто не разговаривал, людей, не имеющих чёткого представления об этом важном вопросе, таких же, как мой пончиковый знакомец, и третьих... Третьи были хуже всех, в ответ они наклоняли голову, снизу заглядывали в глаза, и, произнеся в ответ долгое «аа-а-ааа», уходили. Надо было искать игрока. Но игрока не было. Перед новым отъездом я случайно зашел в гости к однокласснице. Она, разливая чай, на мой осторожный и вкрадчивый вопрос искренне удивилась: – А я думала, что ты знаешь, отчего Ирочка у нас из восьмого вылетела! И она, окончившая тогда строительный институт, разъяснила мне суть дела, употребив всю прелесть производственного жаргона. – Представь себе, – сказала она, – ромашка состоит из двух частей. Это статор, часть неподвижная, и ротор, движущаяся часть. На полу, ногами к центру (или же наоборот), располагают круг условно неподвижных девушек, а сверху находится круг, состоящий из молодых людей. Системы соосны, и вот, ротор начинает движение... Но даже и она не смогла объяснить мне игровой элемент этого занятия. Лишь время спустя, один умудрённый жизнью человек сказал мне: – Видите ли, когда число участниц переваливает за восемь, замкнуть круг представляет известную трудность, а сломавшиеся оплачивают такси.
1985
12 мая 2016 (обратно)
Мачо-путешественник
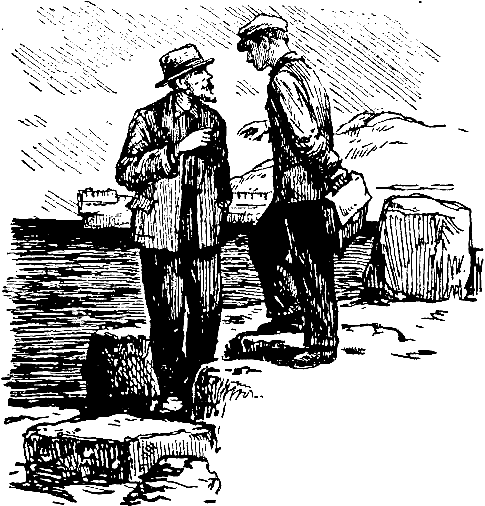
I
Меня очень занимала передача «Искатели», что я видел в телевизоре. Это такая специальная передача, где собаки лают, и руины, понимаешь, говорят. Давно известно, что и по каналу «Культура» теперь можно услышать каких-нибудь уфологов и узнать про тайны воды – ну так последние времена настают, чего ж стесняться. Но пока мир не кончился, мне хотелось бы записать про сам стиль этой передачи – тамведь как: есть какое-нибудь примечательное место, про которое ходят слухи, что там – сокровище. Ну, или там болото целебное. Или фашисты ворованный иконостас святой матроны замуровали. И вот туда приезжают суровые ребята из Москвы на хорошем джипе (Джип этот много раз показывают – как он едет по каким-нибудь окрестностям таинственного места). Потом ведущий становится в кадре в полный рост и рассказывает о том, что тут – Тайна. - Мы обратились к местному краеведу… В этот момент подручные вытаскивают из кустов краеведа, держа его с двух сторон и тихо суя кулаками ему поддых. Но краевед и так-то не в себе, головку не держит, и видно уже обмочился. - Ведь здесь у вас – Тайна? – спрашивает ведущий. - Тайна… - шелестит краевед. - Попробуем в неё проникнуть! – угрюмо говорит суровый ведущий, и все лезут в канализационный колодец, который, по счастью оказывается всё в тех же кустах. Начинается съёмка дрожащей камерой и прочий фон Триер. - Стена! – удовлетворённо говорит ведущий. – Кирпичная! Не пройти. Но, наверняка за ней что-то есть! Они сверлят стену дрелью, но та не поддаётся. Приходят канализационные рабочие и всем дают пизды. Ведущий, отряхиваясь, радостно говорит: - Нам помешали спецслужбы. Мы, конечно, не может говорить ничего определённого, но ведь никто не доказал, что никакой Тайны тут нет. Может, она тут была. А? Может, была?! Это мне напоминает фильмы из серии «Люди Х» про разнообразных мутантов, два из которых я посмотрел сегодня ночью - там, казалось бы, всё должно разрешиться в финале, как вдруг - бац! - и все оказываются на исходных, можно новую серию снимать. Грамотный крысолов, как известно, всегда оставляет одну самку в амбаре Мне эта передача очень нравится: во-первых, я неравнодушен к её ведущему, во-вторых, она про таинственное, а я был фантастом, когда в этом ещё было не стыдно признаваться (тм). В-третьих, мне очень нравится, что в этих передачах есть непоколебимая логика высказываний. Например, приезжай к любому городскому начальнику и спроси его «Правда ли у вас тут есть Таинственные Места, годные для туризма?» Редкий мэр скажет: «Нет нихуя у нас никаких мест, только жопа одна и в канализации каких-то мудаков отпиздили». Он говорит: «Мы, конечно, не будем утверждать, но именно в нашем утёсе Стенька Разин закопал княжну. А в Волге он её он утопил потом, когда она ему снова надоела». Про краеведа и говорить нечего. Кто видал краеведа, что падёт перед туристами на колени и заплачет: «Не томите меня, не мучайте! Нету ничего! Ни Янтарной комнаты, ни летающей тарелки! Давайте лучше палку-копалку смотреть в нашем школьном музее!» Ну и научные эксперты тоже молодцы. Они говорят: «Мы, конечно, не будем утверждать, что библиотека Ивана Грозного закопана в Сочи, но мы посмотрели летописи, и там нет ни слова против». И люди, делающие эту передачу, очень упорные. Кстати, есть аналог этой передачи, только исторический - там в колодцы меньше лазают, другой ведущий (но такой же суровый), на джипе ездят не по сельской местности, а по Санкт-Петербургу, и ведущий стоит на фоне Михайловского замка, аи в конце говорит: «Можем ли мы утверждать, что Павла I убили по заказу английских спецслужб? И да, и нет!» Ведь нормальный человек – что? Он, столкнувшись с непонятным явлением, почешет затылок и произнесёт «Ну, охуеть теперь». И тему закроет. А вот человек неравнодушный он и на митинг за Алёшеньку выйдет, но не за того, а за этого, который инопланетянин и жил у русской бабушки, а потом помер от огорчения, а его менты с врачами забрали и похоронить даже по-человечески не дали. Вечная память Алёшеньке!II
И я уже рассказывал о передаче «Искатели» - так вот ведёт её настоящий путешественник. Надо сказать, что мне очень нравится Андрей И, который эту передачу ведёт – это такой брутальный мужчина, я его видел очень давно, и тогда он рассказывал, что шрамирован шаманами. Меня это тогда восхитило, хоть он майку не задирал и результатов не показывал. Вообще он в ту пору занимался художественным кино и рассказывал, что вот хочет снять фильм с настоящим убийством, и вот может себе это позволить. Его спрашивали, не боится ли он ментов, а он многозначительно говорил, что знает, что говорит. И казалось, что у него припасён не просто специально милицейский человек, а какой-то шаман, который дунет-плюнет, и все менты разведут руками: «Да ну, на хуй это дело! Что, у нас без него жмуров мало, что ли?!» В 1993 Андрей И году снял фильм «Конструктор красного цвета», а потом, в 1996-м снял ещё «Научную секцию пилотов» - я её смотрел, потому что он был про метро, а метрополитен меня всегда интересовал. С «Конструктором», вообще говоря, произошла очень интересная история - тогда общественность была ещё непривычна к передачам в телевизоре типа «Тайный глаз» и «От нас скрывали». Собственно, а самом «Конструкторе красного цвета» ничего кроме заунывного монтажа старой медицинской хроники, не было. Но зритель тогда ещё не привык, что ему на экране могут показать настоящий труп, из которого по трубочке вытекает кровь. Ну и скрипучий закадровый голос, имитировавший серьёзность - это как-то будоражило умы. Медикам, конечно, это было скучно, а честного обывателя заводило. Это не испанская новация резать бритвой глаз в кадре, но всё же механизм был схожий - внимание через отвращение. Но дело не в этом. Когда шпионская женщина Анна Чапмен, вернувшись с холодка, стала вести какую-то передачу о тайном паранормальном, я было удивился. Было какое-то разочарование, вроде от биографии советских разведчиков, когда я обнаруживал, что человек, скрывавшийся от гестаповцев на явках в Брюсселе и Париже, стал простым школьным учителем, а потом помирает на крошечной пенсии. Но потом я понял, что паранормальное и тайны ГМО куда круче всего ПГУ КГБ. Можно сказать, что тайны воды кроют империалистический заговор, как бык овцу. Медиа не четвертая власть, а вторая реальность. Многие знают, что в ток-шоу и псевдодокументальных фильмах о непознанных явлениях роль очевидцев играют актёры. Однако есть целый корпус экспертов, что кочуют из передачи в передачу, сделав это профессией. О тайнах подземелий рассказывает диггер Михайлов, несколько членов организации «Космопоиск» говорят об аномальных зонах, про инопланетян вещают космонавт Гречко и лётчик Марина Попович, генерал (и доктор исторических наук) Ивашов рассказывает о геополитических катаклизмах, сверхоружии и заговорах. Ну и тому подобное. Я не спорю, что там актёры точно есть – но недорогих актёров куда больше в передачах «А вот Марья Ивановна сообщила нам, что её изнасиловал барабашка, и сказал, что придёт ещё. Мы едем на фургоне к Марье Иванове, вооруженные скрытыми телекамерами и сопровождаемые потомственным экстрасенсом Пелагеей». А вот в фундаментальных передачах, наряду с актёрами, есть реальные директора Институтов системного криптоанализа. Директорам это в кассу, помогает продвижению на рынке, да и любому институт зарегистрировать раз плюнуть. Не закон Ома, что и говорить. И с «Конструктором красного цвета» история как раз в том, что он предвосхитил все эти многочисленные фильмы о тайнах советских лабораторий и прочих «от нас скрывали». Конечно, за год до «Конструктора» сняли «Два капитана 2» - но там-то был Гребенщиков, Курёхин и Дебижев, одновременно существовали всякие некрореалисты-романтики, о которых помнят сейчас только киноведы, а тут чистое «от нас скрывали». Это сейчас-то только включи Рен-ТВ, так тебе покажут, как советский профессор из обезьян людей делал, а в секретных лабораториях познали тайны Катода и Анода. А тогда «Конструктор красного цвета» прозвучал, его много обсуждали и даже спорили о магических свойствах крови и попытках вывести свехлюдей. Правда, в этом фильме была реализована известная позиция «Лучший физик среди бардов, лучший бард среди физиков», которая позволяет ловко отбрехиваться от упрёков, отчего не защитил диссертацию и почему не попадаешь в ноты - то есть, есть возможность маневрировать для выставления итоговой оценки. «Конструктор красного цвета», будто живой, когда получал плюх за режиссуру, то притворялся документальным, а когда получал плюх за историзм, то переводился в позицию «художественное кино»*. Ныне этот путешественник что-то делает в республике Саха, организовал там креативное агентство, делал какие-то сериалы, но это не очень мне интересно.III
Сейчас, говорят, у него появился младший брат Тимофей Баженов. Но я сперва скажу, что я всегда завидовал путешественникам. Я сам ходил в походы учился разжигать костёр с одной спички. А потом с одной зажигалки. Только теперь многие путешественники стали профессионалами, то есть, путешественниками с телекамерой. Это вам не какой-нибудь Фёдор Конюхов, который отвязывает верёвку своей лодки и исчезает в тумане, а появляется спустя год, поседевший и с выдранной наполовину бородой. Что случилось, сказать не может, но одним видом внушает уважение. Теперь путешественник без профессиональной видеокамеры немыслим. Первым был Сенкевич. Одна из моих любимых примерных историй (тех, что рассказывают для примера), про то, как Сенкевич (Царство ему небесное), ведёт передачу «Клубкин и его путешествия». Вот он улыбается в камеру и переносится на какие-то острова в Тихом океане, где пальмы и песок. Крутит головой, принюхивается, и говорит: - Вот, дорогие телезрители, мы и практически в раю. Тепло, светло... Вокруг – голубой безмятежный океан… Только пахнет что-то странно... Какой-то удивительно, странный неприятный запах. Впрочем, мы сейчас спросим о причине этого запаха кого-нибудь из местных жителей. Он ловит за набедренную повязку какого-то туземца и спрашивает его, отчего тут так воняет. - О, - отвечает туземец. - Это давняя и трагическая история. Много лет назад на нашем острове жили юноша и девушка. Они полюбили друг друга, но принадлежали к двум семьям, что находились в смертельной ссоре. Им невозможно было соединиться, и поэтому они, однажды на закате взялись за руки и ступили в воды голубой лагуны. И вот вода сомкнулась у них над головами, и с тех пор их никто больше не видел. - Эээ-э, - говорит Сенкевич. - Понятно. Круто. Но пахнет-то отчего так? - Пахнет? А, пахнет… Да насрал кто-то. Все современные телевизионные путешественники выросли из этого нехитрого анекдота. Но я сбился, я хотел рассказать о путешественниках, а, на самом деле о – мачо-путешественниках. Потому что раньше всегда путешественников было двое – какой-то бестолковый Паганель, и суровый Мак-Наббс, а теперь решили совместить. Это повелось ещё с кинематографа – археологи там умеют стрелять с двух рук, биологи справно бегают от крышам от ФБР, а какой-нибудь математик лихо дерётся ногами. Это и понятно – всякий зритель хочет отождествить себя с главным героем, а кто хочет быть отдельным Паганелем? Закон рынка. Так вот, есть, конечно, герои выдуманные, а есть настоящие. С этим Баженовым тоже интересная история* – он специализируется не на говорящих руинах, а на зверях и выживании. Мне это казалось логичной связкой, но, оказалось, что это разные передачи – зверей он не ест, а снимает про них отдельно. Я сперва дивился этим удивительным зверям, да только потом мои приятели-биологи поставили на вид: - Ты, Вова, охуел, что ли? – говорят. – Он же зверей мучает, они у него обколотые в кадре, вот и смирные, он там осень с зимой путает, кролика с зайцем, а луня с луной. Но мне-то нравились другие его передачи – про выживание, где Тимофей просыпался в какой-то яме в лесу и никак не мог понять, как он там очутился. Это для русского человека нормальное такое положение – и даже не поутру, а вообще в жизни. Дальнейшее напоминало известные советы «Как себя вести, если вы обнаружили, что вас заживо похоронили в гробу» и прочее тарантино. Я об этом рассуждаю с понятным чувством зависти – меня похорони в гробу, так я постараюсь заснуть. Уснуть и видеть сны. Я рыпаться не буду. Нечего тут. Не надо всей этой суеты. Кстати, этот Баженов тоже весь в татуировках, про шрамы я не знаю, а вот расписной он по самое не балуйся, и это я наблюдаю, когда он из своих ям и болот вылезает в очевидном неглиже. Это я живо представляю: вот мужик из последних сил из гроба лезет, рядом оператор, свет выставлен, баба красивая с термосом стоит, водитель в джипе скучает, друзья на капот оперлись и пивко пьют. Героический человек.IV
Но я-то всё мачо. Тема мачо-путешественника («всё-то мой хозяин знает, всюду-то он побывал») довольно давняя тема. Они, как и было сказано, из кинематографа, а ещё ранее из комиксов и серийных романов. Вот ещё мысль о телевизионных путешественниках. Я снова увидел в телевизоре того самого усатого мужика, что когда-то ездил по всему миру и всем мешал. Начнут какие-то голые грязные люди крокодила ловить – он тут как тут. И сразу - крокодила за хвост дёргать, голых людей отпихивать. То, что крокодил уплыл восвояси, обычно не показывают. Или соберётся какой-нибудь вполне одетый индус сделать себе соломенную циновку, как прибежит этот усатый мужик, всю соломку разбросает, что не разбросает, то помнёт, да и убежит восвояси. Говорили, что он был в больших чинах, и когда его отпускали на волю, то спросили, чего он, мол, хочет? Тот изъявил желание – и вот пустился в странствия по свету. Это довольно странный мужик, потому как его живучесть была удивительна. Я-то думал, что аборигены какой-нибудь страны давно навалились на него и прекратили это безобразие. Но нет, он ещё жив – только пообтесался немного. Приехал к сирийцам и ну запускать свои волосатые лапы в ресторанный фарш. Потом лапы вымыл, сел за стол. Правда, как он это всё ел, да и ел ли – не ясно. Опять не показали. Я, впрочем, подозреваю, что он сидит в студии, а к нему время от времени подвозят разных людей из Третьего мира, нанятых за восемь долларов. Их подвозят, вот они уже, потрясая копьями, приплясывают на фоне задника в студии, а мимо на верёвочке протаскиваются два пластмассовых крокодила. Усатый мужик суетится, прыгает, дёргает пластмассовые хвосты, а потом прощается до следующей недели. С другой стороны, если расскажут, что усатый мужик каждый раз нанимает двойников, я не удивлюсь. То есть, отчаявшихся и разуверившихся в жизни граждан гримируют, наклеивают усы и отправляют к голым людям. Они в течение пятнадцати минут мешают им ловить крокодила, а в начале шестнадцатой минуты их протыкают копьём. Потом гримируют нового и успевают снять ещё четверть часа – пока озверевший индус не затопчет его священной коровой. Но это не важно – есть ли этот усатый дурак на самом деле, нет ли его – не наше дело. Интересно другое – раньше, по определению одного кинематографического персонажа, наука была средством удовлетворения своего любопытства за государственный счёт. Теперь же этим средством стала журналистика. Хочешь на крокодила посмотреть – езжай снимать про него репортаж. Понятно, что просто снять тебе его не дадут – нужно прыгать, кривляться, говорить всякие глупости. Если сумеешь увернуться от справедливого гнева – хорошо, нет – уступи место другому. Потому как если не кривляться, не мешать никому – удовлетворяй своё любопытство за собственный счёт. Или дома сиди – смотри в телевизоре, как индус солому плетёт. Торопится. Знает, что сейчас усатый мужик прибежит. Впрочем, кажется, он куда-то пропал. Тревожился. Но нет, он уже снял что-то новое. Меня, правда, пристыдили, говоря, что усатый мужик – лучший наш репортёр. Во-первых, это суждение чрезвычайно интересное. Вдруг все остальные репортеры ещё хуже? Во-вторых, неразъяснённым остался жанровый вопрос. Репортер, как я понимаю, делает репортажи. Репортажи ли я с крокодилом и циновками наблюдал? Кажется, нет. Возможно, он делал прекрасные репортажи в Афганистане, за что справедливо награждён орденом Красной Звезды. Но я этих репортажей не видел, может, они навеки и лучшие. Нет-нет, я настаиваю, что то, что я видел - не репортажи, это совсем другая жанровая специализация. Первый раз столкнулся с этим персонажем, столкнулся - как потребитель новостей, в тот момент, когда он приехал к Пиночету и с какого-то перепугу пожал ему руку и стал извиняться за написанное о нём «под влиянием коммунистической пропаганды». Оправдываясь потом, он наговорил ещё некоторое количество глупостей, да не в этом дело. Это было решительное безобразие, и его справедливо обложили хуями с разных сторон - дело не в том, любить ли Пиночета или ненавидеть. Дело было в том, что это было больше, чем преступление - это потеря вкуса. Так и с этими путешествиями - у меня к ним были претензии не политические или финансовые, а стилистические, как у Синявского к Советской власти. Там везде потеря вкуса и меры, вот в чем беда. Суетливость и дураковатость. Тем более, что это именно не репортаж - там нет актуальных событий: циновки плетут на этом месте много веков, много веков ловят крокодила, горные вершины, которые он снимает, спят во мгле ночной миллион лет. Или вот Крузенштерн - человек и пароход. Он давно плавал и уже умер - никуда не убежит. Репортаж о Крузенштерне довольно бессмысленен, в отличие от познавательного, или как раньше говорили, научно-популярного фильма. К этому отношусь с пониманием. При этом усатый мужик породил какое-то безумное количество клонов, что перемещаются по планете. Они жутко бодрые, жутко говорливые и все время пытаются острить. И во мне борются два чувства - одно - реальное уважение к людям, что научились зарабатывать на собственном туризме, а другое - восторженного недоумения от того, как можно истоптать жанр путевого очерка до полного неуважения зрителя к оному.12 февраля 2020 (обратно)
Ясная поляна
История про Ясную поляну
Я жил в Ясной поляне. Видел там настоящих писателей. Писатели были народ суровый, и сурово бичевали пороки общества и недогляд литературы. Из-за двери было слышно: «Он барахтался всю жизнь в своих выделениях, доказывая, что за Тропиком Рака может идти только Тропик Козерога». Я погулял несколько по окрестностям, и за время моего отсутствия среди писателей возник ливанский профессор. Ливанец был православный (как и, впрочем, многие арабы в Ливане) — это я знал и раньше. Ливанец медленно и внушительно говорил о том, что учит своих студентов отношению к смерти исходя из бессмертного текста «Смерти Ивана Ильича». Закончил он правда тем, что Россия для настоящих Ливанцев есть цитадель Истинной веры, и в этот момент я пожалел, что Екатерина не приняла когда-то ливанцев в подданство. Но это ещё не все истории про Ясную поляну.11 сентября 2003 (обратно)
История про Ясную поляну — ещё одна
Во всяком русском местности есть что-то, куда ходят женихи и невесты после того, как их союз признан Богом или людьми. То они идут к мятущемуся Вечному огню, то ломятся на какую-нибудь смотровую площадку. Тульские жители, свершив обряд брака едут в Ясную поляну. Рядом с музеем-заповедником протекает река Воронка — про неё я ещё расскажу. Так вот, обычно через реку Воронку женихи носили невест. Носили, правда, по мосту. Река символизировала жизнь, понятное дело, жизнь прожить, не через Воронку пронести, но всё же. При этом женихи были изрядно выпившие.Невесты, впрочем, тоже. Одна из них тревожилась по понятной причине и громко орала шатающемуся жениху в ухо: — Ты, бля, смотри, не ёбнись, смотри… А жених сопел ей в ответ: — Не боись, сука, не боись. Не ёбнемся… Это была идеальная пара. Да.
12 сентября 2003 (обратно)
История про Ясную Поляну
Курский вокзал был полон хмурыми отпускниками. Электричка медленно подошла к перрону — на удивление, она оказалась набитой людьми, и они успели занять в ней все места, столпиться в проходах, уставить багажные полки сумками и корзинами. Поезд шёл медленно, иногда останавливаясь на полчаса посреди волнующихся на ветру кустов. Наконец, за Ясногорском я увидел причину — на откосе валялись колёсные пары и, отдельно — вагоны. Вагоны были товарные, грязные, с остатками цемента внутри. Пассажиры сбежались на одну сторону — глядеть на изломанные шпалы и витые рельсы. Сбежались так, что я испугался, как бы электричка не составила компанию товарняку. Наконец, я приехал в Тулу. Небо вдруг насупилось, и внезапно пролился такой дождь, что казалось, будто там, наверху, кто-то вышиб донышко огромного ведра. На секунду я задохнулся — в дожде не было просветов для воздуха. Очень хотелось прямо на глазах у прохожих, несомненно творцов автоматического оружия, стянуть с себя штаны и отжать их как половую тряпку. Носки, в два фильтра перекачивали воду туда и обратно. Хлюпая обувью, на поверхности которой сразу появились пузыри, я добрался до автостанции. Дали мне посидеть на переднем сиденье, откуда — по ветровому стеклу — было сразу видно, как прекращается дождь, подсыхают на ветру его капли, и вот он снова начинается.Я разглядываю дождь и размышляю. Вот, можно ещё придумать себе спутницу. Пусть это будет небедная интеллигентная женщина. Пускай так же, она довезёт меня до Ясной Поляны на собственной машине. Тут я хотел сказать: «на собственном «Мерседесе», но понял, что это название одиозно. Итак, машина едет по России, стучат дворники, а мы разговариваем о русской литературе. — Всё же Толстой был странным писателем, — говорю я, пытаясь стряхнуть пепел с сигареты в узкую щель над стеклом. — Вот Гоголь был правильный русский писатель. Другие писатели как-то неумело симулировали своё сумасшествие. А Гоголь был настоящий. В отличие от эпатажника с девиантным поведением Толстого, Достоевский со своей дурацкой эпилепсией. Гоголь был честным, абсолютно ёбнутым на голову. А Толстой переписывает романы, покрывая листы своим неудобоваримым почерком, затем делает вставки, потом записывает что-то поперёк строчек. Методом последовательных итераций (я говорю это моей спутнице кокетливо, как человек, осенённый естественным образованием), методом последовательных итераций он приходил к тому, что часто отличалось от первоначального замысла. Однажды посчитал, кстати, «Войну и мир» и «Анну Каренину» вещами зряшными, нестоящими. Дама в этот момент лихо обгоняет чьи-то старенькие «Жигули». Тут я задумываюсь. Что, если читатель (или, не дай Бог, моя спутница) решат, что я просто пошляк, который издевается над великим писателем земли русской?! Мне эта мысль отчего-то неприятна. Очень хочется убедить читателя в обратном — о моей гипотетической спутнице в этом ключе я боюсь и думать. Тогда я продолжаю: — Что я люблю у Толстого, так это несобственную авторскую речь, нет, не ту, которая становится явной, когда собирается в главы, вызывая стон у школьниц, а междометие, комментарий к фразе главного героя. Вот скажем такой пассаж: «Эффект, производимый речами княгини Мягкой, всегда был одинаков, и секрет производимого ей эффекта состоял в том, что она говорила хотя и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки. Княгиня Мягкая не могла понять, отчего это так действовало, но знала, что это так действовало, и пользовалась этим». Ну, каково?!..
Однако, когда я спрыгнул на обочину, небо успокоилось, внезапно сдёрнув с себя тучи как купальный халат. Дорога свалилась с холма и выбежала к гнезду экскурсионных автобусов. Могила Толстого похожа на компостную кучу. Она находится в глубине леса. Все гуляющие к ней (а к этой могиле не ходят, а именно гуляют), говорят о материальном положении семьи графа. О чём-же ещё им говорить? Когда я подошёл к могиле, то внезапно оказался в темноте. Это была храмовая темнота. Вершины деревьев сомкнулись у меня над головой. В храме царили неясные потусторонние звуки. Солнечные лучи играли на листьях, ещё державших на спинах капельки воды. Капли скатывались, падали вниз, в лесу происходило шуршание и шелест. Лес высыхал. Пробираясь по тропинке, я думал о том, как мне хорошо и был убеждён, что в этот момент хорошо всем.
В далёкой кавказской деревне, невидимой с яснополянских холмов, в тот час текла река. Текла… В маленькой горной деревне текла… В маленькой горной деревне была река. Деревня, собственно, стояла на одном берегу, а на другом, где располагался чудесный луг, каждый день кто-нибудь — приезжие или местные жители — делал шашлык. Место было довольно живописное, и над лугом постоянно витал запах подрумянившейся баранины. Кости, правда, бросались тут же, и к аппетитному запаху часто примешивался иной, не слишком приятный. Не знаю, не знаю, причём тут Лев Николаевич Толстой, но мне отчего-то было дорого это воспоминание, и я решил записать его. Хотя бы сюда. Нет, всё-таки определённая связь есть. Например, сейчас я буду есть малину. Для этого я специально прихватил из московского буфета металлическую ложечку, флягу с водой, чтобы эту малину запивать, и, возможно, буду теперь также счастлив, как и мои далёкие друзья на своём Кавказе. Друзья мои, потомки мирных народов, будут готовить шашлык на горном лугу, покрытом проплешинами от прежних костров. К ним, наверное, сегодня приехали гости из Москвы, кавказские пленники кавказского радушия, красивые мужчины и женщины. Одна из них, сидя в раскладном полотняном кресле около машины, слушает шум реки. Её тонкие ноздри вздрагивают, когда ветерок доносит до кресла запах свежей крови, жареного мяса и дыма… Это мирный запах мирного дыма, это запах бараньей крови. Все хорошо. Но всё же, я доел малину, медленно доставая её ложечкой из молочного пакета, закопал его и снова двинулся по тропинке. Вот поворот налево, вот — направо, просвет в деревьях…
Неожиданно заблудившись, я иду по полевой дороге. Вокруг холмы, река вдали. Матерый человечище бегал туда купаться. Сейчас я представил себе, как из-за пригорка, навстречу мне появляется старичок-лесовичок, ты-кто-дед-Пихто на лошадке, резво поддающей его по тощему задику. Пригляделся — ба! Да это ведь Зеркало Русской Революции!
Я, приезжая в Ясную поляну, дружил с одним харизматиком. Харизматиком был писатель-геопоэтик и художник-географик Балдин. Однажды, сидя за дармовым столом, мы уставились в миску, что лежала на столе перед нами. Миска была в форме рыбы. Ближе к хвосту лежало полдюжины маслин. — Это икра, — угрюмо сказал Балдин. Он делал открытие за открытием. Река Воронка была действительно воронкой. Однажды мы с Балдиным отправились гулять. Окрестные пейзаны с дивлением смотрели на странную пару — высокого его и толстого и низенького меня. Балдин был в чёрном, а я — в белом. Перебираясь через ручей, я разулся, и после этого шёл по толстовской земле босиком. Копатели картошки, когда мы проходили мимо них, ломали шапки и говорили? — Ишь, баре всё из города едут… Из этой Воронки, по словам Балдина, вдруг начинала сочиться бурая мгла. На конце ночи, в зябкий предрассветный час, она всасывалась обратно и исчезала в районе мостика. Как-то я рассказал Балдину про известный шар, вписанный в другой шар. — Причём, по условиям задачи, — сказал я, — диаметр внутреннего шара — больший. Балдина это не смутило абсолютно. — Это, — ответил он, — взрыв шара. Ещё меня чрезвычайно раздражало, что Балдин пользовался успехом у женщин. только я начну распускать хвост и рассказывать всяко разные байки сотрудницам, но как придёт Балдин — все головы повернутся к нему.
…Я возвращаюсь мыслями к моей гипотетической спутнице. Вот мы идём вместе, вокруг холмы, река вдали. Лев Николаич Толстой, однако, бегал сюда купаться. Я произношу: — Один из интереснейших жанров — игра со словом в поддавки. Известно, что однажды на охоте Толстой забыл оттоптать вокруг себя снег, и медведица, поднятая из берлоги, обхватила промахнувшегося и увязшего в снегу писателя, начав грызть ему лоб. Он не мог молчать и орал, что есть мочи. Толстого спасли, но шрам остался на всю жизнь. Так вот рассказ: «Однажды Лев Николаевич Толстой (тут можно напомнить про его любовь к детям), отправился на охоту. Внезапно ему в голову пришла мысль о переходе в иудаизм. Забыв очистить себе пространство для свободы маневра, как советовали ему мужики, он не оттоптал снег, а так и стал перед берлогой, размышляя. Промахнувшись с первого раза по поднятой медведице, Толстой увяз в снегу и попал к ней в лапы. Она обхватила великого писателя земли русской и со злобы начала грызть ему лысый лоб. Внезапно зверь вгляделся в своего противника внимательнее, и что же он увидел? Зеркало! Это и спасло Льва Николаевича. Медведица, увидев страшную морду, злобный оскал и собственные длинные когти, поспешила убраться восвояси».
Итак, мы с очаровательной дамой гуляем по полям и, наконец, находим ясную полянку. Трава на ней скошена, но достаточно давно, так что она не колет ноги. Мы снимаем обувь, я стелю на поляне плед, вынутый из сумки. В какой-то момент моя спутница кладёт мне ладонь на грудь, расстегнув предварительно рубашку. Рот её полуоткрыт, и налитые чувственные губы особенно прекрасны в этот момент. Вскоре мы путаемся в застежках, она, наконец, откидывает голову себе на локоть… Мы занимаемся любовью прямо под клёкот трактора, вынырнувшего из-за пригорка. Тракторист приветливо машет нам.
Нет, так не годится… Куда же идти? Заблудившись, я начал тупо глядеть на солнце. «Оно сейчас на западе», — размышлял я, «оно на западе, а мне надо… Куда же мне надо? На север? Или…». Я вслушивался в шумы. Нет, это не шоссе. Кажется, это вертолёт. И вот, махнув рукой, я зашагал куда глаза глядят. Глядели они туда, куда нужно, и вскоре показались зелёные указатели с загадочной надписью: «к любимой скамейке». Такие надписи в мемориальных парках всегда приводили меня в трепет. В Михайловском, например, они сделаны на мраморных кладбищенских плитах, и, прогуливаясь поздним вечером, я часто испуганно вздрагивал: что это там, у развилки? Ближе становился различим белеющий в темноте квадрат и кляксы стихов на нём. Несмотря на величие пушкинского слова, хотелось убежать от проклятого места.
Тут я даже побежал. Почему-то на бегу я опять вообразил себе несущегося по лесу Льва Николаевича. Нет, лучше Салтыкова-Щедрина, которого мои школьные приятели называли просто — Щедрищин. Да, воображаю себе, как он, бывший генерал-губернатор, махая лопатистой бородой, кричит: — Воруют, все воруют! Что же сделали с моей страной? И поделом. Нефига губернатором служить. Сиди и не высовывайся, а коли капнут на лапу, так молчи. Тогда-то уж чего высовываться!? В уме я сопоставляю публицистику Толстого и Щедрина и никак не могу понять, что получается в результате. Щедрин — тут всё понятно, а Толстой… Я думаю о Толстом — всё же я приехал в Ясную Поляну, а не в какую-то заштатную Карабиху или Спас-Клепики. Зачем ему все эти утренние забавы помещика? Зачем весь этот босоногий пахотный идиотизм? Зачем неприличное писателю возмущение общественными нравами? Я, кстати, заметил, что как только писатель начинает кого-нибудь обличать, а, хуже того, изъявляет желание пахать землю или встать к какому-то загадочному станку, его литературный путь заканчивается. Хотя нет… Тут я в испуге остановился. А вдруг, этот помещик, юродствующий во Христе, оказался прав? Вдруг? И, между прочим, я давно замечал за собой желание опроститься, очиститься для лучшей жизни…
Тут выныривает откуда-то из-за куста моя эфемерная знакомая. Фу, не буду я на неё смотреть, не буду смотреть на её тонкие музыкальные пальцы с аккуратными ногтями, на её французскую кофточку, на стройные лодыжки. — Хрен тебе! — говорю я ей. — А ты займись мозольным трудом, вложи в руку электродоильник! Что!? Лик моей спутницы растворяется в заповедной растительности.
Скоро за деревьями показались белые строения. Первым делом я обошёл музей. Было пустынно. Рядом, отделенное металлической сеткой, стояло освежёванное сухое дерево. В нём неестественным образом торчал Колокол Нищих. Некогда нищие приходили и брякали в этот колокол. Из дома появлялся некто и давал нищим нечто. Или ничего? Огромная глыбища этого дерева стоит у дома матерого человечища. Дерево росло и всасывало в себя колокол. Теперь он торчит почти горизонтально. Ещё у колокола нет языка. Как нынче ведут себя нищие, мне неизвестно.
По парку ездил на жёлто-синем мотоцикле милиционер и проверял поведение посетителей. Но посетителей уже не было. Один я шёл к выходу.
Я сижу на занозистом продуктовом ящике и голосую попутку. За надорванную пачку сигарет грязный ассенизационный МАЗ вёз меня к тульской окраине. Солнце пробивает кабину, и шофёр, отворачиваясь от него, рассказывал про систему отсоса всякой дряни из частных выгребных ям. После этого он принялся рассказывать мне анекдоты. Помнил он их плохо и часто останавливался на полуслове. Тогда анекдот сдувался как воздушный шарик. Впрочем, потом мы заговорили о духоборах. Эти духоборы давным-давно уехали на Кавказ. Там, на границе между Грузией, Арменией и Турцией они и жили целый век — и на всех рынках Тбилиси молочные ряды были духоборские. А потом детей от семи до семнадцати привезли в Ясную поляну. Они многого пугались — в Ясной поляне они впервые увидели, как растут яблоки. Радость этих людей была лишь при виде коней, поскольку заняты мальчики в прежней жизни были только джигитовкой. Из-за инцестов дети были некрасивы. В Грузии стало жить тяжело, и вот КАМазы заревели по грузинским дорогам, а в домах за Кавказским хребтом остались только старухи — умирать в пустых огромных домах. Умирать рядом с родными могилами — что куда лучше, чем доживать без них.
В Тульском университете дали подержаться за реликвию, потрогать пальцем подпись Толстого под собственной фотографией. Сделана она тушью, оттого выпукла и светло-коричнева. Видел я там и желтую книгу «Воскресенья», что издана в Нью-Йорке, и деньги от которой перешли к тем самым духоборам. Несколько лет назад ходил в Туле к церкви. Это был Никола Зелёный, где настоятелем был альпинист, и во время ремонта штурмовал крышу вместе с друзьями. Всё там было из чугуна — полы, престол. Это был чугунный храм — и всё оттого, что Демидовы занимались литейным делом. Внутри стояли коробки с каким-то оливковым маслом. Кому одно предназначалось, было неясно. Да всё тут было к Богу. Эту церковь ещё пасли, а я застал ещё пустые храмы, белые, высветленные ветром… Церковная казначейша рассказывала про исцеления. Исцелился даже какой-то психиатр. Казначейша, её звали, кажется, Марина, стояла в притворе и говорила: — Вот у нас есть такая прихожанка, такая она русская-народная, такая сдобная, что прямо с изюмом. Развиднелось. Солнце сочилось сквозь высокие окна. Нас пустили молиться и, шагая по холодному и гулкому чугуну, мы приблизились к иконам. А в этот момент, когда я преклонил колена в этом храме, первый «Боинг» делал вираж в нью-йоркском небе.
Архитектурные стили в Туле передернуты как винтовочный затвор, смещены, смазаны, наконец, как тот же ружейный затвор. Десятью годами раньше открытия Америки появилось огнестрельное оружие на Руси. Непонятно, существование которой из этих реальностей больше занимает умы. В Туле рядом стоят два музея — музеи огня и металла. Это музеи оружия и самоваров. В них много общего — пространство, ограниченное железом и огонь. Пулемет «Максим» вообще очень похож на самовар. В обоих кипела вода вокруг нагревательной трубы, и кричал комиссар: «Воду — женщинам и пулеметам». В оружейном музее под стеклом сувенирный АКС-74У — хромированный, блестящий и будто неживой. Дело в том, что красота оружия должна быть естественна, когда же его украшают — ничего путного не выйдет. Так и лежат как поленья ложа сувенирных ружей, дареных императрицам. Дарёное вернулось назад, так и не сделав ни единого выстрела. А в тульском музее самоваров, я разглядывал самовары-шары, самовары-банки, самовары-вазы, самовары-рюмки и самовары-яйца. Как часовые стояли сбитеньнники и самовары-кофейники. Все они тоже напоминали диковинное, чудесное русское оружие.
На тульском вокзале я вижу суетящихся людей. Вот они бегают туда и сюда как броуновские частицы в учебном фильме. Большинству из них отчего-то нужно в Ленинград. Кто они такие, и почему именно в Ленинград — я понять не в силах. Ещё я вижу солдата-узбека. Он пьёт омерзительный гранатовый сок, который теперь продают на всех вокзалах страны, а из-под локтя у него торчат коробки с тульскими пряниками. Мне тоже хочется этих пряников, но взять их негде, и я просто слоняюсь по зданию вокзала. Билетов нет, и ночь безнадёжно наваливается на город.
Я представляю себе вечернее чаепитие. Передо мной на столе стоит самовар, на блестящих боках которого — гербы и медали. Самовар блестит, и я вижу в нём собственное искажённое лицо, с вытянутым носом, со свернутой на бок бородой. Лицо это кривляется и гримасничает, как и лица других чаепителей — старичка и дамы. Старичок говорит: — Если уж живёшь с женщиной, так надобно жить с ней в браке, плодить детей, а иначе не куя с ней связываться… — Как интересно, — отвечает ему дама и поворачивается ко мне. — А ты что думаешь по этому поводу, дорогой? Я злобно молчу и, между тем, откусываю от печатного пряника. Мне хочется домой, а когда меня туда повезут — непонятно.
На площади перед вокзалом стоит автобус. Его водитель обещает за десять рублей довезти до Москвы, если таких желающих наберётся хотя бы двадцать. Двадцать набирается, и я несусь в тёмном и мрачном автобусе на север. Внутренность автобуса время от времени освещается светом встречных автомобилей, а за окном стоит собачье-волчья пора. И отчего я слоняюсь по стране — не знаю того я. Не знаю я, ничего не знаю, не знаю… Внезапно я вижу сон, который приходил ко мне в детстве. Я лежу на своей кровати и откуда-то понимаю, что должен быть один в доме. Однако, поворачивая голову, вижу в лунном свете бородатого старика, сидящего за столом. Старик одет в армяк, перепоясанный верёвкой, а на столе лежат кипы бумаг. Он пишет что-то, но внезапно поднимает лицо и строго смотрит прямо мне в глаза. Весь он серебряный, с серебряной бородой и с серебряными морщинами на открытом лбу. Сейчас, думаю я, он повернется обратно к своим бумагам и напишет там про меня. Он напишет про меня роман, где я, эпизодический герой, буду затоптан лошадьми на Бородинском поле. Этот немедный всадник знает про меня, никчемного беглеца по чужим улицам, всё. Я просыпаюсь. Возвращение на поверхность реальной жизни происходит на тёмном Варшавском шоссе. Нет, это не мой сон. Это детский сон женщины, которая теперь подросла, научилась водить машину и едет с кем-то домой на своём «Мерседесе». Тут я опять вспоминаю, что «Мерседес» название одиозное. Всё равно, она куда-то едет, и в этот момент обгоняет автобус, выскакивая на встречную полосу. Дальний свет фар на мгновение слепит мне глаза.
А вот хрен! Не буду я тут окончание печатать. Да.
29 сентября - 1 октября 2003 (обратно)
История про координаты в пространстве
Я, по своему обыкновению в Ясной поляне. Если кого это, конечно, интересует.09 сентября 2008 (обратно)
История про прощание с летом
С утра, после плотного долго завтрака, за которым мы с графом говорили о высоком, я отправился на реку. Надо сказать, что у меня было там приготовлено место, где вольготно и радостно душе, и где я обычно лежу без порток, глядя в небо. Жужжал шмель, паучок висел на своей паутинке, высматривая приближающуюся осень. Дворовый человек редко забредает в эти места и я не боялся, что кто-то нарушит моё уединение. Лето, случайно продолжившееся в сентябрь, струило зной, но часы его были сочтены. Сухие жёсткие листья сыпались с берёз как резаные купоны.10 сентября 2008 (обратно)
История про разговоры за обедом
Сегодня за обедом разговорился с Авдотьей-ключницей, а, вернее сказать, был допущен к беседе. Острая на язык баба играла с гостями, как кошка с мышью. Мне всегда казалось, что она заправляет всем в имении. Барин ее боялся, а дворня жалась к стенам, когда она выходила во двор. Мы сели за стол. Мужчинам подали водку, а Авдотья резво опрокинула рюмку клюквенной настойки. "Началось", подумал я. И, действительно — началось, заговорили об искусстве. Присутствующие внимательно слушали, ибо знали, что хоть барин и выписывает "Вестник Европы", но читает его именно что Авдотья. Заговорили о гражданских свободах и об известном ограничении оных. Затем коснулись искусства. Живопись, ваяние и зодчество сменяли друг друга. Обсудили и известный роман Тургенева. Лишни ли лишние люди, модное слово "фригидность", война за проливы… Разговор скакал как вестовой перед баталией. Кушали как обычно — скромно, по домашнему, но основательно и неторопливо. Сперва подали грибочки, краснорыбицу и соленья. Потом принесли горячих блинцов с икоркой. За ними — уху. Ну, а потом появилось жаркое. Десертом я, впрочем, (как будет ясно позже) манкировал. Незнакомые с ключницей гости попытались было перечить, да их быстро поставили на место. Знавал я таких молодых людей, что хотели выказать свой ум, или, на худой конец, остроумие, лезли на рожон… Судьба их всегда печальна. Я давно понял, что в разговоре с Авдотьей-ключницей лучше слушать, да кивать согласно. Многие мужчины начинают ерепениться, выпячивают грудь с двумя медалями за заграничный поход, стремятся показать начитанность и возвышенность — и что? Садятся в лужу. Меж тем, простота побеждает любое злословие. Хлопая рюмку за рюмкой, я счастливо подавил мужской гонор. (Не забыть дома отыграться на Агафье). Впрочем, я несколько раз пытался вставить историю о своих подвигах на Кавказе, да так и не сумел. Оттого, признаться, беседа мне разонравилась. Я решил поехать в поля, чтобы насладиться увяданием природы. Незаметно выскользнув в переднюю, я надел свой расшитыйкавказским узором темляк, повязал привычным узлом ментик и сел в доломан. Селифан молодецки свистнул, и лошади понеслись.10 сентября 2008 (обратно)
История про фенечки
Сегодня я сказался больным, чтобы разобраться с рукописями. Услышав о моем недомогании, граф прислал Фенечку с пирожками. Феня — девушка правильная, велёлая и обходительная. Она принесла мне не только пирожки, но и копчёную свининку, паштет и две бутылочки зельтерской. В результате, разумеется, я не записал ни впечатлений от прогулки среди полей, ни своих мыслей о высоком. Да и вовсе ничего не успел сделать. Просто ужас какой-то с этой Фенечкой.10 сентября 2008 (обратно)
История про одно представление
Поехали в губернское собрание. Давали сцены из времён нашествия двунадесять языков. По сцене бродило множество юношей в неверных мундирах с одинаковыми эполетами и девицы в ночных рубашках. Они плясали, будто бы на балу, но случилось затемнение. Грохнул выстрел, за ним другой — и я начал сомневаться, верно ли, что стреляют холостыми. Подумалось: вот верный случай свести счёты с врагом — прилюдно и вместе тем безнаказанно, якобы по случайности. Выстрелы утихли, и выбежали драгун с гусаром, исполнив танец с саблями. Всё было успокоилось, как вдруг из-за кулисы выскочил Русский Сцевола и принялся так отчаянно махаться топором, что у некоторых дам в первом ряду слетели шляпки. Но вот Антихрист был посрамлён басурманы изгнаны со сцены, а её запрудил русский народ в поддёвках и лаптях. Вывели и несколько чистеньких крестьянских детей с пустыми лукошками. Все восславили Государя, после чего я вышел вон.11 сентября 2008 (обратно)
История о прочувственной речи
Чтобы я не скучал в дождливую погоду, граф позвал меня в город, рассказать студентам о высоком. Студенты меня всегда привлекали своей отчаянностью. Прохор однажды поймал одного такого у меня в спальне. Молодой человек рылся в секретере, пытаясь найти деньги. Мне самому это не удавалось и в лучшие годы, чего уж говорить о чужом человеке. Пришлось напоить несчастного сладким чаем. Итак, я всегда любил молодежь — нам время тлеть, а им цвести. Здравствуй, племя младое, незнакомое. Швейцар принял мою шубу, я взбежал по чугунной узорчатой лестнице и увидел своих подопечных. Ей Богу, вид у них был хуже, чем у бурсаков. На задних скамьях зазвенело покатившееся стекло, и кисло пахнуло притушенными самокрутками. Не смотря ни на что, я начал. В произнесении речей перед юношеством нет ничего сложного — в этом может преуспеть каждый. Для начала нужно польстить слушателям, заявив, что и сам был таким, в Корпусе тебя секли за проказы, и ты тоже шел за мидинетками по бульвару, ожидая, когда они поправят чулок. Затем нужно прижать ладонь к сердцу и крикнуть "Духовность!" Это важно. Зато потом можно забыть все правила русской речи. Знай себе, выкрикивай: "Припасть к корням! Исконно! Душевная искренность! Простит ли нас народ? Нет, не простит, если мы доколе исполать! Вековая мудрость! Пронзительная чистота!" Под конец хорошо вздохнуть и произнести "Позвольте, перефразируя слова нашего графа…" (Главное — обернуться и проверить, не слышит все это ли сам граф, а то, неровен час, можно и пострадать). Вот видишь, читатель, нет в этом ничего сложного. Разве что в обществе мытарей нужно несколько раз крикнуть "Государственность! Государственность!", а в полковом собрании кричать: "Кровь, пролитая на полях Отечества, вопиет!". Так я и сделал. После моей речи студенты преподнесли мне адрес и печатный пряник, изображающий в натуральную величину русалку с такими огромными грудями, которых ты читатель, верно, не видывал. Мысль об этом прянике грела мне душу целый день. И каково было мое возмущение, когда я обнаружил пропажу подарка! Поиски были недолги, и он обнаружился в каморке Селифана. Мерзавец возлежал с моей русалкой и целовал её в сахарные глазурованные уста! Велел свести его на конюшню, а оскверненную наяду отдал дворовым детям.12 сентября 2008 (обратно)
История про свадьбы
Наступила суббота — время свадеб и связанной с ними суматохи. Селянки гладили рушники и скатерти, после жарких споров сватов о приданом перинный пух летал по улицам, будто снег. Раскурив чубук, я наблюдал за этим столпотворением из окна, вспоминая былое. Как-то, когда наш полк стоял в N., я был приглашён на свадьбу местного казначея. Ну, сначала всё шло обыкновенным образом — родственницы невесты хихикают и скачут, гг. офицеры рвут им длинные подолы своими шпорами. Настала пора бросать букет. И тут случился конфуз. Собственно, к букету бросились сразу три или четыре прелестницы и сшиблись не хуже, чем негритянские невольники в их любимой игре с мячом и корзиною. Вдруг вокруг умолкли разговоры, пресёкся смех и поздравления. Потому как из означенной группы, выбитая ударом будто елементарная частица, вылетела накладка, что помещают на грудь, для оптического увеличения оной. Свидетельство девичьей нечестности упало на пол и подпрыгнуло несколько раз. Что-то зазвенело. Все как зачарованные глядели на эти прыжки. Казалось, сам чорт прыгает меж нами. Старухи падали в обморок, закатив плёнкой куриные глаза, старики бывшие не в одной кампании и смело смотревшие в глаза смерти и неприятелю, мелко крестились. Вот так. Есть и иная история. Однажды, чтобы успокоить старые раны, я отправился на воды. Там я встретился с поручиком N***-ского полка, знакомым мне, правда, за карточным столом. Он решил жениться. Я был приглашён на свадьбу. Родственники хлопотали, невеста нервничала, и по традиции наших южных губерний, ей подносили рюмочку за рюмочкой — для успокоения. Успокоение случилось, молодая стала клевать носом, попадая прямо в букет, да и присутствовавшие тоже лечились изрядно. Настала пора откинуть вуаль и запечатлеть поцелуй на губах молодой жены. Незапно (Ах, как я люблю это слово — незапно, незапно) раздался крик, от которого кровь стыла в жилах. Кричал жених. Он не узнал невесты — на него глядело красное извозчичье лицо с фиолетовым носом. Оказалось, что несчастная страдала жестокой нутрняной непереносимостью какого-то сорта зловредных цветков. Но, успокоившись настойками, забыла об этом. Обнаружилось это лишь в момент ритуального поцелуя. Хорош был вид жениха! Не дожидаясь развязки, я повернулся, забрал в прихожей вполне острую саблю, чью-то вполне приличную шубу. Так я и вышел безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошёл!»13 сентября 2008 (обратно)
История про визит к Кашиным
Целый день провёл в постеле. Никого к себе не допускал, думал о том, не лишний ли я человек, не зря ли живу. Надо избавиться от иностранного и наносного, вот что. Оттого покушал консоме с профитролями безо всякого удовольствия. Потом слушал дождь и жевал пряник, забытый кем-то на книжной полке. Думаю, что если повсеместно заместить печатные книги печатными пряниками, ничего худого не будет, а, наоборот, сограждане будут радовать глаз друг друга приятной полнотой. Меж тем, чтобы развеяться, на следующий день съездил за сто вёрст в имение Кашиных. Обнаружил там небывалый взлёт русской духовности. Даже река текла под обрывом величаво и неумеренно, как-то по-русски. Повсюду подают свистульки и петушков. Кашина подрядила трёх учительниц школы, устроенной ею для крестьян, петь народные песни. Бывшие бестужевки охотно согласились, оделись в сарафаны, да так их и не снимают. Кипучая энергия этих барышень, некоторое время назад толкнувшая их к народникам, потекла в надлежащее русло. Пел вместе с ними протяжные патриотические песни. Прошка играл на баяне, несколько кучеров звенели однозвучно звучащими колокольчиками. Шорник дудел в свистульку, чем окончательно меня растрогал. Расчувствовался, и оттого случайно выпил много. Погодой и выпитым принужден был остаться у Кашиных. Ночью приходила Аксинья, сказала, что барыня велели перестелить мне постель. Что за глупости! Я привык к спартанской жизни и всю жизнь укрывался лишь тонкой солдатской периною. Оставил Аксинью у себя и до утра выговаривал ей, после чего отослал к шорнику.15 сентября 2008 (обратно)
История про незванного гостя
Сторож несколько раз предупреждал меня, что какой-то человек "в фуражке с кокардою" ищет со мной встречи. И верно, это оказался графоман. Молодой талантливый автор, как он сам отрекомендовался, принёс мне рукопись своего романа. Я посмотрел на пришельца волком. Но что делать? Он принялся читать. Это была драма из рыцарской жизни — с волшебниками и драконами. Главную героиню звали, впрочем, Лариса Ивановна. Её возлюбил мрачный байронический красавец с большими усами и преследовал повсюду. Я давно пользовался в столичных кругах известностью покровителя молодых талантов. Я знал в них толк и понимал, как с ними обращаться — поэтому уснул на пятой минуте и проснулся лишь к финалу. Вечерело. С своей волчихою голодной выходил на дорогу волк и я надеялся, что они пожрут моего гостя, когда он двинется в обратный путь. Пришелец не обращал ни на что внимания. Наконец он поведал мне, о том, что Лариса Ивановна собирается венчаться с неким безумным Князем. Герой страдает и ревнует, кто он — простой рыцарь, пусть и наследник огромного состояния, против благородного, хоть и безумного Князя. Но свадьбе всё равно не бывать — он находит Ларису Ивановну, пронзённую копьём: — Лора! Лора! — кричал Ролан, весь измазавшись в крови. ("Как я люблю это рыцарское имя" — вставил ремарку читчик). Герой вынес бездыханную деву на руках из волшебного леса и ступил в волшебное озеро. И вот его воды сомкнулись над их головами. Конец. — Недурно, заметил я. — Прямо-таки с натуры писано. Гость мой вздрогнул. — Я сразу понял, что с натуры. Так выпукло выписаны характеры, так они ярки и жизненны. Да-с. — Вовсе нет, — защищался автор. — Да, полно вам, — наседал я. — К тому же решительно понятно, что случилось с Ларисой Ивановной. Это вовсе не загадка, как вы изволите думать. — Так кто же убил Ларису Ивановну? — он отшатнулся. — Вы и убили-с! Я приблизился и заглянул ему в глаза. Страх заметался в них, как обыватели на пожаре. И вот он согласно кивнул головой. — Ну, а что мне было делать? Тем более, что она так ужасно храпела… А не хотите ли поглядеть на Князя? На извозчике сидела согбенная фигура в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Подбородок его опирался на огромный заржавленный меч. Трудно было узнать в нём участника драмы, о которой я только что прочитал. Гость мой надел фуражку и вышел, а я опрокинул рюмку водки. А потом, подумав, ещё две — одну за другой.15 сентября 2008 (обратно)
История про воспоминания
В час непогоды всегда хорошо вспомнить былое, пошелестеть страницами дневника. Вот, кажется ещё недавно это было: с утра вышел на покос — как и положено, сперва разулся и прогулялся по родной мураве. Помолился и пошел посолонь. Природа теряла последние остатки солнечного тепла. Простое, вековое русское занятие было в радость. Труд был сладок и приятен — коса-литовка пела, в голове рождались новые замыслы. Самые удачные строчки за мной записывал Прохор, приставленный ко мне молодым графом. Гроза набухала над лугом, пахло свежестью и радостным потом крестьянского труда. За рощицей сели, притомившись, старики-писатели. Дым самосада стелился над полем, распугивая вялых комаров-карамор. Дело у писателей не ладилось — сказывались и немочь и вчерашняя гульба в имении. Пляски с девками не пошли им в прок, и балалаечный звон, казалось, до сих пор стоял у них в ушах. Прохор смотрел на них с крестьянским презрением, а я с жалостью. Раньше прочих я скосил свой край, но не остановился: ведь приближался курьерский. Сотня глаз смотрела на меня из окон, полсотни носов сплющились о стекла. Вся русская литература стояла за мной и невозможно было посрамить её дурной работой. Пронесся поезд — молчали желтые и синие вагоны, в зеленых плакали от радости и пели. Прохор у меня за спиной делал озорные знаки проезжающим соглядатаям. Я цыкнул, и он, скорчив постную рожу, подал мне вышитый рушник. Я остановился и обтер лоб. Печальный немец Карл Иванович привез мне на сивом мерине крынку с молоком и добрую краюху хлеба. Прочим писателям пришлось докашивать свой удел перед электричками. Да и то — приехал бы какой постмодернист с сенокосилкой — и вовсе погнали бы его в тычки. День клонился к закату, я усталый, но довольный вернулся в имение бодрым шагом. Да и то сказать, шел так быстро, что бедный Прохор еле поспевал за мной, неся подмышкой кипу исписанной бумаги.16 сентября 2008 (обратно)
История про визит к дядюшке
Так же, глядя в окно на посеревшую, да посеревшую! — природу, вспомнил, как в прошлом году мы поехали в гости к дядюшке графа. Он зазвал нас на концерт своего крепостного квартета. Когда я вместе с прочими писателями подъехал, дворня уже помогала музыкантам тащить инструменты. Так на стульях перед барским домом появились баян, две обычные балалайки, а так же, рядом, воткнули жалом в землю страшную облупленную контрабас-балалайку. Когда первый мелодичный звук пронёсся над остывающей землей и растворился в кисельном тумане, мы побросали стаканы и вышли на веранду. Только один писатель Фирсов, что вечно на всё и всех дулся, сказал, что ему милее унылый напев зурны. Он ушёл в поля ловить пауков. Музыканты были похожи на чертей. Особенно один горбоносый балалаечник, что со зверским лицом щипал свой инструмент. Правда, один аристократический писатель долго кочевряжился, не желая признавать простонародную музыку. Он всё утверждал, что ему ближе "Венгерские танцы" Брамса. Но вскоре и он завёлся, и я заметил, как дрожит его нога в такт сладким звукам балалайки. "Нога! — подумал я. — Ля вибрасьен са моле гош этюн гранд синь"! Уи сан дот, человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, всё великое обнаруживается в малом, компрене ву? — Ай, наяривай! — крикнул, меж тем, дядюшка, и все пустились в пляс. Тут уж и мне было не устоять. Я сноровисто вынул из китайской вазы розу, и, зажав в зубах, повел в танце свояченицу графа. Прелесть что это был за танец! Столько в нем было русской души… Право, почти столько же, сколько в расписной матрешке, мистическом прихвате русских колдунов и ворожей. Чудо что это был за танец, прямо хоть святых выноси. Нам уже переменили три розы, а я ещё был полон сил. Впрочем, к ночи все притомились, и сели за вист. Я очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего и, вставши из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в кармане носового платка. Наконец, под утро, граф велел закладывать. Светало. Аристократический писатель, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в дрожках, так низко кланялся и с таким размахом головы, что, верно, приехавши домой, привёз в усах своих два репейника. Я, однако, решил остаться у дядюшки — с тем, чтобы на следующий день сходить на вальдшнепов. К тому же свояченица делала мне пассы — надо было разобраться, что сие означает. И вот я помахал моим друзьям и поклонился прямо в пыльное облако и остался в имении дядюшки. Впрочем, старого писателя Фирсова просто забыли.16 сентября 2008 (обратно)
История про способ развеяться
Тогда, в прошлом году, чтобы развеяться, я отправился на охоту. Был прекрасный день, что случаются только тогда в начале осени, когда погода установилась ненадолго, и вот-вот ясное небо затянется тучами, робкий румянец зари сменится пожаром, раскалённое солнце исчезнет на неделю, а зарядившие дожди отравят целую неделю своей свинцовой мерзостью. Сперва я охотился за тетеревами, затем за вальдшнепами, потом за куропатками, вслед за этим — на гусей, ну а после на рябчиков. За это утро я набил довольно много дичи (не считая дроздов), и вот решил вернуться домой, в имение к молодому графу. Но скоро, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и ржавым колхозным трактором в отдалении, увидал совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Ночь приближалась и росла, и наваливалась как на какой-то ненавидимый кем-то город. Скоро я увидел свет в отдалении, а приблизившись, увидал костер, у которого сидело несколько хамоватых деревенских подростков. По своему обыкновению они показали мне ножи, но я передернул затвор и они радостно уступили мне место у огня и пару печеных картофелин. Я не стал признаваться пацанам, что заблудился, а как ни в чём не бывало, вступил в разговор, чтобы быть ближе к своему народу. Народ внимал мне, да и сам делился печалями — всего подростков оказалось трое: Толян, Костян и Вован. Заговорили о работе (несколько подростков работали на фабрике у чеченца Мурата, другие промышляли по мелочи), затем разговор перешёл на вампиров, угнавших старый грузовик аварийной службы. — Это ещё что, — сказал Костян, и рассказал про Гаврилу, слободского плотника, что женился на француженке, которая его научила таким кунштюкам, что после развода он так и не мог обрести счастье, и повесился на осине. — С нами крестная сила! — шепнул Толян. — Да ничего страшного, — отвечал Вован. — Вот Ермил-почтальон у Мурада-барина как-то украл барана. Такого ужаса, что случился с Ермилом после, я и вовсе не припомню. Вышло страшнее, чем история про старого графа, что приходил на родительскую субботу. Старого графа и вправду видели здесь — он шёл босой, похожий на старика с плаката "Помоги голодающим Поволжья", и проповедовал крестьянам не бросать общинно-колхозную землю, искал разрыв-траву, да жаловался, что могила давит, хоть и нет на ней креста. Но пиво сморило подростков, а меня — усталость. Очнувшись, я почувствовал, как свежая струя пробежала по моему лицу. Утро зачиналось, забелелось на востоке. Деревенские спали как убитые вокруг тлеющего костра; один лишь Вован приподнялся до половины и пристально поглядел на меня, но я показал ему кулак и отправился восвояси. Мне не терпелось записать это всё в свой мескалиновый дневник, да и убитые птицы в моём ягдташе начинали подванивать.17 сентября 2008 (обратно)
История про роман
Снова зарядили дожди, и я принялся глядеть в окно, воздух за которым наполнился холодной моросью. "Унылая пора, — записал я в своём дневнике. — Очарование ли ты очей?"… В такую погоду хорошо было бы вернуться к рукописям, да только духа моего не хватило, и я отправился во флигель к одному отставному чиновнику, что приехал из города со своим братом. Как только я вошёл, так в ноздри мне ударил тот особый дух, что образуется в общежитии немолодых людей, что оторвались от семейного порядка. Однако в нашем Отечестве этот дух часто сочетается с возвышенностью — и по нему можно обнаружить страстные споры о будущем России, беседы о таинствах человеческой природы или разговор о ценах на урожай. Меня бы удовлетворила любая из этих тем, и я храбро шагнул в комнату. На столе стояло два графинчика. Было видно, что городские гости уже изрядно напробовались водки на хрену, что так мастерски изготовляла ключница Авдотья. Мне эта пара обрадовалась чрезвычайно, и старший брат сразу же предложил купить у него борзых. Борзых звали Расстегай и Разорваки. Глупые какие-то имена. Ладно второе — это хоть как-то напоминает что-то эллинское, античное, героическое… Но Расстегай? Мои собеседники хором утверждали, что ещё у них имелся Вылезай, да только что издох. — Вылезай — какая-то благодушная кличка. Лучше — Растерзай, — заметил я. Чиновник обтёр усы, и как-то ловко перешёл со мной на "ты", хотя никакого брудершафту мы не пили: — Этих собак нельзя продавать поодиночке в разные руки, не то случится беда и с хозяевами собак, и с ними самими. Но раз у тебя нет больше денег, я за этот рубль готов продать тебе меньшую собаку, а в придачу подарю тебе и остальных. Думаю, ты будешь доволен покупкой. Как ты уже слышал, первую собаку зовут Беги-неси-есть, среднюю — Растерзай, а самую большую — Ломай-железо. — Сдается мне, батюшко, — сомневался я. — Что ваш Растерзай-то подуздоват. Да-с. Но тщетно я отказывался, оправдываясь отсутствием денег — отставной чиновник норовил уже подарить мне борзых. Спас меня слуга, вернувшийся с кухни с известием, что барин велели водки более не давать. Мои собеседники более ни о чём не могли думать (кроме русской литературы, разумеется). — Умер ли русский роман? — сказал я тогда внушительно. Городские гости переглянулись и тут же вцепились друг другу в волосья. Я поразился этой экономии (ведь обычные люди только начнут с романа, потом перейдут на нравственность, затем — к личностям, наконец — к долгам, и только потом примутся драться) — а тут дело было налажено без лишних реверансов. И я пошёл на конюшню, где, по слухам, собирались сечь одного слепого за воровство вязаной шали. Не пора ли домой?17 сентября 2008 (обратно)
История про возвышенное
Поехал в Пустынь. (Я езжу туда ежегодно, чтобы очистить душу и помыслы). Ехали долго, в дороге постились и читали молитвы. И вот, наконец, престарелый лодочник перевез меня под стены монастыря. Солнце на миг заиграло на стенах, вспыхнули золотом и серебром купола. Я задумался о России — коротко и тревожно. Там, за стеной, молилась о моем народе монашеская братия, а я трудился в миру. Таково было мое послушание, и только на Страшном суде станет ясно, кто более преуспел в деле духовного окормления. Ко мне вышел настоятель. Я знал отца Януария лет двадцать — ещё с университетских времен. Мы прошли в трапезную, где нам подали стерляжью уху, кулебяку и лохань малосольных огурцов. Заговорили о высоком. — Знаешь ли ты, — спросил меня мой прежний товарищ по пирушкам, а ныне святой отец, — каковы три идеальных общежития? Я вспомнил наше студенческое братство, но отец Януарий только погрозил мне пальцем: — Это рай до грехопадения, первые общины апостольских времен и… Тут он остановился, будто давая мне шанс показать всем известную образованность. — Ноев ковчег? — продолжил я, все же ироническим тоном, чтобы если что, превратить ответ в шутку. Отец Януарий скривился: — Сто лет звал Ной людей, а пришли одни скоты. Нет, это наша Пустынь времен первых старцев. Я восхитился его мудрости и решил записать эту фразу, чтобы потом выдать за свою.18 сентября 2008 (обратно)
История про визит к графу
Для начала оказалось, что я простыл в бричке. Как не уверял меня Селифан, что все образуется, ничего не образовалось, а я очнулся на постоялом дворе, с больным горлом, в окружении странных своих попутчиков. один отобрал у меня заячьий тулупчик, другой пожурил за меня мою няньку, третий обещал мне неприятностей. Скрасили мое одиночество три прелестницы, что заглянули ко мне узнать столичные новости, как то — носят ли нынче с фестончиками, или больше с рюшами. Я было захорохорился, как вдруг посмотрел на себя со стороны. Да и про воланы я был мало осведомлен. Прелестницы засмеялись (о, эти небесные колокольчики!), впорхнули в свое ландо и исчезли.Весь день провел в каком-то странном забытье. Оттого отправился на спектакль, что давали у графа в летнем театре. С любопытством осматривал я амфитеатр, наподобие греческого, что был раскрашен желтым и черным — с намеком на госудаственный флаг. Сперва я чуть не заблудился в древних руинах, которые еще помнили крепостной театр при прежнем графе. Ходили слухи, что часть актрис старик взял в жены, а оставшиеся с горя утопились в пруду. Я это решительно отрицаю — пруд мелок, в нем и курица не сумела б утопиться. Впрочем, началось представление. Что меня неприятно поразило, все актеры были немцы. И начальник над ними тоже был немец. И пьеса была немецкая, с ужасным названием, что-то вроде Enebeneresskwintermintergess. Рассказывала она об одном несчастном, что решил бросить семью и претворился мертвым. Тут было все немецкое филистерство — бесконечные разговоры о наследстве, деньгах и отвратительное судебное разбирательство, когда фальшивого покойника поймали и свезли в штадткомиссариат. Над креслами кружились сухие березовые листья, время тянулось как в карауле, ржали лошади на конюшне, будто напоминая нерадивым актерам, куда они могут отправиться. Я думал тишком скрыться в кустах, но вдруг заметил тех трех младых прелестниц, что видал давеча. Они слушали пиесу так, будто стояли у аналоя. Ужас! Мало того, что я не смог вчера поддержать разговора о воланах, рюшах и фестончиках, так и вовсе окажусь неотесанным болваном, чуждым искусства! И с постным лицом просидел до финала, когда герой, проявив хоть что-то человеческое в своей арифметической немецкой душе, застрелился. Зрители, толпясь, стали расходиться, я бросился к тому краю амфитеатра, где видел троих наяд, но… Но тут…
Мне признаться, было неловко после вчерашнего. Казалось, что все ужу знают о моей встрече с этим ужасным человеком. Я велел Петрушке поставить мне кресло в саду под яблоней и решил, что как и всякий отставной поручик, проведу день за чтением античных классиков. Не тут-то было! Едва я открыл первую страницу Овидия, передо мной возникла дама. Она сурово посмотрела на меня и вопросила: — Отчего погибла береза? Я стушевался. — Вы мужчина, вы и ответьте, — продолжала незнакомка. Я промямлил что-то про кавказскую войну, старые раны… Незнакомка была неумолима и обрушила на меня целый ворох обвинений. Речь шла о березе, что росла в обнимку с дубом в графском парке. Деревенские свадьбы останавливались у этого места и рассматривание двух столь разных дерев, растущих купно, служило жителям поводом для вполне языческого пьянства. Дама нависла надо мной, смущая мой дух одинокого путешественника. Здесь было все, буквально все. И сапоги для верховой езды, и шапочка. И,разумеется, хлыст. Словом, это была не женщина, а мечта поэта. Внезапно она распрямилась и, смотря куда-то мне за спину, закричала: — А вы, мужчина… А вам — жалко березу?! Я к вам обращаюсь! Тщетно я пытался объяснить гостье, что хоть Петрушка и мужчина, и часто просто обуреваем страстями, но чувства поэтического лишен напрочь. Сам Петрушка дико вращал глазами, и вдруг опрометью бросился из сада. Дама кинулась за ним. Я же остался забыт под яблоней, причем два яблока тут же пребольно ударили меня по голове. Впрочем, никакого пороха я не выдумал, а с обиды заснул. Петрушка вернулся облизываясь, как кот, вылакавший хозяйскую сметану. Хорошенько отругал его, пригрозив к тому же графской конюшней.
Проболел весь день, оттого и ничего не записывал. К тому же меня мучили кошемары — в мою дремоту явился этот ужасный человек, с которым у меня произошло столкновение на спектакле. Я сразу понял, что этот черный человек — вестник разлуки. Были мне явлены и давешние мои прелестницы, что теперь проявляли ко мне неожиданный интерес. Однако ж, негодяй набросился на них, обхватил руками их всех одновременно, опутал, и, подобно охотничьей добыче, приторочил к седлу. погоняя коня он скрылся — по всему было видно, что он увез их в Сибирь. Я пытался догнать — куда там. Кинул вослед ему палку. Когда я проснулся, то этот черный человек пропал, я был один, а рядом — разбитое зеркало. Селифан с Петрушкой куда-то подевались, знакомцы мои уехали в соседнее имение, а я все так же сидел под яблоней со своими записками.
Вернулись ездившие в соседнее имение. Не стал их расспрашивать, чтобы не расстраиваться. Мне говорили, что они выписали цыган с медведем, половых с водкою, грузин с газырями, хохлов с салом и разбитных девок с напрасными обещаниями. Нет, не хочу знать, что там было! Впрочем, у некотоых в волосах я видел солому. Отправился в сельскую школу, отечески говорил с детьми. рассказывал им, как важно беречь платье снову. Дети робели, боялись подойти, пока какой-то проказник не крикнул, что у меня зад сахарный. И…
От нечего делать я покинул кресло-качалку и отправился на собрание литераторов, которых по старой памяти привечал граф. сошлись там и либералы, и почвенники, говоря о вещах насущных, как то: ценах на чернила, на каком собрании подают бесплатный чай, а на каком кормят только чистой поэзией, какой книгоиздатель грабит умеренно, а какой — грабит вволю, но зато с улыбкой. Предметы меня волновали не весьма, как все либералы я считал, что власти вороваты, а почвенники туповаты, как все почвенники, я думал, что либералы вороваты, а власти туповаты. Либералы убеждали меня в том, что нужно присягнуть какой-то высшей ценности, однако не объясняли в чем ее суть. Почвенники, наборот, присяги никакой не требовали, утверждая, что я уже присягнул по рождению. В молодости своей я хотел примкнуть к либералам, да оказалось, что при перемене имущественного положения быстро превращаются в почвенников. Беда была и в том, что и почвенники легко оказывались теми же либералами. деваться было некуда — к тому же, когда я сошелся с земцами, оказалось, что они состоят ровно из тех же почвенников и либералов. Но эти собрания я любил до чрезвычайности — крики, шум, все кричат, то и дело рождается какое бон мо, а потом все вместе пьют чай с пирожками, а когда и появляются половые с лафитничками. Слаб человек. Предчувствие не обмануло меня — литераторы жаловались на жизнь, книгопродавцев, рассказывали трагические истории о том, как чернь неуважительно отнеслась к ним на улице, как упали нравы и в какой опасности мы находимся. Я уже собирался покинуть собрание, как вдруг увидел все тех же молодых дам! И, о Боже! — с ними был давшний N. Сердце мое облилось кровью, будто баранина на огне — соком.
Этот страшный человек продолжает мучить меня. Сегодня он прогуливался с тремя прекрасными дамами и попеременно жал ручку одной, помогал перейти через мосток другой и смешил третью. Ради этих милых созданий я и выбрался на пикник, но увидел, что подойти к молим милым ангелам невозможно. Всюду был он. Однако тут мне улыбнулась удача — компания расположилась в вынесенных к пруду креслах и принялась играть в пти-жё. Сперва я думал, что нужно послать Петрушку за картами, но вышло, что я совсем не знаю светских развлечений. Выяснилось, что нужно просто вспомнить самый гадкий, самый безнравственный свой поступок. В смущении перебирал свои прегрешения — полковая касса, маменькин браслет, Аксинья-солдатка, Фрося, Акулина, дочь мельника… Не то, не то! Наконец я вспомнил, а потом и рассказал, историю про то, как я украл в одном доме три рубля с серванта. Но чувствовалось, что мой рассказ успеха не возымел. Дамы только сморщили носы, а вот мой счастливый соперник, смерив меня уничижительным взглядом, разошёлся: оказалось, что он довёл до смерти какую-то старуху, чтобы выведать у неё секрет краплёных карт, другую старуху он попросту зарубил топором, да и не её одну, играл — и как страшно играл! Так играл, что проиграл родовой дом на вывоз из имения… Истории росли как снежный ком, казалось, сам Люцифер стоит передо мной, и вот-вот вонзит мне в лоб свой громадный медный крюк… Нет, зуб! Впрочем, дамы слушали его благосклонно, и оттого, я стал лучше думать о либералах. Можно сказать. что я внял их идеям и возжелал переустройства общества и обобществления чего-либо. Хотя бы чего-нибудь. Негодяй захохотал… Но тут раздалось цыганское пение, что в наших краях действует, будто хлебное вино вперемешку с лекарскими облатками. Кто-то пустился в пляс, кто-то нестройно стал подпевать, не весьма угадывая не то, что слов, но и самих песен. Всё смешалось, пти-жё вкупе с чужим успехом было забыто. Но я остался на пустой поляне один! Все сокрылись, и один мой Петрушка воровал забытые одеяла и пирожки. Наутро оказалось, что N. покинул имение вместе с тремя дамами и отправился вместе с ними в путешествие на воды — не то во Владимир, не то в Сольвычегодск.
8-13 сентября 2009 (обратно)
Дорога на Астапово[1] Путевой роман
Лев Толстой в письме к Ивану Тургеневуот 26 июня 1881 года
Предречение
9 ноября. Москва — Ясная Поляна
Я вам вот что скажу — в великой русской литературе всё очень продумано. И более того, всякий писатель, если он, конечно, настоящий русский писатель, сначала сообщает что-нибудь, а потом уже исполняет это в своей жизни. Напишет Пушкин про дуэль — и, пожалуйте бриться, вот его уже везут на Мойку с пулей в животе. Как начнёт писать человек про самоубийство героя, так натурально, значит, найдут писателя совсем неживым. Страна не зарыдает обо мне, но обо мне товарищи заплачут. Толстой — великий русский писатель, и поэтому он честно сообщил, что уйдёт из дома. Причём он постоянно сообщал об этом — в разное время и разными способами. Вот, к примеру, заводил он волынку: слушай, читатель, вот тебе история про кавалергарда. И вот уже следишь за тем, как человек с бородой идёт с двумя старушками и солдатом. Не можешь оторваться, пока не дочитаешь до этой последней сцены, где едет на шарабане барыня с каким-то путешественником-французом и всматриваются в les pèlårins, то есть странников, которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место. Человека с бородой принимают за сына священника и замечают, что чувствуется порода. Всем раздают по двадцать копеек. — Спаси Христос, — отвечает этот как бы старик. Шапки на нём нет, и он лыс. Как настоящий даос, старик чувствует равнодушие к этой ситуации. Через девять месяцев его поймают и сошлют в Сибирь как беспаспортного. Там он будет работать у хозяина в огороде и ходить за больными. Но это всё в идеале. Это такая мечта, как надо уйти, — записанная за двадцать лет до попытки. Есть у Толстого и другая история, это такая пьеса — “И свет во тьме светит”. Это, собственно, рассказ про него самого и про то, как неловко и болезненно желание жить не по лжи. Как сопротивляются ему люди и как мало оно приносит счастья. Главным героем в этой пьесе был сам Толстой под именем Николая Ивановича. Николай Иванович собирается бежать из дома вместе со своим бывшим слугой Александром Петровичем. Этот Александр Петрович уже бормочет: “Будьте спокойны, пройдем до Кавказа без гроша. А там уж вы устраивайте”. Герой отвечает ему: “До Тулы доедем, а там пойдем. Ну, всё готово”. Но ничего оказывается не готово, беглеца останавливают, и он возвращается в привычный ад, где лодка убеждений бьётся о каменный берег быта.Всё началось с того, что мне позвонил Архитектор. Жизнь моя была негуста, и я был рад каждому звонку. Архитектор спросил меня, как я отношусь к Толстому. Я задумался и начал открывать и закрывать рот, как обычно это делают рыбы. — Так вот, — продолжил Архитектор, — давай поедем в Астапово. — И умрём там? — с надеждой спросил я. Он замолчал. Видимо, эта мысль ему в голову не приходила. Он вообще был человек бесстрашный. Но вот он продолжил, не ответив на этот вопрос, точь-в-точь как когда-то генералиссимус: — Ещё Краевед поедет. И Директор. Звучало это очень привлекательно, а ведь русского писателя хлебом не корми — дай куда-нибудь поехать. Хлебом его и так не кормят, живёт он под забором, ходит во вчерашних носках, а в дороге эти обстоятельства как-то извинительны. Опять же, Гоголь велел русскому писателю проездиться по России, а глагол этот сродни “проиграться” и “протратиться”, не говоря уж о прочем. Ну, и через пару дней я осознал себя стоящим около машины в странной местности за Киевским вокзалом, где с одной стороны — величие сталинского ампира, красота лепнины и основательность былых времён, а с другой стороны грохочут поезда и лязгают железнодорожные механизмы. Уходя из дома, всегда думаешь о том, что забыл, — рвётся какая-то невидимая пуповина и параноик-путешественник навроде меня всегда страдает — взял ли он казённую подорожную, если таковая имелась, не забыл ли где, как Йон Тихий, любимого перочинного ножика, не осталась ли на подзеркальнике бритва. Настоящий сюжет начинается в тот момент, когда это всё оставлено, забыто и нет никакой надежды ощутить это снова. Вот у Василия Аксёнова есть рассказ про искусственный глаз его отца — я вообще-то считаю, это лучшее, что написал Аксёнов, но это так, к слову. Так вот, этот искусственный глаз остаётся в стакане, когда отца уводят. Отец арестован, он скитается где-то, как дервиш, добравшись до родного города, спит. Он спит, а в стакане, как мокрый водоплавающий зверь, сидит его глаз. Шкловский, когда писал большую книгу о Толстом, мимоходом обмолвился о древнем романе, который обычно построен на возвращении. Герой всегда прав, потому что возвращается. Немало он стран перевидел, шагая с разными предметами в руках, немало проездился по Руси и окрестностям, и не было у него горше печалей, чем быть вдалеке от дома. И наконец, он входит в этот дом и, разумеется, с размаху бьётся лбом в притолоку. Дело в том, что он подрос за время странствия. И вот я, впрок стукнувшись лбом, отдуваясь, как жаба, полез внутрь поместительного автомобиля, пристроился там сзади и стал ждать, когда мы поедем. Там уже сидел Краевед. Краеведа я уважал — через сто лет на маленьких деревенских церквях где-нибудь в глубине России будут висеть таблички “Про этот храм Краевед ни разу ничего не сказал”. Я вполне могу предполагать, что таких церквей всё же обнаружится не одна, а две. По дороге мы подобрали Директора Музея. Директор был кругл (но не круглее меня), бородат и похож на пирата с серьгой в ухе. Есть такие люди: всмотришься в них — и сразу понимаешь, что это начальник. Я и сам как-то приходил в его музей. Там белели колонны, журчали фонтаны, слонялись по дорожкам брачующиеся, женихи затравленно озирались, а худосочные невесты смотрели на круглые перси греческих богинь. Да что там персики — арбузные груди нависали над парковыми дорожками. Но эта история не про галантный век. Это история про Путь и Шествие — название я украл у собственной, уже написанной, книги, но с совершенно другим сюжетом. И теперь надо заставить себя написать историю пути Толстого из Ясной Поляны и шествия моих друзей по этому остывшему следу в промозглом ноябре. Дорога была пасмурной и бессонной. Я думал о соотнесении себя с Толстым. Подобно тому как Штирлиц постепенно становится немцем, всякий идущий толстовским следом превращается в Маковицкого. Со времени изобретения туризма у нас особое отношение к путевым отчётам. Демократичность путешествия привела к девальвации взгляда в окно, обесцениванию фотографии чужого города и однотипности воспоминаний о дороге. Для Набокова путешествие было перемещением, он вообще застал этот аристократический обряд в детстве — матроска, берег Ниццы, крахмальные скатерти в купе и шезлонг на палубе парохода. А вот мы все — в другой эпохе, но более того — мы в другой эпохе по отношению к великой русской литературе. И теперь Архитектор гнал меня в путь за связью литературы с географией, а перемещения — со стилем, способом высказывания. Архитектор, кстати, сильное слово, означающее ещё и “надзирающий за устойчивостью”. Архитектор исследовал пространство на устойчивость. Краевед же был больше смотрящим за Москвой и сопредельными землями. Он написал книгу про Москву, книгу, которая сразу стала знаменитой. Впрочем, писал он её всю предыдущую жизнь. Я давно наблюдал, как из разрозненных заметок, из наблюдений, сделанных в путешествиях и просто прогулках, через статьи в газетах и журналах, где мысль формализовалась, из экскурсий и докладов, когда она проговаривалась и проверялась на слух, получалась эта книга. Текст был такой же живой, как и сама Москва, — в нём что-то достраивалось, переделывалось, дописывалось — и, кажется, продолжалось это бы по сей день. Это была смесь путеводителя, книги для чтения по истории и, наконец, философского трактата. И это было своего рода поэмой, потому что автор бормотал: “Китай и Китеж слиты в образе Покровского собора-города. Собор и в самом деле восстаёт, как Китеж — кремль кремлей, географически сторонний неподвижный центр, — а не так, как может восставать Посад на Кремль Москвы”. Московские здания там оказались связаны со всей культурой разом — от городского камня он плавно переходил к живописи, к литературе или к национальной философии. — Творение столпа — столпотворение, — говорил Краевед. — Нерв этой темы в том, что всякое столпотворение способно оказаться вавилонским, и в том, что после Вавилона решимость на столпотворение есть опыт снятия проклятия Вавилона… Краевед со всеми его проборматываниями и почти пением был чуть ли не религиозен. (Собственно, он и был по-настоящему религиозен — не чета мне.) Архитектор — литературен в своём вращении вокруг метафор, построенных на географических терминах и геометрии. Или, иначе говоря, “землемерии”. Например, в этом повествовании очень важно понятие “меридиан”, и все путешествия писателей и их героев оцениваются с точки зрения геометрических и географических аллюзий. Архитектор всё время возвращался к идее нулевого меридиана русской культуры и литературы — воображаемой оси, проходящей через Москву с севера на юг. Все тексты и жизни он рассматривал, отправляясь от того, как относительно этой оси двигался автор. Особенно важным для Архитектора было пересечение реки Дон — кто бы и как бы ни достигал этой великой реки, кто бы ни двигался вдоль или поперёк, каждый раз для него это было знаком… нет, знамением. Это было в нашем путешествии особым экспедиционным наблюдением. Я несколько скептически относился ко многим найденным моими спутниками сближениям, географические и литературные метафоры часто казались мне неверными — такрешительно мне не нравился отысканный ими пару лет назад в каком-то стороннем, непонятном месте Чевенгур. Однажды Архитектор придумал, что весь строй романа “Война и мир” именно таков, каков есть, только потому, что этот роман пишет не Толстой, а его герой Пьер Безухов, поминутно расправляясь с собственными комплексами, обидами, что нанесли ему другие персонажи, плохо скрывая ревность к прошлому своей жены и собственное прошлое. “Ну а что же нет?” — думал я. Академический исследователь шерстит архивы, всматривается в каждую бумажку, в неровность почерка и проверяет событие несколькими независимыми мемуаристами. Самые удачные из книг о путешествиях те, что вызывают желание и создают традицию повторять маршрут. Я таких знаю несколько — это рассказ Джойса о том, как по Дублину бежит маленький человек-неудачник, роман Булгакова, в котором неудачник бежит по Москве от Тверской до Остоженки. Ну и “Москва — Петушки”, конечно. В России к путешествиям отношение особое — для русского человека это несколько опасное, чуть не героическое мероприятие. Не всякий высунет из дома нос по своей воле. Оттого путешествовать по страницам куда привычнее, чем путешествовать с книгой под мышкой. В некогда знаменитом романе “Альтист Данилов” весь сюжет повязан с Останкином, и ходят слухи, что местные жители прогуливаются по описанным маршрутам. Но это всё же не массовое явление. Количество путешественников из Петербурга в Москву обильно, но я слышу больше проклятий запруженной трассе, чем восторга культурных туристов. Книги эти имеют разный вес, но путешествия вообще вещь загадочная, и оттого странник всегда оказывается в положении купца, что отправился за Аленьким цветочком. Когда пишут о путешествии, то вечно ошибаются — собираются сказать одно, а выходит другое. Чудище ужасное превращается в принца, и наоборот. Джером К. Джером написал свою знаменитую книгу о путешествии четверых мудрецов в утлом челне случайно. Он собирался писать путеводитель по Темзе — путеводитель с исторической подоплёкой. Джером отправился тогда в свадебное путешествие — ему было лет тридцать, его жене столько же. Он был счастлив и, вернувшись, решил написать “Историю Темзы”. Но путешествие уводило его в сторону, получился роман, а не путеводитель. Потом он всё же вставил исторические и прочие детали. Большую часть вставок издатель выкинул, но внимательный читатель их видит. Про эти вставки много спорят — одни их считают натужными, другие же, наоборот, считают, что знаменитая книга о речном путешествии выглядит живой. Мне кажется, наоборот — живой она стала из-за иронии и сюжета, а вставки тут сами по себе. “Так-то, сударь”, — произносит собеседник со вздохом. Вот он, звон путеводной ноты — между двух огней, между раздражением и восторгом. Звенел на тонкой ноте мотор, и машина уверенно шла на юг.
Мы остановились в Молоди. Надо сказать, что места, где умерло много людей, — всегда мистические. То есть я считаю, что где и одного человека зарезали — всё ж место странное, неловкое для жизни и будоражащее, но уж где сто тысяч положили — и вовсе обывателю тревожно. А тут, у Лопасни и на Рожайке, перебили не то сто, не то полста тысяч крымских татар, шедших на Москву. В числах источники начинают путаться — на радость любителям нулей. Надо сказать, что это классическое сражение русской армии. Во-первых, оно выиграно русскими по законам воинского искусства, не абы как, а по уму. Во-вторых, оно надолго определило географию соседних стран. В-третьих, не прошло и года с битвы при Молодях, как Михаила Ивановича Воротынского, который, собственно, там и победил, взяли в оковы, пытали (причём, по легенде, сам Иван Грозный подсыпал ему угли к бокам и лично рвал бороду князя) и сослали в Кирилло-Белозерский монастырь. По дороге князь умер. Об этом нам сообщает Курбский, а судить по нему о таких историях — всё равно что об истории Отечественной войны по Эренбургу. Неясно, в общем, что стало с несчастным Воротынским — но уж ничего хорошего, это точно. И наконец, в-четвёртых и в-крайних, битва эта забыта. Нет, видел я как-то в Молодях каких-то ряженых казаков и камуфлированный вермахт с русскими рожами, однако спроси кого на московской улице об этой истории — плюнут тебе в бесстыжие глаза. Потому как утопление рыцарей в Чудском озере и Бородино известны нам по рекламе каких-то сухариков, а вот разгром Девлет-Гирея в рекламе не освещён. Краевед с Директором Музея ушли к церкви, Архитектор уткнулся в карту, а оторвавшись от неё, сурово посмотрел на меня. — А вот скажи, — начал он, — есть ли какая-нибудь геофизическая аномалия, ведущая от Москвы строго на юг? Я нервно сглотнул, начал мычать и трясти головой. Ничего мне на ум не приходило — поняв это, Архитектор мгновенно утратил ко мне интерес. Тогда я сел на камушек и, набив трубку, принялся курить, озираясь вокруг. Всё-таки место было непростое, и я вспоминал хоббитов, что шли через поля минувших битв, на которых не то росли особые цветы, не то и вовсе видели странное свечение. Парк с прудами-то и впрямь были хороши, но уже наступали на них дачники. А отечественные дачники куда страшнее крымских татар, и отбиться от них попросту невозможно. Я залез в машину, приложился к фляжке и заснул в своём углу. Оттого я совершенно не понял как, но каким-то образом вся наша компания оказалась в Богучарове. И вот мы уже стояли около странной колокольни. — Клинкер, — сурово сказал Директор Музея. — Это клинкер. Какой, к чёрту, клинкер, о чём это они? Спросонья я ничего не понимал. Оказалось, что они говорят о колокольне. Я окончательно вернулся в реальность и вспомнил, что клинкер — это огнеупорный кирпич. Проверить я это не мог, а мог лишь поверить. Клинкер так клинкер. Меня больше интересовал Хомяков. Именно с подачи Хомяковых итальянская кампанилла стояла посреди русской земли. Было понятно, что смотреть её надо было именно в этот день — не в жаркую погоду, сближающую её с Италией, а именно что промозглой русской осенью или зимой. Чувства примерно такие же, как если бы вы обнаружили на задворках разрушенной “Россельхозтехники”, у бетонного раскрошенного забора, в окружении ржавых тракторов и комбайнов, настоящую египетскую пирамиду. Небольшую, но крепко сложенную. С коротким русским словом, написанным кем-то у основания. Директор Музея заявил, что этот тип кампаниллы распространен в славянских (по представлениям славянофилов) землях Адриатики. Заказчик поэтому и настоял на воспроизведении средиземноморского острия в своём имении — вслед своему отцу Хомяков-младший, строивший здесь, как бы напоминал о книгах отца. То есть намекал на то, что Венеция была основана венедами-славянами. Звучало тут имя Суровецкого, который утверждал, что адриатические венеды позднеантичных источников и одноименные славянские племена бассейна Вислы — одно и то же. В умах это вызвало известное смятение, не успокоившееся до сих пор. Появление компаниллы посреди России становится естественным, если не обязательным. Хорошая, кстати, была гипотеза. То есть даже слишком красивая и слишком многое объясняющая. Кто-то мне говорил, что где-то в Хорватии стоит точно такая же. Но тут я разделяю себя-сочинителя и себя-свидетеля. Если б я написал роман про славянофилов (О! Если б я написал роман про славянофилов — там, разумеется, были бы магические кампаниллы и башни Шухова, что возводили бы потом в пику им интернационалисты), то всё было бы иначе. Я расшвыривал ногами палую листву и при этом рассказывал Краеведу про Хомякова, как в какой-то из статей, посвящённых “Севастопольским рассказам” Толстого, он говорил, что на окраине Севастополя одни люди героически погибают на бастионах, а на другой окраине сидят за столами другие люди и проигрывают в карты казённое имущество. И, что самое страшное, этих людей можно поменять местами без ущерба для картины. Но в этот момент Директор Музея, а он, как оказалось, шёл вслед за мной, вдруг произнес: — Бесстыдник. Не сказать, чтобы я был особо высокого о себе мнения, но как-то даже обиделся. Но Директор повторил: — Это Лесков. Рассказ “Бесстыдник”. Не Хомяков, а Лесков. Там у него интендантский генерал учит боевого офицера… И историк наизусть (я клянусь, что он помнил это всё наизусть!) процитировал: “Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде — вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы… крали…” Мне утёрли нос — но вот, кстати, думал я, продолжая дуться на самого себя и несправедливость, в этом рассказе Лесков как бы говорит нам: вот, видите, каков генерал, сказал этакое и не краснеет. И читатель приглашается как бы разделить негодование. У придуманного мной Хомякова была скорбная интонация: “А ведь и правда, перемени их местами, ничего ровно не изменится”. Лесковский генерал говорил о том, что все представлены — к воровству ли, к геройству — начальством, а придуманный Хомяков скорбел, что всех тасует судьба и от этого всё ещё более безнадёжно.
Дом был стар, облуплен, но крепок — с одной стороны в нём было почтовое отделение, где из стен торчал классицизм, чуть замазанный масляной краской. С оборотной стороны жили люди, спала блохастая собака. Через лес виднелась какая-то циклопическая постройка, похожая на раскормленную новорусскую дачу. Славянофильство было занесено палой листвой. Листва занесла и памятник полковнице графине Александре Ильиничне фон Деръ-Остенъ-Сакенъ, что скончалась 30 августа 1841 года на сорок пятом году жизни. (обратно)
Ясная Полянка
9 — 10 ноября. Заповедник
Но вот мы продолжили путь и, объехав кругом Тулу, оказались в Ясной Поляне. Я упал в кровать и намотал на голову быстрый и короткий сон. Мне снилось, как я приехал сюда на поезде, в первом классе. Правда, у меня создалось впечатление, что меня бы пустили и без билета, поскольку всего три или четыре человека было в этом вагоне повышенной комфортности. Эта электричка ходила на Щёкино с тремя или четырьмя остановками — только по выходным, зато останавливалась на Козловой Засеке, что всего в паре километров от усадьбы. Там, в пристанционном музее, можно было поглядеть на телеграфные аппараты, дорожные чемоданы, переносные фонари, поглазеть на фонари чугунные и оградки и поехать на скрипучем автобусе в заповедник. Но это всё туризм, остальное — литература. По праздникам в окрестностях заповедника ярко горела звезда Героя Социалистического Труда. Эта звезда была на груди у не сломленного в лефортовских застенках губернатора и многим ещё освещала путь. Я как-то (приехав на автобусе) был на открытии этой станции, где вывески на зданиях по новой моде крестились ятями. Порезав в клочки ленты и ленточки, выступали высокие железнодорожные и культурные лица. Электричка вполне современная, да только когда стали говорить, что её вагоны оформлены по мотивам произведений Толстого, сразу представился вагон “Анна Каренина” с колёсами, покрашенными в красный цвет. Тогда тоже вышел губернатор и произнёс гениальную и совершенно косноязычную речь, где говорил про железнодорожное министерство транспорта и визит президента Китайской республики. Президент приехал к нему, губернатору, а потом, оказалось, они рыдали на могиле Толстого. Речь губернатора всё время срывалась в воспоминание, населённое танками, но в первое своё появление будущий губернатор не то что не сидел ещё под арестом, а даже, кажется, не был героем. Итак, важные люди говорили, а вокруг гуляли ряженые дамы и офицеры, раскрыл свои крылья тарантас, и, готовая к употреблению, была закопана между рельсами какая-то пиротехническая батарея. Вдруг заверещал паровоз: он, безусловно, был там главным оратором. Крики паровоза разогнали тучи, а душное солнце начало сушить свежий дёрн и потную толпу. Через несколько лет я тоже поехал на этом поезде — чопорный, как англичанин. Сел в кресло повышенной комфортности, вытащил резную оловянную рюмку и налил себе коньяку. Замелькали за окном московские окраины, сгустилась из коридора проводница и — фу-ты ну-ты — включила повсеместно телевизоры. Начали мучиться умноженные на шесть телевизоров американцы, зарыдала в микрофон иностранная красавица о своей загубленной молодости, потом, невесть откуда взявшись, запел знаменитый русский болгарин-переросток. Так всегда: отправишься путешествовать по-английски, с дорогим табаком в кисете, с английским чаем в банке, — а ткнут тебе прямо в рыло какую-нибудь азиатчину, ударят над ухом в бубен, зачадят прямо в нос вонючие костры аборигенов. Только в дороге начинаешь так искренне ненавидеть песни и пляски эстрадных упырей. И первый раз, много лет назад, я тоже ехал туда на поезде, и Курский вокзал был полон хмурыми отпускниками. Электричка медленно подошла к перрону — на удивление, она оказалась набитой людьми, и они успели занять в ней все места, столпиться в проходах, уставить багажные полки сумками и корзинами. Поезд шёл медленно, иногда останавливаясь на полчаса посреди волнующихся на ветру кустов. Хлюпая обувью, на поверхности которой сразу появились пузыри, я добрался до автостанции. Дали мне посидеть на переднем сиденье, откуда — по ветровому стеклу — было сразу видно, как прекращается дождь, подсыхают на ветру его капли, и вот он снова начинается… Тогда я разглядывал дождь и размышлял. Вот, можно ещё придумать себе спутницу. Это будет небедная женщина, интеллигентная и самостоятельная. Пускай так же она повезёт меня до Ясной Поляны на машине. Итак, мы едем среди родных полей и лесов, весело стучат дворники, размазывая дождь, а мы разговариваем о русской литературе. — Всё же Толстой был странным писателем, — говорю я, пытаясь стряхнуть пепел с сигареты в узкую щель над стеклом. — Вот Гоголь был правильный русский писатель. Другие писатели как-то неумело симулировали своё сумасшествие. Гоголь был честным безумцем. А Толстой переписывает романы, покрывая листы своим неудобоваримым почерком, затем делает вставки, потом записывает что-то поперёк строчек. Методом последовательных итераций (я говорю это моей спутнице кокетливо, как человек, осенённый естественным образованием) он приходил к тому, что часто отличалось от первоначального замысла. Посчитал, кстати, “Войну и мир” и “Анну Каренину” вещами зряшными, нестоящими. Дама в этот момент лихо обгоняет чьи-то дряхлые “Жигули”. Постепенно разговор переходит на работоспособность писателя. Есть такой мотив — сколько писатель пишет, то есть каковы объёмы им, писателем, написанного. С одной стороны, писателя, что пишет много, начинают подозревать (часто небезосновательно) в халтуре, а то и в использовании литературных негров. Иногда подкатывают с этими намёками, говоря о какой-нибудь писательнице, выпускающей по роману в месяц. Но наш счёт тут скромен — вот иностранная женщина Барбара Картленд, как говорят нам дамские журналы, написала 723 романа и даже в преклонном возрасте производила по 23 романа в год. — Сама писала? — спрашивает меня моя спутница. — Тут вопрос в том, что непонятно — что такое “сама”? Бывает совершенно разная работа с текстом: есть художник, что работает единолично, а есть поклонники бригадного метода. Бригадный метод — это вовсе не работа с неграми, это управление, подобное работе режиссёра со съёмочной группой. Оператор вовсе не равен осветителю, ассистент занят своим делом, а гримёры — своим. Тут судить по конечному результату — “А как споё-о-ошь!” справедливо отвечали звери мышонку в советском мультфильме (этот мышонок загодя интересовался оценкой своей творческой деятельности). В конце концов, и Лев Николаевич Толстой активно привлекал супругу к редакторской работе. Ещё неизвестно, как сложились бы их отношения, если бы у Льва Николаевича был бы под рукой текстовый редактор “Word”. Вот если вглядеться в список томов наиболее полного издания Толстого, можно сделать интересный вывод: мы все оставляем вокруг себя довольно много текстов. Я не берусь дать руку на отсечение, что всякий поборет Толстого, но если этаким способом напечатать твои статьи, то выйдет изрядное собрание. А уж если комментированным и атрибутированным корпусом издать наши SMS и интервью… И не счета “Билайн, 4000 рублей, срок оплаты до 13.07.2009”, а вполне себе включающиеся в собрания “Приходи на площадь к Исакию, там все наши :))” и “Вчера с Божьей помощью поимел Аньку К”. Каким корпусом текстов предстаёт писатель перед обществом и потом перед Богом? И вот тут оказывается (если сделать смешной и некорректный опыт, закрывая пальцами или бумажкой тома в списке), что не всеми девяноста томами Толстой велик (условно), а лишь десятком в первой серии. Дело не в том, что остальное никуда не годится (хотя некоторые осмеливаются об этом заявить), а в том, что остальное — дополнительно. Более того, большое (и ббольшее) количество из того, что вошло в Юбилейное собрание, вообще не предназначалось к печати. Причём мы сейчас всматриваемся в Толстого, который, как и положено идеальному писателю в идеальной России, прожил длинную жизнь. А ведь бывало, что только присядет русский писатель к столу, как в дверь ему постучали, побили и повели к оврагу, клацая затворами. Или, опять же, только приготовился поэт что-то написать, как — раз! — и упал с “Интернационалом” в скошенные немецким пулемётом травы. Примеров избыточно много писавших классиков я не наблюдаю. Более того, есть множество жалоб от тех, кто писал помногу вынужденно, из-за денег. Известны тридцать томов Достоевского (с письмами, да), так известно и то, как он говорил Соловьёву о зависти к Толстому: “И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают! Я завидую его обстоятельствам, и именно вот теперь… Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить… Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделывать каждую свою вещь, а это большая штука — когда вещь полежит уже готовая, и потом перечтешь её и исправишь. Вот и завидую… завидую, голубчик!” От этого разговора мы как-то плавно перешли к доходности Ясной Поляны. Я собирался сказать, что Достоевский зря завидовал Толстому — мой Критик как-то листал приходно-расходные книги Ясной Поляны и обнаружил, что приходу там было в 1910 году 4626 руб. 49 коп., а расходу — 4523 руб. 11 коп. То есть доходу вышло сто рублей, а вот в прочие успешные годы выходило и по семьсот. Главным доходом была сдача лугов и земли — на полторы тысячи, кстати. И имение жило литературными деньгами, потребляя те самые гонорары Толстого, от которых он отказывался в общую народную пользу. Я успел-таки открыть рот. — Всё было не так, — произнёс я, но было уже поздно. Мы приехали. Однако, когда я в этой истории, мешая настоящее, прошедшее, давно прошедшее и прошедшее-давно-совершённое время из моего несовершенного прошлого, неловко вылез на обочину, небо успокоилось, внезапно сдёрнув с себя тучи, как купальный халат. Дорога свалилась с холма и выбежала к гнезду экскурсионных автобусов. Когда я приехал туда в первый раз, то в окошке одной из привратных башен была выставлена табличка: “На сегодня все билеты проданы. За проход на территорию заповедника — пятьдесят копеек”. Брать полтинник было некому. Это уже потом ходил я внутрь безо всяких билетов, оттого что в музей меня звали специально. Видел я и прекрасного потомка Толстого и задружился с прекрасными барышнями, что работали в заповеднике. О, они были куда прекраснее моей придуманной спутницы! Слышал я от них всяко-разные байки — например, историю о том, как женщина на могиле Толстого вымаливала себе иностранца и действительно вышла замуж. Уехала, значит, из Ясной Поляны и из страны. А вот другая вымолила институт для сына и освобождение от армии. Была среди прочего и история про дорогу на Грумант — маленькую деревеньку в окрестностях, что названа так была дедом Толстого в честь его бытия на Русском Севере. На этой дороге, незатейливом просёлке, было немудрено заблудиться и сотрудникам толстовского заповедника. Бурый туман из Воронки, мистическая история про часы в доме Волконских, которые слышно на могиле Толстого, когда они бьют полночь. Ну, ясное дело, говорили мне, Волконских-то звали Волхонскими. Со значением “волхвы”, значит. Рассказывали всё это молодые женщины. Было у них особое сестринское братство работниц заповедника. И особо они тревожились о тех сёстрах, что ушли в большой мир. Могила Толстого находится в глубине леса. Все гуляющие к ней (а к этой могиле не ходят, а именно гуляют) говорят о материальном положении семьи графа. О чём же ещё им говорить? Когда я подошёл к могиле, то внезапно оказался в темноте. Это была храмовая темнота. Вершины деревьев сомкнулись у меня над головой. В храме царили неясные потусторонние звуки. Солнечные лучи играли на листьях, ещё державших на спинах капельки воды. Капли скатывались, падали вниз, в лесу происходило шуршание и шелест. Лес высыхал. Кроме разговоров о материальном, у могилы часто говорят о немецких оккупантах. Я как-то беседовал с патриотически настроенными людьми о русской истории и был оттого печален. Итак, дело ещё и в том, что спокойно говорить о русской истории можно только с непатриотическими людьми — ибо столько в ней страха, ужаса и величия. Зашёл разговор о Московской битве и о Ясной Поляне, и я вновь подивился живучести мифа об осквернении могилы Толстого. Дело в том, что хороший писатель Владимир Богомолов написал странный пассаж: “Под └изгадили” подразумевалось устройство в помещениях музея-усадьбы конюшни для обозных лошадей, а под осквернением могилы Толстого имелось в виду сооружение там нужника солдатами полка └Великая Германия””. Это очень печальная ошибка — всё дело в том, что в доме немецкие солдаты, конечно, напакостили, кое-где нагадили, кое-что стащили, а вот никакого нужника на могиле не было. Историю про сортир придумали какие-то пропагандистские дураки. И вот почему: могила находится от усадьбы чуть ли не в километре, и в лютый мороз 1941 года никакой немец не добежал бы туда через лес — примёрз бы к дороге своим гузном. Кроме того, немцы там устроили кладбище своих солдат и офицеров, и мчаться туда за отправлением естественных надобностей, чтобы заодно осквернить могилы своих боевых соратников, и вовсе было бы нелепо. Волоокие и прекрасные девушки, что работали в музее, рассказывали мне, что поверх могилы Толстого был похоронен какой-то немецкий офицер. Это, конечно, было некоторым осквернением. Не думаю, что Толстой, даже при известном его опрощении, обрадовался бы такому соседству. Вот что имелось в виду под осквернением могилы писателя. Как только хмурые красноармейцы из Тулы погнали немцев к западу, могилу вскрыли (в связи с этим осматривали и проверяли и тело самого Толстого), всех немцев выковыряли из мёрзлой тульской земли и выкинули в овраг. Но мои собеседники начали горячиться и с упорством, достойным лучшего применения, кричать: “Нет, нагадили! Насрали!” Это меня раздосадовало. Часто гитлеровцев обвиняют во всех смертных грехах, и это только вредит делу. То есть обстоятельство, присочинённое для красного словца, удивительно некрасиво выглядит на фоне реальных обстоятельств. Получается какая-то бесконтрольная случка кроликов. Гитлеровцев не обелит то, что они не нагадили на могилу Толстого, а если мы будем домысливать эту деталь, то это нас запачкает. Патриотически настроенные собеседники продолжали горячиться, намекали на какие-то немецкие караулы, что стояли в лесу. Но я знал, что не было там никаких караулов — место неудобное, глухое, — именно поэтому там Толстой завещал себя хоронить. Я исходил этот лес вдоль и поперёк. Я не спорил со своими оппонентами — лишь печаль прибоем окатывала меня. И вот почему: мне до слёз было жалко чистоты аргументов, которая была редкостью в истории моей страны. Лаврентия Берию осудили и застрелили, постановив, что он — английский шпион, а Генриху Ягоде отказали в реабилитации, признав, что он всё ещё остаётся агентом нескольких вражеских разведок. И вот ненависть к гитлеровцам, что действительно нагадили людям в душу на огромном пространстве от Марселя до Яхромы, нужно было отчего-то дополнить невероятной кучкой на писательской могиле. Будто без неё не заведётся ни одна самоходка, ни один танк не стронется с места, ни один лётчик не сядет в свой деревянный истребитель, чтобы умереть в небе — согласно своим убеждениям.Но тогда, пробираясь по тропинке, тогда, много лет назад, я думал о том, как мне было хорошо, и был убеждён, что в этот момент хорошо всем. Я много лет потом приезжал в Ясную Поляну и видел там настоящих писателей. Писатели были народ суровый и сурово бичевали пороки общества и недогляд литературы. В Ясной Поляне я как раз и сдружился с харизматическим Архитектором. Метафоры у него рождались из любой подручной вещи. Однажды, сидя за дармовым столом, мы уставились в миску, что лежала на столе перед нами. Миска была в форме рыбы. Ближе к хвосту лежало полдюжины маслин. — Это икра, — угрюмо сказал Архитектор. Он делал открытие за открытием и создавал особое, не географическое, а географическо-поэтическое пространство вокруг себя. Река Воронка была действительно воронкой. Однажды мы с Архитектором отправились гулять. Окрестные пейзаны с удивлением смотрели на странную пару — высокого его и толстого, низенького меня. Архитектор был в чёрном, а я — в белом. Перебираясь через ручей, я разулся и после этого шёл по толстовской земле босиком. Копатели картошки, когда мы проходили мимо них, ломали шапки и говорили: — Ишь, баре всё из города едут… Из этой Воронки, по словам Архитектора, вдруг начинала сочиться бурая мгла. В конце ночи, в зябкий предрассветный час, она всасывалась обратно и исчезала в районе мостика. Как-то я рассказал Архитектору про известный шар, вписанный в другой шар. — Причём, по условиям задачи, — сказал я, — диаметр внутреннего шара — больший. Архитектора это не смутило абсолютно. — Это, — ответил он, — взрыв шара. Как-то он привёз в Ясную Поляну проект или, вернее, идею проекта дома Толстого из света. Дело в том, что этот дом, центральный дом усадьбы, был продан Толстым. Деньги — проиграны в карты, и на его месте полтора века растут деревья. Архитектор предложил нарисовать светом несуществующий дом, в котором родился Толстой, — проект разовый, но уж больно красивый. Если бы его осуществили, то в сумраке между деревьев засветились бы контуры этажей, и можно представить, как представлял себе это Виктор Шкловский, как где-то там, в высоте, поплыл бы знаменитый клеёнчатый диван, на котором впервые в жизни завопил будущий бородатый гений. Ещё меня чрезвычайно раздражало, что Архитектор пользовался успехом у женщин. Только я начинал распускать хвост и рассказывать всяко-разные байки сотрудницам, как появлялся он — и все головы поворачивались к Архитектору.
Во всякой русской местности есть какое-нибудь специальное место, куда ходят женихи и невесты сразу после того, как их союз признан Богом или людьми. То они идут к мятущемуся Вечному огню, то ломятся на какую-нибудь смотровую площадку. Ходят на могилы Толстого, Пушкина, прибайкальские жители ходят на могилу Вампилова. С могилами всё ясно и довольно символично: это древний дохристианский обычай — ходить чуть что на могилы предков. Отсюда и могила Толстого, и могила Вампилова у Байкала, и Вечный огонь — повсеместно. Правда, некоторые жители Москвы и Московской области ездят по Ярославскому шоссе в сторону Радонежа. Там есть памятник Сергию Радонежскому — фигура человеческая с врезанным в неё силуэтом мальчика. Я как-то поехал покупать туда Святую Простоквашу и разговорился с каким-то жителем, что это значит. Он отвечал, что это символ плодородия. Оттого его привечают нерожавшие и бесплодные. Тульские жители, свершив обряд брака, едут в Ясную Поляну. Рядом с музеем-заповедником протекает река Воронка, и именно через реку Воронку женихи носили невест. Носили, правда, по мосту. Река символизировала жизнь, понятное дело, жизнь прожить — не через Воронку пронести, но всё же. При этом женихи были изрядно выпившие, невесты — тоже. Одна из них тревожилась по понятной причине и громко орала шатающемуся жениху в ухо: — Ты, … смотри не … А жених сопел ей в ответ: — Не боись, сука, не боись. Не … Это была идеальная пара. Да.
Я возвращаюсь мыслями к моей вымышленной спутнице. Вот мы идём вместе, вокруг холмы, река вдали. Лев Николаич Толстой бегал сюда купаться. Мы гуляем по полям и наконец находим ясную полянку. Трава на ней скошена, но достаточно давно, так что она не колет ноги. Мы снимаем обувь, я стелю на поляне плед, вынутый из сумки. В какой-то момент моя спутница кладёт мне ладонь на грудь, расстегнув предварительно рубашку. Рот её полуоткрыт, и налитые чувственные губы особенно прекрасны в этот момент. Вскоре мы путаемся в застежках, она наконец откидывает голову себе на локоть… Мы занимаемся любовью прямо под клёкот трактора, вынырнувшего из-за пригорка. Тракторист приветливо машет нам. Нет, так не годится… Куда же идти? Заблудившись, я начал тупо глядеть на солнце. “Оно сейчас на западе, — размышлял я, — оно на западе, а мне надо… Куда же мне надо? На север? Или…” Я вслушивался в шумы. Нет, это не шоссе. Кажется, это вертолёт. И вот, махнув рукой, я зашагал куда глаза глядят. Глядели они туда, куда нужно, и вскоре показались зелёные указатели с загадочной надписью: “К любимой скамейке”. Такие надписи в мемориальных парках всегда приводили меня в трепет. В Михайловском, например, они сделаны на мраморных кладбищенских плитах, и, прогуливаясь поздним вечером, я часто испуганно вздрагивал: что это там, у развилки? Ближе становился различим белеющий в темноте квадрат и кляксы стихов на нём. Несмотря на величие пушкинского слова, хотелось убежать от проклятого места. Тут я даже побежал.
Скоро за деревьями показались белые строения. Первым делом я обошёл музей. Было пустынно. Рядом, отделенное металлической сеткой, стояло освежёванное сухое дерево. В нём неестественным образом торчал Колокол Нищих. Некогда нищие приходили и брякали в этот колокол. Из дома появлялся некто и давал нищим нечто. Или ничего? Огромная глыбища этого дерева стоит у дома матерого человечища. Дерево росло и всасывало в себя колокол. Теперь он торчит почти горизонтально. Ещё у колокола нет языка — как нынче ведут себя нищие, мне неизвестно. По парку ездил на жёлто-синем мотоцикле милиционер и проверял поведение посетителей. Но посетителей уже не было. Один я шёл к выходу. Потом я сижу на занозистом продуктовом ящике и голосую попутку. За надорванную пачку сигарет грязный ассенизационный МАЗ вёз меня к тульской окраине. Солнце пробивает кабину, и шофёр, отворачиваясь от него, рассказывал про систему отсоса всякой дряни из частных выгребных ям. После этого он принялся рассказывать мне анекдоты. Помнил он их плохо и часто останавливался на полуслове, тогда анекдот сдувался, как воздушный шарик.
В Тульском университете мне дали подержаться за реликвию, потрогать пальцем подпись Толстого под собственной фотографией. Сделана она тушью, оттого выпукла и светло-коричнева. Видел я там и желтую книгу “Воскресения”, что издана в Нью-Йорке и деньги от которой перешли к тем самым духоборам. Несколько лет назад я ходил в Туле к церкви. Это был Никола Зелёный, где настоятелем был альпинист, и во время ремонта он штурмовал крышу вместе с друзьями. Всё там было из чугуна — полы, престол. Это был чугунный храм — и всё оттого, что Демидовы занимались литейным делом. Церковная казначейша рассказывала про исцеления. Исцелился даже какой-то психиатр. Казначейша, её звали, кажется, Марина, стояла в притворе и говорила: — Вот у нас есть такая прихожанка, такая она русская-народная, такая сдобная, что прямо с изюмом. Развиднелось. Солнце сочилось сквозь высокие окна. Нас пустили молиться, и, шагая по холодному и гулкому чугуну, мы приблизились к иконам. В этот момент, когда я преклонил колена в этом храме, “боинг”, первый из двух, делал вираж в нью-йоркском небе. Архитектурные стили в Туле передернуты, как винтовочный затвор, смещены, наконец смазаны — как тот же затвор. Десятью годами раньше открытия Америки появилось огнестрельное оружие на Руси. Непонятно, существование которой из этих реальностей больше занимает умы. В Туле рядом стоят два музея — музеи огня и металла. Это музеи оружия и самоваров. В них много общего — пространство, ограниченное железом, и огонь. Пулемет “максим” вообще очень похож на самовар. В обоих кипела вода вокруг нагревательной трубы, и именно про это хрипел комиссар: “Воду — женщинам и пулеметам”. В оружейном музее под стеклом жил сувенирный АКС-74У — хромированный, блестящий и будто неживой. Дело в том, что красота оружия должна быть естественна, когда же его украшают — ничего путного не выйдет. Так и лежат, как поленья, ложи сувенирных ружей, даренных императрицам. Дарёное вернулось назад, не сделав ни единого выстрела. А в тульском музее самоваров я разглядывал самовары-шары, самовары-банки, самовары-вазы, самовары-рюмки и самовары-яйца. Как часовые, стояли сбитеннники и самовары-кофейники. Все они тоже напоминали диковинное, чудесное русское оружие — круглое и покатое. …На площади перед вокзалом стоит автобус. Его водитель обещает за десять рублей довезти до Москвы, если таких желающих наберётся хотя бы двадцать. Двадцать набирается, и я несусь в тёмном и мрачном автобусе на север. Внутренность автобуса время от времени освещается светом встречных автомобилей, а за окном стоит собачье-волчья пора. И отчего я слоняюсь по стране — не знаю того я. Не знаю я, ничего не знаю, не знаю… Внезапно я вижу сон, который приходил ко мне в детстве. Я лежу на своей кровати и откуда-то понимаю, что должен быть один в доме. Однако, поворачивая голову, вижу в лунном свете бородатого старика, сидящего за столом. Старик одет в армяк, перепоясанный верёвкой, а на столе лежат кипы бумаг. Он пишет что-то, но внезапно поднимает лицо и строго смотрит прямо мне в глаза. Весь он серебряный, с серебряной бородой и с серебряными морщинами на открытом лбу. Сейчас, думаю я, он повернется обратно к своим бумагам и напишет там про меня. Он напишет про меня роман, где я, эпизодический герой, буду затоптан лошадьми на Бородинском поле. Этот немедный всадник знает про меня, никчемного беглеца по чужим улицам, всё. Я просыпаюсь. Возвращение на поверхность реальной жизни происходит на тёмном Варшавском шоссе. Нет, это не мой сон. Это детский сон женщины, которая теперь подросла, научилась водить машину и едет с кем-то домой на своей машине. Она куда-то едет и в этот момент обгоняет автобус, выскакивая на встречную полосу. Дальний свет фар на мгновение слепит мне глаза. Я подхожу к своему подъезду. Ночная улица освещена странным оранжевым светом. Около подъезда сбрасывает скорость длинная машина. Чмокает дверца, я вижу профиль женщины, сидящей за рулем, и человека, неловко вылезающего на тротуар. Да ведь это ж я!
Но сон мой был прерывист и краток — известно, у кого бывает такой сон. Навалилось наконец на меня холодное утро. Товарищи мои уже собрались и, насупленно переминаясь, ожидали меня у подъезда. Поднявшись по Прешпекту, мы вышли к Каретному сараю и начали оглядываться, примеряясь, как мы будем бежать из Ясной Поляны. (обратно)
Бегом, через сад
10 ноября. Ясная Поляна — Козельск
Толстой бежал из Ясной Поляны странным образом — он слонялся по дому, кашлял и скрипел половицами, будто ожидал, что его остановят. С дороги, кстати, он слал домой телеграммы под прозрачными псевдонимами. Он ждал знамений, но знамений не последовало. Всё было ужасно театрально, если забыть о том, что клюквенный сок обернулся кровью, и путь увёл его куда дальше Астапова. Итак, 9 ноября (27 октября старого стиля) в три часа ночи Толстой просыпается. Вот как он отмечает это событие в своём дневнике: “28 октября 1910 г. Лёг в половине 12 и спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как в прежние ночи, услыхал отворачивание дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает… Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая └о здоровье” и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу, они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет — сцена, истерика и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу всё кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать… Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне”. Сухотина-Толстая пишет, что последние слова можно сравнить с проектом завещания, в дневниковой записи от 27 марта 1895 года: “У меня были времена, когда я чувствовал, что становлюсь проводником воли Божьей… Это были счастливейшие минуты моей жизни”. Он бежал рано утром — в темноте, прячась у каретного сарая, чтобы затем в рассветных сумерках броситься к станции, да не к ближней Козловой Засеке, а к дальнему Щёкину. Вот он бежит через сад — и теряет шапку, ему дают другую, потом как-то оказывается у него две шапки, как в известном анекдоте про памятник Ленину, который держит одну кепку в руке, а вторая красуется у него на голове. Это был холодный ноябрь в предчувствии снега. Воспоминатели пишут, что было сыро и грязно. И на фотографиях похорон, уже после этой драмы отсроченной смерти, видны пятна снега, а не сплошной покров. Бегство по снегу — зряшное дело, и это описал нам совершенно другой писатель. Его герои бормочут о снеге, и их не радует красота падающих в испанских горах хлопьев. В этом романе застрелившегося американского писателя всё живёт в ожидании снега. Все герои стоят там, задрав головы, и ждут испанский снег в конце, потому что они знают, что на свежем снегу хорошо видны следы, и не уйти от погони. “Один Бог знает, что будет сегодня с Глухим, если до него доберутся по следам на снегу. И надо же было, чтоб снег перестал именно тогда. Но он быстро растает, и это спасет дело. Только не для Глухого. Боюсь, что Глухого уже не спасешь”. И всё потому, что следы партизан хорошо видны на белом — и оборачивается всё чёрным. Однако прочь метафоры. Продравшись через сад, Толстой оказывается в пространстве внешней свободы — но ведёт себя как зверь, подыскивая себе место для смерти. Будто партизан, он чувствует, что сзади дементоры с ружьями. Толстой уезжает из Щёкина поездом в 7.55 — на грани рассвета, с учётом нашей часовой декретной разницы. А вот что пишет Виктор Шкловский: “Владимир Короленко говорил, что Лев Николаевич вышел в мир с детской доверчивостью. Ни он, ни Душан Маковицкий не считали возможным солгать, например, они могли взять билет дальше той станции, до которой собирались ехать. Поэтому они оставляли после себя очень ясный след для погони. Один момент Лев Николаевич хотел поехать на Тулу, потому что поезд на Тулу шёл скоро, ему казалось, что он так может запутать погоню. Но из Тулы надо было бы обратно. Лев Николаевич, очевидно, собирался ехать к Марье Николаевне Толстой в Шамордино, значит, надо было бы проехать опять через Козлову Засеку, где его знали. Поэтому решили ждать на вокзале”. Причём сам Маковицкий не знает, куда они едут, и не спрашивает сам. Они сидят в купе посередине вагона второго класса и варят кофе на спиртовке. На станции Горбачёво они пересаживаются на поезд Сухиничи — Козельск, где, как оказалось, всего один пассажирский вагон. Там накурено, угрюмо, пахнет тем простым народом-богоносцем, который хорошо любить издали. Маковицкий описывает вагон так: “Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне впервые пришлось ехать по России. Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить лицо об угол приподнятой спинки, который как раз был против середины двери; его надо обходить. Отделения в вагоне узкие, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота; воздух пропитан табаком”. Толстой кутается, раскладывает свою знаменитую трость-стул, пристраивается на площадке, но потом возвращается в вагон. Там баба с детьми, надо уступить место. И он, чуть полежав на лавке, дальше сидел в уголке.Было удивительно холодно. Утренним нехорошим холодом, осенним и сырым, холодом после бессонной ночи. Мы подпрыгивали в машине — Архитектор, Краевед, Директор Музея и я. Щёкинский вокзал был пуст. Толстой, похожий на Ленина, сидел на лавке и ждал поезда. Блики семафорной сигнализации плясали на его гипсовом лбу. Вокруг было мертво и пустынно. Дорога начиналась. Сменились названия станции, и исчезли прежние железные дороги — ехать так, как ехал Толстой, было невозможно. Я сидел сзади и думал о частной жизни Толстого, потому что все частные жизни похожи одна на другую и люди, в общем-то, не очень отличаются. Жизнь Толстого только внешне кажется жизнью даоса. Жизнь эта трудна той трудностью, что связана не с голодом и непосильной работой, а с тем адом, что, по меткому выражению одного вольнолюбивого француза, составляют другие. В общем, это всё какое-то безумие. Липкое, клейкое безумие, что требует от человека перемены участи — той, что заставляла острожных сидельцев совершить новое преступление, чтобы только поменять место. А сто лет спустя мы, миновав сумрачную Крапивну, двинулись к Белёву. Первый раз Толстой выходил и пил чай на станции Белёво. Поезда тогда двигались, несмотря на прогресс, медленно, и можно было выбегать в буфет даже не на главныхостановках. Газеты тут же написали: “В Белёве Лев Николаевич выходил в буфет и съел яичницу”, — это была новость безо всякого ещё трагического подтекста. Вот вегетарианец отправился в путь и тут же оскоромился жареным живым существом. За Толстым везде подсматривали, и я думаю, он сильно переживал (пока ещё высокая температура не помутила его восприятие) именно то, что мир сузился и всё стало видно, каждое движение не было тайной более одного дня, как и предсказывал о мире будущего Бентам. Тогда же Толстой, кажется, и простудился. Маковицкий пишет: “Поезд очень медленно шел — 105 верст за 6 ч. 25 мин. (Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Л. Н.)”. Но пока он жив и даже спорит в пути со случайными попутчиками. Он спорил тогда, а сейчас спорят о нём — и он до сих пор не понят вполне. Даже вековое чудовищное преподавание толстовского романа в школе оказывается очень интересным — оттого, что советская власть уже кончилась, а отовсюду продолжают лезть рисовые котлетки и зеркало русской революции. И оказывается, что Толстой — действительно зеркало русской революции. Очень важно, что Толстой прожил долгую, биографически долгую жизнь. Толстой как раз такой человек, что жил очень долго, вырастая из тех мнений, что надевало на него сословие, как из детской одежды, затем вырастая из тех мундиров, что сшил для себя сам, — и так повторялось много раз. Человек, родившийся за год до того, как толпа с сапожными ножами приближалась к русскому посольству в Тегеране и потом тащила по улицам то, что осталось от Вазир-Мухтара, дожил до фонографа, фотографии, телефонов, аэропланов, бронепоездов, миномётов и пулемётного огня. Даже до первой волны сексуальной революции. “Война и мир”, как ни крути, — символ русского романа. Особенность Толстого заключалась ещё и в том, что он придумал несколько совершенно самодостаточных миров. Оттого история войны 1812 года воспринимается именно как история, рассказанная в романе “Война и мир”. И художественный образ, расширяясь, увеличиваясь в объёмах, как сказочный великан, подмял под себя жалкие вопли историков. Бородинское сражение мы воспринимаем именно так, как оно было описано в романе. При этом сначала на Льва Толстого топали ногами очевидцы и участники, а потом какие-то историки пытались ниспровергнуть величественный образ Кутузова (а он у Толстого похож на мудрого друида, смекнувшего, что из священного леса уже выломано дерево, из которого сделают народную дубину, и конец всему, что встанет на дороге). И “Война и мир” навсегда стала энциклопедией — причём по тому же типу, что и пушкинский роман. При этом понятно, откуда пошла эта фраза, и “Евгений Онегин”, в котором время счислено по календарю, который комментировали все приличные филологи, так же набит деталями. У Вересаева есть история про то, как он участвовал в работе филологического кружка, где разбирали “Евгения Онегина” построчно — и за год дошли только до фразы “И, взвившись, занавес шумит” — почему шумит? Если уже взвился? Как это? Отчего… Толстовский роман можно читать так же. “Война и мир” для нынешнего читателя тоже энциклопедия русской жизни, но только особенная — та, в которой ничто не счислено и мало что — по календарю, всё подчинено разным замыслам мироздания. Комментирование её, вернее тщательный разбор может привести к не менее интересным открытиям. Внимательно читая роман, можно много понять в трёх русских революциях и даже то, почему Абрамович купил “Челси”. Толстой совмещает биографическое жизнеописание с описанием быта — и мало того что приводит в роман толпу своих родственников с их привычками и характерами, но и насыщает его мелкими деталями, каждая из которых сама по себе — целый остров в океане жизнеописания. Вот чудесное выражение “Денщик рубил огонь”. Это означает, что денщик рубил по кремню кресалом, высекая искры. Стальное жало било в кремень, искра попадала на пропитанный селитрой трут, который тлел, а от него зажигали далее упоминающиеся Толстым серники. Это своего рода протоспички — лучины с серной головкой, которая вспыхивала от трута. (От трения она не загоралась.) “Сера нужна для огнив и высекания огня; для сего обмакиваются в серу либо концы лучинных спичек, либо проволакиваются сквозь растопленную серу шнуры, или толстые нитки, или бумажные узкие полоски, и потом к прильнувшим к труту искрам прикладываются”, — сообщал “Экономический магазин” за 1787 год. Иногда серники звались “маканки” — по процессу нанесения расплавленной серы. Что интересно, так это то, что в том самом 1812 году появились так называемые спички Шапселя, головка у которых состояла из серы и бертолетовой соли. Их зажигали лупой или капали на них серной кислотой. Естественно, что это было неудобно, пожароопасно и дорого, но фосфорные спички появились гораздо позже. Фосфорные спички появились во времена юности Толстого и навек вошли в историю своей ядовитостью. Белый фосфор, растворённый в воде, был ядом, и “она отравилась спичками” стало ходовой развязкой бульварного романа. Первые безопасные спички стали делать в 1851 году братья Лундстрем в Швеции… Пушкин писал как очевидец, а Толстой пишет об Отечественной войне и отечественном мире накануне творческого и жизненного кризиса как путешественник, отправившийся в прошлое, рассказывающий публике об увиденном — но он не в силах удержаться от интерпретации. Это просто невозможно, кто бы ни был на его месте. Есть известное место в этой книге, когда “государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона”. Это один из самых рисковых эпизодов “Войны и мира” — молодой Ростов наблюдает давку народа за бисквитами, сам бросается за ними, и это как бы карикатура на власть, спустя много лет отзывающаяся в сознании современного читателя Ходынской катастрофой — в Ясной Поляне на полке до сих пор стоит подарочная кружка, одна из тех, за которыми давился народ на Ходынском поле. Но Толстой пишет свой роман задолго до коронации Николая II, просто иллюстрируя свою идею бессмысленности власти в момент исторического выбора. Судя по всему, Толстой выдумал этот эпизод. Более того, сцена с бисквитами стала одной из особых претензий к роману. Сразу после публикации П. А. Вяземский написал мемуар “Воспоминания о 1812 годе”, в котором и говорил о недостоверности сцены. Толстой отправил в “Русский архив”, напечатавший Вяземского, свой ответ, где утверждал: “Князь Вяземский в № “Русского архива” обвиняет меня в клевете на характер и<мператора> А<лександра> и в несправедливости моего показания. Анекдот о бросании бисквитов народу почерпнут мною из книги Глинки…” Редактор “Русского архива” П. И. Бартенев этого эпизода в “Записках о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения” не обнаружил. Оттого ответ Толстого не попал на страницы журнала, но Толстой настаивал на том, что всё написанное — след подлинных событий. Комментаторы толстовского текста ссылаются на Эйхенбаума, который обнаружил нечто похожее в книге А. Рязанцева “Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 г.”, вышедшей в 1862 году: “…император, заметив собравшийся народ, с дворцового парапета смотревший в растворенные окна на царскую трапезу, приказал камер-лакеям принести несколько корзин фруктов и своими руками с благосклонностью начал их раздавать народу”. Эйхенбаум считал, что Толстой “описывал эту сцену на память и заменил фрукты бисквитом”. Вероятнее другое — идеи Толстого требовали этой сцены (а она то и дело повторяется в разных странах и в разные времена), она ему была нужна, была естественна — и вот появилась. Сама по себе эта история очень показательна и постоянно повторяется — противоборство “возвышенных патриотов”, “очевидцев” — и “писателей-очернителей”, “критиков истории” вечно. Жизнеописание становится энциклопедией жизни не только благодаря, но и вопреки своим деталям. Рассуждение о литературе всегда вызывается путешествием. Ведь дело в том, что некоторый испуг от незнакомой местности, от новых людей возбуждает, а самый лёгкий способ побороть страх — это начать о нём рассказывать. (обратно)
Машинка времени
10 ноября. Белёв
Но толку-то — мы тоже давно были в дороге. Махала нам вслед с золотого поля звезда из шести крапивных ветвей — “по имени сего города”. А встречал путешествующего из Крапивны горящий гербовой сноп колосьев. Герб Белёва был создан Франциском Санти в начале XVIII века. В бумагах, ему присланных, единственное, что интересного говорилось об этом городе, так это о страшном большом пожаре. Этот пожар истребил “посацких людей многие дворы”, да и “замок рубленый весь сгорел”. На самом деле Белёв был знатным городом. Был он ровесником Москвы, так как упоминался в летописях с 1147 года. Сначала Белёв был под Литвой, а в 1494-м присоединён к Москве и входил в засечную полосу. После долгих блужданий между скользкими боками губерний он оказался уездным в Тульской — причём вторым в губернии после самой Тулы. Директор Музея первым делом стал тыкать пальцем в то место, где стоял татарский ледяной замок, снежная крепость, комендант которой изрядно навалял нашим предкам. Я слушал его внимательно, но потом отвлёкся и стал разглядывать жестяные ржавые плакаты на улице. На них были перечислены достижения горожан. “Столица яблочной пастилы” — такие сведения почему-то особенно поражают. Или, скажем, то, что здесь “развито плетение кружев на коклюшках”. Но первой строкой в списке нужных человечеству вещей, что производятся в Белёве, значились огнетушители порошковые. Очевидно, что это было волшебное предвидение Санти, сила городского герба. Уж потом, после огнетушителей, шли цилиндры тормозные, что плодоовощные консервы, да соки того же извода и, наконец, снова — коклюшки с пастилой. Плыл поблизости старинным кораблём, обветшавшим летучим голландцем, мужской монастырь Св. Макария Жабынского — белёвского чудотворца. Краевед тут же сказал, что город назван по реке Белёве, что впадает в Оку, и говорили, что это от мутного течения белей — воды вместе со светло-серыми супесями подзолистых почв. И то верно, плыло всё. Красный кирпич монастырей, изъеденных временем, с выкусанным и утерянным мясом стен плыл над этой мутной водой. Неспешно плыла в реку грязь недавних дождей. Внутри монастыри были наполнены человечьим жильём да грядками. Курились трубы, спали блохастые собаки, а все люди ушли-уплыли производить порошковые огнетушители, плодоовощные соки или отправились вязать на коклюшках. Без них плыли сквозь скелеты куполов белёсые облака. Мы пошли в столовую на рыночной площади. Настоящий путешественник сливается с дорогой медленно — он прикасается к ней через тысячу мелочей и важных событий, но часто упускает главное. Главное — это дорожный корм. Путевая еда изменяет путешественника, она замещает в нём домашнюю плоть. И чем дальше ты удаляешься от дома, тем больше это превращение. Вот ты уже научился резать барана, а вот ты хлебаешь ложкой из оловянной миски, и гортанно кричат твои попутчики, спорят о чём-то. Ты делаешь ещё несколько глотков и вытираешь руки о халат. Да вот ты уже и в халате, и в этот момент чужая речь становится для тебя родной. Вот что такое дорожная еда — каменеющий хлеб и банка тушёнки-американки в вещмешке, мытый пластиковый стаканчик и неизвестное существо, погибшее смертью Жанны д’Арк, — всё превращает тебя из сидельца в человека дороги, если не сгинешь от несварения желудка. И мы притормозили у белёной белёвской белой известковой стены и шагнули внутрь. В этот момент странные вещи начали твориться со временем. В дороге время течёт особенно, оно прыгает и скачет, его взбалтывает на ухабах. Никто не знает, что случится с близнецами — и никакая относительность ничего не объяснит. Толстой, как пишет про это Шкловский, вспоминал, что встречался с Герценом каждый день целых полтора месяца. Но Толстой был в Лондоне шестнадцать дней, а через полвека, в воспоминаниях, срок утроился — время путешествия растянулось. Дорога произвольно меняет все четыре вектора координат, и время — в первую голову. Итак, мы ступили в сырой мир столовой. Там на иконном месте висел плакат:Хлеба к обеду
В меру бери.
Хлеб — драгоценность.
Им — не сори.
Архитектор уткнулся безумными глазами в стойку — и было чему удивляться. Там на тарелочке лежала живая еда мёртвой советской власти. Там стояли совнархозовские весы с тонкой талией, там пахло прелым и скучала старуха в белом. Мы взяли крохотные чеки, похожие на троллейбусные билеты нашего детства, и пошли к раздаточному окошку. Тарелки с битым краем и реликтовой надписью “Общепит” содержали капустный суп. Погибшая армия серых макарон лежала в соусной жиже. Водку нам продали, посмотрев на часы — мы проследили взгляд кассирши, и всё стало ясно. Внутри столовой стоял вечный ноябрь восемьдесят второго, Ленин на металлическом рубле давал отмашку на одиннадцать часов — время прыгнуло и остановилось. Всё пошло вспять. Хрипел громкоговоритель рабочим полднем, превратившимся для нас, бездельников, в завтрак. Кажется, наш “фольксваген”, стоявший у крыльца, медленно трансформировался в зелёную буханку УАЗа (водитель побледнел). Теперь жидкое время лилось в стеклянные мухинские многогранники. Водка звалась “Гаубица” — от неё у Архитектора тут же выскочили глазные яблоки, точь-в-точь как у диснеевского персонажа. Но какие диснеевские персонажи в восемьдесят втором году? В одной повести у Виктора Некрасова есть эпизод, когда он, уже старый и заслуженный писатель, приплыв на теплоходе в Волгоград, идёт в лёгком подпитии по улице. Видит сдвинутую крышку люка и через эту дыру зачем-то спускается в какой-то канализационный люк. Вот он проходит по коридору… и внезапно попадает в сорок второй год, в тот же самый подвал. — Ну что, капитан, мины-то поставил? — спрашивают его. Там сидят его друзья — некоторые уже убитые, те, кто выживут, и те, кого убьют после. Они наливают трофейного, сажают за стол. И у него начинается жизнь наново, жизнь, из которой не выбраться обратно через люк, а надо лезть наверх по лестнице и проверять боевое охранение. Но нам-то, суетливым путешественникам, судьба надавала плюх, встряхнула за шиворот и выпихнула вон. Сработали белёвские тормозные цилиндры гранёного стекла, и время остановило свой бег. Началось перемещение в пространстве. Мы упали в немецкую железку, будто в утлый чёлн. Мотор фыркнул, и русская дорога начала бить нас по задницам. (обратно)
Злой город и пустынь
10 ноября. Козельск и Оптина
Нет ничего более патриотичного, чем любовь к русской дороге, и нет ничего более перевранного, чем обиходные цитаты. Я, впрочем, об этом говорил. Дорога была ухабистой, и нам всем пришлось замолчать. Да толку-то — мы не можем молчать, как нас ни предостерегай, — и, рискуя языками, мы заговорили о русской истории. Мы свернули с дороги, что вела вдоль железнодорожного полотна, и поехали кругом. Тут дело было вот в чём: дороги вовсе не было — начиналась обыкновенная русская грязь. Да и железная дорога стала другой — Толстой мог ещё путешествовать по ней пассажиром, а вот мы — уже нет. И вот, хитрым окольным путём, мы въехали в Козельск. Козельск-то — место странное, и Архитектор, когда мы остановились у моста, тут же сказал: — Козельск выстроен как пункт, представительствующий от высокого берега на низком. Я, глядя на купола, сочувственно закивал. У меня с Оптиной пустынью были очень странные духовные отношения. Пока мои спутники ловили геомагнитную волну, взмахивали руками и общались на своём удивительном языке, я пытался разобраться в своих мыслях. Если принять существование обкомовского стиля, то Оптина была построена в обкомовском стиле XIX века, в этом несколько стандартном классицизме. Архитектору было там неуютно, Директору Музея — скучновато, а мне — только любопытно. Я всегда воспринимал это место как особую площадку Церкви для общения с православными читающими людьми. Мы вошли в угрюмоватое место — Дом паломника. Стояли на крыльце всё хромые и увечные, курить было нельзя, а в комнате, где мы улеглись, оказалось сыро и промозгло. Я относился к этому неудобству философски: во-первых, в чужой монастырь со своим уставом не суйся. А во-вторых, как говорил один многолетний сиделец, русскому писателю всё полезно. Под утро я почувствовал, что плыву на чужом, не мной описанном сейнере, где дух махры и пота, поутру стоит особая влага в воздухе и слышится чужой и свой кашель, а то и вовсе подойдёт дневальный и начнёт трясти тебя за плечо — вставай, дескать, товарищ сержант, пора, через пять минут кричать тебе: “Батарея, подъём!” Оптина пустынь, что лежала рядом, была местом литературным. Что хорошо в русской литературе, так это то, что она несколько веков замещала русскую философию, русскую общественную мысль и русскую историю. Думаете, не по Акунину будут учить русско-турецкие войны? Нет, по Акунину! Не поможет список ошибок, составленных историками. И здравый смысл не поможет, и опыт Толстого с Бородинским сражением, а также прочие описания траектории дубины народной войны. И вот, слушая истории про писателей, ты вдруг останавливаешься зачарованный — потому что перед тобой открываются новые ворота. Ты стоишь бараном перед ними — а на самом деле это ворота Расёмон. Одна из историй, случившаяся с Гоголем, разворачивалась именно тут, и даже известна её точная дата. В 1851 году Гоголь выехал из Москвы на юг, сначала на свадьбу сестры, а затем собираясь провести в Крыму зиму. Однако ж поворотил в Оптину, а затем вернулся обратно. Эту историю всяк рассказывает на свой лад, и больще она похожа на знаменитый рассказ японского любителя Толстого Акутагавы “В чаще”. Вот какая причудливая жизнь у русских писателей, доложу я вам. Такая вот вечная музыка, такие ворота Расёмон. Архитектор мне сказал: — Не надо, не пиши про Оптину, не надо. Тема известно какая, Краеведу может быть неприятно, ты человек буйный… Не надо. Я согласился, потому что был подвержен лени. Не прост город Козельск, совсем не прост. Он действительно такой гражданский ответ Оптиной пустыни. Но тут верная примета: как напишет кто в духе “А от нас скрывали!”, так, значит, история стала по-настоящему путаной и уж точно — народной. Вот, дескать, нам говорили, что город героический, меж тем там послов татарских перерезали. Вот, скажем, Гумилев написал, что Козельск был разрушен за то, что его князь, Мстислав Черниговский, участвовал в убийстве этих самых послов. Послов, разумеется, глядя из нашего времени, жалко, и очень хочется верить, что, если мы их обидели зря, календарь закроет этот лист. Непонятно, впрочем, отчего влетело именно Козельску. Натурально, выплывает книга “Память” писателя Чивилихина и прочие расписные челны этногенеза. Небесный Козельск со старцами, преклонённой русской литературой и могилами философов симметричен подземному Козельску, где повсюду с 1961 года адовы ракетные машины со страшными названиями, как уныло сообщают нам военные справочники. Есть там ещё статуя Безымянного Пионера — на том самом откосе, откуда татары должны были сбрасывать, если сбрасывали, последних защитников Козельска. У магазина меня остановил местный сумасшедший и стал горячо уверять, что у этого пионера глаза светятся по ночам. Да и памятник Ленину в этом городе чрезвычайно хорош. Это обычный конторский бюст, только поставленный на гигантский ступенчатый постамент. Не-встреча и не-разговор с людьми из Оптиной у Толстого была случайностью. Но случайности наслаивались друг на друга, сплетались, опирались друг на друга, образуя нерушимую ткань вероятности и неизбежности. А ведь Толстой уже пытался снять тут дом, как потом попытается снять его в Шамордине.Дома остаются частью человека. Даже так — каждая ночёвка, её обстоятельства, чужой дом, лес, под пологом которого ты заснул, остаются частью тебя. Я десять лет жил неподалёку от дома Толстого в Долго-Хамовническом переулке. Хамовники — это от Хамовнической слободы, слободы ткачей. Дом Толстого, его городская усадьба, был зажат фабричными корпусами. Они стоят и сейчас, всё такие же — облупленная краска и кирпич из-под неё. Рядом метро, Комсомольский проспект, улица перекопана, и я застал ещё тот странный звук, что раздавался окрест. Это всё так же, как и сто лет назад, стучали ткацкие машины. Теперь там тишина конторских зданий и неторопливая жизнь нового купечества. В доме Толстого, кажется, до сих пор нет электричества, вроде ничего не изменилось, но за садом стоят новостройки, серая кирпичная пятиэтажка и те же фабричные трубы. В этом доме Толстой написал знаменитые статьи “В чём моя вера?”, “Так что же нам делать?”, писал и сказки для издательства “Посредник”, но эти вопросы, вечные вопросы, главные вопросы не переставали его мучить. Был 1882 год, в воздухе ещё стоял запах крови, присыпанной песком, да едкий пироксилиновый дух от разорвавшихся бомб. Иногда бомбы называли снарядами. Наши современники скорее назвали бы их гранатами. Рядом, на сквере Девичьего поля, стоит памятник Толстому — вообще в Москве четыре памятника Толстому. Тот из них, который находился в этом сквере раньше, прячется теперь во дворе дома-музея на Кропоткинской, дома, в котором Толстой никогда не бывал. Памятник неканонический, Толстой там хитёр, странен, руки его засунуты под ремешок, прижаты к выдающемуся под рубахой животу. Если глядеть из переулка, он похож на нескромного прохожего. А на его прежнем месте — гигантская серая глыба. Непонятно, где кончается постамент и где начинается фигура. Это традиционный великий Толстой, поскольку похож на глыбу из известной цитаты. Теперь актуальность этой метафоры утеряна. В кабинете дома в Хамовниках есть стульчик. Толстой любил говорить о том, что и в старости его зрение настолько хорошо, что он может читать и писать при одной свече. А зрение подводило, и Толстой потихоньку отпиливал ножки у стула, чтобы быть ближе к бумаге. Это был способ взаимоотношений с действительностью. Сейчас слова классика марксизма забыты, меж тем раньше их знал всякий: “С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе… └толстовец”, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит └я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием, не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками… юродивая проповедь └непротивления злу насилием”, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление завести вместо попов по казённой надобности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины”. Ленина можно цитировать бесконечно: в нём ядовитый дух времени. А сам Толстой писал о себе: “Из двух лет умственной работы я нашёл простую старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, я нашёл, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти отношения удивили меня сходством с христианской религией, и вместо того, чтобы открывать сам, я начал искать их в Евангелии, но нашёл мало”. Поиски были мучительны, и в них он был одинок. Толстой уравновешивает сознание верой. От сознания — одна беда, оно напоминает о слабостях, уничтожает иллюзии. “Сознание” можно заменить словом “рассудок”. Холодный разум сжигает Андрея Болконского. Безухов умён и наивен, разум позволяет ему рассуждать, а наивность — сохранять иллюзии. Левин достигает, наконец, равновесия, когда относится к своим убеждениям как сапёр к зарытому фугасу. Прячет Левин верёвку и ружьё, чтобы не дать выход отчаянию. Чтобы не носить очки, Толстой укорачивает ножки собственного стула, подпиливает его ножки. А собственный стул почти то же самое, что собственный сук. В этой вере очень много недоверия. В воспоминаниях дочери Толстого есть следующий рассказ: “…Василий Маклаков, человек образованный и острого ума, говорил о последователях Толстого: тот, кто понимает Толстого, не следует за ним. А тот, кто следует за ним, не понимает его. Среди многочисленных посетителей, прибывавших со всех концов света повидать отца, было много так называемых └толстовцев”. Чаще всего они стремились внешне походить на своего учителя… Те, которые понимали Толстого, не могли за ним следовать. Ведь Толстой считал, что каждый человек свободен жить согласно своим взглядам. Итак, для тех, кто понимал Толстого, внешние признаки не имели большого значения. Однажды, среди людей, бывших у отца, я увидела неизвестного молодого человека. Он был в русской рубашке, больших сапогах, в которые с напуском были заправлены брюки. — Кто это? — спросила я у отца. Папа наклонился ко мне и, закрывая рукой рот, прошептал мне на ухо: — Этот молодой человек принадлежит к самой непостижимой и чуждой мне секте — секте толстовцев”. Это только фраза. Толстой не чурался своих последователей. Но с последователями не везло — ходил в московский дом Толстого скромный судебный чиновник. Потом он стал полковником — жандармским. Фамилия его была — Зубатов. Ученики уже в свою очередь учили, как жить. Один из них на покосе стал требовать ухода Толстого от жены, бегства из семьи, да так требовать, что великий писатель земли русской, матерый человечище, у которого тоже в жилах была кровь, а не водица, заревел и пошёл на обидчика с косой. Появился Чертков. Чертков был чрезвычайно интересный человек — хоть к нему приклеилось слово “ученик”. Но это был такой ученик, который чуть что пенял учителю и одновременно был с ним в каком-то удивительном духовном родстве. На взгляд из циничного двадцать первого века, так и вовсе — в отношениях нежных. Даже ручка, то есть чернильное самопишущее перо, которым Толстой писал (и подписывал), была чертковской, не говоря уж о том, что мёртвого писателя обряжали в чертковское бельё. Конечно, Чертков был организатором издательства “Посредник”, печатавшего народные рассказы и повести Толстого. И конечно, Чертков был проповедником, но проповедовал он не совсем то, что Толстой. Он хотел создать вокруг Толстого что-то вроде организации — и отчасти создал некую структуру, прекрасно понимая, что выживают не одиночки, а структуры. Много написано об имущественных спорах, о многочисленных завещаниях Толстого, и надо сказать, что Чертков победил всех, однако ж такая победа потом всегда оборачивается бесчисленными претензиями мемуаристов. А тем временем толстовцы основывали земледельческие колонии, занимались “мозольным трудом”. Среди набивавших обручи на бочки был Иван Бунин. Люди бросали всё и уходили пахать землю, и пахали её, в конечном счёте, плохо — так об этом писал Шкловский. На изломе времени, что сменяет сытые моменты цивилизации, которые обычно предшествуют другим, более страшным и переломным, возникает интерес к астрологии и древним религиям. Откуда ни возьмись, выскакивают проповедники, призывающие складывать деньги в общую кубышку, опроститься… Клубится над завёрнутыми в простыни проповедниками загадочное Дао, похожее на теплород. Разумеется, явились и индусы. Почти мифические, но воспетые тем же Буниным… Делалось что-то не то, и это Толстой понимал. Он писал в письме: “Удаление в общину, община, поддержание её в чистоте — всё это грех, ошибка. Нельзя очиститься одному или одним. Чиститься, так вместе, отделить себя, чтобы не грязниться — есть величайшая нечистота, вроде чистоты дамской, добываемой трудами других. Это всё равно, как чистить или пахать с края, где уже чисто…” Но, разогнавшись, фаэтонова колесница катилась, не поддаваясь управлению, и остановить её было невозможно. Толстой всё время воевал с оковами государства, церкви, общественного мнения, когда они мешали свободе выбора, и видел, может быть, с ужасом, как его вера, превратившаяся в учение, тоже костенеет. Меньше всего Толстой хотел создания собственной церкви, а она создавалась. Его ученики начали строить здание, а оно уже шаталось. Ученики, в отличие от Левина, обращались с хитроумными проводочками взрывателя не очень бережно. Любое учение, завоевывая вначале бескорыстных приверженцев, затем обрастает аппаратом власти, а значит, и способами её удержания. Так, вослед христианской крови на песке римских цирков всегда пылают костры, и христиане лихо жгут или режут тех, кто поёт по-французски те же псалмы, что другие поют по-латыни. Процесс этого превращения бесконечен, чуть только возникала утопия (а утопии с ходом истории плодятся постоянно), за ней шли вооружённые люди, чтобы на штыках принести эту утопию народам. Чеканный, в брызгах крови шаг утопии слышен до сих пор — в колыхании размножающихся сект, в движении их по миру. В своей автобиографической книге Олеша писал: “Я думаю сейчас о Льве Толстом. Он постоянно размышлял о смерти. Теперь вспомним, в чём выразилась для него смерть. Он заболел воспалением легких, и когда на другой или на третий день ему стало плохо, он начал дышать громко, страшно, на весь дом. Это так называемое чейн-стоксово дыхание, то есть симптом смерти при парализующемся центре дыхания, названный так по имени двух описавших его врачей Чейнса и Стокса. При этом симптоме Лев Толстой умер”. Когда умирал Сталин, по радио передавали бюллетени о его здоровье, а вернее — нездоровье. Многие не понимали этих слов — “чейн-стокс”, но их понимали родственники “врачей-убийц” и с замирающим сердцем вглядывались в чёрные тарелки кухонных радиоточек. Кажется, что я отвлекаюсь от Толстого. Вовсе нет — учение Толстого, его путь к счастью не был реализован. За ним не встала государственная машина, репрессивный аппарат — такие, какие встали в своё время за церковью. Такие, какие стояли за спиной умирающего сухорукого старика с парализованным центром дыхания. Даже японские отравители, с тёмным прошлым и настоящим, то ли виновные, то ли нет в смерти пассажиров токийского метро, — явление, несовместимое с толстовством. Утопия в жизни — всегда тоталитарна, она принудительна. Чистота её отнюдь не дамская и не крестьянская, это чистота плаца и дорожки между бараками. В этом смысле Толстому повезло. Учение осталось утренней забавой помещика. Толстовцы остались мучениками и не переродились в правящую партию. Раскачиваясь в жестяном коробе, подпрыгивая на ухабах, мы с Краеведом толковали об отлучении Толстого, которое не было отлучением, а каким-то загадочным соглашением. 24 февраля 1901 года в “Церковных ведомостях” было опубликовано определение Святейшего синода об отлучении Толстого от церкви. В нём говорилось: “Граф Толстой в прельщении гордого ума своего восстал на Господа и на Христа его”, отрекся от церкви православной, “посвятил свою литературную деятельность на распространение в народе учений, противных Христу и церкви”, “он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной церкви — отвергает личного живого Бога, во Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и Спасителя, восставшего из мёртвых, отрицает бессеменное зачатие Иисуса Христа Господа”. Далее Синод перечислял другие грехи Толстого: отрицает девство Богородицы, не признаёт загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства церкви, ругается над священными предметами веры православной, глумится над величайшим из таинств — святой евхаристией. Но в “Критике догматического богословия” сам Толстой писал: “Православная церковь! Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самодовольных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячами других нестриженых людей, находящихся в самой рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ”. Далее общественная мифология для реставрации событий использует рассказ Куприна “Анафема”, сюжет которого заключается в том, что герой, дьякон Олимпий, вместо того чтобы, по распоряжению начальства, предать Толстого анафеме, поёт ему “Многая лета”. Однако Святейший синод лишь засвидетельствовал свершившийся факт. Отлучение оказалось странным и не испугало ни Толстого, ни его почитателей. Толстого больше пугали неудачи собственной церкви на практике, а главное — в себе. Хозяин стульчика отчего-то стеснялся очков. У стульчика отпиливались ножки, чтобы сидеть пониже и не пользоваться очками. Но вечно отпиливать ножки нельзя. Когда-то нужно считаться с реальностью. Даже здесь, в хамовническом доме. И большой, сильный человек, мучаясь от несовершенства мира, надевал валенки и спускался к Москве-реке за водой, которую потом вёз в саночках… (обратно)
Все счастливые семьи
11 ноября. Козельск — Калуга
Мы поехали в Шамордино, где среди пустых полей высилась громада красного монастыря. Конфиденты мои тут же, остановившись, начали спорить о том, что Оптина пустынь — академизм сороковых годов XIX века, а Шамордино — возвращение к русскому стилю восьмидесятых. Это была мечта тех историков, что грезят о “викторианской России”. До меня, отошедшего курить, доносилось: — Шамордино! Кембридж! Монолит! — Краснокирпичная русская! — Псевдорусская!.. — Генеральная линия! Планировка! Кассель! Замок-дом Перцова! — А вот ось в виде зелени полей, видная с лестницы. Конец перспективы! Некуда отсюда ехать Толстому! Я выколотил трубку и пошёл искать следы Толстого. Он тут то снимал комнату на месяц, то торопился уехать. То сопел одиноко, ворочался, то порывался уехать. У него здесь была встреча с сестрицей и беседы на детско-английский манер — это теперь кажется сценой из романа. Это было как возвращение в детство — а для меня к Казани, то есть к той осени, когда я ездил с Архитектором в Казань. А город Казань — хитрый город. География его непряма, и недаром его прославил знаменитый ректор местного университета. Геометрия города крутила ректора так, что параллельные мысли пересекались — и он вовсе не был автором дурацкой фразы про пересекающиеся параллельные. В голове самого ректора никакой битвы параллельных не наблюдалось. Существует миф о содержании пятого постулата, от которого отказался Лобачевский, миф о его внутреннем содержании. (Кстати, никто не помнит о первых четырёх.) Этот миф так же живуч, как миф о том, что истинный смысл названия знаменитого романа Толстого “Война и мир” был утерян во время реформы орфографии. Скоро эти мифы окончательно укоренятся в общественном сознании, о них скажут тысячу раз и гробовой крышкой прихлопнут первоначальное знание. На могиле Лобачевского, похожей на старинный буфет, — герб со щитом Давида, составленный из двух школьных угольников, и жужжащая пчёлка. Герб Толстого не в пример затейливее. Город Казань настолько задурил голову студенту Ульянову, что его вышибли из университета через три месяца после поступления. И после этого он уже больше нигде не учился. Даже он оказался слишком нормальным для этого города. Казань перекрутила его, и он пошёл по жизни ушибленным пересекающимися параллельными, исключёнными точками. Вынула Казань из Володи пятый постулат, вынула как пятый элемент, и настали потом всем квинта и эссенция, а также полный перпендикуляр. Именно в этот город попадает подростком Толстой. На его пути вырос один из самых странных городов Империи — не холодный чертёж Петербурга, не мягкая, как грудь кормилицы, матерь городов русских, не баранки-кольца и самоварные храмы Москвы. Именно Казань формировала и формовала Толстого зычными криками Востока. Казань холмиста и, более всех других российских городов, зеркальна Москве. Отражением храма Христа Спасителя возводится там, в казанском Кремле, мечеть Кул-Шариф, есть там свой пешеходный Арбат, строящийся подземный торговый центр и собственное метро. Это реальное сочетание Руси и Востока — будто зеркало битвы московского мэра и татарского президента. И дух этого города немногим изменился с тех пор, как Толстые переехали в Казань в ноябре 1841 года. Нужно только принюхаться к городскому воздуху, отделить запах верблюжьей шерсти от бензиновой гари и заводской дым — от резко континентальной дорожной пыли. Толстые ехали через эту пыль, через Владимир и Нижний, через Макарьев и Лысково, Васильсурск и Чебоксары. Они совершали долгий путь для того, чтобы осесть в доме Горталова на Поперечно-Казанской улице. А потом, в августе 1844-го, переехать в дом Киселевского на углу Арского поля. Я видел эти дома. Один из них находится рядом с тюрьмой — добротной старинной тюрьмой, существующей в прежнем качестве. Развалины толстовского дома были завалены битым кафелем и обычной унылой трухой. Это отражение в кривом зеркале, особое преобразование, при котором русская дворянская роскошь, смешанная с азиатчиной, превращается в азиатскую нищету советского времени. Университет восточного города был настоящим восточным университетом. Недаром Лобачевский, ставший попечителем Казанского учебного округа, заведовал огромной территорией. Границы этого округа уходили параболой к Ледовитому океану с одной стороны и рушились в пустыню с другой. Восточной границы у этой параболической территории не было. Университет был воротами на юг и восток. Южное и восточное знание выплавлялось на лекциях, где персидские и арабские слова мешались, кривые, как ятаганы, арабские буквы бились со встречной строкой латыни. Младший Толстой сдаёт вступительные экзамены в Казанский университет неважно, потом позднее пересдаёт. Тогда это было неловко, но возможно. Примерно в то же время, когда Толстой пишет прошение о дополнительных экзаменах, у гоф-медика Берса рождается дочь. Дочь существует отдельно, время длится, эти двое существуют пока параллельно, геометрия Лобачевского еще не прогнула эти прямые. Летопись его учебной жизни однообразно симметрична. Учению товарищей соответствует созерцательность. Зубрёжке — некоторая лень, усидчивости — ветреность. Матрикулы и прочие бумаги состоят из унылого перечисления неявок и неудовлетворительных оценок. “1845 — на полугодичный экзамен по истории общей литературы не явился… Арабский — два… Не допущен к переводу на второй курс восточного разряда философского факультета… Январь 1846 — карцер за прогулы лекций (уже на юридическом факультете)”. При этом откуда-то взялось стремление быть Диогеном — Толстой сшил себе длинный парусиновый халат, полы которого пристёгивались пуговицами внутрь. Халат служил также постелью и одеялом. Время сохранило описание этого халата как диковинного существа. А многие другие детали смыло, унесло куда-то волжской водой за границы Казанского ханства. И наконец, 12 апреля 1847 года, было подано прошение об увольнении — “по расстроенному здоровью и семейным обстоятельствам”. Сам Толстой, в своей заметке для Бирюкова, писал, что “причин для моего выхода из университета было две: брат кончил курс и уезжал, 2) как это ни странно сказать — работа с └Наказом” и └Esprit de lois” Montesquieu (она и теперь есть у меня) открыла область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но и мешал ей”. Совершенно непонятно, что было бы, если б Толстой прогнул себя под криволинейный мир казанской цивилизации, что было бы, если б он с блеском закончил университет — безусловно, один из лучших в мире. Он был бы другим, это бесспорно. Может быть, он встретился бы с исламом в качестве посланника, а не артиллериста. Но тогда другие люди собирали бы разложенную в ряды функцию писателя. По-другому легли б слова и строчки. А в Казани у человека меняется почерк — даже я там стал писать какой-то вязью. У букв появились длинные и изогнутые хвосты и началия.Я жил внутри этого сказочного города в странной квартире с кривыми трубами и взрывоопасной газовой колонкой. Давление воды в трубах внезапно падало, и из крана начинал рваться пар — тогда нужно было бежать на кухню, шлёпая голыми пятками, и гасить пламя. Из колонки сыпалась сажа и густыми хлопьями покрывала пол. Стекло на кухне было выбито, но батареи жарили немилосердно. Я обливался потом, просыпаясь под завывание ветра, разглядывая снег, выпавший на карниз. Внезапно отопление отключали — обычно это бывало под утро, — и комнату заносило снежной крупой. Как-то я пошёл в казанский музей смотреть в запасниках местного художника Николая Фешина, что давным-давно уехал в Америку. Я смотрел на Дюрера и Брейгеля, а сам думал о лицах казанских женщин — поражала меня какая-то дуга от глаз к носу, вытянутость этих лиц. Мой приятель говорил, что это свойство макияжа, но какой макияж, думал я, может изменить форму черепа? От вида одной такой женщины у меня мгновенно проступил пот между лопатками — я понял тех русских, что готовы были забыть веру и землю, что дурочкой лезли в сёдла и оставляли свой кров — вслед за этими вытянутыми глазами. Холмист город Казань, думал я также, бредя в ночи мимо двухэтажных турецких домов, а потом карабкаясь к своему вымороженному дому на Бойничной, холмист он — а от того мысли мои не прямы. Пространство сжималось, прямые гнулись, а я помнил, что для мусульманина храм может сжаться до размера молитвенного коврика или даже сердца человека. Согласно преданию, ближе к концу времён все храмы стянутся к мечети Аль-Акса, и даже Кааба, как невеста, прибудет туда. Про судьбы мечетей мне рассказывали местные и пришлые архитекторы, что означает “надзирающие за устойчивостью”. Потому как в этом городе, в свободное от других дел время, я попал на собрание. Там мне рассказывали и о надписях, сохранившихся от разных завоевателей в чужих городах. Мне говорили о военном туризме, о кривых письменах, оставленных английскими полками в Персеполе. А я вспоминал рейхстаг и Кёнигсберг. И гробницыфараонов, на стенах которых нацарапаны французские имена и имена британских офицеров. Мы говорили о минаретах, которые только ленивый не сравнивает с ракетами. И я узнал, что у Мухаммеда не было минарета и он призывал с крыши. Возвращение к храму сейчас было возвращением к детству. Дорога к храму была дорогой к родительному падежу — тому, чего нет. Вопрос мог звучать и как “Нет чего?”. Надо было склониться перед желанием старух повесить рушники и цветы в храме, цветы и рушники, не предусмотренные никакими канонами. Один умный человек говорил среди надзирающих над устойчивостью: “Мы знаем крепких хозяйственников и братков в митрах и знаем пастырей среди воинов и учёных”. При этих словах два присутствовавших священника заметно напряглись. Но разговор уже шёл о другом, и я услышал, как умный человек продолжал: “Мы — народы Книг, а не архитектуры. Вся архитектура у нас сосредоточилась до письменности. А нынче наша модель мира не здание, а Книга”. Казань тяготеет к оружию, военная память живёт и в том базаре боевой амуниции. Казань, которую увидел Толстой, — ещё жива, жива смесь времён, пыли и славы. Напоена нефтью татарская земля, булькает человеческое варево — мешающее татар и русских, крещенов и староверов, буддистов и хлыстов, скопцов и харизматиков — всё это сотая часть значков с карты религий Приволжского федерального округа. Есть история, которая могла случиться только в Казани. Профессор Гамулин рассказал про то, как несколько лет назад в Казани и её окрестностях снимали фильм “Время великих булгар”. Киностудия заказала какому-то казанскому заводу чуть ли не сотню бутафорских мечей. Но завод как-то неверно истолковал этот заказ или же, наоборот, отнёсся к нему излишне серьёзно. Рабочие изготовили все мечи настоящими — из рессорной стали. Каскадёры сказали, что даже они не рискнут биться этим оружием. Партия мечей замерла без движения. Потом явились милицейские люди, осмотрели заводское творчество и вынесли свой вердикт: “И правда оружие”. И велели поэтому выбить на каждом мече номер, как и положено это делать на всякой боевой стали. Что и было сделано. После этого к мечам все охладели. Так и лежали они в недрах милицейского склада несколько лет. Дальнейшая их судьба мне неизвестна. Может, именно с одним из них, завёрнутым в дерюгу, шагает через трамвайные пути престарелая толкиенистка.
Каждый ищет свою зелёную палочку. Каждому — своя вера. Вылился на татарскую землю жидкий холод, выморозил внутреннее и внешнее. Оттого худо было мне, хотелось не выходить из дому вовсе, а спать как сурку и не изучать утренних теней. Тем не менее я пошёл в университет и стал там говорить с профессором Гамулиным о том, как отец Василия Тёмного, разоривший булгарские города, взял себе титул-имя князя Боголюбского. Когда Гамулин говорил о русском протекторате над Казанью, мне казалось, что он говорит о битвах греков и персов, но для него это было вполне вчерашнее время, примерно так же чеченцы вспоминали свою депортацию, а старики красноармейцы — время страшных поражений 1941 года. Есть события, о которых вспоминаешь с болью, как о дырке, проделанной каким-то немцем в груди своего деда, а есть те, что свербят неутомимо, потому что это твоя боль и печаль. Мы вышли из тёплого, натопленного и надышанного старого здания и, обогнув новое, пошли к Кремлю. Заговорили о евроисламе — по ассоциации с евроремонтом — “один еврей, что…”. Я про себя думал, что странное обстоятельство определяет жизнь религии: ислам обручён с нефтью и газом. Особая воля Аллаха, помноженная на частную собственность, — такого подарка не было ни у кого. Ислам всегда был там, где была нефть. Это была точка сборки: европейское отношение к собственности как к священному праву и нефть как странный предмет, что так нужен неверным. Это в давние года на экзамене по богословию спрашивали — отвечать с рассуждением или отвечать без рассуждения. Мы разговаривали без рассуждения, но об извилистом и тайном. Что объединяло разноверцев, так это хлебное вино, им, как и нефтью, делились разные народы моей страны. Мы купили украинской водки и принялись пить её в виду памятника русским воинам, кривой кремлёвской башни и странной летающей тарелки, на которую походило здание цирка. Гамулин посмотрел в замороженную воду и сказал, как заклинание: — Сююмбека имела мужей следующих — Джан Али, Сафа Гирей и Шах Али — князя в Касимове. И замолчал надолго.
Как-то вечером я пошёл в ресторан. Там казанские девушки плясали танец живота. Они плясали его так, будто за окнами был ночной Стамбул. Молодые татарки вертели пупками со следами пирсинга, потом они сорвали платки с лиц, но хоть и сплясали что-то латиноамериканское, татарскую их суть, особые их татарские глаза скрыть было невозможно. Я снова вернулся к надзирающим за устойчивостью. Там по-прежнему все начинали речи словами “мне кажется”. Эта восточная осторожность, намекающая на видения, мне нравилась. Большая часть всех глупостей, что говорят люди, предваряется словами “на самом деле”. — На самом деле… — произносит человек и на секунду замирает, потому как не на самом, и дела там никакого, и эта формульная фраза только началие, поднятая для ответа рука. Я думал об этих делах, а над головой у меня трясся гладкий девичий живот с серёжкой в пупке. Через несколько дней какой-то блюдущий устойчивость Саурон схватился с надзирающим Гендальфом. Они спорили о переделе мира, вере и праведности. Я посмотрел на своего друга, сидевшего рядом. Мы отвели глаза от пригожих танцовщиц и заговорили всё о том же — географической поэтике. Архитектор настаивал на том, что стремление писать слева направо — это движение Грозного на восток, к Казани. А движение Петра Первого было абзацем на исторической странице. Но вокруг нас кипела жизнь. Пока Гендальф бился с Сауроном, я успел понять, что не могу, как жителей зверофермы, отличить их друг от друга. Через заваленные объедками столики ударила невидимая глазу молния. В вытаращенных глазах Архитектора сверкнуло безумие. Оно быстро налилось в белки и выгнуло надбровные дуги. Архитектор не видел толкиенистской поножовщины и вообще был человеком мирным. Видимо, он вспомнил, как несколько столетий назад восточные люди били кривыми саблями по шеям его предков. Это был настоящий арзамасский ужас, про который он мне сам и рассказывал. Последним днём августа 1869 года Толстой поехал из Ясной Поляны в Пензу — он хотел купить там Ильмино, имение князя Голицына, и вот пустился в странствие со слугой Арбузовым. Через Тулу он приехал в Москву, первого сентября уже отправился в Нижний, достиг его утром, а к вечеру второго сентября добрался до Арзамаса. Город Арзамас был довольно странен и парен селу на противоположном берегу. Два белых храма стояли друг напротив друга, улицы были пусты и гулки. Толстого поселили в странной квадратной комнате, а всего квадратного он не любил. И вот в этой квадратной комнате он испытал необъяснимый панический ужас — ужас, о котором он вспоминал потом всю жизнь. Теперь арзамасский ужас медленно двигался ко мне. А в путешествии отчаяние и ужас всегда сменяются эйфорией. Ты поел — и уже доволен, нашёл ночлег — и рад. Я хорошо помнил свои давние одинокие странствия, когда ничего, кроме отчаяния и ужаса, не наполняло меня. Жизнь моя была возмутительно упущена, утекла, как вода из ладони. Я перебирал в памяти события и людей прошлого и ужасался себе — сколько всего пропало. Как прекрасна была жизнь, сколько она давала возможностей, сколько было силы и знания и как это всё было безумно и бездумно потрачено — я бы мог быть Ницше, Шопенгауэром, Церетели, наконец! А я, как крот, сидел в четырех стенах… Днём я занимался какой-то дребеденью; ночи губил на то, что читал журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю! Но никто ничего не понимает в искусстве! Всё, что я любил, не стоит медного гроша! Я не жил, не жил! Я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел… Я с ума схожу… Я в отчаянии! Всё прошло, расточилось, унесено ветром. Одиночество подступало ко мне, и я, одинокий муравей, ранее презиравший стрекоз, сам оказался стрекозой на пронзительном зимнем ветру. Любовь прошла мимо, и я прожил жизнь вдали от любимых и близких людей. Наши жизни длились порознь, и многих уже не вернёшь, не встретишь уж — только у Великого Экзаменатора. Как тут не напиться водки от ужаса — оттого русский человек не отправляется в путь, не прихватив целительного напитка. А пока, не чувствуя края, я шутил о чём-то, Архитектор разговорился со старыми друзьями, Гендальф победил Саурона (или же наоборот). Всё успокоилось. Но той же ночью ужас достиг своей цели. Покинув танцы и пляски, я поехал домой, но отчего-то слез с трамвая раньше, чем думал. Хмель, что накатывал волнами, выгнал меня на мороз. Чернота обняла меня и заткнула рот мокрым ветром. Я шёл мимо распаханной местности, местности бесхозной и ничейной, приготовленной на архитектурный убой. Временами я останавливался, чтобы набраться сил, вздыхал, пил зимний туман, и он вытеснял часть хмеля из головы. Там, рядом с отсутствующими домами, остались деревянные лавочники. Старики, выселенные из центра в бетонные муравейники, съезжались к своим исчезнувшим воротам и дверям и усаживались вместе — так, как они делали много лет подряд. Они редко-редко обменивались парой слов, а так — всё больше курили, глядя в пустоту. Назад они не смотрели, и оттого деревянные дома с причудливой резьбой и скрипучими полами, дома, наполненные коврами, жёнами и детьми, для них всё ещё существовали. Лавочки стояли, а старых улиц уже не было. Но сейчас не было видно ничего, лавочки были пусты, растворены в сырости и холоде. Я начал пробираться через проулки, пошёл мимо развалин мастерских и долгого забора, свернул налево, увидев огни. Тут ко мне подошли трое. Вернее, они как-то возникли рядом. Они сказали что-то по-татарски. И я понял, что прикатился ко мне мой личный драндулет-шибболет и сейчас меня будут убивать. Это всегда понятно сразу. Был я крайним за нефть, и за рубль, и за бесноватого царя, которому было всё равно, резать ли новгородцев, татар ли. И за кровномешанного-смешанного Ленина сейчас я отвечу, и за Сибирь, и за Кавказ, за Власть Советов и Красное Знамя. И за крест на груди. Я привалился к забору и ощутил через куртку, как он шершав и стар. Как грязны и пыльны его доски. Драться не имело смысла — не потому, что плохо менять свою жизнь на другие, а оттого, что драться я тогда не мог. Один из ночных людей всмотрелся мне в лицо. Взгляд его был спокоен и беззлобен — так мясник смотрит на телка, потому что телок уже мёртв и только кажется, что он дышит, что его бока опадают в такт дыханию, — ничего этого нет, и вот мясник строго и ласково берёт его левой рукой и гладит шею, потому что плохо, когда зверь бьётся и пугается перед смертью. И вот этот человек заглянул мне в глаза и снова повторил свою фразу. Я замычал, как телок. А потом, откусив большой кусок сырого воздуха, разжевав, размешав его во рту, произнёс, так и не поняв вопроса: — Вождан кушканча… — Как мог правильно, я произнёс первый слог, где, как знал, вместо первого “о” пишется подобие фиты, и надо, надо произнести его как можно мягче. И от этой мягкости, мне казалось, всё и зависело. Это было сложное усилие, и я очень устал, договорив два этих слова. Я жутко устал, будто читал лекцию о правильном наблюдении за устойчивостью, словно говорил о Толстом у его могилы, похожей на ворох листвы, или уговаривал толкиенистов перековать мечи на орала. Сырые ночные люди переглянулись, и старший, засмеявшись, ударил меня по плечу. С трудом я удержался на ногах. Они заговорили о чём-то своём, отвернулись и скоро растворились в темноте. А я побрёл к себе — сквозь мрак и туман. Мимо заборов, мимо пустых стариковских скамеек, мимо реки и озёр, новых и старых мечетей, мимо памятников Толстому и Ленину, мимо спящих эльфов и дремлющих хобиттов, мимо того и этого — к беспричинному и вечному арзамасскому ужасу продолжающейся жизни. И вот теперь, как гоголевское колесо, я прикатился обратно от Казани к югу от Москвы, в тульский придел.
Мы меж тем заговорили о женщинах. Женщин вокруг не было, однако разговор о них случился целомудренным — нам отчего-то казалось, что тень старой графини с изменившимся лицом может сгуститься из воздуха и надавать нам тумаков. Вообще тень жены зримо преследовала Толстого, и как ни начни говорить о Толстом, без Софьи Андреевны не обойдёшься. Во-первых, есть давнее рассуждение о том, что если бы у Льва Николаевича был бы ноутбук, то Софья Андреевна сохранила бы девичью фамилию. Это, конечно, игра в слова, но именно с жены Толстого и Анны Григорьевны Достоевской идёт социальный тип настоящих жён писателей. Тех, что правят рукописи, держат дом и, если что, подписывают договора. Представить себе Наталью Николаевну перебеляющей рукописи Пушкина совершенно невозможно. Во-вторых, Софья Андреевна всё-таки родила тринадцать детей. Это, конечно, сейчас кажется ббольшим подвигом, чем в девятнадцатом веке с его чудовищной детской смертностью (у Толстых умерло в детстве пятеро отпрысков) во всех слоях населения, но всё же. В-третьих, и сам великий писатель вовсе не был удобен в совместной жизни, да и супруга его была вовсе не образец долготерпения. Что уж тут поделать: ад — это другие, если они рядом, конечно. Итак, Софья Андреевна Берс родилась 22 августа 1844 года в семье врача Московской дворцовой конторы Андрея Евстафьевича Берса и Любови Александровны Берс (урождённой Иславиной). Иногда говорят, что её образование было чисто домашним, но, между прочим, она сдала экзамен на звание домашней учительницы в 1861 году. В 1862-м Толстой сделал ей предложение, и они обвенчались по прошествии недели. Это долгая, сложная, длиной в сорок восемь лет жизнь — от состояния совершенно безоблачного счастья, через отчуждение — до вспышек безумной вражды. Софья Андреевна, кстати, делала несколько переводов толстовских текстов, а для самого Толстого переводила с немецкого статьи о религии. Она участвовала в помощи голодающим — писала воззвания, составляла отчёты и распределяла помощь — как деньгами, так вещами и едой. Писала сама — правда, проза её заведомо была обречена, но даже будь она сильной писательницей (а сильной она не была), то всё равно была бы сличена с прозой мужа. С соответствующим результатом. Жена Толстого сочинила множество писем в газеты по разным вопросам, являясь, так сказать, пресс-секретарём. При этом не сказать, что это именно идеальный пресс-секретарь, действия которого выверены и абсолютно согласованы с начальством. Это самостоятельная фигура, у которой совершенно особое понятие о компромиссе между писателем и обществом, о дипломатии и стратегии отношений с властью. Позднее она написала множество биографических заметок, в том числе первую биографию Толстого. Она сохранила основной корпус рукописей писателя и сформировала пресловутую “Железную комнату”, средоточие рукописей, первую опись которых она и сделала. С толстовцами она воевала, к толстовцам Толстого ревновала, и толстовцы платили ей той же монетой. Её упрекали в том, что она не разделяет идей писателя — но поди их раздели. И дело не в том, конечно, что жена писателя обеспечивает охранительную функцию, сберегая дом, быт и достаток. — Что же, они были, по-твоему, счастливы? — спросил меня в этот момент Директор Музея. — Ты что? Это был чистый ад. Знаешь, у меня есть приятель-критик, это настоящий Критик, каких сейчас мало. И вот он написал книгу о Толстом, где сказал мимоходом: “Надо было обладать какой-то особой душевной черствостью, чтобы видеть в поступках Софьи Андреевны хитрую волю. Нет, это была темная, иррациональная воля, которая руководила женой Толстого помимо разума, временами просветлявшегося и говорившего ей, что она поступает неправильно, ровно наоборот, чем нужно поступать. И Толстой терпеливо ждал этих моментов просветления, надеялся на них до конца, даже и после ухода”, — вот так. В общем, они были счастливы, а потом доводили друг друга чуть не до самоубийства — мир вообще непрост. Перед смертью Толстого его жену не пустили к нему. Непонятно, кто точно настоял на этом. История эта тёмная. 24 мая 1911 года она сделала такую запись в дневнике: “Всё работаю над фотографиями. Очень устала. Ходила на могилу и всякий раз горько плачу, точно я способствовала уходу из жизни любимого мужа. А как горячо — до последней минуты его жизни — я любила своего Лёвочку! Что случилось — непонятно, и навсегда будет непостижимо. Чудесный тёплый день. Нет совсем цветов, все вымерзли”. А ещё через несколько лет, в конце 1919 года, в США приняли “сухой закон”, был только что подписан Версальский договор, Саарская область перешла под управление Лиги Наций, демилитаризована Рейнская область, установлены размены репараций и Германия лежала у ног победителей. И в этом, 1919 году в ней создана Национал-социалистская рабочая партия. Резерфорд открыл протон, а Афганистан получил независимость. В этот год, 4 ноября, Софья Андреевна Толстая умерла.
Во второй половине дня мы оказались в разжалованном городе Перемышле, а ближе к пяти — уже в Калуге. Там мы постучались в уже пустой Музей Циолковского. (обратно)
Мистик с дирижаблем
11 ноября. Калуга
В городе Калуге есть местный святой — блаженный Лаврентий, что большую часть жизни сидел в своей норе спокойно, однако на некоторых иконах его изображают с топором. Действительно во время одной из битв с басурманами, на кораблях, он внезапно спас положение в абордажной драке. Лаврентий, вроде бы сидевший в своей норе, вдруг появился подле князя, покрошил всех врагов в капусту, а потом снова вернулся к своим блаженным занятиям. Я представлял себе этого святого похожим на Герасима, лишённого собаки, — с нечленораздельной речью и острым топором. Скрытая сила и недоступное обывателю служение. Вечная готовность благостного человека упромыслить врагов Отечества и вернуться домой как ни в чём не бывало. Но гениями места в Калуге стали совершенно другие люди. Калуга была городом самозванцев — тропинку начал торить известный, хотя и второсортный персонаж. Здесь жил и пользовался почётом Лжедмитрий II, пока его не зарубил на охоте обиженный сподвижник Урусов. Могила его — на удивление, с почитанием — содержалась в одном из соборов, дальнейшая судьба её неизвестна, а собор был, вестимо, разрушен. Лжедмитрия убили в лесу через реку от Музея космонавтики. И это ключ к Калуге — ни заточник Шамиль, живший тут в ссылке, ни знаменитые калужские спички тут самостоятельного значения не имеют. Мистика царит в этом городе, как ни отмахивайся от неё топором Лаврентий. Главный человек — это мистик Циолковский. Человек с шаром, которому судьба вложила в руки космическое яйцо. Мы въезжали в Калугу вечером и в дороге говорили о глобусах. Глобусы, известное дело, бывают разные. Раньше, при советской власти, на спичках, что стоили тогда ровно одну копейку, изображали Дом-музей Циолковского — с каким-то встроенным толстым тупым пенисом. Другой пенис, поострее, стоял рядом — на горе, рядом с огромным шаром, что символизировал Землю — или спускаемый космический аппарат. Шар был похож на глобус точно так же, как были похожи на глобусы десятки спускаемых космических капсул советского производства. Они были похожи на уменьшенные модели земного шара, что сыпались с небес, вместо Арарата выбирая Джезказган. Мои знакомцы-лесопильщики как-то приехали в Калугу в грозовую ночь — правда, совсем не затем, чтобы сличить художественный шедевр по цене 1 коп. с реальным пейзажем. В эту грозовую ночь поднялся страшный ветер. Оказалось, что гигантский шар на горе, сделанный из листового алюминия, — внутри полый. Он крепился к постаменту тремя болтами. От порыва сильного ветра болты наконец лопнули, и шар покатился по безлюдной вечерней улице. В небе бушевали сполохи, страшный шар катится под уклон. Блики сверкали на его поверхности. Нетрезвые обыватели застыли у окон со стаканами в руках и стеблями зелёного лука во рту. Земля стронулась с места и, не найдя точки опоры, пошла вразнос. Только Лаврентий спал, и наточенный топор отделял его от мира, как меч — от Изольды. Ну, а другие путешественники, посетившие иные города, рассказывают эту историю по-своему. Циолковский похож на гения места Калуги, хотя родился в рязанской земле. Одновременно он — икона советской космонавтики, что-то вроде Иоанна, предтечи спасителя Королёва. Судьба икон всегда незавидна, да и судьба всякого предтечи — тоже. Одни бормочут, что Циолковский — мистик и фёдоровец, другие вострят за этакое ножи, одни отнимают у него лавры автора формулы реактивного движения, другие и вовсе выкидывают его из колыбели человечества. У Циолковского было четыре агрегатных состояния. Одно состоялось и длилось при царизме — время аскетичных занятий науками и философствований в духе Бёме, когда, оторвав глаза от верстака, он видел в небе знамения. Второе — в первые послереволюционные годы — когда Земля соскочила со своей оси и от Солнца оторвался кусок. Тогда всё стало можно и всякое “не может быть” сбывалось на каждом шагу. В своё третье состояние Циолковский пришёл после смерти — когда страна искала исторической основы космическим полётам. Циолковский, и так-то удивительно хорошо вписывавшийся в советскую науку, тут оказался как нельзя кстати. Он действительно отец советской космонавтики — именно так. Когда советская космонавтика зарождалась, то нужно было найти идеологического предшественника. Ими оказались Кибальчич с реактивной ракетой, нарисованной перед смертью, и Циолковский. Но у Циолковского были заведомо лучшие стартовые условия — советский орден, реклама во время кампании по борьбе с космополитизмом — Россия родина слонов, первый самолёт Жуковского (кстати, Жуковский презирал Циолковского несказанно), первый паровоз Черепановых и тут же реактивное движение Циолковского и проч., и проч. С этого разгона умные пропагандисты вырезали у Циолковского всего Космического бога марранов, все мыслящие атомы и евгенику — и назначили Отцом русской космонавтики — из лучших рациональных побуждений. Наконец, четвёртое состояние Циолковского явилось широкой публике в тот момент, когда советский космический челнок погиб под стенами своего ангара — точь-в-точь как корабль аргонавтов. В этот момент вспомнили о Циолковском как о мистике. Потому что когда разрушена иерархическая система знания, наступает великий час мистиков. Кто написал уравнение: Мещерский или Циолковский — никому не интересно. Теософия и спиритизм, будто радостная весёлая пена, сопровождают подлинную демократию. Он похож на крошку Цахеса — он не был самозванцем, но всё повернулось так, что раз за разом ему приписывали странные заслуги. Ему, как промышленные области национальным республикам, передали уравнение Мещерского, закрыли глаза на все его кампанелловские безумства. Это был удивительный случай мистика, которого материалистическое государство извлекает из небытия и ставит на пьедестал. В конце тридцатых, когда выкосили всех материалистов-практиков, звезда Циолковского сияла по-прежнему. Циолковский был настоящим наследником Фёдорова — и в том, что его похоронили среди живых, на большой городской площади. Как-то в табачном дыму я разговаривал с одним человеком о теории мыслящих атомов Циолковского. Собеседник мой слушал вежливо, а потом с тоской произнёс: — Дело-то не в этом, не в этом дело. Циолковский был учителем в Боровске. В Бо-оров-ске! Ну какие ещё могут быть вопросы? Вот ты был в Боровске? Я был в Боровске очень давно — года тогда начинались на “семьдесят”. Я ползал по монастырю пауком — стены монастыря были разбиты и показывали давнюю и грамотную работу гаубичной артиллерии. И поездка тогда обернулась для меня личными неприятностями, но я не знал, что так всё связано. — В Боровске! В Боровске! — назидательно закончил мой собеседник. Циолковский оставил след в Боровске, хотя родился под Рязанью, а жил в Вятке и Москве. В то время как Циолковский собирается жить в колыбели, на расстоянии двухсот вёрст от него русский писатель двадцати девяти лет от роду пишет: “Денег нет. Прошла молодость!” Севастополь срыт, у России нет флота, в воздухе пахнет реформами и невнятицей. Наука и у Толстого и у Циолковского — нечто мистическое. Незадолго до смерти Лев Толстой написал статью “О науке”. Это, собственно, даже была не статья, а ответ одному крестьянину, приславшему Толстому письмо с вопросами. Статья эта при первом чтении вызывает чувство некоторой неловкости — старик проповедует и призывает, да к тому же, всё время неловко подставляясь под удар, рассуждает одновременно наивно и пафосно. Суть в том, что Толстой пытается ввести нравственность в науку. Но введение идеологии в науку никогда ничего путного не приносило, как бы красиво ни звучали произносимые при этом мантры. К тому же Толстой то объединяет науку и образование, то произвольно разъединяет их, говорит о науке то как о социальном институте, то как о конкретных учреждениях. Он придумывает свой критерий отличия науки от не-науки: “Думаю, что излишне говорить о том, что все эти знания, имеющие целью зло, а не благо человечества, не могут быть названы наукой”. То есть “наука” превращается во что-то вроде Святого Писания, нравственного учения. Старик в Ясной Поляне, будто дед Мазай, пытается втащить на свою лодку нравственный спасательный круг. Меж тем нет ничего более удалённого от науки, чем нравственность, — нравственность живёт в голове учёного до и после его дела, она сдерживает его от людоедских экспериментов или заставляет предупредить человечество о новой беде. А вот сама наука как процесс познания имеет совершенно иную природу: цифра пять ничуть не нравственнее, чем цифра четыре. Попытки создать арийскую физику или большевистскую биологию привели к обескураживающим результатам. Более того, мотив добрых намерений в науке — чаще всего лишь хорошая мина при плохой игре, а то и весьма наглядно подсвечивает дорогу в ад. Прошло сто лет со времени ответа Толстого крестьянину, а как отделить науку от не-науки, до сих пор непонятно. Человек из XIX века, заставший то время, когда пушки заряжались с дула, а не с казенной части, когда лошадь была основным транспортным средством, а электричество не выходило из лабораторий, рассуждает о науке в тот самый момент, как технический прогресс начал сметать всё на своём пути. Шесть лет, как летали самолёты, тряслись по дорогам автомобили, и уже существовали аппараты для записи и воспроизведения звука — от фонографов до граммофонов. Человечество уже говорило по телефону и пользовалось радиосвязью. Это пора, когда вера в технический прогресс бесконечна, и кажется, что именно он произведет на свет гуманность и равенство. В начале ХХ века многим казалось, что если не жизнь, то наука — счётна, поддается публичному измерению и пониманию. Однако через сто лет оказалось, что обыватель, как он ни бейся, теперь не может понять ни результатов, ни даже постановки задач в некоторых отраслях. Например, такова теория струн и математика переднего края. Это свойство современной науки еще не вся беда — дело в том, что обыватель (а мы говорим о честном обывателе) не может отличить научный факт от сообщения шарлатанов или недобросовестной рекламы. Мир ловит нас и поймал многих. Только самоотверженный человек может сейчас стремиться к научному знанию. Ведь это цепочки сомнений, проверки собственных и чужих утверждений — и этот путь честный обыватель должен пройти без всякого жалованья, отличая науку от не-науки, будто перебирая крупу. Гораздо легче вернуться в мистический мир, где не сомневаешься в объяснениях, и если не чёрт, то неприятное иностранное слово снимает сомнения в природе вещей и движущих сил. Поэтому вера лечит душу, а угрюмый фаустовский путь добычи руды познания её бередит. У Толстого есть знаменитое место в “Войне и мире”, где он рассуждает о причинах всего на свете на примере паровоза. Вот оно: “Идёт паровоз. Спрашивается, отчего он движется? Мужик говорит: это черт движет его. Другой говорит, что паровоз идет оттого, что в нем движутся колеса. Третий утверждает, что причина движения заключается в дыме, относимом ветром. Мужик неопровержим. Для того чтобы его опровергнуть, надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет чёрта, или чтобы другой мужик объяснил, что не чёрт, а немец движет паровоз. Только тогда из противоречий они увидят, что они оба не правы. Но тот, который говорит, что причина есть движение колес, сам себя опровергает, ибо если он вступил на почву анализа, он должен идти дальше и дальше: он должен объяснить причину движения колес. И до тех пор, пока он не придёт к последней причине движения паровоза, к сжатому в паровике пару, он не будет иметь права остановиться в отыскивании причины. Тот же, который объяснял движение паровоза относимым назад дымом, заметив, что объяснение о колесах не дает причины, взял первый попавшийся признак и, с своей стороны, выдал его за причину. Единственное понятие, которое может объяснить движение паровоза, есть понятие силы, равной видимому движению”. Частному человеку очень сложно принимать решения о том, что окружает его. Мир чрезвычайно сложен, и рад бы обыватель “не верить брату родному, а верить своему глазу кривому”, да мир не даёт. Непонятно даже, что мы видим. Поэтому я расскажу давнюю историю — тогда я сидел на беременных деньгах. Это означало, что меня приняли на ставку ушедшей в декрет сотрудницы. В мои неформальные обязанности входило отгонять доказателей теоремы Ферма. Я их узнавал по внешнему виду, взгляду и мешковатым пиджакам. Я клянусь, что я не верил, что Великую Теорему Ферма можно доказать. Об этом говорило всё — вид и, особенно, безумие этих доказателей. Меж тем теорема была доказана через пять лет. Поэтому, когда сообщают об открытии, что кажется мне фальшивым, когда мне хочется возмутиться, я сразу вспоминаю этих стариков с авоськами, в которых были клеёнчатые общие тетради с доказательствами. Но я-то был уверен, что доказать невозможно! Вообще. Никому. Никогда. Сто лет назад Толстой сделал красивый ход, сказав, что наука — это то, что объясняет человеку, как прожить жизнь нравственнее. Лженаукой оказывается всё то, что не ведёт к добру, — то есть во главе определения результат. Это, конечно, ужасно архаичная конструкция. Толстой тут выступает как наука советского периода и даже в чём-то становится предтечей персонажей Андрея Платонова, в которых горит надежда, что придумается какой-то генератор общего счастья, работающий мочёным песком, и вот это-то и будет настоящая наука. И спустя сто лет мы останавливаемся в недоумении. Циолковский стал гением места в Калуге. Но часто харизматических чудаков начинают насаждать, будто картошку при Екатерине или Маяковского при Сталине. А так-то чудаки и провинциальные самородки очень интересны, да и мир без Циолковского неполон. В его музее — сплющенные дирижабли, похожие на сушёных рыб. Слуховые трубы, похожие на керосиновые воронки, — вот она, картина: мистик с воронкой в ухе. Глухой учитель неизвестных учеников, граммофонная труба в голове, делавшая его похожим на первого советского андроида. Там есть кабинет с лампой, которую можно было двигать по верёвке, протянутой из угла в угол комнаты, — и мистик движется вслед за лампой, и лампа движется вслед за мистиком. А рядом, перед Музеем космонавтики имени Циолковского, стояла настоящая хрущёвская кузькина мать. Это огромная серая морковка-ракета, много лет грозившая всему миру. Смотрелась она среди голов метеорологических подобий как хулиган-старшеклассник среди октябрят. Ночью Калуга дышала тяжело, мы ворочались в узких гостиничных койках. В соседних номерах шла быстрая платная любовь, короткая и ожесточённая, как уличная драка на ножах. Плыла гигантским шаром Луна, на оборотной стороне которой лежал кратер Циолковского величиной с половину Московской области. С Земли увидеть его невозможно — и это представляется символическим. А на Земле стояла холодная бесснежная ночь, плыл, рассекая её, город Калуга, где, прямо рядом с музеем, поселились мы в гигантской обшарпанной гостинице. И всю ночь во время перекуров, несмотря на холод, проститутки что-то громко и весело кричали из окон своим сменщицам, стоявшим во дворе. (обратно)Шатание вдоль Дона
12 ноября. Калуга — Борки — Новомосковск — Бобрики — Богородицк
Мы выехали рано и вот уже достигли странного места — того, где стояли друг напротив друга две армии. Монастырь был похож на дачный участок с церковью посередине. Собственно, дачи тут были повсюду. Монастырь давно пришёл в упадок и в 1764-м был упразднён. Развалины в начале нового века снова отдали Церкви. Шатровые церкви были похожи на королёвскую ракету “семёрка”, что торчала рядом, около Музея Циолковского в Калуге. Директор Музея наставил на меня палец и объяснил, прежде всяких слов, что никакого стояния на Угре не было. Две армии — одна, пришедшая со стороны Москвы, и другая — сгустившаяся с юга, из Сарая, переминались, двигались влево и вправо, горели вокруг города, и вот наконец южные сунулись через реку к северным. Ничего не выгорело — атака захлебнулась, и ещё месяц армии снова переминались, двигались в каком-то своём воинственном танце. Настал ноябрь, и всё кончилось. Русские потянулись к Боровску, а ордынцы двинулись на юг. Теперь мы искали исток Дона, старую церковь на границе Иван-озера, близ Новомосковска. Новомосковск был городом непростым, как и все города, что я видал в жизни. Один знающий человек как-то сказал мне: — Ты узнаешь этот город, только когда поймёшь, что такое “ветер с завода”. Ветра сейчас не было. Не было и пыли — просто иногда стиральный порошок двигался по улицам слева направо, а иногда — справа налево. Проехав через Новомосковск, мы насчитали несколько истоков Дона, некоторые из которых были залихватски оформлены и освящены Церковью. — Экие попсовики, — с печалью сказал Краевед. Мы, скакнув на железнодорожном переезде, выехали к берегу озера. Кругом стояли унылые промышленные постройки и остов какой-то церкви. Там, в промозглом утреннем холоде, я читал вслух известную сказку “Шат и Дон”. Её Толстой написал для назидательной народной азбуки, да только назидательность превратилась во что-то большее, и глубокомысленность заиграла новыми красками. Сказка была невелика, и оттого я был похож на полкового священника, бормочущего перед строем короткую молитву. Меж тем звучало это так: “У старика Ивана было два сына: Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат Иваныч был старший брат; он был сильнее и больше, а Дон Иваныч был меньший и был меньше и слабее. Отец показал каждому дорогу и велел им слушаться. Шат Иваныч не послушался отца и не пошел по показанной дороге, сбился с пути и пропал. А Дон Иваныч слушал отца и шёл туда, куда отец приказывал. Зато он прошёл всю Россию и стал славен. В Тульской губернии, в Епифанском уезде, есть деревня Иван-озеро, и в самой деревне есть озеро. Из озера вытекают в разные стороны два ручья. Один ручей так узок, что через него перешагнуть можно. Этот ручей называют Дон. Другой ручеек широкий, и его называют Шат. Дон идет все прямо, и чем дальше он идет, тем шире становится. Шат вертится с одной стороны на другую. Дон прошел через всю Россию и впал в Азовское море. В нём много рыбы, и по нём ходят барки и пароходы. Шат зашатался, не вышел из Тульской губернии и впал в реку Упу”. Мы смотрели на мутную воду озера, откуда произошёл Дон, и в конце концов Архитектор произнёс: — Ещё веселее от сознания того, что во всем этом виден закон некоего противоестественного отбора, в данном случае словесного. Да, нашему слову и нашей памяти ведомы и другие законы, естественные, отбирающие для истории лучшее, что написано русскими писателями, да еще в образцовые времена, и все же в силу непонятной стереометрической чертовщины, в силу “соблазна точки”, фокуса эти естественные законы зачем-то дополняются противузаконами, умаляющими, уничтожающими большее, растущее слово. Вот начало великой воды, а у нас есть книги о море, но они не составляют истинных глубин нашей литературы. Они где-то на полях ее бумажного мира. Слово наше и сознание — сухопутны, материковы, отягчены всеми самомнениями Азии. И я задохнулся от его мудроты и полез в карман за огурцом. У меня в кармане действительно жил спрятанный нерусский огурец — зелёный и пупырчатый, химический и иностранный, в тон этому городу и этому воздуху.Мы доехали до странного места, что называлось Бобрики. История эта была давняя, связанная с графом Бобринским, железной маской среднерусских равнин. Незаконнорожденный отпрыск императрицы прожил не очень долгую и не очень счастливую жизнь в этих местах. И был похоронен вдали от гранитных берегов Невы. Мы нашли семейный склеп — в парке среди тленного советского отдыха — тропинок и фонарей. Склеп был разорён, но всё же излучал благородство. Это ротонда-склеп Бобринских, что стоит посреди паркового пространства, не сохранившего ничего от давнего прошлого, кроме направления тропинок, а от недавнего прошлого — только остовы советских парковых фонарей. Ротонда напоминала стакан, вросший в землю. Местность шла вниз, валилась всё круче, и Краевед стал уверять, что там, дальше, и есть Дон. — Ампирный гриф строения с помощью ренессансной реплики попал в подкорку к Дону, — сказал он важно. Я нервно закурил. Друзья мои снова забормотали у меня над ухом: — Движение на полдень. — Дырка с юга. Это были тайные разговоры алхимиков. Архитектор с Краеведом просто заместили споры о противостоянии Меркурия Венере спорами о меридианах и параллелях. Север приближался к югу, восток сходился с западом. Москва была новым Киевом. Рим был отставлен навек, и из него была подпёрта хомяковская базилика и регалии кесаря. Образы, зеркальные соответствия, диагональные отражения — всё это чередовалось в их речи, как алхимические операции над веществами и сущностями. Директор Музея не отставал и добавлял исторических обстоятельств в этот котёл — так же, как сыплет фигура в мантии и островерхом колпаке тёртый в ступке корень мандрагоры в волшебное варево. — Естественно! — вдруг кричал кто-то из них, и тут же в споре чуть не доходило дело до драки. Они были как исторические волшебники, отменяющие и подкручивающие время. Это был стилистический коктейль, где был Толстой, но не было Толстого, всё бурлило и смешивалось. Я представлял их в мантиях и конусообразных колпаках, расшитых планетами и звёздами. Но деваться от них было некуда, из этой лодки мне была только одна дорога — прыгнуть за борт, лишившись счастья быть свидетелем алхимической свадьбы в конце. И вот я ехал с ними по России дальше. Раскачиваясь на своём сиденье, я опять задремал и отчего-то вспомнил автобус, что вёз меня мимо кладбища таких же, как он, только уже брошенных автобусов с наполовину вырезанными бортами, без колёс и стёкол. Крыши их отдельно лежали на земле, повсюду были остовы, как скелеты падшего скота. Это была совсем другая страна, где посреди столицы на стенах кафедрального собора вместо химер у ног святых бесновались муравьеды, черепахи и обезьяны. Статуя покровительницы города летела над городом во вполне церетелиевском духе. Она махала дюралевыми крыльями и, как девочка, стояла на земном шаре. Она стояла, схватившись за бок, будто у неё начался приступ аппендицита. При этом в руках у её была цепочка, на другом конце которой топорщился ручной дракон. Пбахнет там горелыми бананами, а свиньи в той местности имеют странный горелый вкус. Я ехал мимо автобаз, заброшенных заводов и фабрик и безжизненных серых домов, вспоминая какую-то чушь, мусор в голове путешественника — чужой стандарт в 127 вольт, что возвращал меня в детство, унитазы с боковыми дырками, из которых хитрым образом вырывалась вода, закручивалась и пропадала — Кориолис хитрым образом являлся нам в унитазе. Какой-то забытый человек говорил мне радостно, что нет тут баллистической экспертизы — стреляй в кого хочешь. День, равный ночи, отсутствие времён года, месяц, висящий на небе лодочкой, и плосконосые индейцы кечуа. И совсем я проваливался в сон, уносился туда, где гремела вода и длинная долблёная лодка шла в мутных пузырях, только и цепляясь за голос Краеведа, что настойчиво вещал: — Движение Узорочья — от Костромы к Ярославлю. А мимо меня мелькали поля странной геометрии — и всё потому, что снопы теперь делает специальная машина. Стога теперь имели не привычную прошлую форму, а стали похожи на груды цилиндров.
Так мы попали в город Богородицк, что был прекрасен. Он был прекрасен не только великой своей историей, но и мелкими её деталями. Иван Петрович Белкин, написав все свои повести, организовал тут санаторий “Красный шахтёр”, скончался и похоронен в саду, разбитом ещё русским рукодельником Болотовым. Город этот — часть Петербурга, вынутая из северной столицы вместе с первым Бобринским и аккуратно перенесённая, со всей приличествующей геометрией, в сердце России, среди лесов и полей. Это пять лучей, расходящихся от смотровой площадки на крыше к окраинам, точка соединения цивилизаций. Нам указали гостиницу со смешным названием “Берёзка”. Не берёзка была она, да, впрочем, оказалось, что теперь гостиница значится “У Махмуда”. Не “У Махмуда” она была на самом деле, а называлась, скажем “Сияющий Кавказ”. Это всё не важно. Первым делом я увидел объявление, что комната для молитв за углом по коридору, и понял, что время Берёзки” безвозвратно прошло. И то верно — в гостинице жили дальнобойщики неясных, странных восточных национальностей. Долго я смотрел из окна, как они совершают свой удивительный танец, особый балет — разворачивая фуры так, чтобы они встали спинами, торец к торцу, чтобы невозможно было ночью открыть двери. Грохотали дизеля, и тяжёлые грузовики выписывали удивительные траектории по чёрному ночному двору. Водители были нетрезвы, наглядно демонстрируя, что Коран запрещает пить сок перебродившего винограда, а вот про сок ректификационной колонны там ничего не сказано. Но вот Архитектор с Краеведом позвали меня ужинать, и мыспустились в кафе. Меню было понятно — бараний суп да плов. Мы сидели и говорили о геополитике, пока Директор Музея не обратил внимание на то, что все сидящие в кафе пялятся в огромный телевизор под потолком. Там, на телевизоре, с грохотом летел в режиме реального времени вертолёт с мёртвым Арафатом. Грохот русско-арабского вертолёта мешался с шумом моторов со двора. Никто из дальнобойщиков не разговаривал, все смотрели вверх, а винтокрылый Арафат медленно плыл над чужой землёй. Впрочем, на следующий день всё вышло куда круче. (обратно)
"Здесь был Рашид"
12 ноября. Богородицк — Полибино — Данков
А мы, с Архитектором во главе, меж тем подъехали к полибинской усадьбе. Непростое место Полибино знаменито шуховской башней и полуразрушенным дворцом. Название осталось от стольника Полибина, а дворец-усадьба — от Нечаевых-Мальцевых. Башня стоит там с тех пор, как её, собранную и установленную уже в Нижнем, купили на корню-фундаменте и перевезли с берегов Волги на правый берег Дона. Год 1898-й — инженер Шухов уже знаменит, Николай Второй уже на троне, а РСДРП съехалась на свой первый съезд в Минск. Вокруг дворца и башни стояли какие-то непонятные домики, и кто-то шёпотом пояснил нам, что это беженцы с Кавказа. Беженцев видно не было. Между домиков бродили несколько подростков, один из которых тут же показал нам нож. Мы показали ему что смогли — гаечный ключ и монтировку, а потом продолжили осмотр. Дворец был прекрасен — с первого взгляда можно было поверить, что его действительно проектировал Баженов. Однако всё мало-мальски ценное было из него вытащено. Уцелели лишь чугунные украшения, решётки, ступени и столбики — да и то потому, что чугун с неохотой принимают в пунктах сбора металлического лома. Ну и колонны увезти было невозможно — хотя, наверное, на чьей-нибудь даче они пригодились бы. Мы забрались внутрь и зашагали по битому кирпичу и крошке разорённых анфилад. Темнело, и становилось как-то нервно. И тут я увидел на стене чудесную надпись. Она была сделана русскими буквами, несколько кривовато — но самое интересное в ней был твёрдый знак в конце. На стене древней усадьбы было выведено: “Здесь был Рашидъ”. Человек, писавший это, забыл свой прошлый язык и имел смутные представления о русском. Это был странный гибрид — человека с Кавказа и Центральной России. Он чувствовал себя хозяином сказочного пространства с дворцом и марсианской башней и мог выразить свои чувства о будущем только в форме прошедшего времени. Я покрутил головой — вот, значит, как. Есть такая иллюзия, что, вступая в новый век, год, квартал, короче говоря, в новый отчётный период, мы начинаем жизнь набело. Люди частные используют для кормления этой иллюзии собственные дни рождения. Между тем даты не значат вообще ничего. Течение жизни неразрывно, и в новый квартал, год или век мы вносим старое барахло. И вот мы тащим этот кровавый скарб в начинающееся время, что кажется нам новым. Но я думал о неизвестном Рашиде с твёрдым знаком, поэтому и будет рассказана соответственная история. История о повторяющемся времени. Это история о человеке, превращённом в татарник. Как склонять его имя — понятно, да не вполне. Люди делятся на тех, для кого он герой литературный, и на тех, для кого он герой исторический. Или национальный. Его история похожа на историю Че Гевары. Толстой написал о нём повесть. В смертельной болезни он наводил справки, заказывал книги и искал в них подробности. “Истинной молитвой Толстого является рукопись Хаджи-Мурата”, — говорил Шкловский. Он пишет также: “Великий человек был между империей Николая и возникающей деспотией Шамиля”. Слова о Хаджи-Мурате, зажатом между Шамилём и Николаем, — на самом деле слова об обстоятельствах, когда не правы все. Когда календарь напоен жестокостью и герой — одна из деталей это кровавого механизма. В последние годы XX века, когда человечество суматошно подводит итоги, будто готовится перед кем-то отчитаться, инвентаризовать события, начинается лихорадочный поиск исторических аналогий. Толстой пишет не историю, а человеческие чувства. Уже семь лет, как не было в живых Хаджи-Мурата, когда “25 августа 1859 русские войска при содействии горцев Дагестана штурмом овладели Гунибом — последним оплотом Шамиля, а сам он был взят в плен. Разгром реакционного мюридизма, задержавшего на несколько десятилетий развитие Дагестана, и ликвидация новой угрозы порабощения Дагестана феодальной отсталой Турцией способствовали развитию производительных сил страны, ускорили разложение патриархально-феодальных порядков, втянули Дагестан в новые, более высокие социально-экономические отношения”. Шамиля отвезли в Петербург, он жил в Калуге, где мы только что были, и там испытывал на себе пристальный интерес местных дам. Через десять лет он умер на свободе после паломничества в Мекку. Всё это написала череда историков, время от времени меняя оценки, чередуя цитаты в разном порядке, но за убитым давным-давно человеком стояли буквы, сложившиеся в слова, строчки и страницы Толстого. Именно в связке с Толстым продолжалась жизнь Хаджи-Мурата. Он стал известнее, а значит, главнее тех, кто его убил, и тех, кого убил он сам. Мать плачет о сыне одинаково солёными слезами, будь он замучен в плену или раздавлен русским танком. Мёртвые старухи видят одинаковое небо одинаковыми пустыми глазами, они видят одно и то же небо, мало похожее на небо Аустерлица. И дом горит одинаково, какая бы бомба в него ни попала. Убитые дети теряют национальность. Участники этнической войны слишком быстро становятся неотличимы, деление на правых и виноватых исчезает. В этом бессмысленность и ужас войны и в том, что всё в ней делают одни и те же хорошие люди, на время думая о других людях как о крысах и ядовитых пауках. Теперь надо сказать о том, что происходило с Хаджи-Муратом после того, как его бритая голова перестала хватать ртом воздух. Отрезанную голову отправили наместнику Воронцову. Затем она попала в военно-медицинскую академию. Есть такой термин “краниологическая коллекция”, то есть — собрание черепов. В нём жил Хаджи-Мурат без войны, в окружении таких же безглазых людей, лишённых туловищ. На его черепе уже были арабские и русские письмена, подтверждавшие происхождение. В год смерти Сталина, хотя эти события вряд ли связаны, его передали в Кунсткамеру. Там он лежит где-то рядом с черепом Миклухо-Маклая. Тому, правда, отрезали голову, вернее, отделили череп от скелета спустя много лет после смерти, согласно завещанию самого Миклухо-Маклая. И вряд ли кого удивляло это соседство. Черепа тоже теряют свою национальность, и Хаджи-Мурату было всё равно. “Больше он ничего уже не чувствовал”. Потом эту голову лепили заново, заново создавая уши и губы. Хоронить этот череп трудно. Вообще формально трудно закопать в землю музейный экспонат. Непонятно также, где это сделать. Могила Хаджи-Мурата неизвестна. О ней спорят, как спорили греческие города о Гомере. Он действительно превратился в татарник, на котором есть розовый отсвет крови.Мы курили перед машиной, наблюдая, как тьма наваливается на окружающую нас местность. Скрывались от нас мальцевские стаканы и шуховская башня — метафора водки и радиовремени. (обратно)
Пионеры Данкова
13 ноября. Богородицк — Данков
И вот мы приехали на Куликово поле — самое ухоженное поле в России. Однако ж было непонятно, то ли это поле. Директор Музея утверждал, что под Скопином есть какое-то другое поле, а насчёт этого всё спорили и спорили. Одни говорили, что поле настоящее, просто все железяки утащили местные жители и участники сражения, другие кричали, что поле фальшивое, ибо в иных местах всё же что-то оставалось. Иные горячились и говорили, что река меняет русло, а им возражали, что не настолько. Краевед прогуливался с Архитектором, и до меня доносились обрывки их разговора. Говорили они о заблудившихся армиях и Олеге Рязанском. Об Олеге, что, по словам Архитектора, проскочил ось, соединяющую Мамая и Дмитрия, и сблизился с Ягайло. Потом Архитектор заговорил о полях сражений вообще, а поскольку мы всё-таки были толстознатцами — об Аустерлице. Это далёкое место сопрягалось у него с цифрой “ноль”. “0” выходил Аустерлицем, то есть большой дыркой. Это была давняя тема, и я вспомнил, как сам пересказал ему непроверенную историю про гимн Моравии. Дело в том, что в старинные советские времена гимн Чехословакии состоял из двух частей — сначала играли гимн Чехии, а затем, через паузу, — гимн Словакии. Так вот эта пауза в обиходе звалась “гимн Моравии”. Гимн Моравии был нулём, дыркой в звучании. Но они ушли, и голоса их летели над Куликовым полем уже мимо меня.Директор Музея вышел на опушку и громко произнёс: — Случайно на ноже карманном… — а потом добавил в пространство: — И так пятнадцать раз, граждане судьи. Я же переминался у чугунного столпа, поставленного Нечаевым-Мальцевым, и пыхтел трубкой. Дым уносился вдаль и исчезал. Мне нравилось, что я был похож на полководца, но надо было думать о Толстом. Всё же мы ехали толстовским путём, а не с экскурсией по местам боевой славы. У Толстого есть дидактическая сказка с длинным названием “Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах”. В этой сказке, сюжет и финал которой ясны из названия, Иван-дурак за своё непротивление злу стал царём и в своём царстве установил радостный закон непротивления. На них пошёл войной тараканский царь, но “везде всё то же; всё отдают — никто не обороняется и зовут к себе жить… Скучно стало солдатам… Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось”. Всё хорошо в этой истории, кроме её последнего предложения. Что делают солдаты чужих армий в разных странах, хорошо показал ХХ век и не опровергает век ХХI. Это ужасно печально, потому что Толстой это всё писал совершенно серьёзно, с глубокой верой, что так и будет. Но каждый раз, несмотря на исторический опыт, хочется потерпеть чуть-чуть дольше — вдруг оно образуется. Вдруг звериные зрачки снова станут человеческими. Есть иная история — в Ясную Поляну приехал человек, чтобы выразить писателю несогласие с теорией непротивления злу. Этот диалог протекал так. Человек приставал к Толстому, что вот если на него нападёт тигр, как в этом случае он будет следовать непротивлением злу насилием? — Помилуйте, где же здесь возьмётся тигр? — отвечал Толстой. — Ну, представьте себе тигра… — Да откуда же возьмётся в Тульской губернии тигр?.. И так до бесконечности. Тут то же самое — ясно, что часто в разговорах нам подсовывают абстрактные вопросы, идущие не от жизни, а от умствования. Нету никаких тигров и не было. Нигде. То ли дело — устрицы. Устрицы на Руси — особая статья. Отношение к ним насторожённое. Собакевич давно и навсегда прав, что устриц в рот не брал, ибо знал, на что они похожи. Между тем устрицы проникли в нашу жизнь оборотным способом: через недетскую сказку Кэрролла, где они слушали Усатого и Работящего на берегу. И куда ни кинь, начнёшь рассуждать о непротивлении злу насилием, так через полчаса заметишь, что живо обсуждаешь со сверстниками порядок сборки-разборки автомата. Тем более смешно, что такое всегда случается неожиданно — и бывает сродни удивлению той сотрудницы тульского самоварного завода, что несла со службы детали, пытаясь дома собрать самовар, а получался то автомат, а то — пулемёт. Из разговоров о ненасилии всё время выходит автомат непротивления злу Калашникова. Так с любыми рассуждениями о государственности, начиная с обсуждения монаха Филофея, что написал о том, что Москва — третий Рим. В чем у меня нет сомнений. Но только потом Филофей сказал, что четвёртому не бысти, а в этом у меня сомнения. Этот Рим уже образовался, а я как варвар взираю на него с высоких холмов. Совершенно непонятно, порушат ли храмы и придут ли потом сарацины, моржи и Плотники. Одно несомненно — хорошо не будет. Будет — как с устрицами у Кэрролла. Как-то я ввязался в длинный и унылый разговор о войне и государствах. В этом разговоре я чувствовал себя дураком, и летели надо мной быстрые и рваные облака теории непротивления злу насилием. Ведь эти слова рвут на части — “непротивление злу” совсем не то, что “непротивление злу насилием”. Разговор тянулся дешёвым химическим леденцом — страны мешались с континентами, а дохлые правители с живыми. Не было в том разговоре счастья — я щёлкал клювом, как устрица, приговорённая к съедению, — нет, щёлкал своей раковиной, а толку в этом не было никакого. Успешливые люди объясняли мне, что мир делится на две части — страны демократические, которые не хотят воевать, пока возможно, и диктатуры тараканских царей, которые сдерживает только страх. Но колебания демократов уничтожают страх тараканских царей, и они идут отнимать коров, и убивать несчастных дураков, и мучить оставшихся по темницам. Но я отвечал, что в международных отношениях хребты ломают с завидным постоянством — причём как правым, так и виноватым. В этот момент на меня снизошло озарение — я-то находился среди устриц, а мои воображаемые собеседники прогуливались по берегу. У них было право (оттого что они были гражданами успешливых стран), нормальное право сильного, не сдержанного ничем. Они действительно могли вломиться в дом и пристрелить хозяина, до того как он пристрелит свою жену и детей. Это вторжение можно мотивировать тем, что они как-то слышали, что у хозяина могло бы быть ружьё, и если оно не найдено, в этом тоже не будет ничего страшного. Я думал об этом без тени иронии — как устрица, трезво оценивающая свои аргументы. Скрипя своей створкой, думал о том, что, кто Плотник, кто морж, а кто устрица, определяется самим борцом за идеалы устриц. И, в принципе, дальше можно бороться с многожёнством — то есть за права женщин с помощью коврового бомбометания. Пока ещё тараканскому царю, его министрам, его моржам и Плотникам неловко сказать — мы вас отлупили за то, что нам не нравится, как вы живёте, как управляется ваше государство, или как вы распоряжаетесь природными ресурсами, или у вас к женщинам относятся не так, как подобает согласно правилам моржей. Или правилам Плотников. Но в скором времени, я думаю, неловкость пройдёт. Мы, устрицы, хорошо знаем, что нас часто едят из чисто гуманных соображений. В общем, жизнь устриц такая, что давно их научила, что есть их будут обязательно. Негромкий голос устрицы плохо слышно. Неизвестно даже, пищит она от радости освобождения или от ужасов оккупации. И вопрос “за что?” задавать бессмысленно. Честная устрица не говорит от лица какой-то страны. Потому что она знает, что во всех странах есть свои моржи и плотники, во всех странах живут тысячи разных устриц — у одних прямые носы, у других — кривые. Есть стройные устрицы, а есть толстые. Они все живут по-разному. Большинство из устриц знает, что когда в окно их раковины влетает ракета, то она не разбирает, какая именно устрица там жила и чем виновата. А как мы только что выяснили, устрица часто виновата тем, что живёт рядом с какой-то неправильной, тухлой устрицей. А когда уничтожают тухлую, приходится, как в хирургии, вырезать некоторое количество хорошего живого мяса. Я не говорю от имени страны или какого-нибудь народа. Я считаю, что самое трудное — говорить сейчас только от своего имени, и если я позволяю себе сказать “мы, устрицы”, то это значит, я посоветовался с устрицами, сидящими неподалёку. В прошлой жизни многие устрицы были людьми, и мы знаем, что если к нашему заборчику подъехал Плотник с шашкой в руке, то нас явно будут лупить и жрать, что бы он ни говорил.
Мы остановились в каком-то неизвестном городе. Такое бывает — вроде и вдоль дороги что-то написано на щитах, есть и карта, и книги с указаниями, а оказывается, что попал ты в заколдованное место. Вот минул пост ГАИ и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется трасса и выходит в поле. Кажись, та самая. Выехали и на поле — место точь-в-точь вчерашнее: вон и фабрика игрушек торчит; но продмага не видно. “Нет, это не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, поворотить к продмагу!” Поворотишь назад, взвизгнут тормоза — продмаг видно, а фабрики игрушек нет! Опять поворотишь поближе к фабрике игрушек — продмаг спрятался. Начнёт накрапывать дождик. Подъедешь снова к продмагу — фабрика игрушек пропала; к фабрике игрушек — продмаг пропал. Вот так было и теперь — всё у нас было, а имя города провалилось куда-то между колёс. Мелькнули какие-то изоляторы, лес мачт электропередачи, и мы очутились в сером промышленном городке. Краевед сразу же нахмурился. Он знал этот городок, и как-то ничего хорошего в нём с ним не случилось. Хорошего не случилось. А вот дурное случилось. Он вёл тут какую-то экскурсию, и вот… Недоговорив, он махнул рукой и отказался рассказывать дальше. Мы с Директором Музея переглянулись и достали фляжки. Он пил мой коньяк, а я — его. Так мы боролись с экономией, переходящей в жадность. — Без фанатизма, — напомнил он. Это означало “по сто пятьдесят”. Так и вышло. Фанатизм был нам чужд. Оказалось, что мы давно сидим в садике, а на нас смотрят странные существа, выстроенные в шеренгу. Эти лица, кстати, узнаёт всякий мой сверстник — причём узнаёт именно вместе. Порознь их не узнать. Это были пионеры-герои, герои “Азбуки для детей”, только по ошибке судьбы заброшенные в другое время. Толстовское семя, гайдарово племя. Я любил пионеров-героев, они сопровождали меня всю жизнь — в пионерском лагере их человекообразные лица были нарисованы на жестяных щитах вдоль линейки. Эти жестяные щиты были во всех однотипных местах советской страны — только в воинских частях вместо пионеров были изображены строевые приёмы с оружием, а на зоне — печальные матери, комкающие платочки в старческих руках. Причём часть пионеров-героев была вовсе не пионерами, а некоторые были и вовсе существами вымышленными. Был ли Муся Пинкезон? Наверное, был — по крайней мере, в моей голове, в пространстве моего прошлого был мальчик Пинкезон, которого немцы было отпустили за хорошую игру на скрипке, да вот заиграл он “Интернационал” — и стал вмиг пионером-героем. Если он был и придуман, то дела это для меня не меняло. С постаментов на пионерской линейке на меня глядели Гриша Акопян, Кыган Джакыпов, Володя Дубинин, Лёня Голиков, Марат Казей, Саша Ковалев, Витя Коробков, Лара Михейченко, Павлик Морозов и Коля Мяготин. Часть героев была вполне взрослыми людьми, Зина Портнова — и вовсе оказалась похожа на Марину Цветаеву. Подросшие пионеры были похожи на молодогвардейцев. А уж историю молодогвардейцев, проведя всё детство в тени памятника “Молодой гвардии”, я знал хорошо. Закончилась она страшно — потому как одних героев побросали в шахту, а других чуть позднее расстреляли в другом месте. В этом-то и дело — несколько поколений советских людей учили тому, как надо умирать за Отечество. И миллионам людей тыкали в лицо страшными и горькими историями Олега Кошевого и Ульяны Громовой, Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Их спрашивали: “Готов ли ты умереть за Родину? Можешь ли ты умереть за Родину?” И надо было отвечать, будто мальчик в красном галстуке, — готов, всегда готов, могу умереть за Родину, хочу умереть за неё… Зоя Космодемьянская недаром кричит перед смертью: — Нас сто семьдесят миллионов, всех не перевешаете! Как говорили издревле, мёртвые сраму не имут. Трагична наша история и еще трагичнее наша мифология, скорбны наши коммунистические сказки. Разные люди рассказывали легенду про мать Зои Космодемьянской. Она была членом какой-то комиссии по восстановлению разрушенного войной. Кажется, в Сталинграде. Давала градостроительные советы. Ей возразили. Тогда она возмущенно и гордо сказала: — Кто из нас мать Зои Космодемьянской?! Вы или я?! Строить и жить тяжело. А ведь девочку убили, убили за то, что она подожгла стратегический объект — конюшню, как нам это рассказывали в школе. Потом говорили, что это была не конюшня, а крестьянская изба, но все равно — девочку убили, а потом закопали в мерзлую землю с веревкой на шее, а потом откопали, и вот уже весь мир глазел на опавшую грудь в снегу и эту самую веревку на шее. И брата этой девочки убили. И молодогвардейцы навалились на какого-то мужика и убили его, будто безумные достоевские герои, сожгли биржу труда, а потом убили и их, и некоторые мальчики и девочки еще долго умирали в шахте, и трудно понять, что произошло на самом деле, но ничего в этих страшных сказках не исправить — потому что они, эти сказки, не плохие и не хорошие, они трагичные и горькие — со слезами на глазах. Потому, конечно, что Великая Отечественная война на самом деле Великая Отечественная беда, и ничего тут не поделаешь. Потому как мир стоял на краю, а мы навалились скопом и, в крови, соплях и прочем ужасе, задавили своими телами это безобразие. И на этой мысли мы с Директором Музея допили — каждый чужое — и пошли к машине.
Мы подъезжали к Астапову, и, надо сказать, на душе у меня становилось всё тревожнее. День за днём я свыкался с этим последним путешествием Толстого, и неуютно мне было от приближающейся смерти этого человека. Я записывал происходящее под слова Архитектора о том, что на самом деле мы всегда имеем дело не с книгами, а с настоящими путевыми журналами. Иначе говоря, русская литература — это бесконечные отчёты путешественников, к которым то подшивается новый лист, то, наоборот, безжалостно выдирается для того, чтобы засунуть его в бутылку и кинуть по волнам (вариант — заложить в основание пирамиды из камней на перевале). Внезапно я понял, что еду с поэтами. Один Директор Музея был человек прагматический, и то я всё время ожидал, что он произнесёт какой-нибудь французский стих времён галантного века. Книги, которые он писал, кстати, были совершенно не похожи на книги Архитектора и Краеведа. Это были жёсткие и быстрые, как короткий поединок в будущем музейном парке, суждения с обильными ссылками на номера архивных фондов и описи. Какое-то “Позвольте, сударь, очевидно, что… Унесите беднягу”. И всё потому, что поэзия возникала из ничего, из старых текстов, из пылинки на ноже карманном, из автомобильного выхлопа на просёлочной дороге, из (я обернулся на Директора Музея) руинированных церквей посреди России и из сочетаний переосмысленных слов. Все мы писали один путевой журнал. (обратно)
Астаповский кремль
14 ноября. Астапово — Чаплыгин — Скопин
Мы въехали в Астапово, как больной на своей каталке в операционную, — полные тревожных ожиданий. Как я и говорил в самом начале: тут всё просто — если станешь шаг за шагом повторять чужой смертный путь, то немудрено самому отдать в итоге концы. Въехали на самом деле в посёлок Лев Толстой, центр Левтолстовского района. Писали название тут по-разному, то раздельно, то слитно, а то и через дефис. Был поздний вечер, и мы, устроившись в старой гостинице, сразу повалились спать. Толстого сняли с поезда в 6.35 и отвели в зал ожидания. Дочь Саша писала потом: “Когда мы пришли на вокзал, — отец сидел в дамской комнате на диване в своем коричневом пальто, с палкой в руке. Он весь дрожал с головы до ног, и губы его слабо шевелились. Я предложила ему лечь на диван, но он отказался. Дверь из дамской комнаты в залу была затворена, и около нее стояла толпа любопытных, дожидаясь прохода Толстого. То и дело в комнату врывались дамы, извинялись, оправляли перед зеркалом прически и шляпы и уходили… Когда мы под руки вели отца через станционный зал, собралась толпа любопытных. Они снимали шапки и кланялись отцу. Отец едва шёл, но отвечал на поклоны, с трудом поднимая руку к шляпе”. И вот его привели к домику начальника станции. Об этом пишет Олеша: “Начальника станции, в комнате и на постели которого умер Лев Толстой, звали — Озолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился. Какая поразительная судьба! Представьте себе, вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особенным событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой, с палкой, в армяке, — входит автор └Войны и мира”, ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть от чего сбиться с пути и застрелиться”. Про Озолина говорили и другое — что он кончил свои дни в больнице для душевнобольных. Через год после того, как в его доме умер Толстой, с Озолиным случился инсульт, он три месяца пролежал в Пироговской больнице, оставил службу и уехал в Саратов. Другие биографы замечают, что Озолин в начале 1913 года умер там в своей квартире. Легенды мутны и неточны, и их детальное рассмотрение ни к чему хорошему не приводит. Толстой был бог. И довольно много людей относились к этому обстоятельству без удивления. Их удивляло, наоборот, что людям это неясно. Вот если к тебе приносят истекающего кровью Христа и апостол попросит тебя не мешаться под ногами — что ты ответишь? Я — начальник станции, скажешь? Бывают, конечно, попытки — вот Маковецкий вспоминал, что латыш Озолин и его жена — саратовская немка как-то не сразу обрадовались постояльцам: “Я просил начальника станции взять отпуск и перебраться с семьей куда-нибудь. Нужен воздух, тишина, место для нас, ходящих за Л. Н. Но ему и особенно его жене это показалось до того неожиданным; покрутила головой: это невозможно”. Жена — особое дело. Жёны всегда сомневаются в человеке, которого внесли или ввели в дом, разрушая хрупкое благополучие. Они чутки к будущему. Толстой умирал. Жизнь была устроена жестоко и мудро. На следующий день я, к совершенному изумлению, обнаружил в посёлке Лев Толстой Красную площадь. Это была настоящая Красная площадь, с красной зубчатой стеной. В эту стену были даже вмурованы какие-то таблички. На месте Мавзолея стоял зелёный танк “Иосиф Сталин — 3”. Сказать, что астаповская Красная площадь меня поразила, — ничего не сказать, да и остальные сооружения этого города меня поразили. Рядом с химерической Красной площадью находилось кафе “Софья”. Ну конечно Софья — как же ещё. Географическое движение Толстого остановилось, и время теперь длилось до того часа, когда путешествие оборотится вспять — на родину, к зелёной палочке. А тогда, много лет назад, ещё в Белёве, спутники Толстого “не решили ничего и взяли билеты до Волова. За Горбачёвом опять советовались и остановились на Новочеркасске. Там у племянницы Л. Н. отдохнуть несколько дней и решить, куда окончательно направить путь — на Кавказ или, раздобыв для нас, сопровождающих Л. Н., паспорта (└У вас у всех виды, а я буду вашей прислугой без вида”, — сказал Л. Н.), поехать в Болгарию или в Грецию. Л. Н. намечал обе эти страны, предполагая, что там его не знают. Он не помнил или не знал, как он известен и в Болгарии. Ни на одном языке в мире, не исключая английского, чешского, нет столько переводов последних писаний Л. Н., как на болгарском. Но никто из нас тогда и не думал объяснять Л. Н., что ему скрыться надолго нигде нельзя”. Они, как пишет Маковицкий, ехали рязанской равниной. Городки редко попадались, да не у самой линии железной дороги. Данков — в двух верстах. Раненбург тоже вроде того. Они советовали доехать до Козлова. Толстой умирает утром 7 ноября по старому стилю. В 6.35 31 октября Толстой спускается с поезда в Астапове, а ровно через неделю, в 6.05 седьмого числа, доктор регистрирует последний вздох. Жену его так и не пускают к нему при жизни. Есть странное и страшное фото, что часто считают постановочным. Это фотография Софьи Андреевны у окна комнаты озолинского дома, где лежит больной Толстой. На самом деле это не фотография, а кадр из документального фильма братьев Патэ. Фильм этот доступен, и постановочного, кажется, в нём немного. Трагедии в нём больше. Про эти кадры потом написал сын Лев Львович: “Неряшливо одетая, она крадется снаружи домика, где умирал отец, чтобы подслушать, подсмотреть, что делается там. Точно какая-то преступница, глубоко виноватая, забитая, раскаянная, она стоит, как нищенка, под окном комнатки, где умирает её муж, её Левочка, её жизнь, её тело, она сама”. Но сидеть в Астапове в пустой и страшный день юбилейного умирания нам не хотелось… Мы добрались до монастыря в Скопине. Скопинский монастырь был пуст. Несмотря на зимнее время, там что-то штукатурили. Рядом, где-то за холмом, находилось место археологической экспедиции, той, что нашла нечто, перетягивавшее место Куликовской битвы сюда. Но я не судья был этой исторической географии. И вдруг я подумал о реставраторах, о том, что надо отнять деньги у реставраторов. Ничего реставрировать не нужно. Когда я заикнулся про это при Директоре Музея, то он посмотрел на меня весело. Весело-то весело, но была это особенная весёлость, несколько меня испугавшая. Да что там “несколько” — страшно он на меня посмотрел, страшно. А думал я о том, что бессмысленно реставрировать монастырь на отшибе или большинство усадеб. В одних служить некому, в других — жить. Видал я эти усадьбы — некоторые из них ремонтировались халтурно и облупились, как яйца за завтраком, уже на следующую весну. Другие отреставрировали на совесть, а что теперь с ними делать — непонятно. Устраивали в них музей, а он неестественен — экспонатов не хватает, никто в село на отшибе не поедет, чтобы глядеть на два уцелевших стула. А выкупить новому русскому это дело совершенно не хочется — ни новое отопление провести, ни тарелку на крышу поставить, ни нормальное биде с унитазом. А уж как ему не хочется новую дорогу к этому дому прокладывать. Из этой усадьбы в город не наездишься, а сидеть в ней и править одичавшими колхозами немного охотников. Вот в Полотняный Завод ездят — Директор Музея на меня как-то странно при этих словах посмотрел, — Завод ещё жив, потому как Пушкин, Гончаровы и всё такое. А вот будет в сорока километрах от Ряжска усадьба отставного плац-майора Синдирюшкина — и что? Даже в отреставрированную не поедут — незачем. Во-вторых, типовая усадьба деревянная, за исключением, быть может, первого этажа. Строить такую же? Или новодел? Или что? Всё это незачем. Хоть и жалко, да жизнь у всех нелегка — динозавры так вообще все умерли.За время нашего отсутствия в Астапово приехал правнук Толстой из Ясной Поляны — живой и молодой. Он несколько насторожённо озирался — да и кто не насторожился бы, приехав на место смерти своего предка, с которым связана вся твоя жизнь. Даже мы, люди циничные и озабоченные красотой слова, вдруг ощутили что-то гнетущее в этом месте. Мы повели неспешный разговор. Толстой, кажется, не был в Астапове прежде. Но при всей этой отстранённости его так начало крутить, что, дойдя до станции, он даже отказался глядеть на дом начальника, где умер его пращур. Потом, выпив водки, он собрался погулять, но я предупредил его, что местные жители недоброжелательны, но он все же был готов рискнуть. Я про себя содрогнулся: это было бы символично — правнук Толстого, погибающий от рук нетрезвых жителей посёлка Лев Толстой. Но Директор Музея ловко припёр дверь, никто к народу так и не вышел, и мы разошлись по номерам. Мы жили с Директором Музея вместе, и он, ворочаясь, вдруг сказал: — А знаешь, отчего я тебя выбрал в напарники? Действительно, обычно мы делили одну гостиничную комнату, а Краевед с Архитектором — другую. — Так вот: ты куришь и ты толстый. Такие люди, в общем, чаще терпимы к неудобствам и к тому же не пугаются спать с открытой форточкой. А толстый — это ничего, неудобно только шнурки завязывать. — Ну и хорошо, — пробормотал я, потому что уже дремал и думал о необходимости записывать жизнь. Сотни судеб вокруг меня — и все они уходят в дым, не дождавшись записи или запоминания. Исторический опыт всегда частный — стало мне интересно узнавать, что сделалось с людьми, которых я знал давным-давно. Это была своеобразная старина: ты ничего не думаешь об этих своих знакомцах, они выключены, но не исключены. Но вдруг внезапно узнаёшь совершённое ими или не совершённое ими — тоже, их промахи и ошибки, неудачи и успехи, всё случившееся за эти годы, пока мы с ними не виделись. Этих людей множество — они связаны друг с другом призрачными нитями знакомств и пересказов, вот один уже умер, и его смерть странно меняет все — не то чтобы мир стал пуст для меня, а вот его сюжет пошёл совсем иначе. Другой уехал навсегда, третий нажил состояние — всё это сюжеты, в которых я странным и незначительным образом принял участие. Семья — это совсем иное, там исторический опыт сам лезет мне в руки. Вот опыт брата моего деда, что, недоучившись на математическом, пошёл бомбить с аэропланов кайзера, потом прибился к белым. Пытался переквалифицироваться в управдомы, но пять языков, из них два мёртвых, накладывают на человека свою печать — его ждала судьба, сватанная для Канта: три года в Соловках, ссылка. Потом он отказался вернуться, его замучило всё и достало. Что ему, зачем — он жил в Череповце. Его сестра не оставила писем, а её дневники ушли в пепел перед смертью. Я нашёл несколько тетрадей, завалившихся за книги. Бывшая смолянка писала по-французски, и я выучил чужой язык, чтобы прочитать уцелевшее. Там оказалось скучное перечисление врачей и фенологические зарисовки. В Смольном она, кстати, получила шифр — золотой вензель в отличие. В другое — изменённое — время сделала из него себе золотые зубы. Так императорский вензель пережёвывал гречневую кашу, а время длилось. Судьбы переплетены прихотливо — она вышла замуж за сына Очень Знаменитого Человека, соратника вождя. Тогда он был ещё и народным героем, а теперь уж нет. Теперь даже переименовали улицы, площади и станцию метро, что были названы в его честь. Его расстреляли в Гражданскую войну на 207-й версте, между станциями Ахча-Куйма и Перевал. И хотя про него сочинили сотни стихотворений и, как минимум, две поэмы, мне одна радость — сейчас я сижу под его портретом и портретом его сына. Эти портреты красивы и достались мне как выморочное имущество. А её муж, что носил в петлицах шеренгу ромбов, умер в 1936-м. Своей смертью, если смерть может быть чьей-то собственностью. Люди в родне были разные и интересные. На мою жизнь влияния они не оказали. Всё это — портреты, письма и жухлые красные корочки удостоверений я потом нашёл как какую-то джуманджу в песке. Откопал, обтёр песок и пыль. Пыли было много. Моя действительность страшнее литературной, потому как почти литература. Всё дело в том, что эти истории — как порванные банкноты, которые раздают шпионам для пароля. Но один шпион — пойман, а другой мёрзнет на ветру у памятника или давно впарил славянский шкаф на “Сотбис”. Я, знающий номера обеих половин, оказался кем-то вроде главы разведки, что никогда не комментирует членство пойманных и мемуары отщепенцев. Никто из них не писал, впрочем, ничего. Письма их суконны и унылы, будто доисторическое зверьё тупиковой ветви, они выродились в открытки. И о них помню один я. Но знание моё нечётко и зыбко — день валился в мёртвый сон, как убитый солдат. (обратно)
Железо дороги
15 ноября. Астапово — Раниенбург — Лебедянь — Елец — Ясная Поляна
По линии действия катится паровоз чувств.Поутру мы собрались в одном из номеров, и я стал глядеть на прекрасных девушек, что приехали к нам. Это всегда оказывается лучшим видом за завтраком, бодрит и даёт заряд на весь долгий и утомительный день. Выглянуло нежаркое зимнее солнце, геометрия местности изменилась, и всё как-то повеселело вокруг. Стало даже жарко. Теперь солнце било сквозь пыльные портьеры, и жизнь казалась лишённой какого-то тяжёлого гнёта. Путешествие нас как бы отпускало, и я начинал верить, что после смерти Толстого ожидало некое светлое воскресение. Мы пробили невидимую стену и въехали в тот город, до которого так и не доехал Толстой. Ответить, как и почему Толстой бежал, невозможно — всё равно что-то остаётся недосказанным. И мы, разумеется, не смогли — поэтому я снова и снова вспоминал ту самую фразу из дневника вдовы, что спустя полгода приходит на могилу писателя и пишет: “Что случилось — непонятно, и навсегда будет непостижимо. Чудесный тёплый день…” А перед нами было уже то пространство, которое осталось навсегда недостижимым — город Чаплыгин был свеж и весел. Я, правда, сразу же вспомнил о Циолковском и не без труда отогнал призрак глухого старца прочь. Железная дорога — вот что спасает Россию. На откосе Раниенбурга-Чаплыгина мы сфотографировались. Перед нами лежала местность сказочной красоты с тонкими стрелами железнодорожных путей. Кажется, если бы Толстой не покинул спасительную утробу вагона и доехал бы сюда, всё могло окончиться иначе. Русская литература навек обручена с путешествием. Она связана с дорогой так же, как связана история России с её географической протяжённостью. Одно определяет другое, и это другое, в свою очередь, начинает определять первое. Путь вечен, движение неостановимо. Речь пойдёт, собственно, лишь об одной детали этого пути, но детали из самых важных, которую не назовешь собственно деталью. Итак, всех спасает движитель, локомотив. Короче говоря, паровоз. Наш герой, похожий тогда на колёсный самовар, появился на свет в 1803 году. Англичанин Тревитик обессмертил своё имя, а город Лондон получил первую в мире железную дорогу. У русских тогда были свои заботы. Оставалось ещё два года до того, как скажет Анна Павловна что-то о поместьях семьи Бонапарте, до Аустерлица оставалось два года. На полях Центральной Европы вскоре начнётся военное шевеление, окутываясь пороховым дымом, человечки в цветных мундирах поползут друг на друга, топча чужие посевы… Время шло. Паровозы совершенствовались, и всё же один из них был снабжён задними ногами, отталкивавшимися от земли. Знаменитая “ракета” Стефенсона, похожая больше на пузатый бочонок, появилась в тот год, когда Пушкин писал “Полтаву”. На коротком пути между Петербургом и Царским Селом движение открылось в год смерти Пушкина. Итак, паровоз появился в России в 1837-м — этапном — году. Сначала он назывался пароходом — в знаменитом романсе Глинки. Романс написан на стихи Кукольника, найти которые можно только в нотных сборниках. “Дым столбом — кипит, дымится пароход… Пестрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье… Православный веселится наш народ…” Спустя столетие текст, разумеется, был адаптирован, и православность исчезла, но это предмет иного разговора. Дорога была чугунной, но в поэзии она уже стала железной. Железная дорога, папаша в пальто на красной подкладке, Петр Андреевич Клейнмихель, душенька… Конечно, Некрасов. В этом многократно читанном стихотворении, затверженном со школы, есть одна забавная особенность. На первый взгляд это заурядный разговор в пути — о жизни, такой же, как разговоры о жизни поэтов с книгопродавцами, некими гражданами и фининспекторами. Однако личность одного из собеседников, а именно — генерала в пальто на красной подкладке, особенна тем, что был он “и в Риме, видел Святого Стефана, две ночи по Колизею бродил”. Судьба литературы в России не совпадает с её европейской историей, и история железной дороги не похожа на историю цивилизованного средства передвижения. Особый путь России вовсе не метафора, а 89 миллиметров, отличающих более широкую отечественную колею от остальной — европейской. Лесков в святочном рассказе “Жемчужное ожерелье” припоминал характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны. “Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — всё скользит…” Это продолжение извечного спора о прогрессе — но в железнодорожный век. И в том самом, упомянутом выше стихотворении Кукольника, написанном, кстати, в 1840 году — “Нет, тайная дума быстрее летит, и сердце, мгновенья считая, стучит. Коварные думы мелькают дорогой, и шепчешь невольно: └О Боже, как долго!”” Между прочим, длина железнодорожного пути между Санкт-Петербургом и Царским Селом, о которой пишет Кукольник, составляет 26,7 километра — огромное расстояние по тем временам. А дорог всё больше и больше, они ветвятся, как крона гигантского дерева. Вот и садятся пассажиры — один напротив другого, едут сутки, вторые. — Позвольте рассказать вам историю… Я вот жену убил, а у вас что нового? Качается вагон, проводник зажигает свечи. Пульмановские вагоны придумают ещё не скоро. Пока пассажиры приговорены к бессоннице и взгляду в упор, приговорены к ночному разговору. Щедринский провинциал жалуется: “В этом вагоне сидела губерния, сидело все то, от чего я бежал, от лицезрения чего стремился отдохнуть. Тут были: и Петр Иваныч, и Тертий Семеныч, и сам представитель └высшего в империи сословия”, Александр Прокофьич (он же └Прокоп Ляпунов”) с супругой, на лице которой читается только одна мысль: └Alexandre! у тебя опять галстух набок съехал!” Это была ужаснейшая для меня минута. Все они были налицо с своими жирными затылками, с своими клинообразными кадыками, в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком. Все притворялись, что у них есть нечто в кармане, и ни один даже не пытался притвориться, что у него есть нечто в голове”. А вот тургеневский Литвинов “мысленно уже ехал. Он уже сидел в гремящем и дымящем вагоне” — паровоз не воспринимается отдельно от вагона, всё мешается — печки в вагоне и паровозный дым. Фатализм особого железнодорожного пути тяготеет над всей русской литературой. Великий роман отворяется словами: “В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу”. Всё в “Идиоте” заранее предрешено, начиная с газетной статьи, о которой говорят в поезде, с портрета на рояле, что увидел главный герой, с 27 ноября 1867 года. Пока слякотной средой того далёкого года в вагоне третьего класса знакомятся малоопрятные люди, Настасья Филлиповна Барашкова читает в газете про кровавую бритву Мазурина, ждановскую жидкость и американскуюклеёнку. Другой великий роман, вопреки известному заблуждению, начинается не с несчастливых и счастливых семей, не с их похожести и различий, а с паровоза, который, перевалив за полусотню страниц, соединяет героев. Степан Аркадьевич (будущий соискатель места в управлении железных дорог) стоит с приятелем, ожидая поезд, и вот “вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхтя сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно нагибающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, всё медленнее и более потрясая платформу, стал подходить вагон с багажом и визжавшею собакой…”. Раздавленный станционный сторож, смерть ужасная (“два куска”) или, “напротив, самая легкая мгновенная” уже случилась. Это смерть-предсказание: в последний час Анны платформа так же будет дрожать, появятся “винты и цепи и высокие чугунные колёса”, промежуток между колёсами, крестное знаменье и мужичок, работающий над железом. Паровоз-терминатор, окутанный паром, огненный, будто механические ножницы в руках пбарок, — вот первый образ паровоза. Железнодорожная тема — тема повышенной опасности. Тема соприкосновения с неизвестным. Со смертью в том числе. Я пугливо оглядываюсь — всё же я изменил железной дороге с автомобилем. Но, успокоившись, снова возвращаюсь к тому, что дальше. А дальше, как известно, литература. Анна будет в последний раз помянута Вронским на вокзале, при отъезде в Сербию, “при взгляде на тендер и рельсы”. Железная дорога совмещается с войной, как совмещаются две смерти. Севастопольской страдой 1854 года, когда Толстой приехал на войну, рядом с ним, в нескольких верстах, по проложенной англичанами дороге пыхтел паровоз. Это был не простой паровоз, он, как говорили тогда, был блиндирован. Грозный призрак бронепоезда двигался по крымской земле. Толстой как-то писал Тургеневу: “Вчера вечером, в 8 часов, когда я после ночной железной дороги пересел в дилижанс на открытое место и увидал дорогу, лунную ночь, все эти звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой сняло или, скорей, превратило в эту трогательную радость, которую вы знаете. Отлично я сделал, что уехал из этого содома. Ради Бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то, что бордель по отношению к любви — так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно”. Толстой как будто предчувствует, что ничего хорошего из его отношений с железной дорогой не выйдет, — и верно. Так оно и получилось. А ведь был писатель, которому повезло с железной дорогой. “Поезжайте, — так пишет Чехов Телешову, — куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три… Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезёте! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена… Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего”. Самым железнодорожным русским писателем XIX века был Гарин-Михайловский. Герой его тетралогии после спасения собачки (о чём осведомляла младших школьников книга для классного и внеклассного чтения) превратился в гимназиста, студента, наделал долгов, пустился во все тяжкие. Говорит он о себе, что — “сошёл с рельсов, летит под откос”. Спасает Тему Карташёва то, что студентом он работал на паровозе помощником машиниста, глядел в жаркое окошечко топки. Этот паровоз, сохранившийся в воспоминаниях, вывозит героя в иную жизнь — инженерную. Это вторая ипостась паровоза, второй его образ — рабочей лошади с широкой грудью, спасителя, что вывезет всё по широкой железной дороге. Это основа литературы, где паровоз превратится в символ гораздо более важный, чем тягловая сила. Ещё жил набоковский “игрушечный паровозик, упавший на бок и всё продолжавший работать бодро жужжавшими колёсами”, ещё герой “с безграничным оптимизмом… надеялся, что щёлкнет семафор, и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось рельс между чёрными спинами домов… и жар веры в паровоз держал его в плотном тепле”, но черта уже подводилась. Механическое чудовище — бронированный паровоз, давно ждавшей своего часа, появился на рельсах России.Сергей Эйзенштейн
Настал XX век — время классики закончилось, и пришёл век Великого Машиниста. Двадцатый век, начатый, по словам Ахматовой, в четырнадцатом году, выпустил в Европу бронированную гусеницу, дитя Англо-бурской войны. Когда родился бронепоезд — в 1864-м ли году, при осаде ли Питсбурга — всё равно, едино всё это время далеко. Кому и когда пришло в голову защищать паровоз броней? Автора нет, вернее, их слишком много. Теперь паровоз окончательно слился с остальными вагонами, натянул на себя зелёную змеиную шкуру. Защищённый контрольной платформой, орудийной площадкой, паровоз, а то и два переместились в середину состава. Образуя вертикаль над протяжённым горизонтально телом бронепоезда, висел аэростат-наблюдатель. Внимательный читатель Куприна или Бунина внезапно удивляется непохожести их вагонного опыта и собственно его, читательского: “В вагон вошёл кондуктор, зажег в фонарях свечи и задёрнул их занавесками”. Гражданское, в полном смысле этого слова, путешествие превратилось в путешествие случайное, хаотическое: “Поезд шел очень своеобразно, от одной счастливой случайности до другой. Мы останавливались у какого-нибудь станционного амбара и разбирали всё здание, досок хватало обжорливому паровозу на несколько часов. Когда проезжали лесом, пассажиры вылезали и шли рубить деревья. Завидя лужицу побольше или речонку, становились цепью и передавали ведро, поя глоток за глотком наше чудовище”, — пишет Илья Эренбург в “Хулио Хуренито”. Символом нашей литературы бронепоезд стал именно во время Гражданской войны. “Пусть когда-нибудь в славную повесть про геройский советский век, громыхая, войдет бронепоезд” — так писал Долматовский. Алексей Толстой так описывает этот предмет: “Из-за поворота, из горной выемки, появился огромный поезд с двумя пышущими жаром паровозами, с блиндированными платформами, с тускло отсвечивающими жерлами пушек… Выли два паровоза, окутанные паром…” В советской литературе есть единственный бронепоезд, чей порядковый номер знает каждый — “14-69”. Всеволод Иванов пишет не про красный, а про белый бронепоезд, только потом захваченный партизанами. Злобно-багрово блестят зрачки этого паровоза. Он не похож на другие локомотивы в этом же тексте: “Добродушный толстый паровоз, облегчённо вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним другой…” Один из героев, сибирский старик, так говорит про это механическое чудовище: “бранепояс”. Старик добавляет в понятие новый смысл, отсылает одновременно и к амуниции, и к звериному миру. Белый бронепоезд злобен, и он тоже антропоморфен, как и сам паровоз в русской литературе. Захват этого бронепоезда похож на покорение женщины и даже насилие над ней: “На паровозе уцепились мужики, ёрзают по стали горячими хмельными глазами”. Но есть особый писатель, для которого паровоз действительно живое существо. Это Платонов. Он действительно любит паровоз — так, как любят домашнее животное. Один из героев “Чевенгура” говорит с паровозом в его, паровоза, железнодорожной норе — с глазу на глаз, доверительно. И паровоз отвечает, тихо бурчит что-то. Его нельзя бросить на произвол судьбы, даже спасая свою жизнь: “Кроме того, Захар Павлович, тем более отец Дванова никогда не оставили бы горячий целый паровоз погибать без машиниста, и это тоже помнил Александр”. После Платонова паровоз в литературе становится похож на портрет вождя на стене учреждения — он присутствует, но не функционирует. Железная дорога была неотъемлемой частью литературного пейзажа — от лирики до эпики. Островский пишет о том, как паровозы гудят в день смерти Ленина, как гудит с ними за компанию польский буржуазный паровоз. Они кричат, будто звери, потерявшие хозяина. С Лениным много связано у механического железнодорожного племени. На паровозе, сноровисто подкидывая уголь в топку, бежит Ленин от преследования. Мифическая картина, очень похожая на ту, что нарисовал Островский, только бегут в знаменитом романе простые рабочие. Стоит на Павелецком вокзале траурный ленинский паровоз, похожий на скорбный лафет, с которого сняли тело — будто не в вагоне, а прямо на тендере везли Ленина из Горок. Ильф и Петров, как и многие знаменитые писатели, работали в газете железнодорожников. “Гудок” того времени объединял не только кассовым окошком, но и локомотивной стремительностью стиля: “Поезд прыгал на стрелках… Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли паровоз в стойло”. В наиболее ответственные моменты паровоз осенялся особой иконой — на победных эшелонах 1945 года, у красной звезды — знака национально-интернациональной принадлежности — был прикреплён портрет Великого Машиниста, на боках — транспаранты, а весь он увит цветами. Железная дорога формировала язык — поэтический, особый язык, где жили “подвижной состав”, “полоса отчуждения” или “железнодорожное полотно”. Из стёртых метафор они обращаются в наполненные особым смыслом слова. Паровоз, которого так боялись бунинские герои, замершие на станции, стал символом движения вперёд. Для советской литературы это означало грозного и стремительного, но полезного зверя. Однако давление пара ослабло, а Великий Машинист спрятался в Мавзолее. Время спуталось, как железнодорожное расписание. Эпоха паровозов в России окончилась в 1956 году, более известном, правда, иным событием. С 1837 — года смерти Пушкина, до 1956 — года XX съезда длилось их время. Нет, они ещё существуют на запасных путях, будто исчезнувшие бронепоезда. На разрушенном полотне железной дороги вдоль Северного Ледовитого океана, стройка которой началась по безумной прихоти Сталина, стоят, будто ископаемые скелеты, чёрные паровозы, обросшие мочалой, с изъеденными временем боками. Они доживают свой век в потаённых закутках, где их сохраняли, говорят, на случай ядерной войны и новой разрухи. Их чёрные туши можно ещё кое-где видеть из железнодорожного окна, их доведённые до совершенства паровые котлы переделывают для отопительных нужд. Многие из них ещё могут ездить, но всё меньше и меньше тех машинистов, что могут заставить паровоз повиноваться. Паровозы ушли, как исчезли динозавры. Они окончательно превратились в символ. (обратно)
Снег
15 ноября. Где-то на Оке
Мы двинулись в обратный путь кривым путём, забирая к югу, как, наверное, сделал бы Толстой. Замелькали уже известные мне места. Например, стоявший в Лебедяни Ленин-памятник, совмещенный с трибуной, и собор-чернильница. Видел я его несколько раз и даже взбирался на эту обветшалую трибуну. Пронёсся мимо моей жизни Елец — город на холмах. Там мы кланялись музею Бунина и стоящему напротив дому нового русского со шпилем, стилизованному под непонятную старину. Там при въезде на мост были изображены человекообразные герои войны со страшными лицами, похожие на монстров, только геройские звёзды на них были точны и правильны. Как-то я спросил одного знающего человека, отчего Елец с такой богатой историей не стал в 1954 году центром новой области — в тот момент, когда очередной раз перекраивали карту. — Видишь ли, — отвечал он мне, — у нас тут время течёт медленно, а память у нас всех хорошая. В пятидесятых было рукой подать не только до Тамбовского восстания, но и до Гражданской войны, когда в Ельце было много контрреволюции и большевиков особенно не жаловали. А дело это домашнее, памятное, вот и выпали козыри Липецку — заодно и с комбинатом. — С пониманием, — сказал я, потому что надо было что-то сказать. Но в этом и заключена высшая печаль путешествия — сколько бы ты ни ехал куда-то, всё равно, чтобы понять город или местность, нужно прожить в ней полжизни. Так тебя и хватит — на два города.Я ехал и думал о том, что и мне нужно написать философскую книгу. Правда, пока я придумал только название. Название для этой книги было “Метафизика всего”. Но только от самого этого названия меня снова стало клонить в сон, и я уже не мог понять, снится ли мне Краевед, или он снова сказал у меня над ухом давнюю магическую фразу: — Движение Узорочья — движение от Костромы к Ярославлю. Кажется, я уже слышал это, но вдумываться не было сил — я уже ничего не понимал, а только валился в сон. Очнулся я от непривычной тишины. Наша машина зависла над краем огромного кювета. Видать, её занесло на дурной дороге — и теперь мои подельники молча озирались, думая, в какую сторону вылезать из неё, чтобы не нарушить хрупкого равновесия. Но вот мы встали на край дороги, и только тут я понял, что изменилось в окружающем мире. Выпал снег. Кругом нас лежало бесконечное белое поле — мы чёрными муравьями стояли рядом с машиной, а над нами было ровное белое небо, утратившее всякую голубизну. Тут бы нас нужно было бы снять камерой на кране, специальным заключительным планом, что так любят кинематографисты, — когда камера уходит ввысь, а люди постепенно мельчают. Да только никакого кинематографа не было. Было знамение снега, дорога где-то у Оки, и мы, перекурив, упёрлись в борт машины, стараясь испачкаться не слишком сильно. (обратно) (обратно)
Путь и шествие
Слово о том, как важно понимать, где и зачем ты находишься, и соизмерять свои перемещения со своей амуницией, временем года и прочими возможностями
Спрашивается, как обстоят дела, и вообще – обстоят ли они?Венедикт Ерофеев. Записная книжка от православного нового года 1981

I
Гости, соответственно, съезжались на дачу. Кто-то приехал загодя, а кто-то зацепился в городе и никак не мог доехать. А ведь только на дачу и нужно ездить летом, дальше дачи – никуда. Это уж ясное дело, что нормальный человек, когда полетит тополиный пух, норовит потеть в чужом неприкаянном месте, где квакает и клацает иностранная речь, где песок желтее и в море тонуть приятно – оттого что приобщаешься к интересному заграничному миру и помираешь как настоящий иностранец. А в отличие от нормального умный человек сидит летом в городе. Ходит на работу в шлёпанцах, галстуков не носит, а если пойдёт дождь, то умного человека он застигает в гостях у красивой женщины с печальными глазами. Они сидят на широком подоконнике и смотрят, как снаружи коммунальной квартиры дождь моет узкий переулок. Жить им в тот момент хорошо, потому как соседи уехали на дачу, и можно стать печальными несколько раз, пока умному человеку снова придётся надеть шлёпанцы и отправиться домой к своему семейству. Там тепло и влажно после дождя, а из-под раковины пахнет мёртвой крысой. Летом в городе хорошо. А путешествовать можно зимой – зимой на путешественника смотрят жалостно, ему открывают дверь и как куль его суют на полати, накормив предварительно мясной похлёбкой. Ишь, думают хозяева, нелёгкая выгнала человека из дома – вона как жизнь его обернулась. И ставят бережно его обледенелые шлёпанцы под лавку. Летом же – шаг вправо, шаг влево – только на дачу. У меня есть довольно много хороших друзей, что время от времени зовут меня на дачи. Для этого надо встать с рассветом, потому что они заезжают за мной ранним утром. – Пробки, сам знаешь, – говорят они, и я понимающе киваю. Я поутру всегда понимающе киваю, потому что спросонья не могу говорить. Про себя я думаю – кто едет на дачу в полдень или около того? Когда мои друзья и знакомые, друзья друзей и знакомые знакомых и все их родственники едут на дачи в восемь утра? Кто они эти люди, что едут на дачу, выспавшись? Кто в пробке, кто – Пушкин с Натальей Николавной? Но мы давно едем на дачу, и я сплю в машине, потом я сплю в каком-нибудь дальнем уголке, чтобы никому не мешать. Однажды я уснул в маленьком загончике для механических тяпок, рыхлителей и газонокосилок. Я ворочался, нажал куда-то затылком – одна косилка внезапно заработала, вырвалась на волю, и её два часа ловили все соседи. Мне уже можно не тыкать на чужом участке лопатой – я тут просто так, для мебели. Да и мои друзья горазды засадить участок не клубникой, а деревьями и задумчиво приобщаться к высокому. Слушать, например, «Владимирский централ», что завели соседи. Обычно я просыпаюсь ночью – и вижу вокруг сонное царство. Одни присвистывают, другие причмокивают, третьи всхрапывают. Не в силах найти обувь, я ступаю с крыльца босиком и брожу вокруг потухшего костра. Там я дятлом клюю недоеденный лук от шашлыка и писаю под соседский забор. Ночью на дачах – особая жизнь. Я слышал, как звучит гармошка, которую волочит по тропинке, взяв за один конец, одинокий гармонист. Мне внятен тонкий посвист ночных птиц и сумрачных лягушек тени. Я видел крота – от кончика носа и до хвоста ему грациозная стройность и нега дана, и бег его – медленный камня полёт, когда в темноте он падает в вырытый ход. Я слыхал, поют коты, нет, не те коты, не полевые, а обрезанные и хмельные, о чём поёт ночная птица, повесив стул на спинку пиджака, когда ей не к чему стремиться, и как туман трещит как будто рэп, попав на линии высоковольтной ЛЭП, – трещит, будто тонкий звук путеводной ноты. Но чу! Пьяные дачники угнали КамАЗ с кирпичом и перекидывают груз через забор. Наутро их осталось восемь. Утром меня будят. – Если ты хочешь ехать с нами, то пора собираться. Сам понимаешь... Я понимаю и киваю головой. Друзья везут меня улыбаясь – в голове у них мягко распускается анекдот «купи козла – продай козла». Они спрашивают меня что-то, и я утвердительно трясу головой. Обычно голова перестаёт качаться, когда я вижу над головой сплетения транспортных развязок Кольцевой дороги. Я люблю ездить на чужие дачи.Извините, если кого обидел
05 июля 2018 (обратно)
Слово о том, что кролики не всегда то, чем они кажутся

...Вагоны были совершенно обычные, но только очень старые и скрипучие. В углу у двери обнаружилась куча берёзовых веников. Синдерюшкин нагнулся к этой куче и сказал ласково: — Здравствуйте, дедушка! С почином вас! Из кучи высунулась борода, и тоненький голосок ответил: — Ну а как же-с! На Аграфёну Купальницу-с! А ранее — никак не можно-с.... Я представил себе мир вагонных существ, существ, живущих наподобие домовых в идущих и стоящих поездах, но рассказывать ничего никому не стал — тем более Гольденмауэр сам начал говорить. — Всё-таки, Ваня, — сказал он, обращаясь к Синдерюшкину — всё-таки не понимаю я твоего чувства к кроликам. Я кроликов боюсь. Они загадочные и непонятные. Вот гляди — сейчас всё смешалось: ирландский католик совсем не то что бразильский, а американский — не то что немецкий. Не говоря уже о протестантах. Всё действительно смешалось, как гоголь-моголь, в доме Облонских. И повсюду эти кролики — вот жил я как-то в иностранном городе К., и там под Пасху всегда обнаруживалось много чего загадочного. Вот, например, история с кроличьими яйцами. Сколько и где я ни жил, но никто мне не сумел объяснить, почему символом Пасхи во всей Европе является заяц с яйцами. То есть не в том дело, что заяц не кастрат, а в том, что он яйца либо несёт в котомке, либо среди них, яиц, этот заяц радостно лапами разводит. А сидят эти уроды по витринам, и яйца лежат у их ног или лап, будто бракованные пушечные ядра... Сидят эти шоколадные, кремовые, плюшевые и глиняные зайцы с шоколадными, кремовыми, плюшевыми и глиняными расписными яйцами — и никто не может мне объяснить этого причудливого сочетания. — Зайцы рифмуются с яйцами — жалобно сказал я. — Только в русском языке[2], — мгновенно отреагировал Гольденмауэр. — А с другими символами как-то проще. С вербами (как, кстати, и с ёлками) понятно — климат. А вот яйца с зайцами... Первым это всё придумал профессор фон Франкенау в 1682 году, а может и просто подслушал где-то. Но в сочинении его, именовавшемся «De ovis paschalibus — von Oster-Eyern», кролик яйца снёс два в саду прикопал. Прикопал, да! А теперь-то плодятся эти зайцы, как кролики, по весне, недаром они размножались под радостным посвящением Венере всемогущей. Все кролики носятся туда-сюда со своими и чужими яйцами. А вот Мария Магдалина, что принесла императору Тиберию округлый плод птицеводства, услышала в ответ, что скорее белое станет красным, чем он поверит в воскрешение из мёртвых. Налилось куриное яйцо кровью, и всё заверте... Или вот философ Сковорода, которого не поймал целый мир, писал: «Встань, если хотишь, на ровном месте и вели поставить вокруг себя сотню зеркал. В то время увидишь, что един твой телесный болван владеет сотнею видов, а как только зеркалы отнять, все сокрываются. Однако же телесный наш болван и сам есть едина токмо тень истинного человека. Сия тварь, будто обезьяна, образует яйцевидным деянием невидимую и присносущную силу и божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зерцаловидные тени». Гольденмауэр нас изрядно напугал. Мы даже не обратили внимания на кондуктора, даже если это и был кондуктор. Но это что — мы не испугались человека, что вёз, прижимая к груди, огромный могильный крест. Крест был сварной, из стального уголка, крашенный противной серебряной краской, — но что нам было до него, когда придут кроли-кастраты, и всем трындец. Мы не обратили даже внимание на двух дачников, на головах у которых были пасечные шляпы с опущенными пчелиными сетками. — Да уж завсегда кровью-то нальётся, — сказал бывалый Рудаков. — Не перебивай, — шикнул на него Синдерюшкин. — Итак, — продолжал Гольденмауэр свою пафосную речь, сам не заметив, как встал и вышел в проход между сиденьями. — Замахали кисточками миллионы лакировщиков действительности, замигали светофорами нерождённые цыплята. Всё это понятно по отдельности, но сочетание суетливых ушастых грызунов, что катят перед собой эти разноцветные символы, будто жуки-навозники, меня пугает. Всё-таки всё это не дураки придумали. Вовсе нет. Всё это возвестие какого-то масонского заговора, а размер и форма яиц — тайные знаки. А уж когда настанет Пасха, в которую на углу Durinerstrasse заяц будет сидеть без яиц, — нам всем кранты. Это говорю вам я — в вечер накануне Ивана Купалы, в особое время года. И уж тогда — туши свет, сливай воду... И с радостью мы поспешили к выходу, лишь только Синдерюшкин махнул всем рукой. Но только пассажир, спавший в обнимку с могильным крестом, поднял голову и подмигнул нам. Когда мы спрыгнули с подножки, закат уже был окрашен в странные цвета — так, будто в облаках невидимые повара мешали кетчуп с майонезом.
04 апреля 2021 (обратно)
Слово о расстановке шпал и правильном выборе дороги
А другой немец, к русским людям надлежащей жалости не имели и безоар-камень для себя берегли. Это было вполне достоверно потому, что один из двух орловских аптекарей как потерял свой безоар, так сейчас же на дороге у него стали уши желтеть, око одно ему против другого убавилось, и он стал дрожать и хоша желал вспотеть и для того велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить, однако не вспотел, а в сухой рубахе умер. Множество людей искали потерянный аптекарем безоар, и кто-то его нашел, только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.Николай Лесков, «Несмертельный Голован»

XI
Утих дальний звук поезда. Чувствовалось, что по этой заброшенной ветке поезда ходили редко. Рельсы лежали ржавые, и сквозь них проросла густая мёртвая трава. Побрели мы дальше. – Что я, волк, что ли – сказал Рудаков, вспомнив наши утренние разговоры. И тут же кто-то завыл за лесом. – Да уж, ты не волк, пожалуй, – успокоил его Синдерюшкин. – По крайней мере, пока. Пришлось снова идти по шпалам. – Ну ты, профессор, – сказал мстительный Рудаков, – а вот скажи, отчего такое расстояние между шпалами? Мы-то, конечно, знали, что это расстояние выбрано специально, чтобы такие лоботрясы, как мы, не ходили по шпалам и не подвергали свою жизнь опасности, а тащились вдали от поездов – в глухой траве под откосом. – А по две шпалы на метр – вот и вся формула, – ответил Гольденмауэр хмуро. – Тьфу, – плюнул Рудаков точно в рельсу. – Никакого понимания в человеке нету. Чистый немец.Вдруг все остановились. Рудаков ткнулся в спину Синдерюшкина, я – в спину Рудакова, а Гольденмауэр со своей спутницей вовсе сбили нас с ног. – Ну, дальше я не знаю. – Синдерюшкин снова уселся на свою рыболовную урну и закурил. – Теперь ваше слово, товарищ Маузер. То есть теперь ты, Рудаков, поведёшь. Ты, кстати, помнишь-то как идти? – Чего ж не помнить, – ответил Рудаков, но как-то без желаемой нами твёрдости в голосе. – Сначала до соснового леса, потом мимо кладбища – к развилке. А там близко. Там, на повороте, стоит колёсный трактор. Налево повернём по дороге – там и будет Заманихино. Мы спустились с насыпи и двинулись среди высокой травы по низине. С откоса на нас лился туман – там за день, видно, была наварена целая кастрюля этого тумана. Шуршали хвощи, какие-то зонтичные и трубчатые окружали нас. – Самое время сбора трав, – сказал мне в спину Гольденмауэр, собственно, ни к кому не обращаясь. – Самое время папорть искать. Ибо сказано: «Есть трава чёрная папорть; растёт в лесах около болот, в мокрых местах, в лугах, ростом в аршин и выше стебель, а на стебле маленькие листочки, и с испода большие листы. А цветёт она накануне Иванова дня в полночь. Тот цвет очень надобен, если кто хочет богатым и мудрым быть. А брать тот цвет не просто – с надобностями и, очертясь кругом, говорить: “Талан Божий, сё суд твой, да воскреснет Бог!”» Нехорошо он это сказал, как зомби прямо какой. Так в иностранных фильмах говорят чревовещатели. Я был благодарен мосластой, которая, видимо, ткнула Лёню кулаком в бок, и он заткнулся. Травы вокруг было много, трава окружала нас, и я сам с ужасом понял, что неведомый голос нашёптывает мне: «Бери траву золотуху, бери – ой, растёт золотуха на борах да на Раменских местах, листиками в пядь, ни дать, ни взять, а суровца не бери, не бери, не ищи его при водах, береги природу, а возьми-ка шам, что листочки язычком, как в капусте с чесноком. Ой да плакун-трава ворожейная, а вот адамова голова, что власти полова, а вот тебе девясил, что на любовь пригласил. Эй, позырь – разрыв-трава, что замкам потрава, воровская слава. Или тут за бугорком – ревака, что спасёт в море во всяком. “Земля мати”, шептали голоса, благослови мя травы братии, и трава мне мати!» – Но, – и тут в ухо мне, никчемному человеку, старшему лесопильщику, да ещё и бывшему, кто-то забормотал: «Тебе-то другое, не коланхоэ, не карлик-мандрагора, найдёшь ты споро свой клад и будешь рад – коли отличишь вещее слово, выйдя как работник на субботник – папортник или папоротник?» Тут мои спутники начали ругаться, и наваждение рассеялось. Мы долго шли в этом травном лесу, среди тумана, мы не заметили, как снова упёрлись в насыпь. Тут и сам Рудаков удивился. – Что за чертовщина, я помню, тут проход должен быть. Проход нашёлся. Чёрный провал, видный только вблизи, вёл как раз под насыпь. – Да, труба, – веско высказался Синдерюшкин. В любом из смыслов он был прав. Правильно, значит, по-рабочему, осветил положение. Но делать было нечего, и мы вслед за Рудаковым, ступили в черноту. С бетонного потолка рушились вниз огромные капли. Шаги отдавались гулко, было темно и неприятно, и вообще место напоминало унылый подземный переход на окраине, где сейчас вот выйдут из-за угла и безнадёжно спросят спички или зажигалку. Мы шли молча, перестав обходить лужи на полу. В углах подозрительно чавкало. Мы пыхтели, и пыхтение множилось, отражаясь от стен. Пыхтение наше усиливалось и усиливалось в трубе, и уже казалось, что нас уже в два раза больше. Мы лезли по этой трубе, стукаясь макушками и плечами, и я всерьёз начал бояться, что сейчас под ногами обнаружатся незамеченные рельсы секретного метро, загугукает что-то, заревёт, ударит светом, и навстречу нам явится какой-нибудь тайный поезд, приписанный к обороне столицы. Скоро нам стало казаться, что труба давно изогнулась и ведёт вдоль железной дороги, а не поперёк. Но внезапно стены расступились, и Рудаков, а вслед за ним и остальные, оказались в сумеречном лесу. Мы оглянулись на железнодорожную насыпь. Огромной горой она возвышалась над нами, закрывая небо. Звёзды уже было видно. Дорога поднималась выше, круто забирая в сторону. Я предложил отдохнуть, но Рудаков как-то странно посмотрел на меня. – Давайте пойдём лучше. Тут чудное место – тут дождь никогда не идёт. – То есть как? – Гольденмауэр не поверил. – А вот так. Не идёт и всё. Везде дождь, а тут – нету. Да и вообще неласковое место, кладбище к тому же. Дорога начала спускаться вниз – к речке. У речки вспыхивали огоньки папирос – я понял, что если нас не спросят прикурить, то явно потребуют десять копеек.
06 июля 2018
(обратно)
Слово о ночных огнях на реке, правильном урочном пении и том, что делает с человеком пища, богатая фосфором
- Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу? - Тому не нужно далеко ходить, у кого чорт за плечами, - произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.Николай Гоголь, «Ночь перед Рождеством»

XII
Речка приблизилась, и мы поняли, что не сигареты мы видели издалека. Это по речке плыли венки со свечками. Их было немного – четыре или пять, но каждый венок плыл по-своему: один кружился, другой шёл галсами, третий выполнял поворот «всё вдруг». – Ну и дела, – сказал Синдерюшкин. – Не стал бы я в такой речке рыбу ловить. Это, ясное дело, была для него крайняя оценка водоёма. Порядком умывшись росой, мы двинулись вдоль речки – венки куда-то подевались, да и, честно говоря, не красили они здешних мест. Снова кто-то натянул на тропу туманное одеяло. Мы вступили в него решительно и самоотверженно, как в партию. Вдруг кто-то дунул нам в затылок – обернулись – никого. Только ухнуло, пробежалось рядом, протопало невидимыми ножками. Задышало, да и сгинуло. – Ты хто?.. – спросили мы нетвёрдыми голосами. Все спросили, хором – кроме Синдерюшкина. – Это Лесной Косолапый Кот, – серьёзно сказал Синдерюшкин. Тогда Рудаков вытащил невесть откуда взявшуюся куриную ногу и швырнул в пространство. Нога исчезла, но и в затылок нам больше никто не дул. Только вывалился из-за леса огромный самолёт и прошёл над нами, задевая брюхом верхушки деревьев. Там, где посуше, в подлеске, росло множество ягод – огромные земляничины катились в стороны. Штанины от них обагрились – есть земляничины было страшно, да никому и не пришло это в голову. Трава светилась под ногами от светляков. Но и светляки казались нам какими-то монстрами. Туман стянуло с дороги, и мы вышли к мостику. У мостика сидела девушка. Сначала мы решили, что она голая – ан нет, было на ней какое-то платье – из тех, что светятся фиолетовым светом в разных ночных клубах. Рядом сидели два человека в шляпах с пчелиными сетками. Где-то я их видел, но не помнил, где. Да и это стало неважно, потому что девушка запела:Лапти старые уйдуть,
А к нам новые придуть.
Беда старая уйдёть,
А к нам новая придёть.
Мы прибавили шагу, чтобы пройти мимо странной троицы как можно быстрее. Понятно, что именно они и пускали по реке водоплавающие свечи. Но только мы поравнялись с этими ночными людьми, как они запели все вместе – тихо, но как-то довольно злобно:
Ещё что кому до нас,
Когда праздничек у нас!
Завтра праздничек у нас –
Иванов день!
Уж как все люди капустку
Заламывали,
Уж как я ли молода,
В огороде была.
Уж как я за кочан, а кочан закричал,
Уж как я кочан ломить,
А кочан в борозду валить:
«Хоть бороздушка узенька –
Уляжемся!
Хоть и ночушка маленька –
Понаебаемся!»
Последние стихи они подхватили задорно, и под конец все трое неприлично хрюкнули. Я, проходя мимо, заглянул в лицо девушке и отшатнулся. Лет ей было, наверное, девяносто – морщины покрывали щёки, на лбу была бородавка, нос торчал крючком – но что всего удивительнее, весь он, от одной ноздри до другой, был покрыт многочисленными кольцами пирсинга. – Поле, мёртвое поле, я твой жухлый колосок, – отчётливо пропела она, глядя мне прямо в глаза.
– А красивая баба, да? – сказал мне шёпотом Рудаков, когда мы отошли подальше. Я выпучил глаза и посмотрел на него с ужасом. – Только странно, что они без костра сидят, – гнул своё Синдерюшкин. – Сварили б чего, пожарили – а то сели три мужика у речки, без баб... Поди, без закуски глушат. Они явно путались в показаниях. Я очень удивился этим розным и путаным впечатлениям (есть там женщины, нет ли их – непонятно) и глянул в сторону Гольденмауэра, но тот ничего не говорил, а смотрел в сторону кладбища. Кладбище расположилось на холме – оттого казалось, что могилы сыплются вниз по склону. Действительно, недоброе это было место. Дверцы в оградках поскрипывали – открывались и закрывались сами. Окрест разносились крики птиц – скорбные и протяжные. – Улю! Улю! – кричала неизвестная птица. – Лю-лю! – отвечала ей другая. Но что всего неприятнее, в сгущающихся сумерках это место казалось освещённым, будто на крестах кто-то приделал фонари. – Ничего страшного, – попытался успокоить нас Гольденмауэр. – Это фосфор. – К-какой фосфор? – переспросил Синдерюшкин. – Из рыбы? – Ну, и из рыбы тоже... Тут почва сухая, перед грозой фосфор светится. – Гольденмауэру было явно не по себе, но он был стойким бойцом на фронте борьбы с мистикой. Оттого он делал вид, что его не пугает этот странный утренний свет без теней. – В людях есть фосфор, а теперь он в землю перешёл, вот она и светится. – Тьфу, пропасть! Естествоиспытатели природы, блин! – Рудакова этот разговор разозлил. – Мы опыты химические будем проводить или что? Пошли! Тропинка повела нас через космическую помойку, на которой кроме нескольких ржавых автомобилей лежали странные предметы, судя по всему – негодные баллистические ракеты. Какими милыми показались нам обёртки от конфет, полиэтиленовые пакеты и ржавое железо – такого словами передать невозможно. А уж человечий запах, хоть и расставшийся с телом, – что может быть роднее русскому человеку? Да, мы знаем преимущества жареного говна над пареным, мы знаем терпкий вкус южного говна и хрустящий лёд северного. Мы понимаем толк в пряных запахах осеннего и буйство молодого весеннего говна, мы разбираемся в зное летнего говна и в стылом зимнем. Мы знаем коричное и перечное еврейское говно, русскую смесь с опилками, фальшивый пластик китайского говна, радостную уверенность в себе американского, искромётную сущность французского, колбасную суть говна германского. Именно поэтому мы и понимаем друг друга. Нам присущ вкус к жизни. Да. От этой мысли я даже прослезился и на всякий случай обнял Рудакова. Чтобы не потеряться. Жизнь теперь казалась прекрасной и удивительной, небо над нами оказалось снова набито звёздами, а ночь была нежна, и образованный Гольденмауэр раз пять сослался на Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
06 июля 2018 (обратно)
Слово о том, что неочевидное бывает очевидным, ориентиры видны, задачи – определены, и дело только за тем, чтобы кому-нибудь принять на себя ответственность

XIII
Словно вдруг стволами к тучам
Вырос папоротник мощный.
Я бегу по мшистым кучам...
Бор не тронут, час полнощный.
Страшны люди, страшны звери,
Скалят пасти, копья точат.
Все виденья всех поверий
По кустам кругом хохочут.
Валерий Брюсов
– Да, дела... – сказал Синдерюшкин, ощупывая то, что осталось от удочек. – Странные тут места, без поклёвки. Хотя я другие видел, так там вообще... Вот, например, есть у меня дружок, специалист по донкам – он как-то поехал на озёра, заплутал и уже в темноте у какого-то мостика остановился. Смотрит, а там кролик сидит – огромный, жирный. Ну, думает, привезу жене кроля вместо рыбы – тоже хорошо. Кроль с места и не сходит, дружок мой быстро его поймал – как барана. Посадил на сиденье с собой рядом, только тронулся, а кролик рот раскрыл и блеять начал: «Бя-я-яша, бя-я-яша», говорит. Тьфу! – И что? – с интересом спросил я. – Дрянь кролик, жёсткий. Видно, какой-то химией питался. Никому не понравилось. – Да ладно с ними, с кроликами! Пока не дошли до места, нечего о еде говорить. – Рудаков был недоволен. – С другой стороны, наверное, надо искупаться. В Ивана Купалу надо купаться, а то – что ж? Почему не купаться, а? Говорят, вода особая этой ночью. – Да что тебя всё тянет купаться? – возмутился Синдерюшкин. – Что за мания такая? Знаешь, что было с альпинистами в Шамбале? Знаешь, да? – В какой такой Шамбале? – В обыкновенной тибетской Шамбале. – Ну и что? Что? – Они купались в священном озере. – И что? – И вот! – Ну и что потом стало с этими альпинистами? – Ну, они вошли в священное озеро и начали в нём купаться, некоторые намылились, кто-то стал бриться... Но они не понимали, что всё уже началось. – Что началось? – Всё началось. – И что, они утонули? – Да нет... – Умерли, спустившись с гор? – Да нет, не умерли, но жизнь у них совсем дрянная стала, что не приведи никому. – Тьфу, – сплюнул Рудаков. – А я всё-таки не верю в чудеса. – Гольденмауэр не мог не показать своей непреклонности. – Ничего особенного не происходит, а все как-то приуныли. – Вода... Чудеса... Не верю – вот и всё. – А кто верит? Это ж не чудеса, а срам один! – Синдерюшкин встал, будто старец-пророк, и стукнул в землю удилищем. – Срам! А как заповедовал нам игумен Памфил, «Егда бо придет самый праздник Рождество Предотечево, тогда во святую ту нощь мало не весь град возмятется, и в седах возбесятца в бубны и сопели и гудением струнным, и всякими неподобными играми сотонинскими, плесканием и плясанием, жёнам же и девам и главами киванием и устами их неприязен клич, все скверные бесовские песни, и хрептом их вихляния, и ногам их скакания и топтаниа, ту есть мужем и отрокам великое падение, ту есть на женско и девичье шептание блудное им воззрение, тако есть и жёнам мужатым осквернение и девам растлениа». Мы с Рудаковым хором сказали: «Аминь!». Мы сказали это не сговариваясь, просто это как-то так получилось – совершенно непонятно от чего. И непонятно было, откуда у Синдерюшкина взялся этот пафос. Откуда взялась эта речь, напоминавшая больше не обличение, а тост и программу действий. И отчего, наконец, он ничего не сказал про рыб? – Слушай, – пихнули мы в бок Гольденмауэра, забыв прежнее наше к нему недоверие. – Слушай, а всё-таки, когда эти страсти-мордасти творятся? Ведь календарь перенесли, большевики у Господа две недели украли и всё такое. Но ведь природу календарём не обманешь – барин выйдет в лес – лешие схарчат, парубок за счастьем полезет – погибель, так и, страшно сказать, комиссар в кожаной тужурке не убережётся. Надо ж знать корень родной земли. А? Рассудительный Гольденмауэр объяснил дело так: – Вот глядите: летнее солнцестояние всё едино – в чёрный день двадцать второго июня. – А правда, что Бонапарт-антихрист к нам тоже двадцать второго ломанулся? – тут же влез Рудаков. – Нет, неправда. Двенадцатого или двадцать четвёртого – в зависимости от стиля. – Так вот, одно дело – летнее солнцестояние, которое тоже не совсем в полночь или полдень бывает, другое – Иванов день, что после Аграфены (на Аграфёну, как говорили – коли гречиха мала, овсу порост) идёт – он по новому стилю седьмого числа. Теперь смотрите, есть ещё языческий праздник – если полнолуние далеко от солнцестояния, – то справляется Купала в солнцестояние, а если расходится на неделю примерно, то делается между ними соответствие. Так что Купала у язычников бескнижных был праздником переходящим. Он посмотрел на Рудакова и зачем-то добавил: – Как День геолога. Синдерюшкин внимательно глянул на Лёню и требовательно сказал: – Так настоящая Купала-то когда? – Нет, ты не понял, на этот счёт существуют два мнения, а вернее, три. Смотря что понимать под Купалой. Знаешь, кстати, что «Купала» от слова «кипеть»? – Ты докурил? – хмуро спросил Рудаков Синдерюшкина. – Да. А ты? – Ну. – Рудаков загасил бычок, огляделся и решил не сорить. Ну его к лешему. Неизвестно с лешим там что. С таким немцем, как Гольденмауэр, никакой леший не нужен. Ишь, коли гречиха мала, овсу порост. Я шёл и размышлял о том, как Маммона бьётся с другими божествами. Ну ясно, что в России другой календарь, и дата Купалы уехала от летнего солнцестояния. Но Купала - один из самых востребованных мистических праздников. Обывателю хочется мистики, и языческая мистика пользуется, разумеется, большим спросом, чем христианская. К тому же на Купалу появляются голые люди, а где голые люди, там всегда веселее, это я знак, как любитель бани. Ну и «Покажите нам красивых живчиков на фоне красивых ландшафтов, и вообще буржуазное разложение», как говорили, заламывая руки, в одном спектакле, что я видел в юности. Но вот нынче царит то, что должно радовать материалиста-политэконома: понятно, что в рабочий день коммерческое мероприятие не устроишь. Так что, извини—подвинься, настоящее мистическое где горстка посвящённых, балахоны, тайное место, это всё не то. Настоящий Купала в общевыходные дни, а не вточные даты. Настоящий Купала – это где ансамбли в кокошниках, сахарная вата и всяческие коробейники. Какие в понедельник коробейники? Какая ночь накануне рабочей недели? Всем правит касса. На месте волхвов и друидов я бы дал бой Маммоне, а потом решил - может, это их такой тайный план. Перегруппировки, сохранение ресурсов. Они своё возьмут.
Мы пошли по расширившейся дороге. Под ногами были твёрдые накатанные колеи, ногам было просторно, а душе тесно – так можно было бы идти вечно или, иначе сказать, – до самой пенсии. Однако для порядку мы спрашивали нашего поводыря: – Эй, Сусанин, далеко ли до Евсюкова? – Да скоро. Мы верили Рудакову, потому что больше верить было некому. – Трактор, точно, трактор – к трактору, а дальше – рукой подать. Наконец мы остановились на привал и по-доброму обступили Рудакова. Так, правда, обступили, чтобы он не вырвался. Мы спросили Рудакова просто: – А ты давно у Евсюкова был? Давно трактор-то этот видел? Он задумался. – Да лет шесть назад. – А-а-а, – понимающе закивали головами все. – Тю-ю, – сказал затем Синдерюшкин. – Ага, – молвил Гольденмауэр. – О! – только-то и сказал я. А мосластая ничего не сказала. Она, вместо того чтобы выразить своё отношение к этой возмутительной истории, начала показывать нам за спину. Там, у края поляны, на повороте стоял трактор. Он представлял собой довольно жалкое зрелище. Одно колесо у него было снято, стёкла отсутствовали, а из мотора торчал скорбный металлический потрох. Да и на трактор был он не очень похож. Тем более что на единственной дверце было написано совершенно другое название – короткое и ёмкое. Рудаков вырвался из наших рук и потрусил мимо трактора – по дороге, сворачивавшей в лес. Мы двинулись за ним и уже через пять минут упёрлись в глухой забор дачных участков. Рудаков прошёл несколько ворот и калиток и остановился около одной – подергал ручку, поскрёбся, постучал. Всё без толку. Тогда он решился и засунул руку в щель над замком. Кто-то огромный тут же задышал ему в ладонь, обдал жарким и кислым – запах проник через глухую калитку и распространился в ночном воздухе. Рыкнуло за калиткой, ухнуло, и с лязгом грохнула цепь. Рудаков в ужасе выдернул руку и отбежал на середину дороги. – Не он! Не он! – только и успел пробормотать Рудаков и рухнул нам на руки. Мы поддержали его, и только переждав и успокоившись, подошли к следующей калитке. Она оказалась незаперта. Мы шагнули в сад, как в реку. Вокруг были запахи ночной земли, также пахло свежестью, ночным спором, варениками, селёдкой, дымом и картофельными грядками. Навстречу нам сразу попался хозяин. Вернее, он стоял на тропинке с огромным ведром в руке. В ведре копошились свежие огурцы. Наше появление Евсюкова отчего-то не удивило. Мы и так-то знали, что он невозмутимый был человек, а теперь это было очевидно, как существование тайн и верность народных предсказаний. – Хорошо, что вы сразу ко мне, а то ведь у соседа моего жуткий волкодав. У него-то вокруг дачи три ряда колючей проволоки, контрольно-следовая полоса и сигнальные системы – и всё оттого, что кроликов держит. За тыщу долларов производителя купил. Если б вы к этому Кролиководу сунулись – точно кранты. Я бы о вас и из сводок милиции не узнал. А если бы и узнал, то не опознал. Мы молчали. Нечего было нам ответить – поскольку многих опасностей избежали мы сегодня, и если к ним задним числом прибавилась ещё одна – не меняло то никакого дела. А хозяин продолжал: – Вот у меня пёс так пёс. Главное добрый, а охранять-то мне нечего. Пус, иди сюда! Из темноты вышел лохматый пёс. Судя по мимике, он был полный и окончательный идиот. Улыбка дауна светилась на его морде. Он подошёл к нам и сел криво, подвернув лапы. Пус вывалил язык и обвёл нас радостным взглядом.
Евсюков шёл по узкой тропинке, и мы шли за ним, раздвигая ветки, – будто плыли брассом. Хозяин то и дело останавливался и тыкал во что-то невидимое: – Вот у меня грядки – загляденье! Засеешь абы как, посадишь на скорую руку, а ведь всегда вырастет что-то интересное, неожиданное: арбуз – не арбуз, тыква – не тыква, огурец – не огурец... Прелесть что за место. Какой-то человек в наглаженных – были видны стрелки – брюках спал под кустом. Галстука или бабочки, правда, видно не было. И вот мы выпали из кустов на освещённое пространство перед домом, где у крыльца ревел сталинским паровозом самовар. Самовар был похож на самого Евсюкова – небольшой, но крепкий, заслуженный как прапорщик, вся грудь в медалях, а внутри бьётся негаснущая душа героического человека. Впереди перед нами шёл пир, но сам могучий, хоть и небольшой дом Евсюкова стоял во мраке. Лишь по веранде свет растёкся жёлтым куском сливочного масла. Свет переливался через край и стекал на лужайку. Плясали в нём мошки и бабочки, на мгновенье замирая в неподвижности. Круглые и лохматые затылки склонились над столом. Шёл бой с ковригами и расстегаями. Плыл над головами цыплёнок, и из лесу кукушка рыдала по нему нескончаемую погребальную песню. Вот он, жалкое подобие человека без перьев, сбрасывал с себя капустный саван, помидорные ризы, а мародёры откидывали прочь с тельца погребальный крестик сельдерея. Ребристый графин, крепкий ветеран войн и революций, скакал над столом. Гремели из темноты дома часы, отбивая что-то длинное, но ещё не полуночное. И на этот пир опаздывали мы, но ещё не опоздали, пока в ночной прохладе плыли к веранде, пока, загребая руками и ногами, приближали к себе кусок пирога и бесстыдное нутро кулебяки. Раскачивался под потолком прадедовский фонарь, в котором жила вместо масляной электрическая жизнь. Мы двигались на этот свет в конце тоннеля пути, падали вверх по ступеням, падали вниз – за стол, обретая в падении стул, стакан и вилку – и то было счастье.
Извините, если кого обидел
06 июля 2018 (обратно)
Слово о ночных беседах за столом, и о том, что наша жизнь похожа на вишнёвый сад – вне зависимости от того, считать ли пьесу о нём вслед автору комедией – или нет

XIV
Мы уселись вокруг стола. Мошкара вращалась вокруг наших голов, как электроны вокруг атомного ядра в научно-популярном фильме. Всё это настраивало на благостные размышления, ностальгию и неторопливые разговоры за чаем. Я вспомнил, как жил в детстве на даче, как были у меня давние мальчишеские ухватки и умения – например, был в моём детстве особый шик – не слезая с велосипеда, так пнуть передним колесом калитку, чтобы она отворилась, и проехать внутрь. А теперь-то всё не то, забыты фамилии дачных соседей, их дети, и дети детей подросли, сносились, как костюмы, как купленные в том далёком моём детстве автомобили, подружки превратились в бабушек, что вышли на дорогу в старомодных серых шушунах. Забыто всё – и поездки в станционный ларёк, и первая в жизни бутылка «Жигулёвского», купленная там за 54 копейки. Всё прошло – пруд засыпан, роща вырублена, а Лопахин застроил местность новыми кирпичными дачами. Скитаться мне теперь, как полоумному приват-доценту с нансеновским паспортом, по чужим дачам .Однажды и давным-давно – эти два выражения хорошо сочетаются – я сидел на чужой даче летом. Немного за полночь пришёл на огонёк культурный специалист-универсал, что жил по соседству. Был он похож на старичка-лесовичка с серебряной бородой, прямо из которой торчали два глаза. Речь универсала была странна – он смотрел в угол и произносил сентенции. Сентенции, жужжа, разлетались по дачной веранде и падали на стол, обжигаясь о лампу. Постукивая палкой в пол, универсал предостерегал меня от какой-то пагубы. Мы говорили с ним о Рабле – я быстро, а он ещё быстрее. Напротив нас сидел другой старик, кажется, прадед или прапрадед хозяина дачи, и пил чай – тоже быстро-быстро – и время от времени бросал на нас взгляды. Взгляды в отличие от сентенций были тяжелы. Перед хозяином мне было неловко. Он, кажется, так и не понял, откуда взялся этот полуголый и лысый мужик – то есть я. Бегали ночные еврейские дети с расчёсанными коленками. Пробежав через веранду, они падали в кровати и забывались беспокойными еврейскими снами. От снов пахло синайским песком, сны были хрустящи, и хрупки как маца. Еврейскую малолетнюю кровь пили сумрачные русские комары. Сентенции, цитаты и комары пели в воздухе, а хозяйка подпихивала мне расписание электричек, больше похожее на шифровку с бесконечными рядами цифр. «Не дождётесь, – думал я, – не дождётесь. Буду я у вас тут ночевать, и к еврейской крови в брюхе ваших насекомых прибавится моя, православная». К разговору примешивался запах дерьма – нефигурально. Говоря о высоком, я всё время думал: купил ли это сосед машину говна и разбросал по участку себе и другим на радость или же неважно работает местный сортир. Потом культурный специалист увёл хозяйку на дачную дорогу для чтения своих стихов, а я от нечего делать стал переписывать железнодорожное расписание. Покончив с этим, я принялся читать воспоминания о каком-то поэте, но быстро запутался в литературных дрязгах и бесчисленных Н.К., Т.К., Н.С. и И.С., которых составитель называл ангелами-хранителями этого поэта. Эти ангелы в отличие от комаров были нелетучи. Больше всего мне понравилось, что чья-то жена вспоминала сказанное другой чьей-то женой, но уже бывшей: «Когда он творит – он разговаривает с Богом, а когда не пишет – становится обычным подонком»... Это было моё прикосновение к жизни знаменитых людей. Ведь денщик и адъютант обедают тем же, чем обедает их генерал. Служанка актрисы живёт её жизнью и посвящена в театральные тайны. Поэтому в мемуарах за великими образами хлопотливо семенят тени слуг. Вот она – знаменитость! Настоящие мемуаристы едут с ней в троллейбусе, сторожат её квартиру, подъезжают в её машине. А моё-то спасение в чём, какой маячок покажет мне дорогу между слуг и денщиков? «Эх, – думал я, вспоминая, – вот хорошо Гольденмауэру – он бы нашёлся, что сказать культурному специалисту. А я – кто я такой? Бывший руководитель лесопилки с неопределённым будущим и запутанным прошлым?» Тогда стояла жара, и где-то рядом горели торфяники. Время неумолимо стремилось к осени. Впрочем, и под Иванов день понимаешь, что время повернуло на зиму, и вот – дни стали короче, и солнцеворот своей свастикой проделал тебе дырку в голове.
...Это случилось в тот год, когда под Москвой негасимым вечным огнём горел торф. И на следующий день, и через неделю, и через две я просыпался от удушливого дыма горящих лесов и торфяников. Торфяные пожары сменялись обычными – лесными. И если дым торфа был ещё интересен, даже чуть сладок, как дым чуть курящейся трубки, то костровой дым лесного пожара ел глаза, и от него першило в горле. И я вот что скажу – в жизни всё основано на торфяном дыме. Он есть всегда и повсюду. И если кажется, что его нет, так это ошибка. И нам уже давным-давно всё по этому поводу сказала фальшивая жена Степлтона. И ничего с этим не поделаешь. Это я понял, когда ехал тогда по мосту от гостиницы «Украина» к Красной Пресне. Дым сполз в реку, сравнял берега, и казалось, что дома проросли травой в неведомом поле. Я вдыхал запах дыма, как запах костра, и он был мне приятен. Дым мне нравился больше, чем город, а город – больше, чем люди в нём. И вот что я скажу – это всё торфяной дым. Если вам дорога жизнь, держитесь подальше от торфяных болот. Я говорю это со знанием дела, ибо однажды собирал клюкву на торфяных болотах. Там часто менялась погода – сначала стояли ясные дни, потом парило, а затем начались дожди. Несмотря на ручьи воды, текущие повсюду, торфяники курились тем самым дымом. Внутренний жар существовал под сырой землёй. А в пропитанном водой воздухе стоял не то дым, не то пар. А ещё через пару дней я, возвращаясь домой, увидел, что вода в реках и ручьях и поднялась, и всё набухло ею, изменилась сама топография места. И всё равно земля по-прежнему дымилась белёсым паром. Вот что такое торфяники. Недаром их звали «адским огнём», от которого, выгорев внутри, земля расступалась, глотая зазевавшегося мужика, лошадь и телегу. Всё тонуло в солнечном дыму, что был дымом отечества. Поэтому я вспомнил другую историю, что тоже проходила под ощутимый запах торфяных пожаров. Однажды мне позвонила однокурсница, к которой я был как-то неравнодушен. Мы даже одной дымной летней ночью спали в одной постели – впрочем, совершенно платонически. Мы лежали тогда, не касаясь друг друга, отдёргивая руки и ноги от незримого тристанова лезвия. И вот она позвонила и с третьей фразы попросила пять тысяч долларов под залог своей квартиры. Она объясняла, что работает в какой-то фирме с человеком, что вот-вот возьмёт её в жёны, и вот-вот он подпишет безумно выгодный контракт, который, по сути, уже подписан, все бумаги готовы, нужно только дать взятку, с губернатором-то улажено, и вот завалят они с суженым красной рыбой всю Московскую область... Я, как мог, объяснил, что слышал это не раз и не три, и что эта речь слишком напоминает тоскливый зачин в электричке, вроде как граждане извините, что мы к вам, дом-то сгорел и живём, как вы знаете, на вокзале, и начал я было говорить про ипотечный кредит, его несовершенство и его нескладность, но вдруг осёкся – всё было бессмысленно. Я и сам это понимал, что рационального в этой просьбе нет. Через два дня она, тем не менее, перезвонила и сказала, что теперь нужно всего триста. Кажется, потом я напился, закусывая твёрдым и жидким дымом, сочившимся из щели под окном, и тут же поругался с несколькими людьми, с которыми вовсе не стоило ругаться. Вот что делают с людьми торфяные дымы.
Извините, если кого обидел
06 июля 2018 (обратно)
Слово о том, что иногда найденное лучше бы не находилось, обнаруженное – лучше б не обнаруживалось, а домашние животные преподносят недомашние сюрпризы

XIX
Сердце забилось и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри.Николай Лесков. «Пугало»
В этот момент, заполнив собой всё пространство, явился пёс Пус. Он пришёл и сел на первую ступеньку крыльца. Пус был похож на фронтового санинструктора, что тащит на себя раненого с передовой. И всё оттого, что в зубах у него безвольно висел Кролик Производитель. В этом не было сомнения. Мы сразу догадались, что это Кролик Производитель — так огромен он был. Кролик был похож на директора средней руки или лапы, невидимый пиджак и галстук на его шее ощущались отчётливо. Точно так же было понятно, что он был не просто Производителем, ударником-стахановцем в своём ремесле. На его хмурой дохлой морде была написана самурайская верность хозяину-куркулю и нэпманская брезгливость к нам-недокроликам. Производитель был не мёртв, он не был убит — он был отвратительно мёртв и кошмарно убит. Под матерчатым абажуром воцарилась тишина. Мы поняли, что играем греческую трагедию, перед нами — тело. И скоро по его следу придёт хозяин убитого. Застучат кастаньетами копыт троянские кони на нашем пороге, будет разорён наш дом и сад, лягут на картофельные гряды растерзанные тела наших женщин, взвизгнут бичи над нашими детьми, уведут в полон наших матерей. Свершится война, да не из-за толстомясой Елены Зевсовны, а из-за собак и кролей, из-за Воловьих лужков, из-за нормы прибыли и форс-мажорных обстоятельств. Первым прервал молчание Рудаков. Он встал и поднял руку. В этот момент он напоминал политрука с известной фронтовой фотографии. — Мы — в наших руках, — сказал он сурово. — И наше счастье — в них же. Всё в мире чуть сместилось под ударом адреналиновой волны, комод подвинулся в сторону, качнулись стулья, звякнули чашки в шкафу. Даже транзисторный диссидентский приёмник хрюкнул, разодрал в отчаянии подвига где-то внутри себя тельняшку и сказал пьяным голосом: — Внучок, а где ж его надыбать? Рудаков только зыркнул на радио, и оно умерло окончательно. Он встал посреди веранды и оказался похож на Василису Прекрасную. Одной рукой махнул Рудаков, и побежала приглашённая для пения оперная девушка Мявочка за своим феном в комнаты. Другой рукой махнул Рудаков, и принесли ему таз с тёплой водой. Цыкнул зубом Рудаков, и десяток рук вцепился в труп кролика и поволок его на стол. Загремели ножи и вилки, валясь на пол, покатилась миска. Мы отмыли Производителя от земли и собачьих слюней. Казалось, что мы при этом поём скорбную песню разлук и прощаний. Дудук звучал в воздухе, трепетали его язычки, и рушился мир, бушевал потом за стенами нашей веранды. Рвал душу дикарский напев зурны — мы не чистили кролика, а совершали над ним обряд, будто над павшим вражеским воином. Наши женщины сушили его феном, и слёзы были размазаны по их усталым лицам. Наконец, Рудаков взмахнул рукой, и Кролика, как Гамлета, вынесли на крыльцо на двух скрещенных садовых лопатах. Сначала мы шли к чужому забору в полный рост, затем пригнувшись, а после — на четвереньках. Наконец, мы поползли. В этот момент мы чувствовали себя солдатами, что двадцать второго июня ровно в четыре часа предотвратят войну, и история пойдёт мирным чередом, минуя множащиеся смерти. Первыми на брюхе, не щадя живота своего, ползли Рудаков и Синдерюшкин. Вот они добрались до колючей проволоки. Остальные остались на расстоянии крика. Перевернувшись на спину, Рудаков перекусил колючую проволоку маникюрными ножницами Мявочки. Мелькнули в сером рассветном освещении его ноги, и он сполз в дренажную траншею. Следом за ним исчез Кролик Производитель, который, как погибший герой, путешествовал на плащ-палатке. Мы тоже перевернулись на спины и уставились в пустое небо отчаяния. Раздалось пыхтение. Это выполз обратно Синдерюшкин. Он устало выдохнул и встал на четвереньки. — Всё, прятаться больше не нужно. И быстро двинулся дробной рысью на четвереньках к дому. Мы последовали за ним. Замыкал шествие угрюмый Рудаков, вышедший из боя последним. Грязные, усталые, но довольные и просветлённые, мы уселись за столом. Мы были похожи на всех рыцарей Круглого стола, которые наравне с Ланцелотом отправились в странствие и добыли каждый по Иисусову копью и тридцать чаш святого Грааля в придачу. Выпила даже Мявочка. — Да, пооборвались мы, — заметил, оглядывая свои штаны, Рудаков. — Да и поизвозились — протянул Синдерюшкин. — А пойдёмте купаться? Тут речка неподалёку. Я вам про неё говорил, что завтрашнего-то ждать. — Евсюков как радушный хозяин вывернул перед нами не только свою душу, но и саму дачную природу. — Купаться! Купаться! — поддакнул-квакнул Кричалкин, пожирая глазами Мявочку. И мы пошли купаться.
05 июля 2020 (обратно)
Слово о том, что, отправившись к воде, можно вернуться с пересохшим горлом

XX
Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми. Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.Николай Лесков, «Старый гений»
Перед нами спускались с обрыва Рудаков и Гольденмауэр. Они шли, обнявшись, как мистический и несбыточный символ интернационализма. За ними порхала мосластая подруга Лёни. Пыхтел Синдерюшкин, на всякий случай взявший с собой удилище. Перед тем как войти в воду, я воткнул трубку в зубы и закурил. Дым стлался над водой, и странный свет бушевал в небесах. Зарницы следовали одна за одной, и я понимал, что уж что-что, а это место и время я вряд ли забуду. Стоя в чёрной недвижной реке по грудь, я прислушивался к уханью и шлепкам. Где-то в тумане плескались мои конфиденты. Они напоминали детей-детдомовцев, спасшихся от пожара. Постылый дом-тюрьма сгорел, и теперь можно скитаться по свету, веселиться и ночевать в асфальтовых котлах. Молча резал воду сосредоточенный Рудаков, повизгивала Мявочка, хрюкал Кричалкин, гнал волну Гольденмауэр, а Синдерюшкин размахивал удилищем. Я вылез из воды первый и натянул штаны на мокрое тело, продолжая чадить трубкой. Рядом со мной остановилась мосластая и, когда догорел табак, предложила не ждать остальных и идти обратно. Мы поднимались по той же тропинке, но вышли отчего-то не к воротам евсюковской дачи, а на странную полянку в лесу. Теперь я понял — мы свернули от реки как раз туда, куда Евсюков не советовал нам ходить — к тому месту, где он кидал сор, дрязг и прочий мусор. Нехорошо стало у меня на душе. Мокро и грязно стало у меня на душе. Стукнул мне под дых кулак предчувствий и недобрых ощущений. То ли светлячок, то ли намогильная свечка мерцала в темноте. Луна куда-то пропала — лишь светлое пятно сияло через лёгкие стремительные тучи. Тут я сообразил, что мосластая идёт совершенно голая и одеваться, видимо, не собирается. Да и казалась она теперь совершенно не мосластой. Как-то она налилась и выглядела если не как кустодиевская тётка, то почти что как известная заграничная актриса Памела Андерсон. — Что, папортн... папоротник искать будем? — натужно улыбаясь, спросил я. — Конечно! — с совсем не натужной, но очень нехорошей улыбкой ответила мне бывшая подруга Лёни Гольденмауэра. — Но сейчас не полночь? — ещё сопротивлялся я. — Милый, ты забыл о переводе времени. Я уже стал милым, а значит, от неприятностей было не отвертеться. Достал я снова табак и трубку, табак был хороший, ароматный, но спутница моя вдруг чихнула так сильно, что присела на корточки. Эхо отозвалось будто бы во всём лесу, чихнуло сбоку, сзади, где-то далеко впереди. Я устыдился, но всё-таки закурил. И мне показалось, что стою я не в пустынном лесу, пусть даже и с красивой голой бабой рядом, а на вокзале — потому что всё копошится вокруг меня, рассматривает, и понял тогда, как ужасно, видать, обжиматься и пихаться на Красной площади — действительно замучают советами. Свет становился ярче, и наконец очутились мы на краю поляны. Мы были там не одни — посередине сидели два уже виденных мной ботаника, между ними лежал огромный гроссбух. Один ботаник водил пальцем по строчкам, а другой держал в руках огромный хвощ и искал глазами источник света. Моя спутница погрозила им пальчиком. — Люли-люли, на вас нюни, — строго сказала она. И два ботаника сразу пожухли как ботва, да и трава у них в руках обвисла. Теперь я понял, что значило на самом деле выражение «иметь довольно бледный вид». Ботаники его приобрели мгновенно, правда, были этим не очень довольны. Бывшая мосластая сделала короткое движение, налетел ветер, и обоих ботаников как ветром сдуло, как рукой сняло. — Бу-бу-бу, — доносилось из-под пня. — Э-эээ-эээ-э... — блеяло с макушки берёзы. Высунулись, казалось, какие-то лица и морды из кустов и высокой травы. Да что там лица — хари какие-то просунулись отовсюду — огромные, страшные. И увидел я впереди свет, и пошёл на него, спотыкаясь и дыша тяжело и хрипло. — Не рыдай мене мати, — печально сказала мосластая. — Мать моя... Я с удивлением понял, что совершенно не знаю, как её зовут по имени. — Кто мать твоя? — Мать — сыра земля. Вот образованный человек, а таких вещей не знаете. Вот вы ведь писатель? А скажите, как правильно говорить: папортник или папоротник? Язык застрял у меня во рту. — Прп... Парпртк... Парпортнк... Я ещё что-то добавил, но уже совсем неслышно. И тут тонкий луч ударил мне в глаза, кто-то светил в лицо, будто ночная стража. Светляком-мутантом горела в траве яркая звезда. Я протянул руку, дёрнул, за светлячком потянулся стебель... И вот в руке остался у меня мокрый бархатный цветок. Сразу же зашептало, заголосило всё вокруг — точно как на Красной площади в час минувших парадов. Рыкнуло, покатилось по рядам тысяч существ какое-то неприличное слово, забормотала своё трава, вторили ей камни и кусты. И я познал их языки, но, к несчастью, одновременно я узнал столько всего о своей неустроенной жизни, что впору было попросить осину склонить пониже ветку, а самому выпростать ремень из штанов. Говор не умолкал, слышны были разговоры и живых и мёртвых, копошился какой-то Бобик под землёй, уныло и скучно ругались мертвецы на недавнем кладбище — что лучше: иметь крест в ногах или в изголовье, рассказывала свою историю селёдочная голова, неизвестно на что жаловался бараний шашлык, и мёртвый кролик бормотал что-то: хню-хню, хрр, хню-хню — то ли он вспоминал о поре любви, то ли о сочном корме, но в голосе его уже не было смертного ужаса. Ужас был во мне, он наполнил меня и приподымал вверх, как воздушный шар. В этот момент женщина положила руки мне на плечи. Она обняла меня всего, её губы были везде, трогательная ямочка на подзатыльнике выжимала у меня слезу, и я с удивлением увидел, что моё естество оказалось напряжено. Да и она сильно удивилась моей сексуальной силе, даря мне горячие поцелуи в лоб и лицо. Было видно, что она обожала секс и не ограничивалась никакими рамками, но от её тела пахло чистотой и страстью одновременно. Нежно вскрикнув, она стала смыкать свои руки у меня на спине, экстатически повизгивая. Иногда она наклонялась вперёд, потираясь своими упругими арбузными грудями о мои и одаривая мои лицо и губы поцелуями благодарности и надежды. По всему было видно, что к ней пришёл прилив страстного желания соития и что она заметно нервирует от желания. Я был безумно возбуждён от её интимных вздохов наслаждения, как и от приятного ощущения обволакивания мягкими тканями. От всего этого я быстро потерял контроль, что меня насторожило. «Лолита, Лорка, Лорелея», — пронеслось у меня в голове...
05 июля 2020 (обратно)
Слово о том, что всё кончается внезапно, но непонятно, где тот конец, которым оканчивается начало, и наоборот

XXI
Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются...Михаил Лермонтов, «Герой нашего времени».
Как я добрался до дома, я не помнил. Руки мои были пусты, цветок исчез, голова трещала, жизнь была кончена. Судьба вырвала у меня грешный мой язык, и всяк его сущий был выше на полголовы. Я очнулся в углу веранды от слов Евсюкова: — Я хотел заначить это на будущее, но... — Евсюков не договорил. Рудаков и Синдерюшкин поставили огромную сувенирную бутыль на стол, и она, будто качели, закачалась в неспешном ритме. Водка плюхалась в стаканы, но мы не чувствовали опьянения. Успокоение сошло на нас, как знание языков на творцов Септуагинты, мы и вправду знали всё, о чём думает сосед, безо всяких слов. Безо всякого папр... Папртн... В общем, безо всякой мистики. Увлечённые этим обстоятельством, мы не сразу обратили внимание на Мявочку. А Мявочка ни о чём не думала — она сидела с открытым ртом и смотрела на входную дверь. В проеме входной двери стоял Кроликовод. Рудаков посмотрел на него, а потом поглядел на нас с выражением капитана, который провёл свой корабль через минные поля и спас его от неприятельских подлодок, а команда по ошибке открыла кингстоны в виду гавани. Гольденмауэр откусил половину сигары и забыл откушенное во рту. Синдерюшкин неловким движением сломал удочку. Кравцов закатил глаза, а Кричалкин оказался под столом. Тоненько завыл Пус. Сосед отделился от косяка и сказал сдавленно: — Водки дайте. Рудаков, крепко ступая, вышел из-за стола и щедро налил водки в стакан. Виски тут явно не подходило. Сосед булькнул и ухнул. Он одновременно посмотрел нам всем в глаза и начал: — У меня вчера подох кролик. Это был мой самый любимый кролик. Он умер от усердия — это я виноват в его смерти. Я не щадил его и не считался с его тоской и любовью к единственной любимой Крольчихе. И вот он умер, и вчера я хоронил своего кролика в слезах. Я навсегда в долгу перед ним. Но сейчас я пошёл проведать ушастых, и увидел Его. Он вернулся снова. Мой кролик лежит в вольере нетленный, как мёртвый монах. Его лапы сложены на груди. Он пахнет ладаном и духами. Дайте мне ещё водки.
И бутылка качнулась в такт выдоху рыцарей овального стола. Снова понеслись над нами на стене стремительные корабли под морским ветром — судьба связывалась, канаты звенели как гитарные струны, паруса были надуты ветром. Вот это была картина — картина маслом нашей судьбы. Это были корабли нашей жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
...Я это ясно увидел и решил закончить этот пергамент. Закончим его внезапно, как внезапно кончится когда-то и наша жизнь.Юрий Коваль. Суер-Выер
Окончен скорбный труд. Иль не окончен? Мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Впрочем, как-нибудь. Миг вожделенный настал, что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? Или, свой подвиг свершив, я стою, как подёнщик ненужный, плату приявший свою, чуждый работе другой? Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, и летопись окончена моя. Исполнен труд, завещанный от Бога мне, грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Пойду себе.
05 июля 2020 (обратно)
* * *
 Мы шли с Ваней Синдерюшкиным по мартовской улице, когда снег, чёрен и твёрд, спасается от дворников на газонах и у мусорных контейнеров. Товарищ мой человек примечательный, не сказать что толст, да и вовсе не тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод. Вообще, внешностью и манерами Ваня мне постоянно напоминал, что оба мы – в меру упитанные мужчины в полном расцвете жизненных сил, но он-то как-то будет поумнее и поначитаннее. Напоминал он мне постоянно и о том, что видали мы разные виды и пожили вдосталь при прошлой власти.
Хоть мы были одноклассниками, а сейчас стали напарниками в сложном деле починки лесоуничтожительного оборудования, он был как-то повыше меня. Хотя именно я – главный, а точнее сказать – старший лесопильщик. Это я при той самой прежней власти работал на Севере, в краю, населённом комарами и осyжденными гражданами. Там я познал звук честного распила, а вовсе не тот звук, что слышал в новостях и рассказах очевидцев ныне. Но время наше давно остановилось, и теперь мы говорили о дауншифтерах.
– По сути, – сказал Иван, – Пантагрюэль настоящий дауншифтер: бросил всё и свалил на Гоа, к оракулу Божественной Бутылки.
– Гоа – какое-то удивительно гадкое название. Русскому человеку тяжело без гадливости произнести. Впрочем, слово «дауншифтер» – тоже гадкое. Всё, что начинается на «даун», внушает подозрение.
– Тебе всё не нравится. Слово неважнец, но хуже другое – в нём множество значений, как в слове «гей» из анекдота про встречу одноклассников.
Мы пересекли Каретный и стали спускаться к Цветному бульвару по кривоватой улице, мимо замершей из-за безденежья стройки.
Синдерюшкин продолжил:
– Дауншифтером называет себя и всякий человек, которого вычистили со службы. Живёт он себе в коробке от холодильника...
– Это на Гоа можно жить в коробке, а у нас зимой недолго проживёшь. У нас на улице такой холодильник, что только держись. Да и дауншифтер – это совсем не уволенный неудачник, а...
– Ты знаешь, вот один знаменитый балетный человек сейчас залез в телевизор и говорит: «Мне вот не страшен никакой кризис. Я вот иду себе по улице за пивом и вижу, что везде объявления: там грузчик нужен, а вот уборщик требуется». Ну, ему телевизионная женщина и говорит: «Но такой знаменитый человек, как вы, хрен пойдёт работать грузчиком». Тот аж взвился: «Ну и дурак, значит. Если кушать хочется, то не выбирают», – ну и всё такое.
– Ты знаешь, я в балете ничего не понимаю, но, по-моему, он совершенно неправ. Причём неправ ровно в той степени, что и советский Госкомтруд, когда думал, что работники взаимозаменяемы. Оно, конечно, балетный танцор может уйти на работу грузчика, но через год он перестанет на этой работе быть балетным танцором. И не факт, что станет хорошим грузчиком. А пианист, если будет вентили крутить, пальцы сорвёт и в профессию не вернётся. Юрист дисквалифицируется очень быстро, а не порешай уравнения года три – чёрт его знает, вернёшься ли в свою математику переднего края науки. Пример даже есть: в девяносто первом советская наука ушла грузить и после уже не оправилась.
Я, как нормальный русский лесопильщик без особых перспектив, почти писатель – потому что живу под забором и питаюсь в обнимку с крысой. Тут вот в чём дело – твой балетный человек сказал благоглупость. Есть такой жанр – благоглупости, он довольно распространённый, например, его полно в дневниках интеллигентов и в шестнадцатом году, и в тридцать шестом: «А жизнь-то налаживается. Подписался на военный заём» или «Пайку прибавили», «Пузо лопнет – наплевать, под рубахой не видать». При этом благоглупость никакого отношения к реальности не имеет: если тебя вышибли с работы в пятьдесят пять, то в грузчики можно и не попасть. Но дело ещё и в том, что это сбрасывание именно не отрастающего обратно балласта – как я тебе сказал, из грузчиков обратно дороги нет. Из тех инженеров и учёных, что получили кайло в руки, никто обратно не вернулся – нам надо благодарить судьбу, что Королёв на Колыме не доехал до прииска. Получи он это самое настоящее кайло в руки... Да что и говорить – короче, когда нация находит прибежище (и оправдание) в элементарных специальностях, она должна понимать, что дальше падать некуда: за элементарными специальностями нет субэлементарных. Ничего, только тлен.
При этом в данном случае благоглупость произносит человек, который Никогда. Ни. При. Каких. Обстоятельствах. Не. Будет. Работать. Грузчиком. Судьба маленького человека повторяет судьбу нации. Даже если мы будем рассматривать идеального маленького человека, абсолютного эгоиста (который не думает, что в сильном государстве ему и его потомству будет сытнее, а без такового – он помрёт), а в некоей стратегии. Спускаясь вниз по пирамиде Маслоу, нужно каждый шаг сверять с приоритетами.
Если человек думает: «Ну вот позанимаюсь я дауншифтингом годик, а то и два, а потом вернусь», – прочь иллюзии! Не вернёшься. Если человек думает, что само желание дауншифтинга обеспечивает прокорм семьи – прочь иллюзии! Я там был, я там живу – ничего не обеспечивает. Внутри сферы дауншифтинга просто будет спор – что лучше: большая пайка или маленькая. О нормальном прокорме речь не пойдёт. И сама по себе внутренняя готовность пойти работать не по специальности, «если припрёт», – совершенно не говорит о здравости ума. Это говорит об отсутствии специальности, об отсутствии мобильности. Вот наши с тобой знакомые физики, что в девяносто первом двинулись в Калифорнию, это хоть какая-то циничная здравость ума. А вот они же, торгующие йогуртами и теряющие рассудок на крикливых митингах, погружаясь в пучину рефлексии, – вовсе нет.
Он будет продавать йогурты. Или работать грузчиком, пока его не выгонят с сорванной спиной.
– Ты сбавь пафос, – Синдерюшкин махнул рукой, будто отгоняя муху. – Не так всё ужасно. Некоторые спортсмены возвращаются. Кто-то вернулся из лагерей или с фронта, а четыре года войны – это не желаемый никем дауншифтинг вовсе без всякой добровольности. Ну и в науке всё тоже зависит от отрасли. Математика – это наука самых ранних достижений, теоретическая физика немного попозже, экспериментальная ещё позже... Хоть мозги с возрастом и тупеют у всех, шансы есть. Шансы всегда есть.
– Но всё равно это немногие. Исключения всегда есть – но что они подтверждают?
– Немногие, да. Но что-то они нам говорят, эти исключения.
– Дауншифтинг – штука добровольная. А балетный танцор нам говорил о вынужденном. Не о переоценке приоритетов, когда на полпути к вершине понимаешь, что карабкаться незачем, а о жертвенном спасении. Кормить в пути никто не обещал.
– Всё равно хода назад практически нет. Просто у разных специальностей разная точка возврата – есть люди, что от перемены не пострадают – они и на прежнее место попали случайно, точь-в-точь как советские инженеры, которых было избыточно много. А есть те, что как спортсмены – его дисквалифицировали на пять лет, и он, по сути, навсегда вычеркнут из большого спорта. «Возвращение в большой спорт» возможно только если человек «поддерживает форму»: тренируется в провинциальных клубах как профессионал, существуя в малом «спорте», участвует в «областных соревнованиях».
Мы шли с Ваней Синдерюшкиным по мартовской улице, когда снег, чёрен и твёрд, спасается от дворников на газонах и у мусорных контейнеров. Товарищ мой человек примечательный, не сказать что толст, да и вовсе не тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод. Вообще, внешностью и манерами Ваня мне постоянно напоминал, что оба мы – в меру упитанные мужчины в полном расцвете жизненных сил, но он-то как-то будет поумнее и поначитаннее. Напоминал он мне постоянно и о том, что видали мы разные виды и пожили вдосталь при прошлой власти.
Хоть мы были одноклассниками, а сейчас стали напарниками в сложном деле починки лесоуничтожительного оборудования, он был как-то повыше меня. Хотя именно я – главный, а точнее сказать – старший лесопильщик. Это я при той самой прежней власти работал на Севере, в краю, населённом комарами и осyжденными гражданами. Там я познал звук честного распила, а вовсе не тот звук, что слышал в новостях и рассказах очевидцев ныне. Но время наше давно остановилось, и теперь мы говорили о дауншифтерах.
– По сути, – сказал Иван, – Пантагрюэль настоящий дауншифтер: бросил всё и свалил на Гоа, к оракулу Божественной Бутылки.
– Гоа – какое-то удивительно гадкое название. Русскому человеку тяжело без гадливости произнести. Впрочем, слово «дауншифтер» – тоже гадкое. Всё, что начинается на «даун», внушает подозрение.
– Тебе всё не нравится. Слово неважнец, но хуже другое – в нём множество значений, как в слове «гей» из анекдота про встречу одноклассников.
Мы пересекли Каретный и стали спускаться к Цветному бульвару по кривоватой улице, мимо замершей из-за безденежья стройки.
Синдерюшкин продолжил:
– Дауншифтером называет себя и всякий человек, которого вычистили со службы. Живёт он себе в коробке от холодильника...
– Это на Гоа можно жить в коробке, а у нас зимой недолго проживёшь. У нас на улице такой холодильник, что только держись. Да и дауншифтер – это совсем не уволенный неудачник, а...
– Ты знаешь, вот один знаменитый балетный человек сейчас залез в телевизор и говорит: «Мне вот не страшен никакой кризис. Я вот иду себе по улице за пивом и вижу, что везде объявления: там грузчик нужен, а вот уборщик требуется». Ну, ему телевизионная женщина и говорит: «Но такой знаменитый человек, как вы, хрен пойдёт работать грузчиком». Тот аж взвился: «Ну и дурак, значит. Если кушать хочется, то не выбирают», – ну и всё такое.
– Ты знаешь, я в балете ничего не понимаю, но, по-моему, он совершенно неправ. Причём неправ ровно в той степени, что и советский Госкомтруд, когда думал, что работники взаимозаменяемы. Оно, конечно, балетный танцор может уйти на работу грузчика, но через год он перестанет на этой работе быть балетным танцором. И не факт, что станет хорошим грузчиком. А пианист, если будет вентили крутить, пальцы сорвёт и в профессию не вернётся. Юрист дисквалифицируется очень быстро, а не порешай уравнения года три – чёрт его знает, вернёшься ли в свою математику переднего края науки. Пример даже есть: в девяносто первом советская наука ушла грузить и после уже не оправилась.
Я, как нормальный русский лесопильщик без особых перспектив, почти писатель – потому что живу под забором и питаюсь в обнимку с крысой. Тут вот в чём дело – твой балетный человек сказал благоглупость. Есть такой жанр – благоглупости, он довольно распространённый, например, его полно в дневниках интеллигентов и в шестнадцатом году, и в тридцать шестом: «А жизнь-то налаживается. Подписался на военный заём» или «Пайку прибавили», «Пузо лопнет – наплевать, под рубахой не видать». При этом благоглупость никакого отношения к реальности не имеет: если тебя вышибли с работы в пятьдесят пять, то в грузчики можно и не попасть. Но дело ещё и в том, что это сбрасывание именно не отрастающего обратно балласта – как я тебе сказал, из грузчиков обратно дороги нет. Из тех инженеров и учёных, что получили кайло в руки, никто обратно не вернулся – нам надо благодарить судьбу, что Королёв на Колыме не доехал до прииска. Получи он это самое настоящее кайло в руки... Да что и говорить – короче, когда нация находит прибежище (и оправдание) в элементарных специальностях, она должна понимать, что дальше падать некуда: за элементарными специальностями нет субэлементарных. Ничего, только тлен.
При этом в данном случае благоглупость произносит человек, который Никогда. Ни. При. Каких. Обстоятельствах. Не. Будет. Работать. Грузчиком. Судьба маленького человека повторяет судьбу нации. Даже если мы будем рассматривать идеального маленького человека, абсолютного эгоиста (который не думает, что в сильном государстве ему и его потомству будет сытнее, а без такового – он помрёт), а в некоей стратегии. Спускаясь вниз по пирамиде Маслоу, нужно каждый шаг сверять с приоритетами.
Если человек думает: «Ну вот позанимаюсь я дауншифтингом годик, а то и два, а потом вернусь», – прочь иллюзии! Не вернёшься. Если человек думает, что само желание дауншифтинга обеспечивает прокорм семьи – прочь иллюзии! Я там был, я там живу – ничего не обеспечивает. Внутри сферы дауншифтинга просто будет спор – что лучше: большая пайка или маленькая. О нормальном прокорме речь не пойдёт. И сама по себе внутренняя готовность пойти работать не по специальности, «если припрёт», – совершенно не говорит о здравости ума. Это говорит об отсутствии специальности, об отсутствии мобильности. Вот наши с тобой знакомые физики, что в девяносто первом двинулись в Калифорнию, это хоть какая-то циничная здравость ума. А вот они же, торгующие йогуртами и теряющие рассудок на крикливых митингах, погружаясь в пучину рефлексии, – вовсе нет.
Он будет продавать йогурты. Или работать грузчиком, пока его не выгонят с сорванной спиной.
– Ты сбавь пафос, – Синдерюшкин махнул рукой, будто отгоняя муху. – Не так всё ужасно. Некоторые спортсмены возвращаются. Кто-то вернулся из лагерей или с фронта, а четыре года войны – это не желаемый никем дауншифтинг вовсе без всякой добровольности. Ну и в науке всё тоже зависит от отрасли. Математика – это наука самых ранних достижений, теоретическая физика немного попозже, экспериментальная ещё позже... Хоть мозги с возрастом и тупеют у всех, шансы есть. Шансы всегда есть.
– Но всё равно это немногие. Исключения всегда есть – но что они подтверждают?
– Немногие, да. Но что-то они нам говорят, эти исключения.
– Дауншифтинг – штука добровольная. А балетный танцор нам говорил о вынужденном. Не о переоценке приоритетов, когда на полпути к вершине понимаешь, что карабкаться незачем, а о жертвенном спасении. Кормить в пути никто не обещал.
– Всё равно хода назад практически нет. Просто у разных специальностей разная точка возврата – есть люди, что от перемены не пострадают – они и на прежнее место попали случайно, точь-в-точь как советские инженеры, которых было избыточно много. А есть те, что как спортсмены – его дисквалифицировали на пять лет, и он, по сути, навсегда вычеркнут из большого спорта. «Возвращение в большой спорт» возможно только если человек «поддерживает форму»: тренируется в провинциальных клубах как профессионал, существуя в малом «спорте», участвует в «областных соревнованиях».
Весенний ветер дул нам в спины, а в водосточных трубах гремел опадающий лёд. Собственно, мы шли забирать посылку из-за границы. Надо сказать, что не знаю как Синдерюшкин, но я испытывал благоговение к посылкам из-за границы ещё с давних времён. Тогда эти посылки передавали уехавшие, казалось, навсегда люди. Это были приветы будто с того света. Что, ты, дорогой читатель, не будешь испытывать благоговение к посылке из царства теней, где Данте и Вергилий, где Рабле и Дидро, Давид и Голиаф, не помню кто ещё? Будешь. Будешь-будешь. Вот и я испытывал. Ну и дребезжащее бормотание стариков: «Эта чашечка хранит тепло рук Анатолия Сергеевича» усугубляло впечатление. Посылка была вовсе не мне, а каким-то доживающим своё старикам, что коротали век без статуи Свободы. Они жили неподалёку, у Трёх Вокзалов. Отчего именно я должен служить курьером на этом отрезке – было непонятно. Но только длина пути примиряла меня с участью заложника. Мы поднялись по гулкой лестнице старого подъезда (впрочем, довольно чистого) и позвонили в дверь. Открыла дверь пыльная старушка, хотя по телефону со мной говорил довольно задорный девичий голос. В руках у меня тут же оказался увесистый пакет из крафтовой бумаги, и дверь мгновенно захлопнулась. Я демонстративно стал нюхать этот пакет, а Синдерюшкин смотрел на меня, как смотрит двоечник на отличника, только что получившего двойку. – Ничего там такого нет. – Ты себя не успокаивай, – товарищ мой нехорошо улыбался. – Так всегда говорят, когда начинается сюжет, в котором мы бежим по крышам вдоль Сретенки, а в нас палят какие-нибудь люди в костюмах. Причём тебе-то хорошо, ты сразу рухнешь с крыши, а я буду долго страдать, прыгая, как горный козёл, пока не оторвусь от погони. – Вдоль Сретенки далеко не упрыгаешь. Мы вышли из подъезда и двинулись по бульварам. Номер стариков, лишённых Свободы, не отвечал, и это меня начало раздражать. Таскаться с увесистым свёртком по городу мне не улыбалось, а Синдерюшкин гудел над ухом о жизненных предназначениях. Дауншифтеры обступали нас – двое из них, несмотря на холод, будто играя на барабанах, играли на скамейке в шахматы блиц, гулко стуча фигурами по доске. Один дауншифтер пил пиво как горнист, другой выгуливал кота на поводке. Мы свернули с бульваров и начали движение к Курскому вокзалу. Я позвонил ещё раз – телефон стариков по-прежнему говорил со мной длинными гудками – и стал злиться. Такое я однажды видел. Приехал как-то ко мне друг-одноклассник из далёкого иностранного города. Он приехал с женой и привёз много всякой дряни, которую передавали престарелые родственники оттуда престарелым родственникам отсюда. Последние, впрочем, платили той же монетой. Оттуда ехал шоколад, облепленный печатями того раввината, а туда – нашего. Одну из посылочек надо было передать здешнему человеку Лазарю Моисеевичу. Друг ушёл гулять, и в этот момент у меня зазвонил телефон. – Здравствуйте. Я хочу слышать Зину, – сказали в трубке. – А Зины нет. Она будет вечером. – Но как же я получу свои лекарства? Я, конечно, никому не хочу причинять неудобства, но мне нужны мои лекарства. – Заезжайте, и я вам их отдам. – А... Хорошо. К вам? – Ко мне. – А как же Зина? Вы её хорошо знаете? – Хорошо. Она жена моего друга. – Я её совсем не знаю. А вы знаете Раю? – Нет. Раю я не знаю совсем. Давайте я объясню вам дорогу? – Дорогу? – Ну да. – Это к вам дорогу? То есть вы хотите сказать, что лекарства можно забрать без Зины? – Ну да. – Объясните-объясните. – ...Выходите из метро и начинаете движение от центра, сразу видите длинный металлический забор, свернёте направо – а там на углу написано «Ломбард». Вам – в соседний дом. Почтовый адрес вот такой... – А из этой станции разве всего один выход? Я слышал, что два. – Нет-нет, один. – Н-н-да. Это ужасно сложно. Значит, направо и до ломбарда? – Да. – В соседний дом? – Да. – А код у вас точно работает? Ведь если он не работает, если он испорчен и не открывается, мне придётся вернуться без лекарств. А мне очень нужны эти лекарства. Я не хочу причинять вам неудобства, но мне это очень важно. У вас действительно нажимается одновременно? – Ну да. – Это не домофон? – Нет. – А когда вы хотите, чтобы я приехал? – Да когда вы хотите. Только позвоните сначала, чтобы кто-нибудь дома был. – А завтра? – Давайте завтра. – Утром или вечером? – Ну давайте утром. – Нет, утром я не могу. – Ну давайте вечером. – Вы что? Я не могу вечером, вечером я сильно устаю. Мне нужны лекарства. Вы знаете, как у меня болит голова? – Ну хорошо, когда вы хотите приехать? Днём? – Вы меня что, не поняли? Я пожилой человек, мне восемьдесят лет. Я не могу ездить никуда. – Э-э-э... – Пожалуй, приедет мой сын. Объясните ему, как к вам добраться. – Хорошо. Голос в телефонной трубке стал тише, но всё же были слышны крики: «Миша, Миша!» – «Я никуда не поеду!» – «Нет, ты поедешь!» – «Я никуда не поеду!» – «Миша, мне восемьдесят лет!»... Я слышал, как голоса гаснут, исчезают. В трубке воцарилась тишина, лишь время от времени что-то потрескивало. Я выждал пять минут и положил её в гнездо зарядного устройства.
Извините, если кого обидел
16 сентября 2018 (обратно)
* * *
И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание: Едом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же своё первородство». Исав сказал: «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему, и продалпервородство своё Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и встал и пошёл; и пренебрёг Исав первородством.Быт. 25, 29–32

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Размышление об убогости травестии жизни. Еда и жизнь, история бифштекса с яйцом и судьба советской власти. Мёртвые погребают своих мертвецов, а всякий автор глядит только в свою тарелку. Правды нет, а человек есть мера вещейМы сидели за большим кухонным столом, что в этом доме оказался настоящим обеденным. Завтрак был кончен, но Елпидифор Сергеевич заявил, что время зовёт нас к обеду. Я с испугом посмотрел на него, но он говорил совершенно серьёзно. Обед, по мнению моего начальника, должен был быть сегодня как бы обедом и ужином одновременно, поэтому к нему приходилось готовиться и его готовить. Нужны были время и силы, оттого-то мы так плотно позавтракали. Вылезая из-за стола, я подумал о том, что на знамени Гаргантюа (если таковое у него было) должны была быть изображены ложка и кубок – то есть еда и выпивка. Жизнь для героев Рабле сводилась к трем нехитрым физиологическим актам – рождению, зачатию и смерти. Однако идею зачатия, то есть совокупления, медонский священник употребляет до удивления редко. Из его героев один Панург по-настоящему озабочен этим. В каком-то смысле герои романа больше говорят, чем делают. Чревоугодие победило похоть. Кстати, зачатие действительно можно смело заменить жратвой. Принятие пищи заменяет Рабле спермический фонтан, хотя Панург и размышляет вдумчиво – жениться ему или нет, а Гаргантюа изображает со своей женой животное о двух спинах. Поэтому рождение можно понимать не в физиологическом, а в философском смысле. Рождение – еда – смерть. Четыреста лет после Рабле ситуация то и дело менялась. То правильным считалось отношение к еде как закуске, то – наоборот, и общих правил так и не случилось. Я-то прекрасно понимал, что еда – это жизнь. И прав был человек, что отказался рассматривать голых женщин, предпочитая увидеть галушки или сало. Миска с нажористой едой – спасение и в тучный год, и в тощий, в час праздника и в день тризны. Причём эта кухонная колесница катится сама по себе – в спорах о правильной еде пала не одна репутация, сломана не одна сотня кухонных ножей. Вот выскочит образованный человек перед женщиной с майонезом в сумке и начнёт ей проповедовать, зальётся соловьём о простых кулинарных приёмах и том, как несчастной приукрасить жизнь своих родных. Да только эта речь всегда построена точь-в-точь по тем же драматургическим законам, что и речь какого-нибудь прекрасной души эмигранта. Вот он покинул СССР, вот у него уже гринкарта, он преуспел или почти преуспел, и вот он машет пальцем: «В вашей стране не хватает демократии. Это всё от русской лености ума, силы привычки и зашоренности, которая не позволяет стать вам процветающей страной. Очень жаль. А дети-то, дети-то! (В этот момент настоящий просветитель становится особенно пафосным). Ведь граждане этой страны не осознают, какую важную миссию проваливают, не приучая нашу смену к правильной этике». Как бы ни шутили и что бы в эту фразу ни вкладывали – пассаж был вечен. И мысль правильная, а всё хочется плюнуть советчику под ноги. Покойный кулинар Похлёбкин делал то же самое. Стоял на дворе год от Перестройки седьмой, и был он угрюм и невесел. А покойный кулинар объяснял, что на те же деньги, что стоил тогда мешок макарон и брусок масла, лучше купить сёмужки и сделать себе крохотный полезный бутербродик. Нет, убили его, конечно, не за это, но мысль о соразмерности пропала – вот это жалко. Или, наоборот, заблажит какая женщина о простоте и счастье макарон с майонезом, забрызжет на нежную рыбину уксусом – побегут её бить скопом, начистят лицо тёркой, будто у картошки, выковыряют глазки. Нет спасения, и здравомыслию не быть, мир крив, люди злы. Мёртвые погребают своих мертвецов, а всякий автор глядит только в свою тарелку. Правды нет, а человек есть мера вещей.
Оказалось, однако, что кулинарные подвиги только в перспективе, и мы должны идти на рынок. Что ж не сходить на рынок? Тем более засобирались все – в том числе и чудесная женщина, похожая на гоночную яхту. На улице нас встретила странная погода – то есть в погоде, как я говорил, ничего странного быть не может, но вот менялась она каждые полчаса. То светило яркое солнце, то небо затягивалось тучами, из которых сыпались даже не снежинки, а маленькие твёрдые шарики снега, всё это потом сменялось дождём, а затем туманом. Мы насквозь прошли через сквер, миновали железную дорогу, а затем спустились с насыпи в гигантскую впадину между домами. Там и находились районные обжорные ряды. Бредя за моими товарищами, я думал странную думу о еде. Ведь в стране моего детства еды было немного, мысли о том, что в магазине могут выбросить что-то испорченное или просроченное, не возникало. «Выбросили» – это положили на прилавок. Не хочешь – не бери, и без тебя довольно охотников найдётся. Но убойное кулинарное радушие моего народа, где в гости ходят поесть, – свято. Я первый перегрызу горло тому, кто будет над ним глумиться. Не еда была в тех тарелках, не достаток, а счастье. Хочешь ноздреватого счастья Родины – не кобенься. Садись к столу – голодный год придёт, с тоской вспомнишь этот сделанный на оборонном химическом заводе пельмень, у которого внутренность из чёрного хлеба, а оболочка – из белого. А пришёл к гурману, у которого в тарелке круглая какашка фуа-гра, так тоже не журись, в подворотне своё возьмёшь, доешь-допьёшь-закусишь. Это как в путешествии Пантагрюэля – наливай да пей, и завтра тож, и славно век свой проведёшь. А каждый век, каждый год его имеют свой стиль, свой шум – шум времени и вилок. Гастрономию часто называют «французским искусством», а про одного писателя другой писатель сказал, что тот был похож на любящего поесть француза и казалось всегда, что одежда у него в некотором беспорядке, как обычно это бывает у людей, любящих поесть, – в самом деле, хорошая и обильная еда, в конце концов, бросает в пот, пуговицы отчасти расстёгиваются! Да, да, именно так: сходство с парижским буржуа, может быть даже с министром, вот как этот писатель описывал своего знакомца и продолжал рассказывать (имени предмета описания не сохранилось): «Вокруг него мерещились испачканная скатерть, бутылка, мякиш хлеба, который обмакивали в соус». Вот был идеал, а уж совсем не Павка Корчагин, что измождён, борется со смертельным недугом, он не вполне даже человек, а скорее символ. Шум времени и вилок наполнял литературу двадцатых и начала тридцатых – потому что её писали люди, познавшие разъедающее внутренности чувство голода. Толстяки всегда троятся в оптической системе моего детства. Тема толстяков – вот особенность двух знаменитых романов одного худого человека. Всё в этих текстах происходит на фоне еды, во время еды, связано с едой. Девочка, притворившаяся куклой, приговаривается к казни съедением – её растерзают звери. Настоящее сражение происходит в кондитерской: «...рассыпанная мука вертелась столбом, как самум в Сахаре; поднялся вихрь миндаля, изюма, черешен; сахарный песок хлестал с полок наподобие водопада; наводнение сиропов поднялось на целый аршин; брызгала вода, катились фрукты, рушились медные башни кастрюль». Занятия учителя танцев с говорящей фамилией – кулинарный этюд: «Пары вертелись. Их было много, и они так потели, что можно было подумать следующее: варится какой-то пёстрый и, должно быть, невкусный суп. То кавалер, то дама, завертевшись в общей сутолоке, становились похожими либо на хвостатую репу, либо на лист капусты или ещё на что-нибудь непонятное, цветное и причудливое, что можно найти в тарелке супа. А Раздватрис исполнял в этом супе должность ложки. Тем более что он был очень длинный, тонкий и изогнутый». А уж сами толстяки «ели больше всех. Один даже начал есть салфетку. Он оставил салфетку и тут же принялся жевать ухо третьего толстяка. Между прочим, оно имело вид вареника». Еда переходит в тело, а тело в еду. Гимнаст-беглец замечает продавца воздушных шаров, вылезающего из подземного хода, и принимает его голову за кочан капусты: «Тибул не верил своим ушам: капустная голова выдавала себя за человеческую!». Всё это кончается как настоящий любовный роман – свадьбой народа, радостным праздником. Вообще говоря, сказка всегда кончается праздником. Что будет потом – никому не известно, а вернее – известно всем. Потом будет ад обыкновенной жизни. «Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши. Он обжора. Обедает он вне дома. Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусить. Ничего не нашлось в буфете. Он спустился вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу: двести пятьдесят граммов ветчины, банку шпрот, скумбрию в консервах, большой батон, голландского сыру доброе полнолуние, четыре яблока, десяток яиц и мармелад “Персидский горошек”. Была заказана яичница и чай (кухня в доме общая, обслуживают две кухарки в очередь)». А вот нормальная еда, настоящая советская общественная еда – неживая, как мёртвая вода из сказок. Во время войн едой в поездах заняты одни мешочники, а кухня – место дезертира. Когда я рассказал всё это Синдерюшкину, то он, оторвавшись от прилавка с огурцами, обозвал меня «гастрокритиком». Слово «гастрокритик» было почище «дауншифтера», и мне решительно не понравилось. Оно было длинным и отсылало к гастриту и прочим неприятным вещам. Чорт, что за гадость! Хуже этого слова, наверное, только «ресторанный критик». (Эти ресторанные критики – особая и опасная порода людей. Я бы их сразу выводил к оврагу, только они так представятся.) Нет, ещё может случиться на вашем пути винный дегустатор, который ошарашивает публику мистическим бормотанием: «Тело этого вина... а душа этого вина... известная терпкость... букет фиалки...» Этого сразу головой в воду. Я знавал одного гастрокритика, что считал, вслед Юнгеру, что Исав продаёт первородство не из-за голода и тупости, а в желании найти простое счастье и отказаться от липкой волны пресыщенности. На самом деле современное общество всё время мечется между полюсами сложности и простоты, изысканности и случайного выбора. Между голодом и жратвой, искусством утоления и удовлетворением биологического котла. В размышлениях о своей жизни я ожидал, что сейчас Синдерюшкин радостно похвастается, как приготовил перигорский соус в первый раз с трюфелями, второй раз со сморчками, а потом с опятами. И что я ему возражу? Что поставлю на кон? Скажу, что вчера ему выпала лёгкая работа, а мне – тяжёлая? Или буду рассказывать о бахтинской интерпретации телесности? Так Синдерюшкин меня тут же упромыслит. В этот момент Синдерюшкин...
17 сентября 2018 (обратно)
Путь и шествие
(обратно)
Последние комментарии
14 часов 12 минут назад
14 часов 13 минут назад
19 часов 32 минут назад
23 часов 13 минут назад
23 часов 34 минут назад
1 день 28 минут назад