Своим судом
Повести
Осетровая яма
1
Обь в этом месте круто заворачивала вправо к синеющему лесом материку. Черная таежная вода не поспевала за руслом. Она давила берег, бугрилась медленно растекающимися блинами, упруго закручивалась и выталкивала грязную пену. Берег над омутом откололся и сполз боком к воде, утопив верхушки деревьев. Под деревьями вода выкопала в дне яму, в которой всегда жили пять или шесть осетров. В начале осени все они ушли вверх по реке давать жизнь потомству. К ледоставу вернулись двое, остальные запутались по дороге в неводах и погибли. Эти двое остановились в яме на своих привычных местах, один — на самом дне, другой — немного повыше. Вода, ослабнув от удара в берег, сорила на них пищу, и они отъедались после трудной дороги. Днем позже, 26 сентября, к берегу, выше ямы, приткнулся буксир, а баржа, которую он тащил на поводке, проплыла ниже, но поводок натянулся, и она, описав дугу, сунулась в яр — прижало течением. На барже приплыла на новое место работы группа водолазов из экспедиционного отряда подводно-технических работ. Зимой к яме должен был выйти знаменитый северный нефтепровод, водолазам назначалось обеспечить переброску его через Обь. Было холодно. С низовьев ветер гнал волну против течения. Из трюма баржи со спиннингами в руках выбрался самый молодой из водолазов — Кузьмин Женька, бывший матрос. Он поежился и застучал сапогами по железной палубе к борту, оглядывая яр заинтересованными глазами. Капитан буксира что-то кричал, но слышно было плохо — относил ветер, да Женька и не слушал, занятый своим делом. — Главное — блесну не посадить! — сказал он себе и сделал короткий заброс вдоль ближней подтопленной осины — на пробу. Женька не дал блесне потонуть глубоко, чтобы не задела невидные в воде сучья, круто провел ее и вздохнул свободно. Он надеялся, что и в корягах живут щуки, а вываживать рыбу рядом с опасным деревом было несподручно, могла уйти вместе с блесной. Кузьмин подвинулся по борту левее к свободному месту на воде и бросил блесну еще раза три — в разные стороны. Чтобы выманить рыбу из засады, он вертел катушку рывками, блесенка то выскакивала к поверхности воды, то проваливалась, лениво сверкая. На палубу, обеспокоенный остановкой, вылез начальник группы, костистый старик Иван Прокопьевич Мочонкин, прозванный Три Ниточки за употребление одеколона в неизвестные Женьке безводочные годы. Оказывается, на пробках, которыми завинчивались флаконы с одеколоном, было только по три нитки резьбы — не больше и не меньше. Три Ниточки был в шерстяном водолазном белье и шлепанцах без пяток на тощих ногах. — Опять воду мутишь? — спросил Мочонкин, не дождался ответа и разрешил: — Давай, давай… Может, и поймаешь кого… Женька Кузьмин молчал и не шевелился, потому что щука вывернулась из глубины под самым бортом, когда он вытянул блесну, да так и осталась столбом. Она озабоченно шевелила зелеными плавниками, дивилась пропаже белой рыбешки. — Килограмма на три… — прикинул Женька и заторопился, опасаясь, что Три Ниточки спугнет рыбину. Но Мочонкин не успел подойти к борту, щука развернулась колесом и ушла в темную воду. — Однако, приехали, — Три Ниточки определился на местности и заорал капитану буксира, чтобы травил к другому берегу — ловчее выгружаться. Кузьмин наскоро обследовал блесну и швырнул ее метров на пять дальше места, где, как он предполагал, затаилась рыба. Выждал время, дал блесне утонуть, крутнул катушку, и сразу же леса дернулась, пошла в сторону. Вываживать рыбу времени не было: буксир отваливал, Женька решил, что леска выдержит, подвел щуку к борту и, не дав нырнуть, выбросил плавным рывком под ноги Мочонкину. Щука отцепилась от крючка и запрыгала по железу палубы. Три Ниточки ловко отпнул ее от края, обронив шлепанец, похвалил рыбака и ушел в тепло. Берег, где обосновались водолазы, был отлогим и серым. Они выбрали место посуше, сволокли с баржи тягачом семь железных вагонов для жилья, выгрузили имущество и отпустили буксир. Капитан отчалил без слова: до Омска ходу — неделя, а река не сегодня завтра застынет. «Зимовать во льду — хорошего нету, вот он и торопится!» — понял Три Ниточки. Вместе с водолазами на берег слезли мотористы электрической станции, повариха Анюта, водитель Егоров и еще разный народ из обслуги. Вагоны установили торцами к воде, чтобы ветром не так хватало, и выправили по шнурку. Вагон, где размещались клуб и столовая, определили между жилыми, к реке лицом. Когда дело с устройством закончилось, Три Ниточки позвал водолазов смотреть реку. Они опустились к воде и, оставляя следы, потоптались на песчаном закоске, куда выходила траншея, уже пробитая в дне реки земснарядом, прикинули, что и как. — Приперлись, а трассы и близко нету, — ворчал Толя Чернявский, царапая ногтем рыжую бороденку, ему не нравилось место. — Сопливого вовремя целовать надо, — рассудительно заметил Три Ниточки, соображая, что неплохо бы перебросить конец с берега на берег, пока не остановилась река, но дело не состоится, троса не хватит. — Отпускать надо корыто… — сказал старшина Михайлов. Земснаряд стоял шагов на двести ниже траншеи, уйти он не мог, хотя и сделал дело, а время припирало. Водолазы должны были принять его работу и составить бумагу. Решили они, что тянуть не будут, а прямо завтра и обследуют траншею. Водолазов в группе было трое. Кроме Женьки, Толя Чернявский и Михайлов, старшина. Все они отличались каким-то неуловимым флотским щегольством, а Чернявский даже носил бородку для «интеллигентного вида». Водолазы — элита, голой рукой не трогай. Держатся особняком от остального народа и живут не так тесно. Женя и старик Три Ниточки — в одной половине вагона, Михайлов и Чернявский — в другой, через тамбур. Три Ниточки направился с берега прямо домой, а подводники пошли к катеру проверить снаряжение для предстоящей работы. Под вечер Кузьмин освободился, вспомнил про щуку, достал из ящика с инструментом окостеневшую рыбину, засунутую туда при высадке с баржи, и подался на кухню, к Анюте. С поварихой у Женьки образовались неясные отношения. Неясные, впрочем, они были только с одной стороны, Анюта давно без ума любила водолаза «до синих пупырышек», как говорили в отряде, а он все не мог решиться на главный шаг, хоть и тянуло его к поварихе. «Дьявол какой — не мычит, не телится, а баба извелась вся», — часто думал по этому поводу Три Ниточки, но встревать не хотел: сами разберутся — придет время. Муж Анюты то ли утонул, то ли деревом зашибло на трассе, старик искал повариху, ему и порекомендовал молодую вдову знакомый начальник участка. С тех пор, года три уже, Анюта кочует с группой по рекам. Работа простая, готовит она только для водолазов, остальной народ питается самостоятельно, в каждом вагоне газовый баллон поставлен — вари что хочешь. Но водолазов Три Ниточки бережет и держит для них повариху, чтобы не гробили напрасно здоровье сухой пищей. Женька пришел на кухню и выложил щуку. Ладную фигуру поварихи туго обхватывал спортивный костюм, Женьке это не понравилось, но говорить он ничего не стал — обидится еще. — Может, поешь сразу, Женя? У меня все уж готово… — Анюта заботливо посмотрела на водолаза и загремела кастрюлями. Женька подумал, что Три Ниточки все равно позже отправит его в столовую, не успокоится, и сел, не раздеваясь, за стол, хоть есть и не хотелось. Повариха устроилась напротив, подперла ладошкой лицо и стала смотреть, как он ест. — Рубашка у тебя несвежая, Женя… «И как она видит все под полушубком?» — поразился водолаз, но промолчал. — Женился бы, что ли? Смотреть некому за тобой… — искала подход повариха. «На тебе только женись, — соображал Женька, с удовольствием разглядывая красивые Анютины губы, — не разженишься…»2
Ночью забуранило. Снежная крупа хлестала по вагонам. Кричали лебеди, уходили с мерзлых озер. Михайлов растолкал Женьку раным-рано. В вагоне было темно, электростанция еще не работала. — Спят, гады! — ругал Женька механиков. Он нащупал рюкзак и потащился босиком в комнату к старшине, там горела свечка, оглядеться можно было. Толя Чернявский сидел на кровати в одних трусах и качал сонной головой. — Белья — по две пары, — командовал Михайлов. — Вода — лед. — Нам бы твои заботы, — злился Женька. — Поднял — черти в кулачки не бьют!.. Чернявский одевался молчком, не проснулся еще. Пришла Анюта, принесла термос с чаем. «Жидкий опять», — подумал Женька. — Крепкий — не думай, — сказала Анюта. — А свет сейчас дадут, я механиков разбудила. Спираль в лампе слабо засветилась, а потом разгорелась и стала давать исправный свет. Пришел моторист с катера, вытер снег на лице мазутной рукой и усмехнулся: — У тебя температуры нету? — А что? — спросил Михайлов. — Ты выйди, выйди, — посоветовал моторист. — Охолонь. Ты на реку погляди. Я же вас, как котят, утоплю и сам пузыри дам… — Правда, Женечка, крутит — не видать ничего, — вставила Анюта, словно Женька тут был начальником, а не Михайлов. Старшина сурово взглянул на повариху, но промолчал, не до нее было. Пошли на волю. Большой фонарь на электростанции еле светил, а до него и десяти шагов не было. — Да, — сказал старшина Михайлов и больше ничего сказать не мог, потому что рот забивало снегом. Отошли за ветер, под стенку, чтобы можно было дышать. — Буря мглою небо кроет, — продекламировал Толя Чернявский, а Женька думал, он скажет, что вьюга смешала землю с небом. Женька рассердился, что не угадал. — Как бы нам не накрыться, — сказал он. Из снега вышел капитан земснаряда, в шубе и фуражке с крабом, подошел к водолазам. — Подпиши акт, — сказал Михайлову. — Лебеди уходят… Лебеди кричали над самым вагоном, Женька задрал голову, но ничего не увидел. — Пойдем старика будить, — позвал Михайлов капитана, и все полезли в вагон. Три Ниточки прел в теплом белье под спальным мешком. На бритом лице морщины сдвинул, думал что-то во сне. — Эй, Прокопьич! — капитан продвинулся вперед. — Лебеди уходят… — Давай акт, — сказал Три Ниточки и сел на кровати. Три Ниточки расписался в бумаге и отдал ручку Михайлову, тот тоже расписался. Капитан аккуратно свернул бумагу и спрятал в дальний карман, чтобы не промокла. — Попробую протолкнуться, — сообщил он, пожал всем руки и пошел из вагона. — Давай, — кивнул Три Ниточки, — толкайся. — А не подведет кэп? — забеспокоился Толя. — Оставил уступ — будет ковыряться, как в тот раз на Баграсе. — Подведет, — обнадежил Три Ниточки и полез в меховой мешок досыпать. Михайлов и Толя ушли к себе, а Женька вышел наружу, посмотреть погоду. Стало светлее, капитан земснаряда завел сирену, чтобы слышали, что он идет по реке. — Вот садит! — сказал Женька насчет снега и плюнул в летящую у глаз белую стену. «Ке-гек, ке-гек…» Гуси пролетели над самой головой, едва в вагон не шарахнулись — прижало ветром. И лебеди кричали во всех концах, но близко не пролетали, шли стороной. «Отдышутся на Оби, не сдохнут», — думал Женька. Михайлов тем временем воспитывал Толю Чернявского. — Вы когда с Женей к нам прибыли? — спрашивал старшина. — Весной. — Чернявский не ждал подвоха и улыбался. — Стаж, что и говорить, — похвалил старшина. — Ты уж и про уступы знаешь, которые в траншее земснаряд оставить может. Специалист! Ну, а слыхал ты, к примеру, что Мочонкин с этим капитаном здесь уже вкалывали, когда тебя и на свете-то не было. Опять пришла Анюта. «Спала бы, — подумал Женька, — мерзнет ходит…» — Ребята спрашивают, как с работой? — сказала повариха. — Актировать день будут или что? Женька пошел будить Три Ниточки, чтобы решил, как жить дальше. Погода не дала работать три дня. Крутило, хоть не выходи. Три Ниточки все дни писал письма и отчеты, Женька мучил транзистор, письма писать ему было некому. — Снег пойди отгреби, — посоветовал на второй день Три Ниточки. — Не вылезем скоро. Занятие Женьке понравилось: работай сколько хочешь — сыплет и сыплет. Он решил выходить каждый час, а в перерывах вступал со стариком в беседу. — Детям пишете? — интересовался Женька. — Им, — соглашался Три Ниточки и писал дальше. Разговор на том заканчивался, и Женька ждал, когда придет время отбрасывать снег, смотрел на часы. Как-то Три Ниточки разговорился и описал Женьке всех дочерей и сынов, кто, где и чем занимается. — Собрать бы как-нибудь всех, — мечтал Три Ниточки. — Дом есть в Николаеве. — За чем дело стало? — спрашивал Женька. — Где там, — вздыхал Три Ниточки. — Разве что помру — соберутся. А так — не собрать, однако… Мочонкин надоел Женьке: пишет и пишет, под вечер Кузьмин решил сходить к Анюте, есть захотел и вспомнил. В столовой поварихи не оказалось. Женька стал пробираться к вагону, где жила Анюта, пришел и ткнулся вместо двери в сугроб, присыпало. — Женя?! — обрадовалась повариха, когда он откопал ее. — Не могу выбраться… Ладно еще ребята с той стороны топят — тепло, а то бы замерзла вовсе. — Вечно у тебя — не как у людей. Везде двери внутрь открываются, а у тебя наружу. — А я-то при чем? — удивилась Анюта. — Как сделали, так и висят… Женька ушел, решив, что переделает дверь, как утихнет погода. Стихло ночью. Вызвездило, и тучи куда-то ушли. — Пойду взгляну на реку, — придумал Три Ниточки и стал собираться. Старик не спал, и Женька не спал — надоело. — Пошли, — сказал Три Ниточки. — Тоже зря кровать давишь. Снег замерз и скрипел, как новые сапоги. «В унты пора лезть, — думал Три Ниточки. — Зима». Старик опасался, что не успела дойти землеройка до места, и жалел капитана, семья у того находилась в Омске. Обь не встала. Черная вода шла в белых берегах, как прежде, только под берегом шуршал ледок, а дальше все было чисто. Женька пригляделся внимательно. — А река-то вроде горбатая?.. — Верно — горбатая. Воды много, а берега не пускают, вот и пучится на середке, — подтвердил Три Ниточки. — Пошли спать, ноги околели. Когда пришли в вагон, старик сел на кровать и стал снимать сапоги. «А яма-то под тем берегом не иначе осетриная, — думал он. — Трубу потянем — беспокойство рыбе…»3
Долго спать не пришлось, на реке завыла сирена. «Кого еще принесло не ко времени?..» — думал Три Ниточки, вслушиваясь в тревожный звук. Под окнами загомонили, и кто-то застучал в стену вагона, требовал проснуться. — Взяли моду — людей по ночам будить! — сказал Женька. — Открой-ка! — приказал Три Ниточки. — Бурчишь, как старик. Пропустив вперед маленькую женщину, в комнату прошел начальник всего экспедиционного отряда Назаров. — Значит, так, Прокопьевич, — начальник приступил к делу без лишних разговоров. Он сказал, что передумал ждать санную дорогу, потому что болота промерзнут неизвестно когда, и привез все нужное на баржах, которые следует разгрузить без промедления. Незнакомая женщина села к столу и сняла с головы меховой башлык, открыв холодное, без улыбки, молодое лицо. Назаров сказал, что зовут ее Колесникова Нина Сергеевна, она — инженер и будет со своими людьми строить дюкер, который к весне надо перетащить через Обь. — Я сейчас — в Сургут, оттуда в Москву, — сообщил Назаров. — Тулуп у вас есть? Три Ниточки пошел за начальником в тамбур. Старик послал в склад за тулупам и приказал бить в авральный колокол и будить людей. — Да встали уже все, — остановил старика Толя Чернявский. Вскоре доставили тулуп. Назаров простился со всеми и пошел к реке. Матрос, поджидавший его на берегу в лодке, подергал за шнур, завел мотор и оттолкнул посудину от берега. Пока Женька и Три Ниточки собирались, инженер Колесникова Нина Сергеевна делала вид, что разглядывает картину на стене вагона, выдранную из «Огонька». Когда выходили, Три Ниточки придержал Женьку. — Ты вот что… Не лезь там, куда не просят, не рыпайся. Железо таскать — ума не надо… Нина Сергеевна усмехнулась. — Смеху мало, — обозлился старик. — Пристукнет трубой, а твои жлобы в воду за них не полезут! Инженерша холодно промолчала, а Женьке стало неловко. «Змея! — определил он. — Хоть и красивая». Три Ниточки решил загладить резкие слова и помог Нине Сергеевне подняться на катер по ненадежному трапу. — Отваливай! — приказал он механику. Было еще темню, но разгрузка барж шла вовсю. Плавучий кран подавал трубы на берег. Трехпалубный толкач освещал место работы прожекторами. Тракторы таскали на берег железные дома и скарб. Нина Сергеевна поставила в известность Три Ниточки, что решила остаться со своим народом ближе к трубам. — Правильно, — сказал Толя Чернявский, стоявший неподалеку. — У вас своя компания, у нас своя… Старик шуганул Чернявского работать. Водолазы пристроились было принимать на берегу трубы, но дело пришлось оставить, когда пакет, подтянутый с баржи, загремел в воду. Три Ниточки пришел и отстранил их от опасной работы. — Таскайте поддоны в одно место, здесь без вас управятся, — распорядился старик. Водолазы быстро сгрудили в кучу разбросанные по берегу сухие деревянные щиты, которые подкладывают под грузы, чтобы не бились о железо палубы, а больше работы не намечалось. — Михайлов где? — спросил Женька. — Дома остался, неважно, говорит, чувствую себя, — ответил Чернявский. — Эй, борода! — закричал ему какой-то рабочий. — Пособи! — Рабочий толкал по слегам сварочный агрегат со второй баржи. — Не хочу работать, друг, ни в малейшей дозе, — сказал сварщику Толя. — Я не трактор, я не плуг, я вам не бульдозер. Сварщик засмеялся, водолазы помогли ему оттащить машину. Давно рассвело, а прожекторы на толкаче продолжали гореть. Женька пошел сказать, чтобы не жгли зря огонь. Капитан толкача убрал из прожекторов напряжение, а Женька опустился вниз в жилые помещения, нашел там матроса и потребовал мел. Тот сходил в классную комнату, принес мел и подал Женьке. Матрос был после ночной вахты, поэтому не удивился. Женька проскользнул боком по трапу с толкача на палубу баржи, где лежали трубы, зашел с другого конца, чтобы не мешать работе, и выбрал трубу почище. Оглянулся, потом достал мел, потер трубу рукавом, чтобы надпись лучше просматривалась, и написал большими печатными буквами: «Труба тебе Аденауэр». — Это хорошо, конечно, что вы читаете газеты… Только перед Аденауэром надо поставить запятую, товарищ незаменимый водолаз, — сказала за спиной Женьки инженер Нина Сергеевна Колесникова. Она равнодушно осмотрела Кузьмина и пошла по своим делам дальше, подняв кверху подбородок. Женька потихоньку убрался с баржи, но запятую в нужном месте поставил. Трубу вскоре подняли и положили на берег. Первыми писанину обнаружили рабочие, принимавшие трубу, потом собрались другие. К обеду баржи разгрузили. Караван, спугнув отдыхающих лебедей, отошел в Сургут. — Дотянут, деваться им некуда, — сказал водолазам знакомый сварщик, провожая последнее судно глазами, и ушел отдыхать. Реку затягивало на глазах. Рабочие Колесниковой разошлись по своим вагонам и стали топить печи. — Есть хочу — ноги дрожат, — пожаловалась Нина Сергеевна старику. Они стояли и оглядывали измордованный берег. Под яром стучал дизельным сердцем катер, дожидался Три Ниточки. — Устраивайтесь, — сказал старик и пожал Нине Сергеевне руку. — Теперь уж до льда не увидимся. Водолазный катер пошел к своему берегу в последний рейс.4
Обь остановилась, мороз покрыл воду коркой — пришло время. Дня три или четыре подводники утепляли вагоны и занимались хозяйством, ждали, пока лед закрепится. Механики разгрузили катер, завели трос и вывезли тягачом на берег. Под катер подложили лес, чтобы зимовал не на голой земле, хоть и тихоходный транспорт, а все равно — хранить надо. — На охоту пойдем? — спросил Три Ниточки у Женьки, когда работы не стало. Старик извлек из чехла облезлое ружье и заглянул в стволы, проверил — не завелась ли ржа. — Императорская тулка! — объявил он Женьке. — Таких больше нет и не будет, одна осталась. Женьке было все едино, поскольку охотой водолаз не интересовался, но ружье он на всякий случай похвалил: в вагоне сидеть не хотелось. Они немного прошли по пойме, печатая в снегу следы, и завернули к тальниковой гриве. Тальники во всех направлениях были исполосованы дорогами крестиков, ясно обозначенных на снегу. — Куропатки наследили, — объяснил Три Ниточки. — Раньше их в этих местах коробами добывали… Так они шли потихоньку вдоль тальников, пока Женька не обнаружил, что впереди по снегу продвигается пешим порядком белая птица. «Ловко чешет, больная, должно быть!» Женька побежал, чтобы поймать птицу, но она полетела. Рядом с ней выпорхнули из снега другие, и тут же дважды негромко стукнуло ружье старика: бук-бук! Как из игрушки. Две птицы выпали из стаи и запрыгали по снегу, разбрасывая красные пятна, потом затихли. — Ты чего под ружье лезешь? — напустился на Женьку Три Ниточки. — Поймать хотел. — Поймаешь, когда привяжут, — засмеялся старик и велел подобрать мертвых птиц. На белых перьях куропаток, там, где попали дробинки, проступили сырые пятна. — Деревня тут была, браконьер жил знакомый, — сказал Три Ниточки. — Помер, верно, уж… За тальником текла подо льдом речка… — Еган зовут, — объяснил Три Ниточки. — Река, значит, по-хантейски. Приток. Деревня сохранилась. Домов десять — пятнадцать стояли вразброс, под сгнившими тесовыми крышами. Ни дыма, ни человека, гниль и запустение, прикрытое снегом. От крайнего дома полетели куропатки, и Три Ниточки аккуратно убил еще двух, они упали под самой стеной. — Люди-то где? — заволновался Женька. — Кто их знает? — сказал Три Ниточки. — Может, дальше куда ушли, может, в город поехали. Всегда так — одно строят, другое разрушается. Поселков новых настроили — считать спутаешься… Ни тропки, ни следа человеческого в деревне. На отшибе, ближе к реке, стоял квадратный дом из бревен, обставленный редким тыном. Над тыном чернел склад для хранения пищи, поднятый на сваи, чтобы не добрался случайный зверь. Внутри загородки виднелась печь, построенная из глины вперемешку с осокой, и стояла худая лошадь, жевала сено. Крыльца не имелось, под дверью лежали две пестрые остроухие собаки, которые не обратили на охотников никакого внимания. Старик Три Ниточки перешагнул через собак, толкнул плечом дверь и ушел в темный провал. Со света Женька ослеп на недолгое время и наткнулся на железную бочку-печь, потом огляделся. Дом состоял из одной комнаты, хозяин сидел у печи на чурке и, устроив на коленях больные руки, глядел на гостей узкими глазами. Ладоней у него не было, из рукавов выглядывали култышки, покрытые красной кожей. Три Ниточки поздоровался и сел на лавку, а ружье устроил на столе. — Не помер еще? — спросил он вместо приветствия. — Живой! Чего сделается? — ответил старик и подвигал вялыми щеками. Лицо у него было морщинистое, как старый гриб. — Один живешь? — поинтересовался Три Ниточки. — Зачем один? Баба по воду пошла, чай пить надо. Пришла старуха, села у печки на корточки, вынула из-за пояса нож и ловко настругала лучины, потом зажгла дрова и стала смотреть на огонь. Женька огляделся: пол в избе был притрушен старой травой, на стене висели связки каких-то крючьев. Он потрогал один за острие и отдернул руку, лезвие впилось в кожу. Крючья связывал длинный шнур, они крепились на нем сантиметров через сорок один от другого, и на каждом, ближе к уху, имелась пробка. — Самоловы. Бандитская снасть! — объяснил Три Ниточки. — Опускают эту штуку под лед, она там вьется, как змея, поплавки тонуть не дают. Рыба интересуется, подходит. Крючок заденет — воткнется, дернется — другой поймает. Если и уйдет — все равно сдохнет. — Хорошая снасть, — невпопад подтвердил старик. — Без рыбы не будешь. Старуха сидела у печи, как прежде, и глядела в огонь. — Промышляешь? — дознавался Три Ниточки. — Нет, вовсе худой стал. Старуха ходит мало-мало, — откликнулся хант. — К сыновьям отчего не едешь? — Поеду. Весной поеду. — Оба живы? — Нету. Один. В Вартовске живет. — А другой? — Бок дал, бок — взял, — терпеливо объяснил хант. Расстались без сожаления. Старуха не шелохнулась, смотрела на огонь. — Поговорили, называется, — хихикнул Женька. Три Ниточки приказал ему оставить хозяевам куропатку. На снег после темной избы было больно глядеть, веки сами закрывались. «Оттого у них глаза-то и прорезаны, как ножиком», — догадался Женька. — Никудышный старик, — ворчал Три Ниточки. — Сколько лет знаю — все такой. — Руки-то у него где? — опросил Женька. — Отморозил… — сказал Три Ниточки.5
Лед окреп. Утром, потемну, для водолазов приготовили место работы. На реку опустили дощатую будку с чугунной печкой, чтобы было где обогреться, и продолбили в трех местах лед, заготовили проруби. Одну сделали у самого берега, другую — метров на пять — десять речнее, а третью — еще дальше — все на одной линии. Будку подвинули к средней проруби и оставили у самого края. Водолазы в это время спали, их до времени не трогали. Три Ниточки поднял парней, когда развиднелось и можно стало различать предметы. Пока пили чай, Михайлов объяснил, что надо делать. — Значит, от будки пойдешь к берегу, осмотришь траншею, возьмешь проводник и — обратно, — втолковывал он Женьке. Проводник — тонкий и гибкий трос — был намотан у крайней проруби на ворот, чтобы легче разматывался, когда потянут. Он назначался для перетаскивания с берега на берег главного троса, который будет везти трубу. «Проводник так проводник…» — Женьке было все равно, что тащить. Михайлов и Чернявский продували шланги и настраивали воздушную помпу, которая питает водолазов воздухом, а Женька сидел в будке рядом с печкой и неспешно одевался. Он надел два пуховых свитера, столько же штанов, натянул сверху комбинезон и стал обувать ноги. Сначала — шерстяные носки, потом — носки из собачьей шкуры, после всего он натянул на каждую ногу по меховому чулку и стал шевелить пальцами, пробовать, как вышло. Получилось хорошо, тогда он снял с крюка легкий водолазный костюм из желтой резины и крикнул, чтобы шли помогать. Явились трое — Чернявский, Михайлов и рабочий из подсобных. Женька втолкнул в костюм через горловину ноги, вытравил штанины и поднялся. Костюм сжался гармошкой и еле прикрывал ноги, дальше его не пускала узкая горловина. Чернявский, Михайлов и подсобник взялись за нее руками с трех сторон и дернули разом, растянули тугую резину. Женька проворно присел и оказался одетым до шеи. Потом на него надели обувь и закрепили на ногах и груди пудовые грузы из свинца, чтобы вода не выталкивала наверх и можно было работать. — Топай! — сказал старшина Михайлов. Женька подошел к проруби, сел на краю и спустил тяжелые ноги в воду. Старшина обвязал его поперек веревкой, надел на голову шерстяную шапку, а сверху — медный колпак-шлем, от которого тянулись разные трубки. Колпак привернули к вороту на болты. Михайлов надел шлемофон и махнул рабочим рукой, чтобы гнали воздух. — Как воздух, Женя? — привычно проверил старшина обстановку. — Нормально. — Давай, двигай потихоньку!.. Женька нагнал в скафандр воздуху побольше, раздулся, как пузырь, слез в прорубь и поплавал недолго, проверил костюм, потом стравил воздух и поплыл в темноту ногами вперед. Было неглубоко. На дне лежал песок, а не ил, и Женька подумал, что работать будет удобнее. — Чего молчишь? — спросил сверху Михайлов. — Глухо, как в танке… — Женька прикинул, куда двигаться дальше, несильно толкнулся и поплыл наугад, потому что ничего не видел. — Влево пошел, бери правее, — сказал Михайлов, наблюдая за веревкой. Женька двинулся вправо и нащупал траншею — дно под рукой потерялось. — Нашел! — сообщил он, нырнул в траншею до дна, прикинул глубину. Было метров шесть — нормально. — Теперь так, — распорядился Михайлов. — К берегу двигайся по траншее, изучай ширину. Двадцать метров полагается. Челноком иди. Женька Кузьмин пошел по траншее челноком. Глаза он закрыл, потому что кругом была одна тьма. Пока он там ползал, рабочие притащили на лед кабель от электрической станции и спустили в береговую прорубь лампу, чтобы водолаз видел, в каком месте брать проводник. — Свет видишь? — спросил старшина. Женька открыл глаза и заметил, что впереди желтеет пятно. — Вижу, — сказал он, приблизился к лампе, набрал под резину воздуха и выплыл в крайней проруби. Трос был привязан к железному пруту. Женька принял его из рук рабочего и опять ушел под воду. Но теперь в траншею он не полез, взял лом руками за оба конца и сообщил Михайлову, что приготовился. Обратно его везли на веревке. — Темно, — пожаловался Женька Толе Чернявскому, когда скрутили медный колпак. Около печки Женька присел, вытащил из рукавов руки. Ворот дернули, он поднялся и вылез из резиновой шкуры, сырой от пота. — Только так, Женечка. Все — на ощупь, все — на ощупь, — веселился Толя. — Как под одеялом! — Пятьдесят минут ходил! — сосчитал Михайлов, а Женька думал, что минут десять. Толя Чернявский собрался тянуть трос дальше, а Женька лег на лавку и стал отдыхать, пока не заснул. Разбудил его шум за стеной. И он пошел узнать, из-за чего сыр-бор. Толя Чернявский лежал на боку рядом с прорубью, куда его выдернули веревкой, а Михайлов торопливо крутил болты, освобождая водолазу голову. — Чего это с ним? — спросил Женька, но ему никто не ответил. Все стали смотреть на Чернявского, потому что старшина уже снял с него шлем. — Ну? — Да все нормально, — Толя побледнел, но пытался говорить бодро. — Клапан, должно быть, заело. — А я смотрю, давление на манометре лезет, — ввязался рабочий с помпы, — хотел сказать, а вы уже потащили. — Воздух не пошел, — объяснил Женьке старшина. Проверили клапан, но ничего не обнаружили. — Давай шланг! — приказал старшина. — Это он барахлит… Шланг отвинтили и прогнали сквозь него воздух. В подставленную к устью Женькину руку упал лепесток льда и тут же растаял. — Все ясно! — сказал Женька и вытер мокрую руку о штаны. — Продувать перед каждым погружением! — приказал старшина. — Сходить за него? — спросил Женька. — Не паникуй! — взъелся Михайлов. — Иди отсюда. На другом берегу гудели тракторы, растаскивали на места трубы. «Настырная баба за месяц, гляди, дюкер изладит», — подумал Женька о Нине Сергеевне и пошел в будку, дела ему не находилось. Через час благополучно возвратился Толя Чернявский. — Все, мальчики. На сегодня — будет! — сказал Михайлов, когда Толю раздели. — Втягиваться надо постепенно… В тот день водолазы прошли сто двадцать метров, а осталось до того берега еще больше километра. — Как раз — до морковкина заговенья! — сказал Женька.6
К концу октября водолазы придвинулись к яру. — Глаза боятся, а руки делают, — сказал по этому поводу старик Три Ниточки. Лед окреп, по нему можно было теперь ездить тракторами и другими машинами. Водолазы похудели, хотя Три Ниточки держал их на особом пайке и всячески заботился о здоровье. Дни стали короткими. Солнце в небе показывалось на какой-нибудь час и опять уходило на другую сторону земли. Водолазы уезжали и возвращались в потемках. Несколько раз за все время бывала Нина Сергеевна, заходила к Михайлову и старику, советовалась насчет дюкера, а как-то заявилась к проруби, когда старшина находился в воде, и без малого час торчала на ветру. Михайлов в последнее время привязался к лыжам и слонялся вечерами по многу часов. — Вес лишний решил сбросить, — объяснил он Толе Чернявскому свое поведение. — Под воду больше ползай, — посоветовал Женька, случившийся при разговоре. В общем, время шло, и дело шло незаметно тоже — трос тащили. …В тот день с водолазами поехал старик Три Ниточки, опасался, не замыло ли под яром траншею. Первый в яму собрался Михайлов, чтобы проверить обстановку и возможности работы. Пока его одевали, Женька лениво выбрасывал ледок из прорубей, заготовленных с вечера, а большие комки загонял лопатой под основной лед и отправлял плыть в море. Ему взялся помогать старик Три Ниточки, чтобы не числиться без дела и не мерзнуть напрасно. Продвигаясь от отдушины к отдушине, они дошли до крайней, которая была сделана под самым яром, раскрошили лед и стали грести его наверх, как всегда. — Веревка какая-то вмерзла, лопату цепляет, — Женька хотел перерубить ненужный шнурок, но старик остановил его. — Веревка? А ну-ка, покажи, — потребовал Три Ниточки. Под яром было совсем темно. Три Ниточки поелозил по льду рукой, ничего не нашел и закричал рабочим, чтобы несли свет. Лампу притащили, и стало видно, что веревка идет от коряги, вмерзшей в лед под берегом, и скрывается в проруби. — Кто поставил? — Три Ниточки оглядел подозрительно водолазов и подергал рукой за веревку. — Чего поставил? — не понял Женька. — Самолов, дурак, я спрашиваю, кто поставил? — взвинтился старик. От будки подошел Михайлов, поинтересовался — отчего суматоха. — Ты посмотри, что в твоих прорубях делается, — зашипел Три Ниточки. — Разбой! — Тяните! — приказал старшина. Женька и Толя Чернявский взялись за шнур, вытянули первый крюк, потом второй, и Женька вспомнил, что видел похожие крючья в доме у старика. — Безрукий поставил, — сказал он. — Больше некому. — Нет! — уперся Три Ниточки, он успокоился и стал мыслить здраво. — Безрукий здесь не посмеет… — Что-то тяжелое тащится… Корягу, должно быть, захватили, — предположил Толя Чернявский. — Увидишь ты ее, эту корягу… — пообещал Три Ниточки. В прорубь боком вплыла мертвая черная рыба, Михайлов багром выволок ее на лед. — Осетр, — загрустил Три Ниточки и пошевелил рыбу ногой. — Старик. Их таких-то, может, десятка два на всю Обь осталось… Водолазы склонились над мертвой рыбой. Наточенное железо исполосовало бока и брюхо осетра, в ранах серело мясо. Видно, он долго бился, пока не уснул, когда жало вошло в позвоночник. — На акулу походит, только рот маленький, — определил Толя Чернявский. Женька Кузьмин представил, как рвут в темноте крючья бока осетра, и поморщился. — За Колесниковой сходите, — попросил Три Ниточки, и какой-то рабочий молчком полез на яр. Минут через двадцать пришла Нина Сергеевна. — Узнайте, если из ваших кто, пусть заявление пишет, — сказал Три Ниточки. Инженер молча кивнула. «Какую красоту загубили», — думала она, холодея от неясной тревоги. Три Ниточки приказал отправить осетра на кухню и уехал, не дождавшись результатов осмотра траншеи. — Чего бесится! — удивился Толя Чернявский, когда старик отбыл. — Ну и что, осетр? Сам куропаток стреляет. Жить-то надо. Женька сматывал самолов и ждал, что скажет Нина Сергеевна, а что дела она так не оставит — он догадался. Но разговор не состоялся, потому что старшина позвал Чернявского в будку, «тянуть резину». — Женя, а вы могли напороться там на эту штуку? — задумчиво спросила инженерша, разглядывая крючья. — Едва ли. Нина Сергеевна вошла в будку, присела в уголок и стала смотреть, как готовят к спуску под воду Михайлова. Она сидела тихо, никому не мешала и ничего не говорила. На старшину натянули скафандр, навешали грузы, он вышел из будки и закрепил на поясе контрольную веревку. Нина Сергеевна тенью ходила рядом. — Ты как на похоронах!.. — рассердился старшина. — Осторожнее, пожалуйста, Коля, — попросила Нина Сергеевна и улыбнулась, сдерживая тревогу. «Ну — дела!» — Женька от неожиданности открыл рот, медленно осмысливая положение. Чернявский надел шлемофон и помахал Женьке рукой: старшина требовал ломик с ручкой, которым водолазы пользовались при быстром течении. В береговую прорубь, на место самолова, спустили лампу, старшина поплавал в проруби, стравил лишний воздух и ушел в воду. Вода в проруби закипела от пузырей, а потом утихла, когда водолаз сдвинулся в сторону. — Глубоко? Женька травил за старшиной веревку и шланги. — Метров двенадцать! — сообщил он Нине Сергеевне, все еще удивляясь ее непонятному поведению. Вскоре она ушла, определив, что под водой все идет как следует, а Женьке никак нельзя было поговорить с Толей Чернявским, потому что уши у того были закрыты наушниками. — Траншея не замыта, несет, правда, здорово, но работать можно, — сказал старшина, когда вылез на лед. Очередь тащить трос была Женькина, он осмотрел его запас, кольцами приготовленный на льду рядом с прорубью, и пошел одеваться, затягивая дело, чтобы поговорить с Толей. — А осетр, мальчики, в яме еще один есть! — сказал старшина. — Да ну-у? — не поверил Толя Чернявский. — Берег подмыло, ниша вроде, — рассказывал Михайлов. — Там он и спасается, один остался. Сколько раз подходил, ткнет мордой в бок, потрется — и обратно в нишу. Думает, должно быть, что приятель объявился, рядом зовет стать. Крупнее покойника, с меня будет… Женька ужом проскочил в скафандр. — Ты осторожно с ним! — предупредил старшина. — Не пугай. Проводник закрепили на ручке острого лома, Женька камнем ушел на дно, хотел двинуться без промедления к берегу, но вода опрокинула его на спину и потащила по неровному дну. — Эй, держи! — заорал он, перевернулся на живот, воткнул в дно ломик и отдышался. — Тебя отнесло! — обрисовали ему сверху положение и посоветовали идти влево. — Прет — будь здоров! Пойди попробуй! — забурчал Женька, опасаясь вынимать из песка лом и удивляясь силе воды. — Ты так делай, — советовал старшина, — втыкай лом, подбирай ноги, толкайся резко и снова втыкай. Понял? Водолаз попробовал, получилось немного. Тихо, правда, но ничего — жить можно. Под берегом течение ослабло, и последние несколько метров до лампы он пролетел щукой, торопился. «Где-то он тут…» — соображал Женька, посильней всадив лом в дно под лампой, чтобы не вырвало и не пришлось делать напрасной работы. Лампа освещала воду метра на полтора кругом себя, но в этом круге осетра не было. И Женька передвинулся к границе круга, ближе к берегу. Осетр сам подошел к водолазу и потерся упругим телом о резину. Женька погладил его и хотел обнять, но осетр дернулся недовольно и отошел ближе к свету. — Вот медведь! Мишенька, Миша, — забормотал Женька и вытянулся рядом с осетром, чтобы тот думал, что он тоже рыба. — Ты чего бормочешь? — спросил Михайлов. — С Мишкой разговариваю, — откликнулся Женька, подталкивая осетра к лампе, чтобы лучше разглядеть, но тот упирался. — Имя, значит, придумал? — улыбнулся Михайлов и приказал поднять лом на поверхность. Женька нашарил под лампой ломик, высунул из воды и спустился к осетру. — Хлеба бы ему дать или картошки, — думал он вслух, поглаживая рыбину, пока не почувствовал, что веревка, привязанная к поясу, натянулась. — Чайку, скажи Анюте, чтобы заварила покрепче, в другой раз вы с ним чайку похлебаете, — хохотал Толя Чернявский, пока друга раздевали. Женька сделал вид, что обиделся. Три Ниточки взволновался, когда ему передали новость, и наказал водолазам не тревожить напрасно осетра, пусть живет спокойно. Браконьера доискаться не удалось, никто не хотел сознаваться. «И то сказать, — думал Три Ниточки, — кому охота на рожон-то переться». Вечером Женька Кузьмин не утерпел и наведался к Толе, чтобы выяснить насчет старшины и Нины Сергеевны. Толя знал не больше. — Слышал, сварщики ее трепались, что якобы замужем она была дважды, но точно не знаю, — сказал Толя. — А что не допускает к себе никого — факт. Один, говорят, совался — до сих пор, кашляет…7
Приближались праздники. И большие — год был юбилейный. Три Ниточки посоветовался с Ниной Сергеевной и решил нарушить сухой закон, заведенный в группе им же самим. — Собирайте по тройке с носа. Бутылка спирту — на двоих, — заявил он делегации, которая явилась к нему по этому поводу. Старик сам отправился с деньгами в Сургут, чтобы не было соблазнов. — Навезут — за неделю не вылакать, а делов — край непочатый, — обсказал он свое решение. Пятого ноября вечером тягач остановился подле вагонов. Был он белый от снежного буса и нагрелся в дальней дороге. Из тягача выбрался Три Ниточки и подождал, пока ему подадут из кабины вещи, закрытые твердой бумагой. Следом вышел человек в меховой одежде. — Товарищ Борис Самсоныч прибыл из самой Москвы с управления отряда, бывшего ЭПРОНа, где он трудится инспектором отдела кадров, чтобы от имени администрации, месткома и т. д. поздравить рабочих оторванной от отряда группы с великим праздником! — торжественно высказался Три Ниточки. — Ага! — сказал Женька Кузьмин. — Где жить будет? — Проводи к мотористам, пусть всунут как-нибудь раскладушку, — сбавил тон Три Ниточки. Он велел доставить ящики со спиртом из вездехода в помещение, а томившемуся народу сказал, что разговор насчет спирта объявляется закрытым до следующего дня. Вечером в комнате Михайлова собралось все начальство. Старик Три Ниточки открыл производственное собрание по проведению надвигающегося мероприятия. Первой докладывала Анюта. Она сообщила, что малосольная осетрина тает во рту, а котлеты тоже готовы, только жарить осталось, чем она и будет заниматься с самого утра. При упоминании об осетрине Три Ниточки загрустил, но вида не подал, а инспектор Борис Самсонович проглотил горячую слюну и спросил мимоходом — нельзя ли, мол, килограмма три-четыре-пять с собой в Москву захватить… Анюта разозлилась, но Три Ниточки сказал ей, чтобы не бузила зря, и заверилтоварища, что «сувенир» организуют как следует, не стыдно будет показать дома. Три Ниточки подумал и сказал Нине Сергеевне, чтобы прислала с утра женщину в помощь Анюте. Та кивнула согласно, поскольку имела в своей группе несколько женщин-изолировщиц. Долго обмозговывали, как бы собраться всем вместе, но от этой мысли пришлось отказаться, не было подходящего помещения. Порешили, что люди Нины Сергеевны будут отмечать праздник у себя, а водолазы — у себя. — Но вы уж, пожалуйста, Нина Сергеевна, к нам в гости… — галантно заявил старик. — Приеду, конечно, — сказала инженерша. — Поздравлю своих и приеду… «Еще бы… — подумал Женька Кузьмин. — Куда денешься?..» Шестеро работали весело, с подъемом, а к вечеру зашабашили — поступил приказ приготовляться. Женька отгладил штаны себе и старику Три Ниточки, выволок из чемодана роскошный канадский свитер и подготовку, можно считать, закончил. В четыре часа старик и инспектор Борис Самсонович отбыли поздравить людей Нины Сергеевны. Отсутствовали они часа два или больше, за это время все успели собраться в общем вагоне, из которого предварительно удалили перегородку, затруднявшую передвижение из клуба в столовую. Столы были накрыты как полагается: осетрина, бутылки и графины с водой, чтобы запивать спирт — у кого слабое горло. Анюта стояла в дверях кухни, сильно довольная всеми, и улыбалась Женьке. Женька Кузьмин и Толя Чернявский сидели за столом с механиками водолазного катера, а Михайлов находился за столом один, свободные места предназначались Нине Сергеевне, старику и инспектору. — Чует мое сердце, Женя, — грустно сказал Толя Чернявский, — спать нам с тобой в одном мешочке… — и пошел за магнитофоном. — Чего душу морят? — закричал механик электростанции. — Сил нету!.. Михайлов опомнился от задумчивости, поправил галстук на полосатой капроновой рубашке и махнул рукой. — Кому уж очень невмоготу, по маленькой — можно! Зазвякало стекло, но столы оставались нетронутыми, как раньше. — Жуки! — восхитился Женька, соображая, откуда у парней могло образоваться питье, если Три Ниточки сам ездил за спиртом и весь он стоял на столах. Толя Чернявский принес магнитофон и хотел включить его, но под окнами загремела гусеницами машина. — Слава богу! — вздохнула Анюта и приготовилась рассматривать Нину Сергеевну, в чем одета и как. Нина Сергеевна оказалась в белом вязаном платье, удобно облегающем маленькую фигуру, и Анюта немедленно решила купить себе такое же, хотя и понимала, что дело не в платье. Когда все уселись, старик Три Ниточки сказал про Советскую власть и про то, что надо к весне — кровь из носу! — протянуть дюкер, чтобы замыло траншею талой водой, а то придется опять вызывать за большие деньги земснаряд. Инспектор отдела кадров говорил долго: и про революцию, и про текущую международную обстановку, и про то, что коммунисты и комсомольцы должны вести за собой народ и быть застрельщиками в социалистическом соревновании. «Господи, ну чего он тянет? — тосковала Анюта. — Ясно же все…» Анюте не терпелось подать горячее и посидеть хоть немного рядом с Женькой, но инспектор Борис Самсонович стал читать праздничный приказ по отряду, подписанный Назаровым. Приказ выслушали внимательно, поскольку речь шла не о всех людях вообще, а о их отряде. Потом инспектор приступил к выдаче грамот. Награжденным сдержанно похлопали. — Совсем забыл! — спохватился неожиданно Три Ниточки, вылез из-за стола и пошел на выход. — Воду мутит старый! — усмехнулся Толя Чернявский. Три Ниточки вернулся с пакетом и извлек три бутылки шампанского. — Сухое! — ахнула Нина Сергеевна. — Совсем забыл, — добрел Три Ниточки. — Специально вез. Подсаживайся, Анюта… — Можно я с ребятами, Иван Прокопьевич? — Анюта уже проталкивалась со своей табуреткой к Женьке. Три Ниточки передал бутылку вина водолазам и подмигнул, чтобы все делали как полагается. Первый тост выпили за труд и дружбу. Толя и Женька пили чистый спирт, не разводили, так как Анюта уверяла, что чистый помогает от язвы желудка, и хотя у водолазов язвы до сих пор не обнаруживались, они не спорили. Столик руководства стоял рядом. Инспектор Борис Самсонович горячо убеждал старика Три Ниточки в чем-то важном, но тот, видно, не понимал и отрицательно мотал головой. — Уезжать намылился, — сообщила водолазам Анюта, нехорошо оглядывая гладкое лицо инспектора. — Людей там больше, Иван Прокопьевич, а руководителей никого нет, — между тем говорил инспектор. — Неудобно получается, всякое, знаете, могут сказать… Вы себе сидите, пожалуйста, а я уж поеду к ним. — Да пусть он поедет, — неожиданно поддержала Бориса Самсоновича Нина Сергеевна. — Ночевать вы можете у меня, — сказала она ему, как о деле решенном. — Ключ вам дадут, раскладушка и матрас под кроватью, простыни в ящике. — А вы? — изумился инспектор. — Останусь у Анюты, — успокоила Нина Сергеевна. — Не знаю, не знаю… — сказал Три Ниточки, но возражать не стал. Водитель вездехода Егоров надел в тамбуре тулуп прямо на рубаху и доставил инспектора по назначению. — Рабочие ему нужны… Как же! — фыркнула Анюта. — К девчонкам потащился, здесь-то не клюет. — Очень может быть, — согласился Толя Чернявский. — Придумали! — не поверил Женька. — Да его там парни измордуют — поглядеть не на что будет… — Очень может быть, — вежливо согласился Толя Чернявский и с Женькой. Кто по второй выпил, а кто по третьей — заговорили. Водолазы и Анюта ушли на кухню принести котлет, чтобы не сомлел народ прежде времени. Тарелок для котлет не хватало, наваливали их в железные миски — сколько войдет. — Работаете, Женечка? — заулыбалась инженерша Нина Сергеевна, когда водолаз устроил на стол начальства миску с котлетами. — Приходится, — усмехнулся Женька. В темном закутке кухни Анюта обхватила горячими руками Женькину шею, зашептала сердито: — Да поцелуй ты меня хоть раз, черт такой… Но бывший матрос крепился, потому что не решил еще, как ему быть. «Жена, дети… и прочее», — размышлял он. — Любви все возрасты покорны, — сказал Толя Чернявский, тихо явившийся в кухню. — Так? — Так, так! — зашипела Анюта и выставила «поэта», снабдив котлетами. В вагоне пахло водкой и табаком. Женька вышел из кухни и открыл окно, отдышаться. — Танцевать, танцевать! — потребовала Нина Сергеевна, веселая от хорошего праздника. — Я — первый, — мрачно сказал Женька. — Раздвигай столы! Партнерша танцевала хорошо, а Женька Кузьмин запинался, обдумывая, с чего начать разговор. Нина Сергеевна догадалась: — Вы что-то хотите сказать, Женечка? — Хочу, — сказал Женька. — Вы старшину давно знаете? — Давно, Женечка. Всю жизнь, даже учились вместе, — беззаботно ответила Нина Сергеевна, ей было проще. — Любите вы его? — Люблю. — А он вас? — Думаю, да, Женечка… Нине Сергеевне все было ясно на месяц вперед, не зря училась столько. — А правда, что вы два раза замужем были? — допытывался Женька до серьезного. Глаза у Нины Сергеевны стали холодными и серыми, как льдины. «Поговорили…» — забеспокоился Женька, но Нина Сергеевна простила его от полноты счастья. — Что случилось, Женя? Больше возможности не представлялось, и Женька Кузьмин нырнул, как в прорубь: — Жениться хочу… Не с кем было посоветоваться водолазу Кузьмину, родных у него не было. И Нина Сергеевна ничего не сказала, кроме того, что Анюта нравится ей очень. «Она и мне нравится», — подумал Женька, внимательно разглядывая грани на стакане. Нина Сергеевна танцевала с Михайловым, даже издали Женька замечал, что живется ей хорошо. Он перевел взгляд на Анюту, которая кружилась с Толей Чернявским, сравнил ее с инженершей и успокоился, потому что Анюта понравилась ему больше. «Каждому свое…» — философствовал Женька, допивая шампанское из Анютиного стакана и не обращая никакого внимания на Толю, который маячил ему, чтобы не налегал на чужое. Магнитофон охрип совсем, и лента стала рваться. Женька допел за него последнюю песню и хотел встать, но передумал и налил спирта, чтобы решить все как следует. Народ расходился допивать по домам, Анюта отозвала в сторону Нину Сергеевну и о чем-то быстро переговорила с ней, а старик Три Ниточки пошел медленно к себе в вагон, нагрузился до нормы. Женька Кузьмин хотел тоже встать, но опять передумал, потому что ноги не повиновались. К нему подошла Анюта, прижалась к канадскому свитеру, облитому вином, и увела в неизвестном направлении. — Анюта увела Женьку к себе, мне теперь негде спать. — доложила Михайлову информированная Нина Сергеевна. Толя Чернявский не стал прислушиваться к чужим разговорам, пошел и тихонько, чтобы не обнаружил старик Три Ниточки, залез в спальный мешок на Женькиной кровати. Часов в восемь его разбудил водитель Егоров. — Слушай, — заторопился он, вроде Толя мог куда убежать, — явился там этот… Фонарь — во все рыло, требует, чтобы в Сургут вез, в Москву, говорит, полечу жаловаться. — Товарищ Борис Самсонович? — Ну! Говорит… — Сбываются слова моего бывшего друга Жени Кузьмина! — поведал водителю Толя и полез с голевой в мешок. — Брось дурить! — увещевал водолаза Егоров. — Дело-то серьезное. Старика будить надо. Три Ниточки поднял лохматую голову и поглядел вокруг невыспавшимися глазами. Егоров пересказал дело. — Узнал — кто? — заинтересовался Три Ниточки и стал искать штаны, чтобы быть в надлежащем виде. — Все знают, — сказал Егоров. — Он к бабам все лез, значит, а Васька, значит, его и утешил… — Утешил… — передразнил Три Ниточки. — Вези сей же час этого Ваську. Егоров поспешно убрался, а Три Ниточки подозрительно посмотрел на Толю Чернявского, но ничего не сказал, продолжая искать штаны. Толя Чернявский притих на время и не смеялся. — Достань кулек под твоей койкой, — потребовал старик. Толя беспрекословно повиновался, потому что обстановка намечалась военная. Три Ниточки извлек из кулька бутылку с коньяком, налил полстакана, выпил и обнаружил штаны, висевшие на спинке кровати. Вскоре Егоров привез Ваську. — Доставил! — доложил он старику. — Пусть побудет на воздухе, — решил Три Ниточки. — Зови пострадавшего. Пришел инспектор с фиолетовым синяком во всю щеку и закрытым глазом. Он прикладывал к щеке снег, который таял и капал грязными слезами на холодный пол. — Это хулиганство, — сказал инспектор. — Отправьте меня на аэродром, я не могу говорить… я доложу… — Мы разберемся, — успокоил его Три Ниточки. — Хулиганства мы терпеть не станем. Егоров, отвези товарища к самолету. В комнату пришли Михайлов и Нина Сергеевна. Не простившись, Борис Самсонович поспешил уйти, чтобы не показывать женщине свое лицо. В дверь боком протиснулся Васька и остановился, дожидаясь решения. Три Ниточки грозно молчал. — Чем ты его? — не выдержал Толя Чернявский. — Булкой, — признался Васька, осматривая общество исподлобья. Нина Сергеевна отвернулась к стене, а Толя, повизгивая, полез в мешок. Один Три Ниточки сохранил серьезность, потому что разве можно бить живого человека по лицу булкой? — Я думал — помягче чем… — подлаживался Васька. — Иди! — не выдержал Три Ниточки. — Амнистия тебе. Нина Сергеевна откровенно хохотала, Толя Чернявский катался в мешке по полу, а Михайлов тихо мычал, чтобы сохранить достоинство. Около вагона Васю поджидала Валька, виновница происшествия, вертлявая и молоденькая. — Амнистия вышла, — объявил ей Васи. — Пошли. — Я же говорила, я же говорила! — затрещала Валька, но сбилась с голоса, потому что мужчина шагал широко, не враз поспеешь. — Сходи-ка, Толя, за Женькой, — сказал Три Ниточки, когда смех утих, и поглядел на Михайлова и на женщину. Нина Сергеевна встретила взгляд спокойно, а старшина насупился, опасаясь, что старик наговорит лишнего, но Три Ниточки молчал. Чернявский, пока Анюта крутилась у зеркала, разъяснил помятому другу положение вещей. — А я что говорил? — повернулся Женька к Анюте. — Что же… — сказал старик Три Ниточки, когда все собрались и уселись за стол, — церкви здесь нету, загсов тоже… Живите! Три Ниточки вытер пальцами взмокшие неизвестно отчего глаза и выпил коньяк.8
Снег в ту осень сыпал все время и к середине зимы завалил вагоны водолазов до окон. Зайцы, в поисках пищи, прыгали с сугробов на крыши. Три Ниточки часто слышал над собой их осторожные прыжки и думал, что худо живется зверям, раз лезут куда ни попадя. Ночи стояли по двадцать часов. Лед на реке не выдерживал мороза, лопался, образуя под снегом трещины. На небе ходили светлые немые столбы — отблески магнитных бурь и других природных неурядиц. Нина Сергеевна иногда просыпалась в середине такой длинной ночи и слушала, как идут часы. Она пугалась тишины и жалась к Михайлову. «Хоть бы храпел уж…» — думала Нина Сергеевна, муж обнимал ее, и она успокаивалась, засыпала. Как-то утром подводников разбудили взрывы. — Лед?.. Михайлов прислушался, ухнуло дважды — раз за разом. — Трассовики подходят — просеку бьют, — понял старшина и спросил жену, как она жила одна, если боится всего. — Так и жила, — объяснила Нина Сергеевна. — Проснешься ночью — тишина, как в могиле… Даже собаки не лают. Ты не представляешь, как страшно… К дюкеру вышли взрывники, за ними ехали бульдозеры и расталкивали по сторонам сбитые аммонитом деревья, образуя высокие завалы по сторонам. Взрывники работали по двое. Один делал в корнях ломом дыру, другой вставлял в нее заряд и зажигал шнур. Дерево прыгало вместе с корнями вверх и валилось в нужную сторону. — Чистая работа! — одобрил действия взрывников Женька Кузьмин и договорился с ними, чтобы разбили лед под яром для прохода трубы. Взрывники насыпали на лед немного взрывчатого материала и зажгли шнур, чтобы выкопать яму для главного взрыва. Осетр, спавший внизу, ощутил телом неприятный удар и попятился глубже в нишу от опасного места. Взрывники готовили второй заряд, но приехал Три Ниточки, отругал Женьку последними словами и прогнал взрывников. Они достали из ямы запал, а взрывчатку бросили и поехали дальше, сбивать деревья. — Черт его знал? — оправдывался Женька. — Бог рассудку не дал — беда неловко! — сердился Три Ниточки. — Плывет теперь твой Мишка вверх брюхом. — Не должен бы… — жалел осетра Женька и сам себе не верил. За бульдозером по просеке пришли экскаваторы. Они шли друг за другом — три снизу, скребли мерзлоту роторами. За последним со дна готовой траншеи выступала вода, болото промерзло неглубоко, метра на два. Машины двигались тихо, нагревались от непосильной работы. «Полтора года так едут… — размышлял Три Ниточки, наблюдая за экскаваторами. — Машины и те устали…» Экскаваторы оставили на земле след и ушли за реку, чтобы двигаться дальше к назначенному месту. Три Ниточки в последние дни торопил народ. — Основная труба придет скоро, а мы — не у шубы рукав! — говорил старик и завел ночную работу. Подводники теперь тоже работали на дюкере, обшивали заизолированную трубу досками. Чтобы не повредить при движении, приворачивали на хомуты понтоны. — Самое неприятное — снимать их, когда протянут трубу, — рассказывал старшина Михайлов водолазам и тщательно мазал болты хомутов солидолом. — Бьют в лед как из пушки, зацепит — поглядеть не на что будет… Понтоны делали из тех же труб, обрезали кусок, заваривали дыру заглушками и укладывали поплавок сверху на основную трубу, чтобы не очень прогибалась в воде. Понтонов было четырнадцать — труба над трубой, только верхняя с разрывами. — Намаемся мы с этими поплавочками! — вздыхал Толя Чернявский и говорил Женьке, чтобы не туго заворачивал гайки. Трубу повезли в марте, когда дни стали подлиннее и не так холодно. Три Ниточки известил начальство телеграммой и засел у лебедки рядом с полевым телефоном, чтобы передать указания на другой берег. — С богом, стало быть, — сказал он, хотя в бога не верил. Все свободные люди стояли на льду и смотрели на дюкер, опутанный канатом толщиной в руку. «Только бы не лопнул…» — думал Женька. — Давай полегоньку, — сказал Три Ниточки лебедчикам охрипшим голосом. Дюкер — длинная через всю реку труба — на другом берегу зашевелился и пополз незаметно по каткам к срубленному бульдозерами яру, чтобы уйти в прорубь и выплыть через несколько дней к многотонной лебедке, которая его тащила. Труба шла легко, голова ее уже спустилась под лед, и старик остановил движение, чтобы осмотреть механизмы, работавшие под сильной нагрузкой. Люди отдохнули ночью от нервного напряжения и утром снова взялись за работу. Лебедка заскрипела и натянула трос, но труба не двигалась. «Упереться ей не во что, — размышляла Нина Сергеевна, она сидела у телефона рядом с трубой. — Шла свободно…» — Трактором, может, толкнуть сзади? — предложила она выход. Приехавшие корреспонденты приготовились, чтобы заснять движение трубы, но снимать было нечего. — Давай, пожалуй! — сказал Три Ниточки в трубку Нине Сергеевне, холодея от нехороших предчувствий. Дюкер подтолкнули вперед тракторами метра на два, трос ослаб, скрутился подо льдом петлей и порвался, когда пустили лебедку. — Все верно! — сказал корреспондентам Три Ниточки, вздохнул и пошел в вагон, чтобы побыть одному. Водолазы два дня искали концы, потом вытащили их на лед машинами и стянули петлей. — Мишка-то живой? — спрашивала Женьку Анюта, когда он являлся ночью домой. — Живой, чего ему сделается? — говорил Женька и засыпал с ложкой в руках, истощенный непосильной работой. «Отлупили бы его чем-нибудь, чтобы ушел», — думала Анюта, раздевала и укладывала Женьку, а сама шла кормить голодных корреспондентов. Корреспонденты были злые, ругались, что задерживается командировка, обещали прислать Анюте фотографии, чтобы лучше кормила, и записывали что-то в блокнотах. Анюта рассказала им про осетра, корреспонденты обрадовались, что водолазы сохраняют ценную рыбу, записали все и уехали в тот же день, как труба вышла к лебедке. Три Ниточки проводил корреспондентов и велел отдыхать всем четыре дня. Люди нагрели в тазах и другой посуде воду, смыли с себя трудовую грязь и стали отдыхать, кто как хотел. — Куда мы теперь, Коля? — спрашивала Нина Сергеевна Михайлова, она трясла над электрической плитой короткими волосами, сушила после мытья. Старшина лежал одетым на постели, читал и не обратил на слова жены должного внимания. — Куда-нибудь пошлют, — сказал старшина. — Понтоны еще сковырнуть надо. Нина Сергеевна не стала больше беспокоить мужа: ей было все равно, куда ехать, только бы с ним. Анюту тоже интересовал вопрос дальнейшей жизни, потому что женщины всегда любят, чтобы был постоянный дом и все как у людей. — Как сообщил нам начальник отдела транспорта нефти Министерства нефтяной промышленности СССР товарищ Ефремов, работы хватит, — сказал ей Женька и протянул газету, — читай. «В перспективный план развития СССР внесена еще одна важная деталь. Закончены экономические расчеты, связанные со строительством крупнейшего нефтепровода Усть-Балык — Дальний Восток, протяженностью 6,5 тысячи километров…» — прочитала Анюта и вздохнула. Водолаз Женька Кузьмин уже заразился бациллой бродячей жизни, и Анюта вздохнула, потому что куда иголка, туда и нитка. Старик Мочонкин Иван Прокопьевич писал в это время письмо начальнику отряда Назарову в Москву, чтобы отпустил на пенсию. «…За меня тебе искать никого не надо, — успокаивал начальника Мочонкин. — Нина Сергеевна показала себя настоящим работником, и деваться ей некуда, потому что вышла замуж за старшину водолазов Михайлова Н. И., которого ты тоже хорошо знаешь…» «В Николаев поеду виноград разводить», — решил Три Ниточки.9
В конце марта стали снимать понтоны. Лед гудел на многие километры и трескался от тяжелых ударов. Ошалевший осетр мотался по траншее, мешал работать. — Подойдет и трется, а у меня понтон на соплях держится! — ругался Толя Чернявский. — Не троньте его! — предупреждал Михайлов. — Замор, вода горит, видал в прорубях, сколько малька дохлого? Вот и волнуется рыбина… — Жить ему негде, — сообщил Женька заинтересованным людям. — Нишу-то завалили… Четырнадцатый понтон достался Женьке. — Смотри шланги! — предупредил Михайлов. Женька спустился на дно, нашарил на понтоне хомут и стал крутить гайку. «Жалко Три Ниточки, а куда денешься — старость не радость», — соображал он, прикидывая, что неплохо будет заявиться к старику в Николаев, когда выйдет отпуск. Гайка сошла легко, болт был смазан. Женька подобрал шланги, чтобы не перерубило, достал из-под веревки на поясе кувалду и выбил болт. Обычно понтон, освобожденный от одного хомута, дергался и выскакивал из другого, сейчас он только приподнялся свободной стороной и остался на месте. — Не идет, собака. Заклинило! — сказал Женька. — Попробуй кувалдой с другого конца, — предложил старшина. Придерживая шланги, водолаз стал подвигаться к другому концу понтона, зажатому хомутом, и наткнулся на осетра. — Иди, иди! — Женька ткнул осетра кувалдой, чтобы шел от опасного места. Осетр отошел немного и стал над понтоном. Водолаз продвинулся, чтобы удобнее было работать, и снова наткнулся на его упругое двигающееся тело. — Дурак! — сказал Женька. — Раздавит, как муху. — Он отодвинул осетра рукой, но тот опять вернулся. — Да ты что? — удивился Женька. Он машинально двигался вслед за осетром, отдаляя его от понтона. Старшина Михайлов, оставив шлемофон, приказал рабочим долбить прорубь, чтобы спустить лампу. Он пошел показать место для проруби, но снизу ударило в ноги, лед загудел и стал давать трещины. Старшина побежал к наушникам. — Жив? — закричал старшина, потому что Женька молчал. Понтон вырвался внезапно. Женьку ударило, он перевернулся и почувствовал, как тело охватывает пронизывающий холод. — Вода! — вскрикнул он. Его подняли через тридцать секунд. Когда свернули шлем, оказалось, что вода наполнила скафандр, и только воздушная подушка, образовавшаяся в шлеме, не пустила воду к лицу водолаза. …Лед тронулся в мае. Шалые воды пришли с Алтая и замыли траншею песком и илом. Сровняли дно. Следом за льдом подошел буксир с баржой, капитан отдохнул за долгую зиму, был веселым и бодрым. Три Ниточки отбыл в Москву оформлять пенсию, а подводники погрузили все имущество на баржу и поехали на новую точку. Буксир шел медленно, Женька и Анюта стояли на палубе и смотрели на сглаженный разъезженный берег, пока его не закрыло мысом. …Обь в этом месте круто загибает вправо, к синеющему лесом материку. Черная, таежная вода не поспевает за руслом. Она давит в берег, бугрится медленно растекающимися блинами и выталкивает грязную пену. Река здесь опять выкопала в дне яму. Под толстым слоем песка в яме лежит труба, заботливо завернутая, чтобы не тронула ржа. По трубе идет нефть.Там, где багульник на сопках цветет…
Кое-что — для начала
В распадке между гор с севера на юг течет бойкий ручей. Справа от него, если смотреть по течению, на склоне стоит поселок — десяток одноэтажных бревенчатых домов и несколько бараков. Слева, на склоне другой горушки — старые разведочные штольни и шахта. Чтобы попасть из поселка к шахте, надо перейти ручей. В распадке — только один удобный и безопасный переход. К этому месту из поселка сбегает стая тропинок, а за ручьем ведет к шахте уже одна общая дорога. У перехода, в шаге от воды, воздвигнут дощатый павильон, который неофициально именуется «Зеленым шумом». Торгует в «шуме» Соня Клецка, глухонемая плотная женщина с круглым лицом и рыжими глазами. Соня стоит за сатураторной стойкой, модернизированной шахтными умельцами. Покажешь палец, она дернет за рычаг один раз — и в стакан выльется ровно пятьдесят граммов вина. Два пальца, два рывка — сто граммов. Три рывка — сто пятьдесят граммов. Закуски Клецка не держит. Вон она, закуска — ручей. Он и зимой не замерзает. Пей на здоровье! В шесть утра, когда я выхожу из итээровского общежития, ручья не видно. В низине туман, белый и плотный. Я стою выше. Отчетливо видно шахту и склон впереди нее, залитый солнцем, розовый от цветов багульника. Рядом с шахтой — маленькая флотационная фабрика. Там копошатся люди, грузят в автомашину короткие тугие мешочки с концентратом. Каждый мешочек — пятьдесят килограммов. Сейчас их повезут на станцию. А не так давно на ладан рудничок наш дышал. Запасы руды на втором горизонте шахты дорабатывались, а денег на углубку не давали. Почему? Да очень просто. По существующим инструкциям, чтобы шахту углубить или новую заложить, надо иметь обоснованные промышленные запасы. А перспективные запасы переходят в категорию промышленных только тогда, когда их вскроют и руками потрогают. Но вскрывают-то ведь шахтами. А на шахту денег не дают… Так и получался замкнутый круг. Чтоб вскрыть, надо деньги, чтоб получить деньги, нужно вскрыть. Наш бывший техрук тогда с горя целую теорию разработал и кандидатскую диссертацию защитил попутно. Называется — за один раз не выговоришь: «Обоснование выбора способа вскрытия жильных месторождений на базе перспективных запасов с применением вероятностно-статистических методов». От Сихотэ-Алиня до Урала горняки с облегчением вздохнули. Молодец, говорят. Голова! Потому что всякий теперь четко перспективные запасы мог обосновать. Появились деньги. Рудники расти стали. Парень-то он стоящий, наш техрук. Только я еще думаю, что нужда заставляет калачики есть. Прижмет как нас, так не только теорию вероятности придумаешь, а и двигатель вечный… Да. А гора нам с той поры еще ближе стала. Что говорить! У нас здесь чисто шахтерские термины звучат уместнее, чем когда-то: «Куда поехал?» — «На гора»; «Куда пошел?» — «В гору». Именно в гору, настоящую. А то пишут, что вот-де шахтеры Донбасса выдали на-гора столько-то угля. Смешно — «на-гора»… «На степь» они выдали, а не «на-гора». Я все стою у крыльца, любуюсь окрестностями. Туман над ручьем — как тенета. Тянется за тобой — хоть отрывай. Я вхожу в него метрах в двухстах ниже «Зеленого шума», поднимаю голенища сапог и лезу в упругую воду. Сразу за ручьем — крутой каменистый склон, чертова пашня. Камни ползут из-под ног, и руками не очень-то обопрешься: грани у них как ножи. И еще забота — сапог не распороть… Выше осыпи гора уже не такая крутая и сплошь заросла багульником. Туман остается внизу, а я вползаю в кусты и падаю на живот, отдыхиваюсь. Багул этот чертов дурманит. Кто-то мне говорил, что если уснуть в нем, когда цветет, то и не проснешься. Сказки, должно быть, а все равно неприятно. Вот издали смотреть — ничего, красиво даже, когда гора стоит розовая… Кто это там внизу булькается? Ручей мне не видно в тумане, но слышно — вступил кто-то на осыпь, ко мне лезет. А я-то думал, что один здесь хожу… Из тумана возникает голова, показываются широченные плечи, и наконец на площадку втаскивается все туловище. Начальник шахты горный инженер Степанов собственной персоной валится рядом. Вот фигура! Он даже лежа сутулится. Это оттого, что в шахте ему приходится гнуться в три погибели. Я тоже не маленький — метр восемьдесят пять, но он — все два, наверное. И лицо у него под стать горе, как из камня вырублено. — Аникину — привет! — хрипит он. Я помалкиваю, пусть сначала отдышится. — Почему здесь лазишь? — он спрашивает. — Клецки боишься? — Да нет, — говорю я. — По кривой дороге вперед не видать… Смеется — отдышался. А сам-то он, интересно, почему не через переход ходит, как люди? Сейчас еще спросит, о чем в газетах пишут — это уж точно. Знает, что мы с хирургом Кутузовым копилочку газетных ляпов держим. Так и есть! Спросил. — Мелочи все, — поскромничал я. — Вчера, правда, спецкор сообщил, что у кочегара Петрова форсунки всегда в порядке… — А-а… — тянет он разочарованно. — А с Велтой как? Вот прилип, банный лист! Велта Хендела — это врач здешний. Мы с ней друзья были вроде бы — водой не разольешь, а потом поостыли, что ли… Все не так как-то пошло. Степанов знает, да и все видят. В поселке не спрячешься — не город… — Все так же… — промямлил я. — Друг друга не узнаете? — хохочет. Веселый подозрительно. Вечерком в гости позвал, затевает что-то. Мы пошли вверх, к шахте. Мимо фабрики, мимо пожарки. В пожарке у нас ребята служат, которых из шахты по силикозу вывели. На завалинке обычно сидят — веселехоньки! Сейчас не видать их — рано. А машина, я замечаю, от фабрики ушла, к вечеру молибденчик на станции будет… — Никифоров к тетке уехал. Тетка у него захворала, — это Степанов мне перед самой шахтой поведал. Вот оно! С того бы и начал. Никифоров — горный мастер. И Степанов хочет, чтобы я заменил Никифорова. То-то, смотрю, разговорчивый он сегодня. Так и знал — не к добру! Давно он меня в мастера приспосабливает — не мытьем, так катаньем. И давно бы сделал — не хватает мастеров. Только я еще прошлой осенью, как приехал на рудник после техникума, решил, что с годик в забоях потрусь, на рабочих местах, пока все профессии горняцкие, какие есть, не освою. Не то чтобы очень уж вкалывать хотелось, но… Степанов считает, что это «бзик», заскок у меня. Потому, должно быть, что сам он со многими «бзиками». Но дело-то не в них. И он это, конечно, понимает. Дело в том, что Никифоров, скажем, за всю жизнь только три месяца учился, образование два класса на всю семью, а дело в сто раз лучше меня знает, потому как с коногона начинал. Вот и я хочу кое-что своими руками пощупать, прежде чем других учить… — И долго проездит? — Дня три, — говорит Степанов. — Соскучиться не успеешь. Он мог бы, конечно, просто приказать мне идти на смену вместо Никифорова, да он пока еще в своем уме… — Ладно, — согласился я. В самом деле, не начальнику же шахты идти на смену. — Добрый ты что-то, Коля, а? — разулыбался он. — Пример есть, Костя… В раскомандировке уже вся смена собралась, когда Степанов объявил, что я сегодня работаю за Никифорова. Мне особенно говорить не пришлось: все свои места знали и что делать — знали. Так, общие указания: «Забой разберите», «Вентилятор не забудьте включить». Еще одному из дорожников сказал, чтобы в бригаде меня заменил — ребятам одним несподручно будет… — Руды нет, Коля, — объяснил Степанов ситуацию. — Никифоров, старый волк, скребет где-то все-таки вагонов по сорок, а ты если тридцать дашь, хорошо! И еще он мне сообщил новость: — Жилку должны подсечь на третьем горизонте… Вот это бы ладно! Только до этой жилки дожить надо. Хотя в лучшее не верить…Смена
1
В штреке «два-бис» под восстающим сидят на бревнышках крепильщики. Карбидочки повесили на стенки, курят. Один молодой совсем, другой постарше. Видно, из вербованных, не знаю я их. — Почему лес не поднимаете, плотники? — спрашиваю. — Дак ить газ там, мастер, — молодой говорит. — Воздух не идеть… Рязань — точно. Или вроде того. — Почему же он не «идеть»? — я на него уставился. — Шланг взрывники пережали, чтоб им пусто… — это тот, который постарше, отвечает. Я посветил в восстающий: дым, но первую лестницу видно почти до полка. — Высоко шланг? — спрашиваю старшего. — За тем полком, — отвечает, — повыше чуть. — Да-а… — говорю я, а он повторяет за мной, как попугай: «Да-а…» Смешно. Я знаю, как все это случилось, а он не знает. Ругает взрывников и не понимает, что не в них дело. Обстоятельства виноваты, а не они. Как быть должно? Вентилятор должен стоять под этим восстающим и кнопочка. Отстрелялся взрывник, нажал кнопочку. Пока смена спустится, газа там не будет… Но где его взять, этот вентилятор и кнопочку? Нет их пока. Вот и проветривают сжатым воздухом, тем же, которым бурят. Заканчивает бурильщик, откручивает шланг от перфоратора, пристраивает его под полком — и пошел. После него в восстающий лезут взрывники со взрывчаткой, а там шланг свистит, как реактивный истребитель на старте. Воздух ревет, камешки во все стороны расшвыривает — того и гляди, в капсюль или в глаз шибанет. В такой обстановке не то что шпуры заряжать, а и просто быть невозможно. Тогда сгибают ребята этот шланг и петельку легонькую накидывают, чтобы сдернуть ее удобнее, когда подожгут шнуры и спускаться будут. Но сегодня что-то произошло. Кто его знает, что у них в этот раз случилось? Может, запоздали с уходом — не до петельки, а может, и забыли… Бывает и это, когда знаешь, что через минуту над головой рвать начнет. Рязанец этот — или кто он там — так и умереть может, убежденный, что восстающие проветривают шлангом, но мне-то не легче. Плюнуть можно, не наша вина. Но и плевать нежелательно, потому что хоть и временный я здесь начальник, а дело есть дело… — Попробовать разве? — раздумчиво спрашивает старший. — Не подготовим забой — бурильщики в следующей смене стоять будут. — Можно, конечно, попробовать, — говорю я ласково. — Только они так и так стоять будут. Потому что работничек ты будешь сомнительный… — Обойдется. — Пади да не убейся! — заорал я. — Ты что думаешь, я тебе лезть туда позволю?! Притихли. Тоже мне — «обойдется»! Плотник колупаевский! Дымок-то этот, положим, не страшен, хоть и вонючий. Страшен тот, который без цвета, без запаха и без вкуса. Угарный газ называется, деревня. И его в этом дымке сейчас столько, что стоит только один раз рот разинуть — и все, отдергался. Я сел на то бревно, где они сидели, и закурил. Неделю потом курить не захочешь, знаю. — Веревка у вас есть потоньше? Нашли веревку, лес они на ней поднимают. В руку толщиной веревочка, запутаешься в ней и даже до первого полка не долезешь… — Не надо, — я им сказал. — На верхнем полке все равно не свалюсь, а здесь дернете, если что… Я готовлюсь. Это — как в прорубь нырнуть. Метров семь мне надо рвануть вверх по лестницам, найти там в дыму шланг, сдернуть петельку и обратно скатиться. Если за минуту успею — все нормально будет. Обвязываюсь я все-таки ихним дурацким канатом. Тяжелее будет, но зато наверняка они меня оттуда сволокут, если завалюсь. И кости переломают — как пить дать! Этот бык молочный сейчас уж трясется, а упади — он так дернет с перепугу, что не опомнишься. Первую лестницу я проскочил удачно, а в люке застрял. Не везет мне с люками. Карбидка вниз улетела. Черт с ней, толку от нее в этом дыму никакого. Вторая лестница. Глаза дерет — слезы сыплются. Закрыл глаза, шарю. Шланг где-то здесь. Ага, вот он. Теперь сгиб найти. Есть! И веревочку-петельку и нащупал, а сорвать не могу. Еще секунда — и вдохну, кажется. Глаза уж из орбит лезут. А бросать нельзя: на второй раз не хватит меня… Сорвал все-таки петлю, и ногти тоже. Воздух взревел, но дышать и теперь не рекомендуется. В люк я вывалился и полетел вниз, ступеньки искать некогда. Сдернули меня плотники, поставили на штреке. Это все я прекрасно помню. — Отпустите, — говорю, — я сам. — И свалился носом в канаву. А ведь было лопнул, не дыша. Через нос, значит, попало. Они меня на «козу» завалили — вагонетка есть такая, лес на ней возят — и к стволу привезли. Там воздух свежий, снова плохо мне стало. Очухался, когда мотористка с водоотлива все ноздри нашатырным спиртом залила. — Перестань! — я ей сказал. — Ты же мне всю слизистую спалила, дурища. Виски надо натирать, а ты в нос льешь… Инструктаж проходила? — Так ты же неживой! — кричит, и слезы на глазах дрожат. Верой ее зовут, кажется. Тихая такая, сидит там, у своих моторов, как мышь, не слышно ее сроду и не видно. А тут — гляди-ка… — Идите работать! — сказал я крепильщикам. — Здесь уже больше ничего показывать не будут. Ушли. А мне холодно стало, зуб на зуб не попадает. — Где ты, — спрашиваю, — Вера, греешься? Замерз я. — Зоей меня зовут, — она говорит. — У печки греюсь. Пойдешь? — и поддерживает меня, плечо подставила, пичуга… В насосной камере у нее светло. Чистота — блестит все. Моторы гудят, как дождь. Дело знает, пичуга. Посадила меня на мотор, кожух у него теплый, как печка, действительно. Я к стенке привалился и глаза закрыл. А она масленку взяла, масло куда-то там подливает… Зоя, значит, а я думал — Вера. Ей бы крестиком салфеточки вышивать, а она в шахте работает. Впрочем, недолго осталось. Убирают всех женщин из шахты, приказ уж есть. Не их это дело — слепому видно. А приятно мне было, когда она около меня хлопотала. И сейчас нет-нет да и взглянет озабоченно — не помер ли? Не помру теперь, не бойся! Тем более что и пальцы ты мне когда-то перевязать успела. И вообще девочка ты хорошая, запомнить бы… — Спасибо, Зоя! — поблагодарил я. — Пойду… Она что-то хотела сказать, но не сказала. Подумала, поди, что опять дурой назову… А дурак-то я, выясняется… Ладно, пойду. Славненько сменка у меня началась, лучше не бывает.2
— Из квершлага возят? Стволовой посмотрел на доску, где он отмечает выданные на-гора вагоны, и сказал: — Порода. Я и сам вижу — порода, руду он на другой доске пишет, а спросил — потому что разговор со Степановым вспомнил. Он же говорил, что жилу должны подсечь. Не повезло, выходит. Не дошли. А то бы вагонов десять — двенадцать лишних руды было… Ладно, не повезло. Но породу-то, спрашивается, они почему так медленно убирают? Машина не работает? Квершлаг — это выработка, которая подрезает молибденовые жилы, как шампур — куски шашлыка. Только прослойки пустой породы здесь раз в двести больше, чем прослойки руды. Жилы мощность имеют сантиметров тридцать, ну пятьдесят, а расстояние между ними сорок — семьдесят метров. По пустой породе, считай, идет квершлаг, но без него нельзя. Потом мы штреки пройдем по жилкам, по руде, до самого конца поля, пока они не выклинятся. А еще из штреков начнем выбирать эти жилки снизу вверх, блоки нарезать. Тогда жить можно… Тогда будет руда. А пока, стало быть, пустая порода. …Нет. Машину откатчики уже в забой, смотрю, пригнали, не грузят только, копаются что-то. Тоже из новых ребята. В лицо я их всех знаю, а фамилий не помню. — Убирать собираетесь? — Счас, шланг вот лопнул, изделаем… Я забираюсь на кучу отбитой породы во лбу забоя, чтобы посмотреть, подсекли все-таки жилу или нет, но камни кругом одинаково серые после взрыва, ничего не распознать. Откатчики срастили шланг. Один взялся за рычаги машины и смотрит на меня, ждет, когда уйду. А я не спешу. Перед уборкой породы они должны смочить ее, чтобы пыли не было, и с кровли заколы посшибать — нависшие камни. Как раз надо мной пластиночка, замечаю, висит, неизвестно на чем держится. Отодвинулся, задел рукавицей — упала. Если бы на голову — ни один бы хирург склеивать не взялся. Оставил парень машину, ломик взял, ко мне лезет. Понял якобы. Ломик я у него отобрал (сам, мол, разберу кровлю) и велел воду в забой подать. Удивился он несказанно, чувствуется, но ушел. Подбросили водяной шланг в забой — ничего не случилось, даже руки не отсохли. — Много не открывайте! — кричу. Хорошая струйка пошла, не сильная, такими дворники в приличных городах газоны обливают. Плеснула — и сразу кусок белого кварца вымыла. У меня руки дрогнули — подсекли жилку, не соврал Степанов! Аккуратно, не торопясь я стенки, кровлю промыл, и жилочка проступила надо мной полукругом в черном граните, как нарисованная. Я рукавицу снял и ладонью ее погладил. Красавица! — Че же ты раньше не сказал?! — откатчики возмущаются в голос. — Сам не надеялся, — объясняю. — Спугнуть боялся. — Беляна… — один говорит. — Белая, гляди-ко… Ишь ты! Корову небось в своей деревне так называл, а теперь — жилу… — Чтобы ни одного кусочка не потерять! — предупредил я их. — Не потеряем! — заверили. — Изделаем! Сделают, конечно, не меньше моего рады. Не успел отойти — два вагона нагрузили и покатили. Я одного остановил, велел на второй горизонт позвонить, еще откатчика сюда вызвать. У меня тоже руки зачесались. Разве это работа — то, что мы здесь, в квершлаге, делаем? По полтора метра в сутки он у нас продвигается — курам на смех! А будь электровоз, люди — по-другому все закрутить можно… И закрутим — время придет. Я на подножку погрузочной машины встал, рычаги потрогал. Шипит, как живая, подрагивает, работы просит. Они вот сейчас два вагона укатили, когда вернутся? А она же работать, милая, должна беспрерывно… Едут, похоже… Три огонька плывут… — Вот что, мальчики, — объявил я, — попробуем, чтобы машина не стояла… Я буду грузить, а вы — бегать. Ничего еще не придумано для шахты проще и нужнее погрузочной машины. Лопата пневматическая — так она называется. Ковш с зубчиками, как у экскаватора. Опускаешь его на почву и вперед двигаешь, пока не заполнится. Потом машинка его через себя в подкаченный вагон опрокинет — и второй нагребай, пожалуйста. Первый вагон я нагрузил быстренько. И второй. Потом большая глыба попалась; пока мы ее с третьим откатчиком в сторону скантовали, первый уже на стрелках замаячил. Молодцы, ребята! Но и третий вагон я успел нагрузить, пока первый откатчик на разминовке возился, и еще подкайлил под нос машинке хорошую груду камней, чтобы легче ей брать было. И машина — не стожильная. Бывает, упрется в валун, даже задние колеса поднимаются, а сдвинуть не может. А так — хорошо! Давай, милая, давай! Но быстро все кончилось. Кажется, только начали, а машинка уже в лоб забоя уперлась… Шабаш! По бокам, куда ковшик не доставал, осталось вагона два-три да глыба та, но это все ребята сейчас вручную зачистят и глыбу кувалдой расколотят. …У ствола сидела Зоя на скамеечке и стволовой — оба как после бани, уработались… — А тебя кто заставлял вагоны катать? — спросил я девчонку. — Никто не заставлял. — Своего дела нет? — Чего же ей эти насосы караулить, они ведь не убегут, а остановились — я бы ей сказал, — вступился стволовой заЗою. — Ей, может, интересно было. Я и то, грешным делом, думал, что вы там рехнулись все. Откатчики бегали — дым шел, а все орут: «Порожняк давай!» Час только и убирали… — В руду сколько пошло? — спросил я. — Двенадцать вагонов, — ответил. Не все вагоны в руду идут. Уже в забое стараются по возможности раздельно руду и породу грузить, стволовой здесь смотрит, нужный сигнал подает наверх, а там еще сортировщицы вагоны проверяют, отделяют пустую породу от руды. — Смотри! — пригрозил я ему. — Если хоть один вагон с рудой в отвал пустой породы загнал, вместе с сортировщицами выбирать полезешь… Ничего он, конечно, не загнал, больше двенадцати вагонов и не могло быть, но пусть не суетится, когда не спрашивают… — А я четыре вагона привезла! — хвастается Зойка. — Молодец! — хвалю я. — Теперь рожать никогда не будешь… — А ты проверь!.. — хохочет стволовой. — Клеть давай! — говорю ему. — На второй горизонт поеду. — Испугался! — шепчет он Зойке, когда клеть со мной вверх пошла, и захихикали они там, внизу — слышно. Вот прохиндей! А голова-то у меня прояснилась, чувствую. Только в носу все еще саднит от нашатырного спирта.3
— Привет, тетя! — здороваюсь со стволовой на втором горизонте. — Возят? — Ага, племянничек, — отвечает она, — возят. С песнями. Понятно. Знаю я эту технику. По пути на работу кое-кто забегает к Соне Клецке, маячит, из ручейка запивает и — к шахте дробненькой рысью. Тут основное — рассчитать, чтобы не развезло раньше времени. И специалисты находятся — будь здоров! Спускаешься с таким в шахту в одной клети, он с тобой беседует трезвый, как стеклышко. А через полчаса, глядишь, недвижный лежит, хоть горноспасателей вызывай. Но привезли парни не так уж мало. Двадцать вагонов на доске отмечено. Итого получается, с теми двенадцатью, что из квершлага взяли, тридцать два. Это хорошо, если учесть, что горизонт-то отработан полностью, все блоки пустые, крикнешь — эхо, как в лесу, гуляет. Закрыть бы его и не маяться, но руду-то надо. Вот и держат здесь откатчиков — авось наскребут что-нибудь. И скребут, куда деваться? — В двенадцатом они блоке, — тетя сообщает. Она такая же мне тетя, как Иисусу Христу, но привязалось вот, не отлепишь… Под двенадцатым блоком огоньки светятся, вагоны стоят, а люки пустые все — насквозь видно. Откатчики в сторонке на камешках курят, не заметно, чтобы очень веселые… С краю Гоша Ануфриев сидит, знаменитый в свое время бурильщик. Выводили из шахты по силикозу, с полгода толкался в пожарке, а сейчас с пенсии, видно, сняли, раз опять здесь. Рядом Зарипов устроился, тоже мужик битый. Третьего я не знаю, новенький. Много их прибыло, оказывается. — Садись, Коля, покури! — предлагает Гошка, а сам Зарипова понукает: — Ну, приехал ты, Миша… — Про китайца рассказываю, — объясняет Зарипов. — Видел, поди, чесноком он на базаре торгует, с косичкой на голове? Связчик мой… Ну, приехал… Фанза у него на сопочке оборудована, с солнечной стороны. Лес кругом выкорчеван, и чесночок посажен, грядка к грядке. А фанза и сверху, и снизу чесноком вся обвешана. Кобылу я привязал, и он выходит: «Стравствуй, Мыша!» Поздоровались, а солнышко на закат повернуло, к вечеру дело идет. Растолковал я ему, что «ИЖи» в магазин привезли, а денег у меня нету. «Ходи, — сказывает, — фанса кушать будешь, а потом спи мала-мала». Мне с утра на работу было, а он — спи, дескать. Я ему объясняю, а он свое «нет», вечером, говорит, ни давать, ни брать деньги нельзя — водиться не будут. — От зараза! — восхитился Гошка. — Так до утра и не дал? — Ну, — говорит Миша. — А как рассвело, принес шесть тыщ из лесу. — Сколько же у него их? — тот, новенький, спрашивает. — А миллионов двадцать! — равнодушно говорит Гошка. — Ну, — соглашается Миша. — Всю жизнь чесноком торгует! — Ты чего это опять в шахту залез, выводили, кажется? — Отошла лафа! — смеется Гошка. — Полгода только и походил в пожарниках… Выздоровел, говорят. Черт его знает, что там за врачи, в этой комиссии? То силикоз, то нету… — Нечего возить, пусто! — отвечает на мой немой вопрос Зарипов. — Хоть матушку-репку пой… — Никифоров говорил, — вру я напропалую, — что есть тут где-то немного. Посмотреть бы надо. — Да рази туда залезешь? — ужасается новенький. — Есть, значит? — Висит в одном месте вагонов пять, — неохотно подтверждает Ануфриев. — Не сбить, однако. Крепко висит… — Гоша! — я прошу. — Тридцать два вагона только выдали… Хоть бы сорок, а? Степанов и то скалился, больше, говорит, тридцати тебе не выдать! Понял, видно, Гошка, что никак нельзя мне без сорока вагонов, достал откуда-то из-за стойки початую пачку аммонита и сунул за пазуху. Потом капсюль где-то со шнуром раскопал и повел меня в дальний конец блока. — По восстающему полезем? — спросил я. — Что ты? — усмехнулся он. — Из восстающего-то зависание сроду не увидишь, давно бы сбили… Прямо в один из люков мы с ним полезли, а когда на крепление штрека выползли, он пальцем куда-то вверх ткнул. — Там! — говорит. Где это там — знали один бог да Гошка. А я сколько ни светил карбидкой, ничего в щели, которая над нами разверзлась, не увидел, кроме пустоты. Щель — место, где жила когда-то была. Снизу, слой за слоем, ее отбивали, а когда доверху дошли, всю отбитую массу через люки выпустили. Но где-то в узкости, видно, осталось, зависло несколько вагонов руды, которую никто не смог взять. Разве что мы?.. — Полезли? — спросил Гоша. — Давай! То, что мы с ним тогда делали, вообще-то говоря, делать не полагается. В отработанное пространство не лазят. И зависание рухнуть может, и стенка отслоиться… Теоретически, конечно. Но мы-то не первый день замужем и понимаем кое-что. Стены этой щели столько уже раз сотрясались от взрывов, что все способное падать давно, должно быть, упало… Должно быть. Подниматься было нетрудно. Одна нога в одну стенку упирается, вторая — в другую. И руки, конечно, помогают. Труднее становилось, когда щель местами расширялась. Тогда распорку приходилось изображать: ноги у одной стены, плечи — у другой. Поднимались параллельно, чтобы камень случайный друг на друга не столкнуть. Мелочь иногда сверху ссыпалась. На спецовке не слышно, а по фибре касок камешки щелкали звучно: цок-цок, цок-цок! Поднялись наконец. Вылезли вровень с зависанием, видно стало, что поперек щели расклинилась плита, а на ней держится куча руды — вагонов двадцать. — Вот оно! — говорит Гошка. — Плиту надо стрелять, а шестью патрончиками ее, паря, однако, не разобьешь… У нас было только шесть патронов аммонита. — Поглядим давай! — предложил я, и мы спустились немного вниз, под самое зависание… — Будет дело! — заявил Ануфриев. Один конец у плиты оказался острый и узкий, отбить можно. Гоша над ним мелочь выковырял и приготовил для аммонита место. Шнура минуты на три всего. — Успеем! Секунды мы смотрели, как горит шнур, чернея и ежась, потом кинулись вниз. В люк Гошка ужом проскочил, а я застрял опять… Он меня оттуда рванул — спецовка затрещала!.. В сторону отбежали по штреку, и показалось, что час прошел, прежде чем руда в люки посыпалась. — Лихо сработали! — засмеялся Гошка. — Спасибо! — сказал я ему. — Фиг бы мне был, а не руда, если бы не ты… — Чего там! — усмехнулся он. Я поехал вниз, снова на третий горизонт, по пути думал, что не важно, какую человек работу выполняет, — печи ли кладет, стихи ли пишет или молибденчик добывает, — важно, чтобы он делал ее как следует… Цены ему тогда нет. Третий горизонт. Время поглядеть, чем «спасители» мои занимаются. Так… Леса внизу нет, подняли. И слышно — в рудоспуск камни падают. Живые они там, выходит, шевелятся. А воздух все еще травят, собаки! С перепугу, должно быть, или спускаться лень? Я наглухо вентиль завернул, и шипение в ходке стихло. — Эй! Живые? — Ые-е… — кричат. И еще что-то, не разберешь. Ну и ладно. …Зои не видно у ствола, только стволовой дремлет, пристал лениться. — Не простудись, милый! — «пожалел» я его и на-гора поехал. Хорошая у нас горка. Сверху — того лучше. Тропинка от шахты к вентиляционному шурфу, куда мне теперь надо, по багульнику бежит. Впрочем, на горе, куда ни пойди, все — по багульнику… И вовсе не ядовитый он. Просто пахнет здорово — разомлел под солнцем, все запахи глушит. На вентиляционном родная моя бригада работает, перекрепляем мы его наново. Давным-давно геологами шурфик был пройден, а и нам пригодился. Вентилятор поставили, сруб вот заменим — еще сто лет стоять будет. Три человека сейчас там, кроме того дорожника, что я вместо себя послал: Леша Самурай, Манылов дядя Саша и Женька Квитко. Вкалывают дружочки, а я вот прогуливаюсь… Так и есть… Лежат все четверо рядом с вентилятором, на солнышке греются. Первым меня Самурай замечает. Никакой он не самурай, конечно, а прозвали так. Уж никто и не помнит за что так прозвали Лешку, но, видно, на всю оставшуюся жизнь приклеилось к нему это слово — Самурай. — Глянь-ка, дядя Саша, — говорит Лешка, — руководство наше двигается. — Ага, — подтверждает Квитко. — И я бачу — щось двигается… — Лебедку требуй! — серьезно советует Самураю дядя Саша, и все они готовятся встретить меня, как положено встречать начальство. Квитко некоторое время ворочается по земле, потом садится и грозно стучит обухом топора по лесине. Он громоздкий, как медведь, а лицо пухлое, детское и все время в улыбке, хотя теперь он, ясное дело, суровость на себя напускает. А Самурай не шевелится, косит на меня диким цыганским глазом. Дядя Саша к вентилятору привалился и курит, будто не видит ничего. Артисты! Приходится принимать игру… — Здравствуйте, товарищи! Как дела? Почему сидим? — Здрасс! — отвечают хором. — Сколько венцов уложили? — бодренько продолжаю я, подражая новому техруку шахты инженеру Копыркину. — Та ни одного! — сообщает Квитко. — Лес сырой. — Так что же? — поднимает нарисованные брови Копыркин, теперь я то есть. — Ждем! — говорит Лешка, всем своим существом показывая, что очень удивлен непонятливостью руководства. — Чего ждете? — Та пока посохнет, ждем, — радостно поясняет Квитко. Я изображаю растерянность, которая была написана на гладком лице Копыркина, когда мы его таким вот образом разыграли. Видно было, как у него извилины шевелятся. В институте он выучил, что крепежник сухим должен быть, а тут глядит — лежат бревна, вчера с корня. Сохнуть им надо месяца полтора, не меньше. Это-то он сообразил как-то и растерялся. Ох, Копыркин, Копыркин! Где их только выводят, таких непуганых? У нас-то он с неделю работает, но ведь в институте на практику ездил, мог бы хоть приблизительно вникнуть, что к чему… Неужели не дошло, что мы сырым лесом крепим? Я опускаюсь на бревна, как тогда инженер, и погружаюсь в задумчивость. — Лебедки опять же нету! — сообщает Лешка. — Грыжу запросто наживешь… — Какую грыжу? — спрашиваю я заинтересованно, потому что неприятный вопрос с лесом как будто отходит в сторону. И смотрю уже весело. Парни не выдерживают… — Хорош! — Самурай говорит. — Ложись айда. Я валюсь вместе с ними на траву и закуриваю. — Вот человек, — удивляется дядя Саша по поводу того же Копыркина, — не украсть, не покараулить! — Ну, — Лешка поддакивает. — Что помер — что замерз! Лихо мы тогда разыграли этого Копыркина. Он так все и принял за чистую монету, пришел к Степанову и доложил, что крепильщики на вентиляционном не работают, а ждут, когда лес высохнет. Слухом земля полнится. Про нашу проделку теперь вся шахта знает. И если мы будем виноваты в несостоявшейся карьере Копыркина, то не очень нам жалко его почему-то. — Четыре венца уложили, — говорит дядя Саша. — Смотреть будешь? — Нет, — ответил я. — Чего там смотреть? — Года три назад вот тоже, помню, — начал Лешка, но на этот раз мы так и не узнали, что тогда случилось, потому что дядя Саша перебил: — Чего это нос-то у тебя? — спросил. Им врать не станешь. Рассказал. — Погоди вот, скоро еще триста человек привезут, навербовали, говорят. Хватим горюшка! — мрачно обобщил Самурай. Верно, работы у нас разворачиваются, люди новые все время прибывают. Скоро и руда будет. А руда настоящая пойдет — все появится: и лебедки, и крепежник сухой… И мы ждем не дождемся этого золотого времечка, но что-то всех нас беспокоит… Боимся мы, по-моему, что не будет у новичков должного уважения к нашей горе, они ведь не пережили с ней того, что мы пережили… — Ты как старовер, Леша, честное слово! — дядя Саша нахмурился. — Агоист… Квитко он наверху собрался оставить, чтобы лес подавал, но я сказал, что свободен пока. — Везде был? — спросил дядя Саша. — Порядок! — успокоил я его. Три каски исчезли — одна за другой — в колодце шурфа, а мы с дорожником остались наверху. Захлестнули глухой петлей первую лесину, подтащили поближе. — Давай! — закричал Самурай снизу. — Бойся! — дорожник ему ответил, и мы стали спускать лесину. Веревку, чтоб не скользнула, перехлестнули через сруб. — Стой! Сейчас они там наш брус отвяжут, а сгнивший прицепят. Не очень глубоко пока от поверхности мы отошли, но чувствуется уже. Вороток надо ставить, лебедки от Копыркина не дождешься. — Бойся! На два ряда сруба лес мы опустили. Больше до конца смены и не уложить. Я пошел в раскомандировку, писать наряд. Стволовая с верхнего приема прокричала, что на-гора выдано сорок шесть вагонов да в шахте еще пара стоит груженых… Сорок восемь. Так-то вот, друг мой Костя!В субботу вечером
1
Перед уходом с шахты я заглянул к Степанову. В кабинете у него сидел Копыркин, Костя ему втолковывал, что надо делать в ночную смену. — Погоди! — сказал мне Степанов. — Вместе пойдем. Я стал годить и смотреть на Копыркина. Слушает внимательно, а глаза пустые. Только ресницами хлопает. Степанов решил передохнуть. — Сколько руды выдал? — спрашивает меня. — Сорок восемь вагонов, — кинул я небрежно. Даже у Копыркина в глазах что-то засветилось. Он мигать перестал и уставился на меня, как на сторублевую деньгу. — Где взял? — Степанову любопытно. — С небес свалилось немного. Копыркин на потолок поглядел. Размышлял, знать, откуда это могло упасть сорок восемь вагонов руды. — Хорошо, — Степанов говорит. — Так вы поняли, Копыркин? — Все понял! — бодрится Копыркин. — Что ты с ним поделаешь? Пошли мы. Степанов на горы прижмурился, когда вышли. — Благодать! — вздохнул. — Тропкой пойдем? Или дорогой? — Дорогой. У пожарки на солнышке силикозники грелись. Веселехоньки! — Привет, начальник! — закричали. — Салют, Коля! К нашему шалашу!.. Я им рукой помахал, и мы дальше пошли к переходу. Из «Зеленого шума» говорок доносился, павильона не видно еще, а шумок идет. Я на берег вышел и едва на своих не наступил: Самурай, Квитко и дядя Саша… Сапоги в воду спустили, сидят на камешках… Перед каждым по стакану стоит и беляшей груда лежит на бугорочке, прошлогодних по виду. Неужто у Клецки закуска завелась? — О-о! — Самурай радостно стонет. — Легки на помине! — Мне нельзя! — смеется Степанов. — Субординация нарушается, ежели с подчиненными пьешь. — Точно! — подтверждаю я. — Нельзя ему… А мне можно. Дай-ка, Леша, я из твоего стаканчика отхлебну. Выпил я из Лешкиного стакана глотка два и водичкой запил. Голубая водичка в ручье — зубы ноют. Степанов наблюдал за мной с интересом. — Больше не могу, — пожалел я. — В гости иду. — А вы, Константин Сергеич? — дядя Саша кудахчет. — Тоже идете? — Нет, — повторяет Костя. — Мне нельзя. — Осподи! — сокрушается дядя Саша. — Да так-то ить и помереть недолго. От сухости-то, бают, силикоз раз в пять скорея заводится… Озадачил он Степанова. — Разве? — тот говорит. — Тогда давай, пожалуй… Он стакан у дяди Саши принял и глотнул только раз, а в стакане и на палец не осталось. Костя с презрением на остатки посмотрел, допил и стакан в ручье выполоскал. — Полегче вроде стало, — сказал задумчиво. — Может, теперь пронесет, дядя Саша, с силикозом-то? — Обязательно! Обязательно! — дядя Саша заверяет. — Первейшее средство. Пенициллин! Дипломаты — сказать нечего! — Подсох лес-то? — неожиданно спросил Костя. — Подсыхает вроде, — дядя Саша прищурился хитренько. — Дак опять же — лебедки нету… Посмеялись дружно. — Где ты этого динозавра Копыркина откопал? — спросил я, когда мы ребят оставили и двинулись через ручей. — А, Костя? — Для сотворения мира, Коля, — ответил он торжественно, — нужны люди самые разные. Ты тоже ведь не сразу в шахте родился? Баптист, ей-богу! И голос подходящий. — Правильно, не сразу… Но и в техруки я к тебе не нанимаюсь… — Тоже верно, Коля, — соглашается он. — Все правильно! Чистый баптист! Три часа дня было. И тепло очень. Веселое время — весна. У общежития мы задержались немного. — В семь жду! — сказал Степанов. — Куда пойдем-то? — Узнаешь! — пообещал он.2
Я пришел в свою комнатешку и сбросил у порога сапоги. Гнусное дело — резиновые сапоги. Ноги всегда влажные. Верный ревматизм через десять лет. И остальное барахло я с себя стянул, в сушилку унес. Есть у нас такая комната, где хранится рабочая одежда. — Ты чего голяком ходишь? — строго спросила тетя Лиза, хотя я в трусах был. Главный человек у нас в общежитии тетя Лиза, она всем родня, и ей все родня. — Тетя Лиза, — я ей ответил, — ты рубаху мне выстирала? — Когда уж я отмаюсь, — ворчит и ковбойку мне бросает. — Поешь, может? Она нажарила картошки. Но после смены никогда есть не хочется. Я ей сказал, что позже в столовую схожу. — Слышь-ка, — она из кухни кричит, — Гришка в город поехал, я ему денег на пятьдесят рубах дала! Привезет, как думаешь? — Все может быть, тетя Лиза, — успокаиваю ее. Все ребята из общежития отдают ей лишние деньги. В сберкассу ведь ходить надо, а тут — своя сберкасса, на кухне: на перерыв не закроется, и деньги всегда есть. Правда, и неудобства кое-какие имеются. Если она засечет, к примеру, что загулял мальчик вглухую, шиш он у нее получит! В комнату я вернулся с рубахой. Ничего у меня комнатка. Койка, стол, стул есть, и винтовка мелкокалиберная в углу. Славная у меня комнатешка! А я, значит, в гости налаживаюсь. Но во что же одеться прикажете, товарищ Степанов? Фрак или смокинг? Тетя Лиза купила мне по великому блату с месяц назад два польских костюма. Красивые костюмчики, в городе бы их носить! Каждый — по сто двадцать. Любит меня старушка, не знаю за что. Одному из всего общежития купила костюмы. Правда, их всего шесть штук привозили, но факт налицо. Так что мой гардероб теперь на зависть всему общежитию. Один, светло-кофейный, я всегда ношу. Штаны в сапоги заправляю, а поверх пиджака капроновую куртку натягиваю. Поскольку костюмы модные, а пиджаки, стало быть, длинные, то полы их сантиметров на двадцать из-под куртки торчат, высовываются. Второй висит пока. Теперь его очередь получается, раз гости… Тем более что и куртку можно не надевать, тепло стало. И ботинки у меня есть узконосые. Старые, конечно, в техникуме еще носил, но почистить ежели, сойдут. — Тетя Лиза! — я закричал. — Носков у тебя нет чьих-нибудь, а? Молчит тетя Лиза. Я в коридор выглянул и увидел, что она по коридору топает к моей комнате. Переваливается с ноги на ногу, как утка, носки тащит. — Женить бы тебя! — говорит мечтательно. — Парень ты справный. Вот как! Произвел, значит, я на нее впечатление в новом-то костюме… А носки она принесла очень даже подходящие. — А что? Мысль хорошая… — согласился я. — Возьму вот и женюсь… — Разладилось с врачихой-то? — она спрашивает. — Что это рука-то у тебя? — Ноготь ушиб, тетя Лиза. — А к лучшему, Коля, — она вдруг объявляет. — Ты о чем это?! Про ноготь, что ли? — Нерусская — опять же сказать. Нет, не пара она тебе, — бубнит тетя Лиза. Ах ты, шовинистка старая! Еле дошло до меня. А может, и верно: «Хороша Маша, да не наша»?.. — Я тебе сама невесту найду, не тужи! — успокаивает она меня. Найдешь, конечно, тетя Лиза… Только вот пальцы, видишь, болят у меня… В душе еще намочил их. Перевязать бы, а чем? В больницу придется идти. Заражение крови может случиться или столбняк, а? Очень же опасное ранение. — До свидания, тетя Лиза. — Иди пока, — разрешает она. — Деньги-то есть? — Есть. — Ну, иди…3
Больница у нас — единственное стоящее здание. Окна — от крыши до фундамента — сплошное стекло. Я через служебный ход шмыгнул по пустому коридору к кабинету Кутузова. Кутузов — хирург. Мы с ним давнишние приятели. Раньше он в Чите работал, чуть ли не главным хирургом области, а потом к нам перебрался, в горы. Легкие у него никудышные. Сначала на фронте попало, а потом туберкулез начался, и никакие антибиотики не помогают. Сейчас он так лечится: пьет ежедневно по кружке меда. Лучше, дескать. А где там лучше, когда худющий, как скелет, и губы спеклись, малиновые. Но держится доктор, не унывает. А хирург он первостатейный, и «бзики» у нас с ним сходные — несуразицы в газетах вылавливаем. Он газету читал, когда я заявился, прием-то у него по утрам бывает… — А, — говорит, — это ты, Коля? Послушай-ка! «Мячина плохо выдаивала коров, и ее на некоторое время отстранили от доярок». Как? — Хорошо! — я сказал. — Просто блестяще! А вы на четвертой странице посмотрите, Иван Александрович… — Ну-ка, ну-ка, покажи! — он заволновался. — Во! «Искусственное осеменение коров — боевое оружие в борьбе с яловостью!» Лихо? У него даже глаза ожили. Газету у меня забрал, отметил где надо и в стол спрятал. Самые активные мы с ним подписчики на «районку». — Здоровье как? — я спросил. — Хреново, Коля. — Может, на курорт бы вам, а? — посоветовал я, сказать-то нечего. — Дурак! — сказал он мне ласково. — К Велте пришел? — К вам! — я ему показал забинтованную руку. — Света! — крикнул он. — Иди-ка сюда, милая. Из кабинета у него ходок есть в операционную. Света оттуда выглянула, и он ей тазик велел принести. Бинт он с меня драл, как кожу с быка! Я даже повыл тихонько. Ногти же — больно. — Ерунда! — говорит. — Не сдохнешь! Замажь ему чем-нибудь, Света, а завязывать не надо. Вот дела… Даже поболеть по-настоящему не дают. — Ты, Света, мне перевяжи все-таки пальчик, — попросил я тихонько. Похихикала, но повязочку сделала. Красивую, не то что раньше была. — А мегеры нету твоей, — Кутузов сказал. — Дома, должно быть. Все понимает Кутузов. И то, что умрет скоро, понимает. До чего же паршиво на душе, когда ты сидишь вот так, здоровый, как лошадь, и о пустяках треплешься с человеком, который умрет не сегодня завтра. И ты это знаешь, а он — еще лучше. Мне Велта говорила, что легкие у него — как решето. Представить страшно! Хирург такой… Велта на него молится. Сама-то и аппендицит, поди, не сможет вырезать. Повезло с ним нашей горке сказочно, да надолго ли? Я обрадовался, когда нежданно пришел дядя Саша. Поскребся за дверью и бочком неслышно влез. В руках бидон эмалированный, литров на пять. — Чего топчешься? — Кутузов ему говорит. — Проходи! — С субботой! — улыбается дядя Саша. — С праздничком, выходит… Хороший старикан. Морщины на лице светятся от доброты. А ведь всю жизнь в горе… Работа суровая. Неужто заболел? Но не жаловался вроде, и по виду — не подумаешь. Как кряж смоловый, не поддается ничему. — Садись, дядя Саша, — Кутузов его позвал. — Захворал, что ли? Дядя Саша и руками замахал от смущения, как мух отгонял. — Что ты, что ты, — говорит, — Иван Александрович! Какая болезнь? Ты вот, сказывают, занедужил, так я медку принес. Свеженький, вчера гнал… Кутузов растрогался, и голос перехватило. — Света, — хрипит, — сбегай на кухню. Сделай чаек, пожалуйста. Знал Иван Александрович, чем дядю Сашу угостить. Почаевничать старик любил и толк в чае понимал. Света у Кутузова как удочка — хоть куда закидывай. Выскочила — будто украли. А Кутузов покряхтел немного и вышел в операционную, разволновался, что ли, а может, время пришло укол себе сделать. С этим он без помощников управляется. — Плохо? — спросил меня дядя Саша. — Сам видишь… — Ах ты, грех какой! — вздохнул он. — Обойдется, может. Бог-то не без милости, а? — Не шепчитесь! — Кутузов из операционной крикнул. — Вас еще переживу, конспираторы! — Ладно бы, ладно бы! — обрадовался дядя Саша. Кутузов только еще из операционной вернулся, а Света уж тут. Чайник фарфоровый тащит литровый, сахар. — Славно! Молодец, Света! — Кутузов ее похвалил, а она уж кружку керамическую ему подает, мне мензурку какую-то, а дяде Саше тарелку и деревянную ложку. Она, оказывается, даже эту причуду стариковскую — чай ложкой хлебать — знает! Впрочем, такой чай, как здесь варят, и в самом деле хлебать можно вместо супа. Сливай — называется. Чай кирпичный для него идет, соль туда добавляют, масло — и не знаю уж что еще. А бидончик дядя Саша тяжелый принес, килограммов на десять, однако. Я с него крышку снял и налил Кутузову в кружку четверти на три. Весь мед выпил Кутузов на радость старику. — Хороший, — говорит, — мед. Совсем прозрачный. И отставил кружку. Доволен старик. — Пей на здоровье, Александрыч! Медок хворь какую хошь выгонит. Должен выгнать. Чай дядя Саша выхлебал и поднялся. — Идти, однако, надо, — говорит. — Спасибо за угощение, Иван Александрович. Благодарствую, Света. — Вместе пойдем, дядя Саша, — задержал я его. И Кутузов поднялся. — Тоже пойду, — говорит. — На сон потянуло, усну, может… — Во-во! — одобрил дядя Саша. — Поспи, Александрыч. Сном да едой — силу не вымотаешь. Бидончик-то пособить нести? — У самого руки есть, — запротестовал Кутузов. Мы из больницы вышли, и Кутузов к себе свернул. Ногами шаркает, ссутулился. Видно, и бидон ему уж тяжело нести. Хорошо, что дом у него совсем рядом с больницей. — Да-а! — сказал дядя Саша и рукой махнул горестно. — Пойду. А Велты-то нет, значит… Дома сидит.4
Степанов живет повыше больницы в финском домике на двух хозяев. Его крыльцо правое. Я аккуратно вытер ботинки о влажную тряпку, расстеленную у порога, и толкнул плечом дверь. — Здрасте! Степановская жена Таня, полненькая такая, уютная хохотушка, геологом на шахте работает, увидела меня — руками по бедрам захлопала. — Коля! — заворковала. — Ты ли? Велта, погляди! Мавр! Сфинкс! Дай-ка я тебе волосы поправлю, — и рукой космы мои пригладила. Детей-то у нее нет, вот она и смотрит, кого бы обласкать. Костю-то немного наприглаживаешь, гавкнет — присядешь. И Велта улыбается: — Аникин, ты сегодня красивый! Вот не думал не гадал, что и она здесь! — Всегда такой! — говорю. Я разозлился на них, и все смущение прошло. — Степанов где? — Ну вот, не успел прийти — «Степанов где?». Ты с нами-то посидеть не хочешь, что ли? Придет твой Степанов, — Таня наговаривает. Сел, смотрю на них. Принаряженные обе: кружавчики, рюшечки. С собой, видно, Костя их собирается тащить. И Велту пригласил. Тоже мне, сводня! А может, это все Татьяна придумала? Она, конечно. Велта, похоже, тоже не знает ничего. Не заметно, чтобы смущалась, но говорит с большим, чем всегда, акцентом. И красивая — засмотреться можно. Волосы белые, будто ветер разметал — часа два небось промаялась, беспорядок устраивала… Глаза — в половину лица. «Остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер». Как ни крути… Латвия. Степанов явился, четыре бутылки шампанского при нем. — О-о! — Велта сказала. — Шампанское всегда есть праздник! Куда-то мы по тропочке, по камням за поселок двинулись. Там вроде и не живет никто, бурундуки разве… Но Костя уверенно идет, знает куда, выходит. И верно! Аккуратный домик открылся за грядкой лиственниц. Чистый терем-теремок. Озерко крохотное, как блюдце, под самыми окнами в камнях. Ручей тонюсенький из него сочится, искрит на солнышке. За домиком — огород с клумбу, земля — из долины, конечно, привозная. — Сказка! — восхитилась Велта. — Здесь живет штейгер Пелагея Ипатовна Матвеева, — сообщил Костя. — Прошу! Что-то я слышал про эту Ипатовну! В горе всю жизнь проработала, кажется. А в старину штейгер — это вам не Костя Степанов, шапки перед ним горняки ломали за полсотню сажен. Что же я слышал-то про нее? — А она тебя приглашала, Костя? — закралось у меня подозрение. — Нет, — он спокойненько отвечает. — Визит дружбы! Представляться иду. — Погодите-ка! — остановил я женщин. — Побудем пока здесь. Пусть «представится»… У озерца, подле самой воды, стоял стол с длинными лавками. Я дам усадил и сам сел, а пакет с вином на стол выложил, чтобы в руках не держать. Костя потоптался, как бык, на окна теремка распахнутые посмотрел и двинулся к воротам. Только не успел он. Из калитки сама вышла Пелагея Ипатовна. Я как на нее глянул, сразу Татьяне шепнул, не поворачиваясь, что маленькая женщина — подарок мужчине. — Ага! — она в ответ прошептала. — Маломощному… Если Татьяну и Велту одну на другую поставить, то они и тогда с Костей бы не сравнялись, а Пелагея Ипатовна росту одного с ним была, поплотнее только и в плечах пошире. И лицо у нее как у боярыни Морозовой, когда ту в ссылку везли. — Здравствуйте, Пелагея Ипатовна, — Костя ей говорит. — Я — Степанов, начальник рудника. Она на него не взглянула даже, обошла, как столб, и к нам направилась. «Вай-вай», — подумал я. — Че это? — она у меня спрашивает и приказывает сразу же: — Раскрути! Велта потом утверждала, что руки у меня дрожали, когда я пакетик с вином распаковывал. — Кхе, кхе, кхе! — Пелагея Ипатовна покряхтела презрительно, но руку Косте протянула. — А это, — он меня представляет, — горный техник Аникин. — Николай, — ладонью по плечу меня хлопнула — чуть не упал. Новость это для меня. Знает, выходит, откуда-то… Женщины наши встали. Татьяна поклонилась по-русски, а Велта книксен сделала. Пелагея им кивнула, как пустому месту, и в дом ушла. А через минуту я опять едва через скамейку не опрокинулся, из ворот вышла Зоя, та, что нашатырем меня в шахте отхаживала. Тарелочки какие-то принесла, чашечки. — Вы, — говорит, — Константин Сергеевич, на маму не сердитесь. Так это она… — Цыц! — Пелагея ей из окошка кричит, но Зоя засмеялась только. Впервые я ее без спецовки увидел. Тоненькая, как камышина, коса черная — до пояса. Лицо матовое, будто на монете выбитое, и что-то в нем такое есть, то ли горское, то ли цыганское. Прелесть! А Пелагея, стало быть, мама ее… — Нравится? — Костя о Зое спрашивает, взгляд мой перехватил. — Да, — я признался. Очень ему такой оборот, гляжу, подходит. — Милые люди! — он говорит со значением. — Только незаметно, что ты здесь часто бываешь… — Мало ли… — не сдается он. — Зою-то я давно знаю… Вот оно что!.. А я-то гадал, с чего бы это ему к Ипатовне вдруг понадобилось, да и со мной обязательно. Разозлился я тогда на него. — Татьяну свою не знаешь, — говорю. — Всыплет она тебе… — Перебьюсь, — он говорит. — Никто ее не просил Велту приглашать… — Как же это вы не согласовали, благодетели? — я зашипел. — Дурака из меня делаете? — Ладно, ладно, — он меня успокаивает. — Замнем. Для тебя же старался. Нет, каковы благодетели, а? Интересно все потом вышло. Пелагея Ипатовна стаканы принесла, настоечку какую-то с травкой в бутылке, целебная, видать, не иначе… — Телятам то пойло пить! — это она про вино сказала. Старичок-боровичок к нам присоединился, прямо из окошка вылез, лесом от него пахнет, в портках белых. Седенький, маленький. — Мой! — объяснила Пелагея Ипатовна кратко. Смех меня взял. «Дедушка, — я подумал, — как же ты живешь-то с ней, милый?» А Зойка — в папашу. Оторопь берет, когда думаешь, что в маму могла уродиться. У озерка хорошо. Дымком откуда-то наносит. Женщины песни запели. «Пару гнедых» и «Выткался на озере…». Зоя гитару принесла, подыгрывает потихоньку. Костя даже с Пелагеей Ипатовной беседу про шахту прекратил, слушает. А я — назло Велте, чтобы не смотрела укоризненно на каждую рюмку, старичка-боровичка спаивал, все ему подливал, а он мне… Так и жили… — Будет! — Пелагея Ипатовна вдруг закричала. — Тальянку, Васька! Старичка-боровичка этого Васькой она звала.Милый мой похлебку пролил,
Рассердился, съел горшок…
Оха, оха, оха,
Без милого плохо.
Куда ни становися,
Кричат: «Посторонися».
Оха, оха, оха,
Без милого плохо…
Вся сбруя обвешана
Золотыми кольцами.
Со шпаной не знаюся,
Только с комсомольцами.
И-и-и!.. И-и-их!
Плывун
1
Когда Степанов место под баню выбирал, понравился ему один склончик рядом с ручьем. Веселый склончик, весь в багульнике, лиственницы кое-где… Плотники фундамент выложили и сруб уложили. Выстроили, можно сказать, баню подходящую. По очереди в ней мылись: день — мужчины, день — женщины. Мы с Костей, когда в воскресенье туда пошли, веники по дороге наломали. Он париться любил и лично наблюдал, как каменку и топку в бане выкладывали. Хитро там все придумано: каменка в парилке, а топка за стенкой. И котел паровой есть, но пар из него не берут, только воду. Пар в бане сухой должен быть, с камней. Федя-контрабандист нас встретил, обрадовался: — Постричь? Побрить? Интересный у нас парикмахер в бане. Спиртоносом на приисках, что ниже по ручью располагаются, промышлял в молодости. Контрабандой по-крупному занимался, в Китай на тройках гонял. Туда — золотишко, обратно — шелк, спирт в баночках запаянных. А посмотришь — не поверишь: человек как человек, только сидеть не может: либо стоит, либо лежит. Вкатили-таки в свое время корешки пульку ему в позвоночник. С тех пор и выпрямился, не сгибается. Лавку для себя специальную в парикмахерской держит. Когда устанет топтаться вокруг клиентов, на нее валится как подрубленный, не сгибаясь. И вскакивает — прямой сразу, как ванька-встанька. Когда мы пришли в баню, он лежал как раз. — Обойдемся! — сказал ему Костя. — После бани уж, ежели что… — Ну-ну, — согласился он. — Парок хороший сегодня, Константин Сергеич. Хороший парок! Степанов уверен, что баня у нас лучше сандуновской. Не знаю, как там, но здесь — по пути все. Мы сначала в душ пошли, головы намылили, мочалками спины потерли друг другу и веники сполоснули. Потом Костя мне заявил, что если не убегу из парилки, то он меня за человека держать будет. — Спасибо! — поблагодарил я его. — Но не обещаю… Уж я-то знал, что предвидится, не первый раз. В парилке было пусто, а полок оказался мыльный, скользкий. Степанов взбеленился сразу. В кочегарку прокричал (труба там переговорная есть, как на корабле), что если директор бани еще кого-нибудь в парилку с мылом пустит, то он ему самому устроит «баню». — Хорошо! — кочегары ему отвечают. — Передадим! А камни на каменке только что не светятся, так раскалились. Степанов шайку воды набрал и полез с ковшиком на самый верх, а я остался внизу. До камней вода, по-моему, из первого ковша и не долетела, раньше взорвалась. У меня уши сразу, как кипятком, обварило, а Степанов уж опять плещет… Но в общем-то здорово это — разочек в неделю попариться, грязь шахтовую смыть. Тело пощипывать начинает, а ты воздух на него каленый гонишь, пришлепываешь веничком.Оха, оха, оха,
Без милого плохо!
2
Копыркин встретил нас на пороге раскомандировки, в каске стоит, перепуганный. Пока Степанов в шахту звонил, я тоже оделся. — Ниже второго горизонта — так и есть! — сказал мне Степанов. — Поезжайте с Копыркиным, посмотрите, а я людей пока соберу, лес подбросим… — Пошли! — позвал я Копыркина ласково. — Счетовод ты, а не инженер. Твое это дело, между прочим, людей вызывать и ликвидацией аварии руководить. Не слыхал? Молчит. Но рад, видно, что хоть ясность какая-то появилась. — Ствол смотреть будете? — спросила стволовая на верхнем приеме… — Да, — Копыркин говорит. — Очевидно… Она клеть приподняла так, чтобы крышка вровень с площадкой встала. Я прошел и встал на крышку, Копыркин на меня посмотрел удивленно, но тоже вошел и за канат сразу уцепился, на котором подвешена клеть. — Так на крыше и поедем? — спрашивает. — Спускай! — кивнул я стволовой. Когда ствол осматривают, очень медленно клеть опускают, еле-еле. Но из нее все равно ничего не увидишь. А если сверху стоишь — ствол вокруг тебя виден хорошо. Всегда так осматривают, но без привычки страшновато… Копыркин все вверх заглядывал, боялся, что камешек прилетит или еще что-нибудь. — И это бывает! — успокоил я его. — Останови-ка, тетенька! — Это мы доплыли до второго горизонта и увидели тетю, которая меня племянничком называет. — Что это там, господи? — спрашивает она. — Бухает и бухает! Как с пушки… — Сейчас посмотрим, — успокаиваю. — А ты слушай очень внимательно и сигнал из рук не выпускай. Усвоила? Поехали. Еще тише, чем раньше. Хлопнуло под нами разок. Действительно, на пушку похоже. Резкие пушечки есть, звуком фонари в траншее гасят, я в армии видел. Вот и у нас карбидки потухли, качнуло воздух… — Стой! — сказал я негромко, думал, не услышит тетенька, но она услышала. Заверещал сигнал, и клеть сразу остановилась. Когда карбидки зажгли, я взглянул на часы. Три пятнадцать было. — Теперь вниз потихоньку! Поехали. Все слышит тетя. Молодец! Венец вывернутый внизу показался, но удачно, кажется. Клеть пройдет, пожалуй, подумал я, и еще немного решил опуститься, чтобы поближе все рассмотреть. Копыркин не выдержал, закричал, чтобы остановили. Но не тут-то было. Как шла клеть, так и идет. Мало ли кто верещать начнет, что же, стволовой всех слушать? Не игрушки же. — Еще раз вякнуть можешь… — разрешил я ему. — Конечно, — он говорит. — Ты им свой брат. Рабочий. Меня они так никогда, видно, и не будут слушать… Посмотрел я на него: надо же, о чем человек в двух метрах от плывуна думает! Но, должно быть, действительно допекли мы его разными шуточками, скис совсем… — Притрешься, не трусь, — сказал я ему. — Не вдруг Москва строилась. — Ты так думаешь? — обрадовался, чудак. Остановил я клеть, в ходовом отделении обшивку ногой вышиб и вылез туда, чтобы ниже опуститься. Интересная картина нарисовалась. В стенке ствола, в граните — щелка продолговатая с рваными краями, а из нее, как из тюбика с пастой, лезет желтоватая масса. Неторопливо. Вроде кто-то там, очень уж ленивый, тюбик жмет. Накапливается капелька на уступчике, накапливается, перевешивается… «Шурх!» — полетела. «Хлюп» — упала. Сколько же она накапливается? Заметим на часах… Так… Около шести минут выходит… На клеть я обратно вылез. Копыркин стоит как стоял, вниз заглядывает. — Чего там? — спрашивает. — Ужас! — доложил я ему, все еще подшучивая по инерции, но он ничего, не обижается больше. В это время следующая порция глины вниз улетела. — Книзу, тетя! — крикнул я нагоризонт. — Быстрее! Как груз! Копыркин ахнуть не успел, а мы уж вниз едем, по поврежденному венцу крепления только слегка скребнули. Вот тут действительно жутковато, когда знаешь, что над головой у тебя порядочный шматок накапливается, чтобы упасть. Но должен я был посмотреть, кто на водоотливе горизонта дежурит, или не должен? Зоя, конечно. Как чувствовал! Она ко мне подбежала — и плачет, и смеется. — Ой, Коленька! Мне клеть на второй горизонт отправлять надо, иначе лепешку из нее сделает, а Зойка руку не выпускает. — Коля, — всхлипывает, — я тут вспомнила, что мы тараканов в детстве запрягали. Сбрую им шили из ниточек… Только я клеть отправил и отбежали мы от ствола, зашуршало там по креплению… Ого! Ствол шахты ниже горизонта заглублен метра на полтора, туда, в ямку, пока хлюпает. А если бы эта «граната» на уровне горизонта лопалась? Метров с сорока ведь летит… — Насосы не бросишь, — объясняет Зоя. — Шахту же затопит! Как будто я этого не знаю, но она, кажется, сама не понимает, что говорит. — Историю слыхала? — прерываю ее. — Ка-акую? — А вот, — говорю, — мечтал один товарищ собрать все лужи в одну лужу, а все камни — в один камень. Подняться на самую высокую гору и бросить с нее камень в лужу. Вот бы, думает, булькнуло! И что же? Сбылась, как видишь, мечта идиота. А почему? Потому что все мечты сбываются!.. Улыбнулась, слава богу! А я стал звонить Степанову. — Плывун? — спрашивает Костя. — Он! — Выезжайте! Поговорили, называется. — Что Степанов? — интересуется Копыркин. — Выезжать велел. — Я посмотрел на Зою, очень мне ее здесь оставлять одну не хотелось. — Выезжайте! — вдруг говорит Копыркин. — Я за насосами присмотрю, пока замена спустится. Вот уж чего не ожидал от него. Я посигналил наверх, когда очередная капелька приземлилась, и нам с Зоей подали клеть. — Не скучай! — крикнул я Копыркину. — Сейчас дежурного слесаря пришлю. Улыбнулся он и головой покивал. Подумать только! На верхнем приеме рабочие уже одетые стояли, лес приготовленный лежал, рельсы. — Дыра большая? — спросил Степанов. — Метра три. Пустяки! — Конечно, — согласился он. — Только ведь и ее рукавицей не заткнешь… А Копыркин где? — Внизу остался. Взглянул он на меня, но ничего не сказал, а механикам велел послать на горизонт пешим порядком слесаря — сменить инженера. Набилась полная клеть. Меня в дальний угол зажали. И все наши рядом — Самурай, Квитко, Гошка Ануфриев. Сейчас мы на втором горизонте вылезем и к плывуну уже по ходовому отделению подкрадываться будем, а клеть уйдет вверх. Там ее нагрузят лесом и рельсами, потому что рукавицей плывун, конечно, не заткнешь… Наверху остался распоряжаться дядя Саша. Все, что потребуется, он найдет и вовремя нам спустит. Можно не сомневаться.«Она бессильна…»
1
Что же сказать? Законопатили мы тот плывун, куда ему деться? Помордовал он нас, конечно. Не без того. Видели вы когда-нибудь, чтобы каша рельсы гнула? Ну, не пшенная, конечно, из глины, камешков и песка, но каша. Мы дырочку, из которой она ползла, заборчиком забирали постепенно. Вставишь бревно — расклинишь, потом следующее. Форменный забор, только вместо досок — бревна и рельсы. Мы ставим, а плывун выдавливает. Или ломает… — А хорошая же работа у меня была, братцы, — Степанов нам тогда поведал. — У геологов я трудился на Северном Кавказе. Начальником горных работ. Трое только рабочих, канавку разведочную копают. В полдень на ишаке подъедешь, посмотришь… Кругом птицы поют, летают с ветки на ветку… Самурай тоже какую-то «историю» вспомнил, когда сразу несколько бревен выдавило. Посмеялись. Он нам чаек периодически варил, чтобы работали веселее. — Чай не пьешь — какая сила? Самое прекрасное в жизни — конец работы, если сделал ее на совесть. Иногда, правда, бывает, что радоваться и сил нет, но это уж детали. Навечно плывун мы закрыли и наверх поехали. А там день, оказывается, машина больничная стоит. Я уж подумал — случилось что-нибудь, потом догадался — нас ждут, а машина, значит, на всякий случай… Ну до чего же родными все мне показались! Озабоченные, переживают. Даже силикозники от своей пожарки притопали, помогать, стало быть… Ах вы бродяги! Обнять мне их захотелось. Даже Копыркин, милый человек, гляжу, бодро расталкивает всех, чтобы мы в душевую прошли без задержки. Подмигнул я ему как человеку причастному… — Все! — Костя объявил. — Порядок! И Кутузов приехал? Он, точно! Сидит в сторонке на камешке, газету изучает. — Как дела, Иван Александрович? — спрашиваю. — Есть, — говорит, — одно объявленьице. «Потерялась овчарка, сучка. Черная. Знающих просят сообщить…» — Неплохо! Такие объявления тоже в сору не валяются… Он головой кивнул, а меня вдруг качнуло, сел прямо на землю. Улыбаюсь, чувствую, а встать не могу. Зойка ко мне из толпы бросилась, чуть Степанова не сбила, за рукав теребит. — Что с тобой? — кричит. «Вот дела-то! Любит ведь она меня, — понял я вдруг. — Ай-я-яй!» Квитко меня тормошит, а я сижу как пень и улыбаюсь. Смешно мне на него смотреть — грязи комок, а не человек. Себя-то я не вижу… — Оклемается, — хохочет Кутузов. — Под душ тащите! Видит, собакин сын, что руки и ноги у меня при себе. — Пойдем, — говорит Зоя. — Я помогу. Не тут-то было, девушка! Ноги у меня какие-то ватные, и вижу я, что из машины Велта выпорхнула, а за ней пичуга какая-то с чемоданчиком. Вспомнил — помощница Кутузова, чаек еще она нам как-то спроворила. Света, Света-удочка. — Отойдите, пожалуйста! — сказала Велта Зое и рукой ее небрежно так отодвинула. Не понравилось мне это, но Велта уже приказала. — Света, кофеин! Вытряхнули они меня из куртки, рукав у последней рубахи разодрали, но тела-то все равно не видно — грязь сплошная. Как-то проскреблась все-таки Света ваткой до кожи и иголку ткнула. Тут я и очухался. — Идите-ка вы! — сказал им и пошел в душевую. Шмотье мы с себя в угол свалили. Не разберешь, где штаны, где куртки — куча глины лежит. А потом открыли в кабинках воду и уселись на решетках. Я с полчаса, наверное, посидел и к Косте в кабину заглянул. Смотрю, он кулак под голову сунул, навалился на перегородку и спит. А вода по нему хлещет — кипяток. Как только не сварился? Растолкать хотел — дудки! Я воду закрыл — и к другой кабине. Так и Квитко же спит, бандит! И Самурай. С ума сойти! Мне Велта после растолковала, что сам-то я не заснул потому лишь, что кофеин получил. Заорал я там в душевой как зарезанный. Дядя Саша прибежал, взглянул на всех — и обратно. Ну, скажи, не выжился, сивый черт? Позвал Велту, копытят прямым ходом в душевую вместе со Светой и чемоданчиком. — Куда претесь?! — крикнул я им. Велта споткнулась, но хода не сбавила. Быстренько они мальчиков расшевелили. Степанов, когда уяснил обстановку, рукой прикрылся и велел завхоза позвать. — Бегом! — кричит. — Хэбэ тащи! Бегом! Тот крутенько приволок нам со склада новые хлопчатобумажные костюмы. Мягкие, как пижамы больничные. Мы их прямо на голое тело натянули, а завхоз нам всем уже сапоги новенькие тащит и портянки. Во прохиндей! В другое время у него рукавиц не допросишься, а тут — расщедрился. Вышли мы на волю, а там народ как стоял, так и стоит. Теперь уж я им объяснил, что уходить можно, показывать здесь больше ничего не будут. Смеются, а не уходят. Велта хотела нас на машине подвезти, но мы отказались. Вокруг горы ехать долго. Пешочком через переходик — ближе… — Отгул — два дня! — сказал Костя тем, кто не менялся, пока плывун не успокоился. И пошли мы потихоньку тропочкой через багульник, мимо пожарки, мимо фабрики. Концентрат там как раз грузили в машину. Аккуратные мешочки, каждый полцентнера. Сейчас их на станцию повезут, а потом пассажирской скоростью… Много людей вместе с нами шло. Лишь Соня Клецка из своей сараюшки удивленно глядела…2
Дня через три после всех этих событий мне в общежитие позвонил Кутузов: — Газету имеешь? Принести должны. — Лодырь ты! — он меня укорил. — Самому надо на почту ходить. А так ты все на свете проспать можешь. — Что случилось-то? — Сейчас, — он объявляет, — прочту я тебе концовочку из одного волнующего произведения. Паузу он соответствующую выдержал и читать стал с выражением:— «Шахта уходит в гору. Шахта вгрызается в гору. Люди вгрызаются в гору. В самое сердце, туда, где спрятала она дорогую руду. Гора сопротивляется, гора не хочет отдавать свои богатства. Она щетинится угрюмыми лиственницами, швыряет в людей камни. Но люди упорны. Они расчистили камни на склоне и построили жилища. Они пробили в глубь горы длинную выработку и назвали ее шахтой. По утрам, когда серый рассвет освещает окрестности, взрывы в глубине горы сгоняют с ее вершины запутавшиеся в лиственницах тучи. Гора глухо вздыхает. Но она бессильна. Она отдает руду. Люди победили гору. Обыкновенные люди!»— Ох! — восхитился я. — Прелесть какая! Про нас? — Про нас… — изрек он мрачно. — Про тебя сказано, что грамотный ты рабочий. — Да ну? А кто написал-то? Поэт? — Ан. Федоров написал. — Анатолий, стало быть, или Андрей? — Вот-вот… Или Антон. В копилку я его сейчас устрою, — говорит Кутузов, — на видное место. — За что же это? — взвинтился я. — Прекрасный же конец! «Гора глухо вздыхает, но она бессильна…» — Вначале он еще лучше пишет, — соглашается Кутузов. — Прочесть? — Ясное дело! — Пожалуйста: «Усилия бригады крепильщиков тов. Манылова сдерживал недостаток половых досок». — Ой! Может, из другой статьи это, а? Даже словечка Кутузов мне не сказал. — Слушай, Иван Александрович, — стал я его просить. — Простим давай! Ну, бывает. Перепутал человек шахту с ЖЭКом. Но ведь в самом деле был момент, когда очень не помешали бы нам две соточки, скажем… — Что это — «соточки»? — спрашивает он. — Доски такие. Сто миллиметров толщина у них. Не половые, конечно, но доски же! — Нет! — уперся Кутузов. — В копилку! И не уговаривай! — Хвалит, опять же… Не ругает ведь? — Хвалит, ага, — бурчит Кутузов. — Парень талантливый. Пишет еще, что «плывун просачивался сквозь плотные щели крепления». Тут уж я понял, что ничего не поможет Ан. Федорову, быть ему в копилке. Ничего мне не сделать для него, если «плотные щели»… — Ну? — спрашивает Кутузов. — Что же делать? — вздохнул я. — Клади в копилку. Действительно, очень уж неровно пишет товарищ.
Река непутевая
1. Ледоход
Мостостроителей было трое — мастер Смирнов, начальник отряда инженер Гаврилов и рабочий Сирота. Остальных людей Гаврилов отпустил на Майские праздники. То утро застало оставшихся на берегу. Солнце вылезло из-за увала на другой стороне Ишима, ударило в хмурые лица. Мастер Смирнов отвернулся, а Гаврилов натянул поглубже на лоб свою модную, шитую из искусственного меха кепку, переступил озябшими ногами и оглядел опоры при солнечном свете. Всего их было шесть, но он смотрел на те четыре, что одинокими изящными колоннами поднимались с речного дна. В эти четыре Ишим беспрерывно бил льдом, их могло срезать в любую минуту. — Мутная, непутевая река! — угрюмо сказал за спиной инженера Смирнов. Гаврилов не ответил. Ему показалось, что центральная опора качнулась, в нее с ходу врезалась крупная ноздреватая льдина. Разом прервав бег, льдина поднялась на дыбы, глухо хряснула и разломилась, подняв фонтаны грязной воды. Инженер поморщился, как от боли, и перевел взгляд вверх: оттуда шло новое ледяное поле. — Каток! — подал голос Сеня Сирота. — Жалко — коньков нету. — Еще одно кольцо затопило, — сказал Смирнов, старавшийся не замечать опасной льдины. Морщины на его лице углубились. — Два! — машинально поправил Гаврилов. — Всего десять. — Инженер любил точность. Они определяли подъем воды по бетонным кольцам, опоясывающим опоры. Кольцо — полметра. За три часа вода поднялась на пять метров. — Считай не считай… — оправдался Смирнов. Гаврилов устало прикрыл глаза, но это не принесло облегчения. Голубоватые льдины продолжали плыть перед глазами, сливаясь в бесконечную, сверкающую под солнцем ленту, кружилась голова. Инженер покачнулся, расставил пошире ноги и поднял тяжелые от бессонницы веки. Льдина приближалась. Он на глазок прикинул ее вес и повернулся к своим людям. Сеня смотрел на начальника, будто ожидал, что тот остановит льдину. И Смирнов тоже — ожидал чего-то… Гаврилов хотел сказать им, что чудес не бывает, но передумал и улыбнулся, хотя льдина весила не меньше двадцати тысяч тонн, а опоры рассчитывались на удар не более трех сотен. Правда, инженер видел, что течение еще не успело разогнать льдину до опасной скорости, она слишком велика и пока только упрется в опоры, но пройдет время, поднимется еще выше вода, подопрет сзади мелочь… Пятнадцать дней назад Гаврилов отослал председателю местного райисполкома телеграмму:«Связи приближающимся паводком прошу обязать взрывные организации района взорвать лед перед опорами моста, строящегося через реку Ишим».А вчера он натянул высокие резиновые сапоги и пошел в степь. Снег садился буквально на глазах, над степью заливались жаворонки, а в логах ревела вода. Гаврилов начерпал в сапоги, вернулся и послал в район аварийную телеграмму. Он понял, что если взрывников не подошлют к утру, будет поздно. И вот это утро пришло, а взрывников не было. Из района реку не видать, потому, должно быть, там не спешили. Льдина, царапнув скалистый береговой выступ, развернулась и мягко уперлась сразу в три опоры. Сеня Сирота спустился с обрыва, потыкал в льдину носком сапога, потом зашел на нее и двинулся к опорам. Он не дошел до них метра два и повернул обратно. Льдина была прочной, как монолит, такую не размоет — нечего и думать. Ниже затора река очистилась, только в водоворотах еще кружились редкие льдины. С противоположного берега отошла лодка, полная людей. Течение подхватило ее и понесло вниз. С берега кто-то длинно кричал, советовал что-то гребцам. Гаврилов усмехнулся: едва ли они что-нибудь слышали в этом содоме. Берега Ишима напоминали таборы, толпы людей, кони, машины. Кое-где горели костры. Десятками лет вот так маялись здесь люди. Десятками лет на месяц весной, да на месяц осенью отрезались напрочь друг от друга две хлебные области, тонул зазря торопливый народ. Так что же, снова отсрочка? Инженер с надеждой посмотрел на дорогу на той стороне реки, но там было пусто. Сколько могут продержаться опоры? Ну час, ну, предположим, пять часов. А потом? Меньше всего инженер Гаврилов боялся личной ответственности, ему невыносима была мысль, что пропадает труд людей. Они отдали этому мосту год жизни. — Что будем делать, Смирнов? — А что хошь, то и делай, — пробурчал мастер. — Ломиками ее не раздолбишь. — Стихия! — вставил Сеня. — Ташкент форменный. Гаврилов повернулся и молча пошел к машине. — К геологам подался, больше некуда, — определил Смирнов, когда «газик», раскидывая грязь, скрылся в степи. — Не дадут! — засомневался Сеня. — Он у них позавчера был. — Позавчера — не сегодня, — трезво возразил Смирнов. — Им этот мост тоже нужен. Неси ломы, лунки под заряды бить станем. Солнце поднималось над степью, сгоняя остатки снега. Над холмами струился воздух, душно пахла оттаивающая земля, а от реки несло стужей. — Сволочь — река! — кряхтел Смирнов, спускаясь с крутого обрыва к льдине. Он спускался и продолжал думать о том, что добираться Гаврилову к геологам непросто и долго. Успеет ли?
2. Через болото
Гаврилов остановил машину перед болотом. Оно лежало за радиатором громадным ржавым блюдцем, на противоположном берегу синели невысокие горы. Там геологи. Два пути вели к синим горам… — Влево пойдешь — голову потеряешь, — усмехнулся Гаврилов. — И вправо — голову. И назад — тоже голову. Хорошо, что у меня их не три. Два дня назад Гаврилов уже был у геологов, закидывал удочки насчет взрывчатки. Сказали, чтобы не рассчитывал: у самих, мол, на день-два, а когда забросят — неизвестно, во всяком случае, не раньше, чем установится дорога. А дорога эта — охо-хо! Пойдешь — наплачешься! Инженер окинул мысленно весь сорокакилометровый путь к горам по берегу болота, пройденный им дважды в течение одного дня, и содрогнулся. Вперед тогда он проскочил по утреннику сравнительно благополучно, если не считать трех — пяти буксовок в канавах, промытых ручьями, а когда ехал обратно, дорогу уже распустило. Чтобы преодолеть сорок километров, ему понадобилось десять часов… — Не пойдет! — твердо сказал Гаврилов и шагнул в болото. Это был второй путь. Прямиком до гор — километров пятнадцать — восемнадцать… На чистых местах в болоте лед сверху уже разрушился и покрылся пленкой воды. Выдержит он машину? Инженер прошел в глубь болота метров двести, остановился и ударил несколько раз каблуком сапога в лед. Любопытное заключалось в том, что еще около моста он решил, что поедет болотом, а вот подъехал и ходит, принюхивается, приглядывается. Гаврилов взглянул на себя как бы со стороны, прищурился и хмыкнул:Мама, мама, это я дежурю,
Я дежурный по апрелю…
Мама, мама…
Мама, мама, это я дежурю…
3. У Семи сосен
Место это так и называлось — Семь сосен. Они особняком росли на склоне, а ниже лежало болото. Болото когда-то было озером, а потом его затянуло мхом и осокой. В летнюю пору оно кишит бездонными промоинами-окнами, прикрытыми нежной обманчивой зеленью, а сейчас рыжо. Солнце согнало с болота снег, но оно все еще сковано льдом, и лед этот не растает под слоем умерших трав до середины лета. Хочешь — мох дери для строительства, хочешь — клюкву собирай, не провалишься. Лед крепкий, человека исправно держит. Человека, до не машину. А старый взрывник Фрол Сучков, присевший по дороге на штольню перекурить в тени сосен, обнаружил на болоте именно машину. Сучков полулежал на склоне, навалившись на сумку со взрывчаткой, и курил махорку, приправленную для запаха вишняком. Одет он был в брезентовые штаны и куртку, на ногах — резиновые чуни, прихваченные шпагатом, чтобы не спадывали. Заметив машину, Фрол стянул с головы облезлую кожаную шапку, которую упорно носил в штольне заместо каски, и поскреб желтой от аммонита рукой макушку. — Блазнит! — решил взрывник и отвернулся. Он потеребил прилипшую ко лбу грязно-серую челку, тоже местами пожелтевшую, и обвел взглядом склон. Все было на месте — и жилухи, и устье штольни, обложенное для крепости красным кирпичом. Фрол глубоко затянулся, дунул на вспыхнувшую самокрутку и повернулся к болоту. Смотрел, словно происходило обыденное. Машина приближалась, огибая опасные места, росла на глазах. — Ай медведь? — сказал вслух Сучков, хотя отчетливо видел, что по болоту идет «газик» с серым брезентовым верхом. Морщинистое малоподвижное лицо Сучкова ничего не выражало, но он поднялся и, оставив на месте сумку, зашагал к крайней избенке, где располагался начальник инженер Голубович. — Потонет! — сказал Фрол Голубовичу. — Сколь не потрепещется, а потонет — конец известный. Голубович, молодой прямоносый парень с растрепанными русыми волосами, поднял голову от какой-то своей писанины, вскинул на Сучкова отсутствующие глаза и расстегнул ворот застиранной ковбойки. — Что-что? — переспросил он. — Думал — блазнит, — объяснил Фрол. — А-а, — сказал Голубович и стал писать дальше. Инженер писал письмо подружке, вернее, переписывал, тщательно следя за формой и содержанием.«Синенькая, — писал Голубович синей пастой, а потом менял стержень в своей четырехцветной ручке и дальше продолжал черным. — Мы уже заложили вторую штольню, но нет кирпича, и свод рушится. Ты не представляешь, как я скучаю без тебя, Синенькая…»И во втором случае инженер не забыл сменить стержни. Разноцветное письмо казалось ему более выразительным. — Пал Палыч, — сказал Сучков. — Машина на болоте тонет. Может, успеем сколь-нибудь помочь. Голубович очнулся, бросил письмо и вышел из избы. «Газик» подошел почти к самому берегу и остановился, потому что подле берега лед был разъеден ручьями, впадающими в болото. Из машины выбрался Гаврилов и замахал руками, подзывая поближе. — Мостовики! — узнал Голубович. — Видно, мост режет… — Ишь ты! — сказал Сучков. — Жизни не щадят люди. — Придется помогать, — вздохнул Голубович. — Сколько взрывчатки у тебя? — А вся в сумке! — кивнул Фрол. — Ты как? — инженер не смотрел на взрывника. — Так надо же, — сказал Фрол. — За пилой сбегаю! — вздохнул инженер и пошел к складу. Фрол Сучков надел шапку, которую до сих пор держал в руке, и отправился на берег. Вскоре Голубович пришел к соснам с пилой и топором. — Жалко! — сказал он. — Известное дело, — пробурчал Фрол. Они прикинули, как ловчее свалить сосну, чтобы достала до твердого льда, подрубили и стали пилить. «Не голова пала!» — бормотал Сучков, подбадривая себя. — Было семь, стало шесть! — подвел он итог, когда сосна заскрипела и, прошумев вершиной, рухнула, ломая собственные ветви. — Семь и будет! — возразил инженер. — На карте написано — семь! — Только что — на ей! — согласился взрывник. Вершина пришлась метрах в десяти от машины. Гаврилов бросился, намереваясь выбраться на берег. — Оставайся там! — заорал Голубович. — Принимай старика! Сучков вырубил палку для опоры, закинул за плечи сумку и засеменил чунями по медному стволу дерева. Гаврилов встретил его в вершине, перехватил сумку. Вздохнул с облегчением. Пока Гаврилов наскоро благодарил начальника геологов, Сучков уселся в машину. И «газик» снова заюлил между островками осоки. — Сидишь нормально? — спросил Гаврилов. — Годится. — Дверцу открой! — посоветовал Гаврилов. — Выбираться удобнее, если нырнем. — А ты не ныряй! — сказал Фрол. — Взрывчатка-то вся тут. Дверцу он не открыл.
4. Сеня Сирота
Сирота прибился к мостовикам в середине зимы. Он добрался до мостоотряда одновременно с председателем рабочкома треста Зариповым, рыхлым низкорослым татарином, явившимся на точку по поводу выполнения плана по членским взносам. — Самый раз, — выслушав Зарипова, возмутился обычно уравновешенный Гаврилов. — Кольца для опор лучше бы привез! — Зачем так говоришь! — сердился Зарипов. — Мне кольца в первую очередь нужны! Во вторую — дизель, в третью… — инженер плюнул с досады, сообразив, что считать придется долго. — Это надо же! — ехидничал он. — План по взносам на пятерку недовыполнили… Сеня Сирота стоял за тоненькой рассохшейся дверью каморки Гаврилова, прислушивался к разговору и выжидал нужный момент, не желая попадать под горячую руку. Гаврилов остыл так же быстро, как и «завелся». Он посмотрел на хмурого, насупленного Зарипова и неожиданно рассмеялся, подумав, что и на уютной месткомовской работе нужны нервы. Сеня сообразил, что наступила «разрядка напряженности», поправил на примороженном ухе берет и с достоинством переступил порог. Гаврилов сидел за столом из плохо оструганных досок и вопросительно смотрел на него, потому что до ближайшего населенного пункта было пятьдесят километров, до отказа набитых снегом. — Работать! — коротко объяснил свое появление Сеня, подумал, что начальник как будто ничего, и сел на обрубок бревна, повинуясь приглашению. Гаврилов с любопытством перелистал трудовую книжку С. А. Сироты, разбухшую от вкладышей. В свои двадцать девять лет Сеня успел побывать во многих местах: строил Братскую электростанцию, искал в Якутии алмазы, проводил какую-то ЛЭП, был матросом и ремонтировал часы в Омске… Последняя запись была сделана в совхозе, где Сирота числился трактористом. — Так! — сказал Гаврилов, изучив книжку. — Из совхоза, стало быть, за пьянку?.. Сеня подтвердил, потому что запись в книжке, которую держал в руках инженер, не оставляла на этот счет ни малейших сомнений. Гаврилов покосился на Зарипова, но ничего не сказал. — Не пьешь теперь? — схитрил он, помогая С. А. Сироте ступить на дорогу раскаяния и порадовать хмурого предместкома, но Сеня неожиданно обиделся: — Что я, у бога теленка съел — не пить-то? Гаврилов хмыкнул, а Зарипов оторопело уставился на Сеню. — Пить нельзя! — строго сказал он. — Понимаешь? Не надо. Сеня прикинул, кто бы это мог быть, не определил, но на всякий случай сказал, что ага, алкоголь — зло. Зарипов победно поглядел на Гаврилова, гордый за «перевоспитанного» Сеню. — Слушай, Сирота, — сказал Гаврилов, подумав, — а скажи-ка, что ты не умеешь делать? Пришлось задуматься и Сене. Вопрос был не простой, а ему хотелось ответить честно. — Мозаичные работы — не смогу! — покаянно заявил он наконец. — Не довелось освоить. Гаврилов улыбнулся. Сеню приняли. Инженер давно привык иметь дело с сезонниками и с юмором относился к их слабостям, тем более что они действительно все умели. Сирота прижился в отряде на удивление быстро. И рабочим, и старику Смирнову казалось, что Сеня работает давным-давно, мастер даже советовался с ним в затруднительных случаях. Вот и теперь, когда после отъезда Гаврилова они спустились на льдину, чтобы заготовить лунки под взрывчатку, Смирнов вопросительно посмотрел на Сеню: — Сквозь бить будем или вполовину? — До воды, старик, обязательно до воды! — заявил Сеня. — На шнурке под лед взрывчатку опускать надо, иначе толку не будет — дым один. Они продолбили восемь лунок по определенной схеме, чтобы раскромсать начисто злополучную льдину, выбрались на обрыв и стали ждать начальника. Обоим было ясно, что, если он не привезет взрывчатку, мост придется строить заново. — Опять кольцо затопило! — отметил Смирнов. — Никудышная река: рыбы и то путевой нету. — Эх! — сказал Сеня. — Верно говорят: ждать да догонять — хуже нету. Быстрей бы сам сбегал. — Давай! — разрешил Смирнов. — Так тебя и ждут там… Ниже моста река очистилась ото льда. Между берегами ходил утлый баркас, набитый людьми. По обе стороны горели костры, стояли машины и палатки, сидели на узлах бабы и ребятишки. Сеня принес из барака гитару, свесил с обрыва ноги:Быстро, быстро донельзя
Дни пройдут, пролетят.
Лягут синие рельсы —
Воркута — Ленинград…
И махнет над перроном
Белоснежный платок…
Поезд вихрем зеленым…
Поезд вихрем зеленым.
Поезд вихрем зеленым
Все идет и идет на Восток…
5. Фрол Сучков
Проводив взрывника, Голубович почувствовал какое-то неясное беспокойство. «Зря старика послал — ну их к черту!» — думал он. Сучков — взрывник высшего класса. У таких специалистов и различить невозможно — где работа, а где искусство. Стерлась граница. — Чего я только не рвал, прости господи! — любит говаривать Фрол, когда пристают с расспросами, но в детали не вникает: кому следует — знают. В любых породах — скальных, вязких, сыпучих, если забой рвет Сучков, — стаканов не останется, на весь шпур отрывает взрыв породу. Начальник буровзрывных работ экспедиции как-то самолично приезжал изучать работу взрывника, дня четыре не отходя толкался. И хотя Фрол терпеть не мог во время работы посторонних людей, но крепился, искренне стараясь, чтобы начальник уловил суть. Только — напрасно. Ничего тот не понял, а Фрол не мог объяснить, он и сам не знал, почему в этот именно шпур закладывает на два патрона меньше, чем следует, а другой трамбует, хотя трамбовать вроде бы и не надо. — Само дело так оказывает. Видно же, что сюда помене надо… Почему именно сюда «надо помене», никому, кроме него, видно не было. У Сучкова всесоюзная слава, хотя из разведки он не уходит. По молодости была на то причина, а с годами полевая жизнь бродячая в кровь въелась — не вытравишь. Да и кто это видывал настоящего специалиста, который с места на место бегает? Старого взрывника частенько выпрашивают у главного инженера экспедиции разные организации, вплоть до научно-исследовательских институтов. Главный хотя и ворчит, но командировки Сучкову подписывает, понимает, что на талант ведомственную обротку не накинешь. К тому же и лестно ему — в какой-то мере: все-таки не где-то, а у него в экспедиции работает мастер. К Голубовичу Сучкова забросили только потому, что штольня нужна была позарез. Многое ждали в экспедиции от этой штольни. Главный инженер битый час втолковывал по рации Голубовичу, чтобы берег старика, «как зеницу ока». «Ты себе уясни! — кричал главный. — Он ящиком динамита может один зуб из расчески выбить, а остальные оставить!» — Главный мне без динамита все зубы выкрошит, если они старика искупают, — невесело пошутил Голубович, рассказывая о своих сомнениях радистке, настраивающейся на связь с базой. Голубович решил не сообщать пока о поездке Сучкова. Он коротко доложил ежедневную сводку, затребовал нужные материалы и хотел отключиться, но база голосом главного инженера спросила о взрывнике. — Живет, хлеб жует! — нарочито весело откликнулся Голубович. — Все — ищет? — хохотнул главный. — Ищет, — подтвердил Голубович, глубоко убежденный, что такого кретина, как он, экспедиция еще не видывала. Вопрос главного был старой шуткой, но на этот раз Голубовичу веселее не стало. А соль заключалась в том, что лет тридцать назад Фрол Сучков пришел к геологам с вполне определенной целью — найти пугачевское золото. До этого он исправно трудился в деревне, имел семью, хозяйство и все другое, что полагается для жизни. Он так бы и прожил ее спокойно и неторопливо, не попади ему в руки книжонка, где было написано, что, отступая от царских войск, Пугачев спрятал в этих местах свое золото. — И много? — спросил его главный, бывший в ту пору еще начальником подразделения, таким же, как Голубович. — А три бочки! — уверенно ответил Фрол, так, будто вместе с Чикой Зарубиным прятал ценности. — Найти думаешь? — поинтересовался главный. — Как-нибудь натолкнусь! — небрежно кивнул Фрол, как о деле решенном. Тридцать лет прошло с тех пор, но старики все помнят и при встречах не упускают случая. — Ищешь? — спрашивает главный. — Ищу! — подтверждает Фрол. — Найдешь — считаешь? — Как-нибудь натолкнусь… И смотрят друг на друга влюбленными глазами. Голубович вернулся было к неоконченному письму, но сразу же написал заветное слово не теми чернилами, отбросил листок и вышел. Он долго осматривал болото в бинокль, надеясь увидеть возвращающуюся машину, ничего не увидел и пошел в общежитие рабочих. Он растолкал опухшего от сна водителя вездехода и не очень вежливо приказал ему немедленно заводить машину. Голубович решил сам поехать к мосту. Такое решение диктовалось, по его мнению, двумя важными обстоятельствами: во-первых, когда сам — это сам, во-вторых, незачем подвергать Сучкова опасности возвращения болотом, хоть и проверенная дорога, а мало ли… Солнце-то жарит, и вообще — тише едешь, дальше будешь. «Ум найдет, да пора уйдет!» — подумал водитель, которому Голубович сообщил эти свои мысли, но промолчал. Вездеход, лязгая гусеницами, потащился в обход болота, Голубович часто высовывался из кабины и смотрел на болото в бинокль, чтобы не разминуться с машиной мостостроителей.6. На льду
С обрыва, уменьшенные расстоянием, фигуры Фрола и Сени казались одинокими и жалкими на пустыне льда. — Скоро найдешь — ногу зашибешь, — рассудительно заметил Смирнов, уважающий в любом деле добротность. А Фрол не торопился, он тоже давно усвоил истину, что не спехом спорится дело. Приняв из рук Сени заранее припасенную палку, Сучков тщательно привязывал к ней взрывчатку, потом укладывал палку над прорубью и опускал заряд в воду. — Глубоко-то не спускай! — советовал Сеня. Фрол ухмылялся и опускал заряды на ту глубину, какую считал подходящей. Потом брал в руки конец убегающего под лед огнепроводного шнура и одним движением обрезал наискось самый кончик. Расставив заряды, взрывник отослал Сеню на берег. Покуривая, он смотрел, как удаляется помощник, щурил выцветшие глаза. Безмятежно заливались над берегами жаворонки, искрился под солнцем лед. Фрол завел руку за спину, потер побаливающую поясницу. «К непогоде болит», — подумал и качнулся тощим телом к опустевшей сумке, валявшейся на льду под ногами. Он вытянул из нее кусок шнура, достал нож и аккуратно надрезал шнур до середины на шесть одинаковых отрезков. Потом бросил нож в карман куртки и полез за спичками. Перед тем как поджечь затравку, взрывник закинул за плечо сумку и еще раз огляделся. Сеня уже вылез на обрыв, баркас ниже моста выгребал к берегу. «Однако, можно», — решил Фрол, достал из коробка спичку, приложил к сердцевине шнура и ширкнул по спичке коробкой. Шнур вспыхнул, выплюнул на секунду узкую струйку огня, потом ушел внутрь, оплетка ежилась и чернела, показывая его движение. Сучков дождался, пока огонь добежит до зарубки, переломил шнур и поднес выскочивший из надреза снопик огня к шнуру первого заряда. До второй лунки он дошел одновременно с огнем, добежавшим по шнуру до второго надреза. «Два!» — автоматически отметил Фрол и неторопливо зашаркал к третьему заряду. «Сила, однако, — размышлял он, прислушиваясь к реву воды за опорами. — Дурная сила…» Мгновенно воспламенившись, зашипел последний шнур, пожирая короткие секунды. Сучков бросил на лед отслужившую затравку и оглянулся, проверяя, все ли шнуры горят. Над льдиной столбиками поднимались невидимые на солнце белые дымки. — Отплавалась, однако, — проговорил Фрол. «Да вылазь же ты скорее, старый черт!» — нервничал Смирнов, но молчал, твердо уверенный, что под руку кричать не полагается. В районе моста Ишим зажат берегами. Веками вгрызалась в равнину река и пробила-таки в граните дорогу, показав заодно, что степь мягкая только сверху. Выбираясь на обрыв, Фрол Сучков одобрительно подумал, что для моста выбрали место подходящее, крепкое место. Шесть раз брызнуло в небо льдом и водой. Фонтанчики были жидкими, а взрывы глухими. Не верилось, что такие хлопки могут разбить льдину. «Слону — дробина!» — успел подумать Гаврилов. Но по льдине, как живые, стремительно побежали трещины, и она разлетелась на глазах. Течение потащило обломки в проходы между опорами. — Ура! — закричал Сеня. — Живем! — Не ори! — испугался суеверный Смирнов. — Рано. И точно. Приплывшие от разных берегов два обломка столкнулись между опорами, и проход снова забило. — Выдавит! — бодро возвестил Сеня, но лед стал мертво. — Угодит же! — удивился Фрол. — Мутная река! — объяснил Смирнов. — Рыбы и то путной нету — одне пескари. «Лед битый, — прикинул Фрол, — идти по нему — рыб кормить». Все четверо думали об одном и том же. Инженер Гаврилов молчком спустился к воде, ступил на одну льдину, перепрыгнул на другую и кинулся обратно, черпнув сапогами, когда третья бесшумно пошла под ним ко дну. На обрыве Гаврилов сел на землю, разулся и вылил из сапог воду. — Подождем! — буркнул он, ни на что уже не надеясь. — Пойдемте сушиться.7. Отзимье
В бараке, пока Сеня растоплял железную печку-времянку, Гаврилов зашел в свою комнату переобуваться. Повозившись там немного, он выкинул новые сапоги и взрывнику, чтобы надел заместо чуней. — Чуни здесь — не обутка, — заметил Смирнов, наблюдая, как Фрол тщательно наматывает портянки. — В штольне — годятся, — заступился за обувь Сучков. Печь разогрелась. Они молча сгрудились около нее: намерзлись у реки, да и вообще к обеду вдруг неожиданно похолодало. — Зазимок идет! — нарушил молчание Сучков, поворачивая над печкой ладони. — С чего это вы взяли? — усомнился Гаврилов. — Похолодает — зачем не видишь? — подтвердил Смирнов. — Пойду посмотрю, может, вода сбывать начнет, — сказал Сеня, тяготившийся бездельем. Он ушел, громко стукнув дверью, а Гаврилов подумал, что мудрят старики насчет погоды, но в окно сыпануло смежной крупой. — Подумай-ка! — удивился инженер. Для него непогода, резко сменившая красные дни, быланеожиданностью, но старики знали о ее приближении и раньше по десяткам почти неуловимых и, казалось бы, не связанных вовсе признаков. Каждый по своим к тому же. Фрол, еще утром двигаясь к складу взрывматериалов, заглянул в знакомое синичье гнездо, чтобы узнать, нет ли каких изменений, и порадовался про себя, заметив, что яиц стало пять. Они лежали на мягкой травяной подстилке носами внутрь гнезда, крошечные и хрупкие. Фролу всегда хотелось подержать такое яйцо в пальцах, но он не решался, боялся, что раздавит. Возвращаясь, Сучков еще раз завернул к гнезду и обнаружил, что яйца уже покрыты тонким слоем нежного пуха. Птичка знала, что идет холод. А после, уже на мосту, он обратил внимание, что ворон, битый час кувыркавшийся в воздухе над своим гнездом, вдруг уселся на суку и закаркал с самыми отвратительными интонациями. И ветер, мотавшийся из стороны в сторону, изменился и устойчиво задул с северо-запада — из «гнилого» угла. И спина ныла с утра. Все к одному. Фрол, выгнув спину, поморщился и потер поясницу. — А? — спросил Смирнов. — Болит? — Да вот, — сказал Фрол, — вступило не ко времени. — Хрустальные мы стали! — вздохнул Смирнов. — Лишний раз не повернешься. У Смирнова тоже всю ночь болели ревматические ноги, а это уж примета — верней не бывает. Потом он заметил, что щуки-икрянки, возившиеся в траве старицы, неожиданно прекратили бульканье и ушли в глубину. Потом сурки и суслики спрятались… Старики переглянулись, когда пришел снежный заряд, так и должно было. Вернулся Сеня, обсыпанный по плечам и голове снегом, и сообщил, что вода прибывает — еще одно кольцо затопило. — Чего ей? — пробурчал Смирнов. — Вверху-то — теплынь. Река текла из Казахстана, а там было тепло. — Надо стрелять, — сказал Фрол. — Не продавит их. Когда они вышли, снег уже кончился и опять светило солнце. — Лучше летом у костра, чем зимой на солнышке, — сообщил Сеня Сирота, обнаружив перемены в природе. — Закладывать на те вон надо! — показал Фрол на обломки, заклинившие проход. — Перевалками шпарит! — сказал о снеге Смирнов, потому что не мог себе представить, как можно добраться до злополучных льдин. С северо-запада — гряда за грядой — шли тучи. Ледяное поле перед мостом побелело от снега, и только те льдины, на которые захлестывала вода, были зелено-синими. — Эти на плыву! — заметил Фрол. — Не зажаты. Льды дышали. Крупные льдины, составляющие затор, соприкасались в каких-то неведомых точках и мощно давили на опоры, а между ними свободно лежал на воде битый лед и льдины поменьше. Эти сразу перевернутся или утонут, если ступить. — Придется тебе, Семен, — сказал Смирнов. — Ты легкий. — Ну! — кивнул Сеня, ни минуты не сомневавшийся, что нести взрывчатку придется ему, потому что не старикам же скакать со льдины на льдину. — Подождем! — сказал Гаврилов, нервно отбросив окурок. — Подождем! Его не торопили: начальник, ему виднее. — Все хотел спросить, — взглянул на Смирнова взрывник. — Какая, к примеру, такому мосту цена будет? — Миллиона полтора! — вздохнул Смирнов, будто сейчас лично потерял эти деньги. — С копейками, дядя Фрол! — засмеялся Сеня. — А копеек еще столько же… — Годится! — кивнул взрывник. Гаврилов уже определенно чувствовал, что максимум через час, полчаса мост срежет, и все-таки медлил, лихорадочно ища какие-то другие, более безопасные возможности заложить взрывчатку, чем этот сомнительный путь по неверному льду. И не находил. А льды потрескивали и грозно шуршали. В середине поля какую-то льдину поставило на дыбы, и она так и осталась торчать там, как монумент силе. — Ой, что я говорю! — пробормотал Сеня, выругавшись в бога, когда еще одну льдину поставило на попа, а другую угнало под лед. Лед явно начинал тороситься. — Готовьте заряд! — сказал Гаврилов. — Быстро! Опять посыпалась крупа. Прикрывшись воротником, инженер смотрел, как Фрол готовит взрывчатку. — Сколько осталось? — спросил Гаврилов. — Две пачки! — Пачкой разобьем? — Хватит! — сказал Фрол. — Донести бы. — Он закрепил в патроне детонатор со шнуром, засунул патрон обратно в пачку, обмотнул ее шнуром и подал Сене. — Давай, Сеня! — тепло сказал Сучков. — Спички не намочи — гляди. А когда подожгешь, не торопись. Шнур длинный; спокойно выходи. — Бу сделано! — подмигнул Сеня и проворно полез с обрыва к воде. «Палку бы взял какую…» — подумал Смирнов, но ворачивать Сеню не стал — худая примета. — Не дойдет, я спробую, — неожиданно сказал он вслух. — Я в молодости тоже хват был, это теперь только крошки изо рта сыплются… — То-то и оно! — усмехнулся Сучков. Смирнов замолчал, припоминая лихую молодость и мосты, какие строил все прошедшие годы. Молча смотрел на свой первый в жизни мост и инженер Гаврилов, мечтавший сделать его красавцем. Он тупо и упорно смотрел на льдины между опорами, терпеливо ожидая там Сеню. Следить за движением рабочего у Гаврилова не хватало духу. «Сам пойду!» — соображал он, изо всех сил гоня мысль, что Семен не дойдет. На противоположном берегу, привлеченные взрывами, собрались зрители из числа ожидающих очереди на баркас. Они удобно разместились на обрыве и хором выкрикивали Сене противоречивые советы. — Дурачье! — злился Смирнов. — Форменное дурачье. «Эх, сыпь, Семен, да подсыпай, Семен!» — вспомнил Фрол строчки из песенки своей юности. И улыбнулся задумчиво.8. Заминка
А Семен «сыпал». Он осторожно попробовал ногой первую льдину и ступил на нее. Льдина держала. Тогда он перепрыгнул на другую и побежал к опорам. — Лева бери! — орали с противоположного берега. — А тронется, бегать ему обратно не надо! — успокаивая себя, сказал Смирнов. — На энтой льдине до моря плыть можно. — Не тронется! — возразил Фрол, внимательно наблюдая за Сеней, который неожиданно замешкался, потому что дальше шла мелочь — не разбежишься. — Права иди! — дружно кричали с берега. Справа действительно были льдины покрупнее, но они были и слева. Сеня пошел влево. Снег бил по лицу и глазам, мешая смотреть. Но Сироту занимало другое, он даже приостановился, чтобы убедиться, что не ослышался: в снежной мути, летящей над степью, заливались жаворонки. «Чудеса!» — удивился Сеня, засунул поглубже за пазуху пакет со взрывчаткой и прыгнул на очередную льдину. Она качнулась, приподняв один край. Сеня поскользнулся, упал и, как с горки, на животе вылетел на следующую. На берегу взвизгнула какая-то женщина, но Сирота не слышал ее. «Так и нырнуть недолго!» — впервые подумал он, лежа на льду. Потом поднялся и пошел дальше, прихрамывая на ушибленную ногу. Где-то на середине реки опять случилась заминка. Чтобы перебраться со льдины на льдину, надо было перепрыгнуть метра три ледяной каши, в которой островком маячила метровая льдинка. Сеня переложил спички под шапку, примерился и прыгнул двойным прыжком, рассчитывая, что промежуточная льдина не успеет утонуть. Черпнув в сапоги, он вылез-таки на твердый лед, снова зацепив за край льдины ушибленным коленом. Вгорячах не почувствовал боли, но, шагнув несколько раз, понял, что нога отказывается повиноваться. — Ногу повредил, похоже! — спокойным голосом сказал на берегу Сучков, когда Сеня пополз к опорам на четвереньках, а потом поднялся и пошел, подтаскивая непослушную ногу. — Обратно ему с такой ногой не уйти! — все так же ровно констатировал Фрол. — Разойдется! — предположил Смирнов. — Бывает… На дальнем берегу теперь молчали, сообразив наконец, что на льду не до их советов. — Сволочь! — бормотал Сеня, волоча несгибающуюся ногу. — Сволочь такая… Он понимал, что не успеет доковылять до берега после того, как подожжет шпур, но упрямо тащился к нужному месту. Впереди, за опорами, ревела вода. Освобожденно вырываясь из-под льда, она вспучивалась метровым валом и стремительно катилась вниз. «В воду прыгну! — придумал Сеня. — Зажгу и прыгну. К берегу прибьюсь, или баркас перехватит, пока лед двинется». У Гаврилова слезились глаза и побелели щеки, но он смотрел только на опоры. Мысли стремительно крутились в голове. Идти всем на лед, чтобы вытащить Сироту? Но лед каждую минуту может столкнуть опоры и пойти. Тогда размелет не одного, а четверых. — Пошли! — сказал Гаврилов, поднимая с земли доску от опалубки, вымазанную в растворе. — Веревку надо захватить. — Постой! — остановил инженера Фрол. — Кажись, разошелся. Сирота и в самом деле пошел быстрее. С берега не видно было, чего это стоит ему. Он и сам не знал и даже не замечал слез, которые независимо от его сознания выжимало из глаз каждое движение. Гаврилов впервые посмотрел на Сеню и ужаснулся неестественности его движений. — Ты вот что… — сказал Фрол. — Поезжай к переправе, подготовь баркас. Семен обратно не пойдет. — Думаете? Фрол кивнул. Инженер завел «газик» и поехал к переправе. Заветная льдина была шагах в двадцати от Сени, когда твердый с виду лед провалился под ним и он скользнул в мокрую тьму, не успев ни удивиться, ни испугаться. На льду осталась шапка и коробок со спичками — никому теперь не нужные вещи. Как ни странно, но на берегах не раздалось ни одного звука, только где-то внизу привычно гомонила переправа, да все также выводили свои трели жаворонки, и горохом стучала по задубевшей одежде снежная крупа. Мастер Смирнов молча стянул с головы шапку. — Рано хоронить! — неодобрительно сказал Фрол. — Выберется, не таковский… Сеню выбросило из-подо льда секунд через двадцать. Мелькнув в буруне мокрой темной тряпкой, он зацепился руками за обломки льдины, кружащейся в водовороте за опорами. По берегу вслед за плывущим с криками побежали люди. Смирнов сел прямо на мокрую землю и заскреб непослушными пальцами по карману, где у него хранился пузырек с таблетками от сердца. Фрол с легкой усмешкой наблюдал за мастером, пока тот не съел таблетку, а потом отошел, чтобы подготовить заряд. Он подвинул на ладони последнюю пачку, будто пробуя на вес, и разорвал обертку. Смирнов лежал на боку, беззвучно шевелил губами, пытаясь улыбнуться. Но улыбки не получалось, и лицо было такое, какое бывает у совершенно беспомощных людей да женщин, умеющих разыгрывать беспомощность. Ох, Ишим, Ишим! — Худая река! — выдавил Смирнов. — Столкнет опоры… — Река как река… — сказал Фрол. — Может, и не столкнет.9. Один
— День нынче какой-то длинный, — устало заговорил Смирнов. — Из лета в зиму, из зимы в лето бросает, как меня все равно… Пойдешь? — Надо, — сказал Фрол. — Черед пришел. Смирнов и так видел, что взрывник налаживается к опорам, но молчать не мог. — Чего глядишь? — сказал Фрол, прилаживая под рубаху непромокаемый мешочек. — Думаю вот, — сказал Смирнов, — уж лучше бы самому. — Ото так, — согласился взрывник, думая о своем, — сам дак сам. Переживаний меньше. — Видно, как уж суждено, — вздохнул Смирнов, — оно на то и вытянет: ежели кому утонуть следует — на берегу не помрет. — Помолчал бы! — попросил Фрол. — Чего мылишься? Ну куда ты, посуди, уйдешь? Докудова? Смирнов замолчал, глядя на Сучкова снизу, прикидывая его силы. Взрывник неторопливо готовился. Осталась последняя пачка взрывчатки, и он намеревался сделать все наверняка, чтобы не зря рисковать. Да и вообще вполруки Фрол никогда не работал. — Поймали Семена? — спросил Смирнов, ему с земли не видно было, что делается на реке. — Поймали! — не глядя, сказал Фрол, выбирая доску. — Плавает как утка. — Присядь-ка! — сказал Смирнов. — Посиди. Фрол присел на доску, достал кисет и с наслаждением закурил. — Слышь-ка, мастер, — сказал он, подумав, — ежели что, начальнику моему — Голубович ему фамилия — все обскажешь… — Знамо дело! — пообещал Смирнов. — Только, может, тебе Гаврилова подождать. Семку вытащили, так он сейчас, зачем не видишь, явится. Сучков промолчал. Он вспомнил, что забыл ответить на письмо старухе. Недели две назад следовало бы отписать, да все недосуг выходил. — Ладно! — сказал он. — Пойду, а то просидим тут… Народ с берегов отхлынул от моста, и это обстоятельство порадовало Сучкова. — Иди! — сказал Смирнов, хотя Фрол уже спустился к реке. — Иди, раз такое дело… Смирнов остался один на мокром обрыве. Он попытался встать, чтобы взглянуть на реку, но силы еще не вернулись. Тогда он стал смотреть в небо, которое опять пронзительно синело над степью. Вдоль реки, судорожно взмахивая крыльями, беззвучно летели разрозненной стаей припоздавшие в перелете чибисы. Смирнов провожал их глазами, пока птицы не ушли за горизонт, а потом снова попытался встать… Ему бы подняться, как эти птицы, — он увидел бы многое… И как буксует вездеход Голубовича, безнадежно застрявший в болоте, и как спешит баркас наперерез Сене, коченеющему в ледяной воде, а инженер Гаврилов, срывая голос, кричит ему, чтобы держался, и тянет руку из лодки, хотя до Сироты еще далеко. И, конечно, он увидел бы, как идет к опорам старый взрывник Фрол Сучков, придерживая рукой спрятанную на груди последнюю пачку аммонита, а на шее у него висит целлофановый мешочек с запасным детонатором, куском шнура и коробочкой спичек. Но Смирнов подняться не мог…Своим судом
…Приток нес из тундры миллионы тонн песка, терял его по всему пути и путался в собственных отмелях, как сельский житель в незнакомом городе. Пляжи широкой полосой отделяли Приток от леса, узкими клиньями врезались в воду на поворотах, а иногда шли и вдоль течения, разбивая струю на глубокие рукава. Клочковатый, линяющий медведь вышел на пески перед восходом и пошел вдоль воды, оставляя цепь глубоких, похожих на человечьи, следов. Он шел, нагнув лобастую голову, изредка подбирал дохлых рыбешек и сердито отмахивался от двух надоедливых комаров. Они привязались к нему у воды, ныли и ныли у самых ушей, а он никак не мог увидеть их и злился все больше. Потом из-за мыса стремительно одна за другой вылетели две лодки, он оторопело взглянул на них и, высоко подкидывая куцый зад, припустил к лесу, так и не сообразив, что досаждали ему не комары, а моторы. Среди песков медведь остановился, оценивая положение, но тут на передней лодке пыхнуло пламя, и он припустил без оглядки. Вламываясь в чащу, он уже не мог видеть, что лодка встала на дыбы, а человек вылетел из нее и мокрой тряпкой закружился в водовороте…1
— Э-эй, Загря! — сказал Малев, обернувшись. — Гуляй! Черноухая хантейская лайка отошла от выброшенного на песок мешка с одеждой и сетями и полезла на яр вслед за хозяином. Она лезла по прямой, широко раскидывая передние лапы, из-под лап скатывалась сухая земля. Малев выбрался на обрыв, распрямился во весь рост и огляделся. Перед ним лежала пойма, испещренная блюдцами-озерами и покрытая бурой прошлогодней осокой. За поймой, у горизонта, темнели холмы материка. Справа к материку уходила узкая высокая грива, заросшая лесом. В голых ветвях старой осины на ближнем краю гривы Малев увидел черную точку — орлиное гнездо. Над поймой дрожал и струился нагретый воздух. Ничего не изменилось здесь после долгой зимы, и Малев был доволен, по суховатому лицу гуляла улыбка. У орлиного гнезда лежали любимые малевские озера. И он нетерпеливо окинул взглядом предстоящую дорогу — все восемнадцать волоков и озер, — древний путь, проложенный хантами, ходившими в материк добывать зверя. В пойме стояла тишина, но Малев знал, что уже к вечеру небо над нею прошьют во всех направлениях веревки птиц, и гомон будет стоять над озерами днем и ночью. Бесчисленные стаи гусей и уток заполнят равнину, будут идти и идти, пока не кончится перелет. Он повернулся к реке, сел на обрыве и спустил вниз ноги в тяжелых с отворотами сапогах. Закурил. Река упруго и мощно неслась мимо, вся в бурунах и воронках. Ледоход кончился недавно, на берегах еще блестели под солнцем разрозненные льдины, выброшенные напором черной воды, а сверху уже шел пароход. Он был весь белый, на палубе играла музыка и толпились ошалелые от простора пассажиры. Они что-то весело кричали и махали Малеву руками, а капитан приветственно погудел ему, потому что шел первым в эту навигацию рейсом, а на берегах Реки люди встречаются не часто. «Нефтяники торопятся», — определил Малев и тоже помахал пароходу. Пароход повернулся бортом — осколок далекой жизни, залитый солнцем. Сейчас он уйдет за поворот, и снова будет пусто на великой Реке. Что-то неясное, неосознанное шевельнулось в душе Малева, и он подумал, что на пароходе наверняка есть пиво — редкий в тех местах товар. Внизу стоял обласок — легкая, долбленная из осины лодка. Малев посмотрел туда и отчетливо представил чистенький пароходный буфет… Но он медлил. А пароход, обогнув косу, уходил все дальше. Теперь догонять его было бы уже трудно, и Малев облегченно отвернулся. — Будем трогаться, парень! — сказал он собаке и полез с яра к воде. Через несколько минут Малев вытащил на обрыв вещи и лодку. К скобе в носу ее он привязал толстую прочную веревку, снял пиджак и туже затянул на брезентовых штанах пояс. Волок просматривался хорошо. Протертая в кочках днищами многих лодок ложбинка не зарастала. Загря шел сзади. Он останавливался, когда Малев отдыхал, и, подняв лапу, терпеливо ждал, пока обласок двинется дальше. Веревка резала плечо. Малев подложил под нее шапку. Добравшись до первого озера, Малев короткими взмахами весла погнал лодку в дальний его конец, где от самой воды начинался следующий волок. Собака обогнула озеро берегом и ждала хозяина в положенном месте. Ее светлая шкура хорошо виднелась на бурой равнине. Малев мог по ней определяться. Солнце сдвинулось к западу на ладонь, когда он приткнул обласок к берегу последнего озера. Было жарко. Малев развернул сапоги, зашел в озеро и долго плескал ладонями воду на разгоряченное лицо, потом досуха вытерся подолом рубахи и пошел на гриву. Он выбрал место повыше, почти под самым гнездом, чтобы не подтопило на случай подъема воды, и перетаскал вещи. Место было хорошее — ровное и сухое, дрова — рядом: когда-то давно, в большую воду, сюда занесло плотоматку, толстые бревна валялись среди деревьев. Малев вырубил жердь и пристроил ее на сучьях между двумя деревьями на высоте своего роста. Потом накидал на перекладину веток и завалил сверху травой, которую сбивал тут же ударами сапога по корням. Теперь он был укрыт от дождя и ветра навесом. Хотелось есть, но Малев решил прежде закончить со станом. Он подкатил два толстых бревна, выдолбил по всей длине одного из них глубокую борозду и аккуратно уложил бревна друг на друга, закрепив по бокам кольями. В щель между бревнами Малев натолкал щепок и бересты, но зажигать не стал. Он собирался жить здесь долго и подготовился на случай ненастья. По другую сторону гривы от реки к холмам шла протока, пересыхающая к началу лета. Сейчас ее подтопило, над неглубокой водой торчали верхушки трав и осоки. В осоке возились, выметывая икру, щуки. Их спины и хвосты часто высовывались из воды, по протоке расходились круги. Малев подумал, что можно бы поставить в протоку сеть, налезет — выбирать состаришься, но не стал: щука — не рыба. Разве что — на уху пару, когда ничего нет. Он принес с озера воды и развел в сторонке огонь, подвесив над ним ведро. Пока вода закипала, он достал из мешка и разостлал под навесом барсучьи шкурки, потом захватил ружье и пошел к протоке. Загря радостно взвизгнул, но Малев цыкнул на него, и пес притих, поглядывая на хозяина. Длинные стремительные тени отошли от берега, когда Малев подошел к протоке. Там, где он стоял, вода успокоилась, но по сторонам и впереди осока шевелилась. Малев стоял неподвижно, и скоро почти к его ногам медленно подплыла метровая рыбина. Сзади и с боков за ней ползли пять или шесть помельче — самцы. Они жали самку ко дну, выдавливали икру. Малев поднял ружье и выстрелил. Дробь вспорола воду до дна и вместе с лохмотьями травы выбросила на поверхность четырех рыбин. Их животы неподвижно белели на взбаламученной воде. Самка выскочила на берег, яростно ударяя хвостом, но Малев носком сапога столкнул ее обратно, и она, обнажив на мгновение спину, ушла в глубину. Загря зашел в воду, брезгливо обнюхал брюшки рыбин, встряхнул головой и недоуменно посмотрел на Малева. — Перебьешься, — засмеялся рыбак. Подобрав щурят, он быстро выпотрошил их, принес и бросил в ведерко. Кипящая ключом вода стихла, но тут же забурлила снова, выталкивая пену. Малев снял ее деревянной ложкой, бросил в ведро несколько лавровых листков и отставил уху от огня. Потом сходил к обласку и принес весло, сполоснув его в чистой воде. Он разложил на весле вареную рыбу и круто посолил. Солнце было еще высоко, когда Малев закончил обед и вымыл посуду. Загря отказался есть рыбу и шнырял в кочках, вынюхивая мышей. Изредка Малев слышал их судорожный писк и видел довольную морду собаки, поглядывающую на него. Над поймой парил одинокий орел, в протоке булькали щуки. Малев лег под навесом на шкуры и с наслаждением вытянул ноги. Он был счастлив. В сумерках Малев поставил в ближнем озере сеть. Он перегородил озеро, сеть была длинная, она не вошла в озеро, и Малев выбросил свободный конец на берег. Придерживая верхнюю тетиву, он поплыл обратно, чтобы проверить, как легла стень, и сразу же почувствовал упругие рывки — попал первый карась. Малев подтянул сеть и ловко выковырнул его. Карась гулко стукнулся о дно обласка и зашлепал хвостом. Загря подбежал к воде, залез в нее по брюхо и радостно залаял, поздравляя с почином. А тетива продолжала подрагивать, Малев перехватился и выбросил в лодку еще одну рыбину. Впереди ныряли поплавки, но Малев выпустил тетиву, сполоснул руки и вытер о ватник. — Пошел! — удовлетворенно сказал он и закурил, мысленно поругивая бригадира, не успевшего переправить в пойму лошадь. Караси лежали на дне обласка, одинаковые, как близнецы, толстые и широкие. Они разевали рты и шевелили жабрами. «На центнер штук тридцать», — привычно прикинул Малев и бросил в воду коротко всхлипнувший окурок. Он плавал из конца в конец сети, выбирая рыбу, пока не онемели в ледяной воде руки. Обласок осел, караси лежали в нем тяжелой золотой грудой. Малев выпустил сеть, толкнул лодку к берегу и спрятал негнущиеся пальцы под мышки. Он долго крутился среди кочек, колотя руками по бокам, пока пальцы не заныли. Тогда он стал растирать их, превозмогая боль. Вскоре руки отошли, в коже появилось приятное жжение, пальцы стали гнуться и покраснели. Тогда Малев перебросал карасей в садок и крепко затянул устье, закрепив конец веревки на коле, вбитом в дно озера недалеко от берега. На пойму спустились сумерки, даль загустела, но Малев знал, что минут через двадцать снова будет светло — ночей весной почти не было. Малев сел на землю и привалился спиной к кочке. Подошел Загря, ткнулся в лицо холодным носом. — Подремлю, — сказал ему Малев. — Сиди тихо. Через четверть часа холод влажной почвы пробрался сквозь одежду. Малев очнулся, зябко передернул плечами и посмотрел на озеро. На гладкой маслянистой поверхности воды подрагивала цепочка поплавков, начинался рассвет, Малев сел в лодку и оттолкнулся от берега. Работая, он видел, как над поймой опять встало солнце. Плотным серым облаком просвистели в стороне чирки, где-то далеко кричали лебеди. Карась вывернулся из непослушных рук, плюхнулся в озеро, и Малев решил, что пора кончать. Он со стоном откинулся в лодке, разогнул онемевшую спину и прикрыл глаза. Лодку понесло к берегу. Полдела было сделано. Теперь пойманную рыбу надо было доставить к реке, а потом сдать живую приемщику. Пока закипал чай, Малев вытащил обласок на берег, вылил из него скопившуюся воду и загрузил карасями, отсчитав ровно пятьдесят штук. Он накрыл их сверху мокрым мешком, чтобы не уснули в пути, и пошел к костру, досадуя, что не сможет поднять разом всю рыбу. Чай был черный и густой как нефть, которую добывали на берегах Реки. Отхлебывая его длинными глотками, Малев чувствовал, как возвращаются силы и проясняется голова. Он выплеснул из ведра остатки чая прямо в костер, взял ружье и спустился к озеру. Малев бросил ружье прямо на рыбу, перекинул через плечо веревку, подложил шапку и, не оглядываясь, потащил обласок знакомой дорогой. Загря оглянулся на гриву, где белым столбом поднимался дым от костра, и хотел залаять, но, сообразив, что хозяин еще вернется, молчком потрусил следом. …Одолев последний волок, Малев остановился и сел на землю. Глаза щипало, он стер пот ладонью с бровей и перевел дыхание. Воздух, напоенный свежестью реки, до конца заполнил легкие, у Малева на мгновение закружилась голова, но головокружение тут же прошло, потому что теперь он дышал ровно. Загря сел рядом, но, подумав, лег на живот, вытянул вперед лапы и положил на них голову: дальше идти было некуда. Впереди текла Река, несла к океану черную воду, а волоки остались позади. …Поднялись жировавшие на закосках чирки, спугнутые пароходом, показавшимся у поворота. Пароход был знакомый. Теперь он возвращался с низовьев, все такой же светлый и праздничный. На палубе играла музыка и толпились веселые пассажиры, радовались, что уезжают. Они что-то кричали Малеву, а капитан приветственно погудел ему, потому что на этих берегах люди встречались не часто. — По-е-дем! С на-ми! — хором орали пассажиры, а капитан гуднул еще раз, подтверждая, должно быть, приглашение. Малев встал и посмотрел на карасей в обласке, хлопающих жабрами, на свои тяжелые сапоги, на брюки, заскорузлые от рыбьей слизи, подвигал израненными пальцами рук… В пойме над озерами тянул длинный косяк гусей. Слышно было, как они переговариваются, довольные местом и погодой. Сделав круг, вожак повел стаю к орлиному гнезду, четко синеющему на краю гривы. Малев растерянно оглянулся, точно не было уже у него ни неба с птичьими стаями, ни озер, ни орлиного гнезда, ни собаки. И сердце испуганно ворохнулось в груди, а по затылку прошел холод. Малев качнулся и закрыл глаза. Загря взглянул на хозяина, и шерсть на его загривке поднялась дыбом. Он по-звериному зарычал на пароход, потом завыл, тоскливо и безнадежно. Рыбак опомнился, открыл глаза и хрипло захохотал. Белый пароход уходил. Гуси сели. Малев слышал их веселое гоготанье и ясно представлял, как они купаются, забрасывая шеями воду на широкие спины, и трясут крыльями, чтобы вода стекла. А над поймой уже идет другая стая, высматривая место для отдыха. Теперь они будут идти очень долго, пока не кончится перелет. Пароход ушел. Загря все еще урчал, сердито и недовольно. — Вот так, брат, — усмехнулся Малев, перекинул через плечо веревку и потащил об-ласок к воде. Надо было пересадить карасей в садок и двигаться на второй заход — к вечеру подойдет паузок, заберет рыбу.2
С первого июня у художника областного издательства М. Окунева начался отпуск. Он проснулся в этот день рано от ощущения какой-то невосполнимой потери, поежился и оглядел комнату — подсознательно отыскивая причину странного чувства. Все оказалось на месте. Длинный, узкий письменный стол, как всегда, был завален эскизами и вариантами обложек, начатыми и брошенными заставками; на полу грудами лежали случайные книги, а под креслом валялась женская сорочка банального цвета, обшитая по подолу блеклыми капроновыми кружевами. Окунев иронически хмыкнул, встал с кровати, осторожно, двумя пальцами извлек сорочку, недоуменно подержал ее перед глазами и бросил в кресло. — Что делается, что делается, господи! — бормотал он ханжеским голоском, натягивая штаны. — Придумать невозможно!.. Ключи от холостяцкой квартиры Окунева имелись у двух-трех его друзей, он перебрал мысленно всех их и повеселел, представив, как чопорно и дотошно поведет следствие… Одевшись, художник еще некоторое время рассматривал собственную комнату, удивляясь хаосу, царившему в ней, потом отправился в ванную. Там он налил в ведро горячей воды, попробовал ее пальцем, добавил холодной и тщательно закрутил кран. Нашлась и тряпка, оставленная, видно, уборщицей, навещавшей квартиру перед большими праздниками. Окунев утопил тряпку в ведро и пошел с ним в комнату. Делал он все это неторопливо: спешить было некуда — отпуск… Около часа художник добросовестно трудился в квартире, с наслаждением отправляя в черную пасть мусоропровода бумажный хлам и пустые бутылки. Бутылки он сбрасывал по одной, слушая, как они падают сквозь этажи, царапая стенки трубы, и разбиваются вдребезги где-то в подвале. К восьми все было кончено. Не зная, чем заняться, Окунев сел на кровать, хмуро оглядел посветлевшую комнату и прилег, надеясь заснуть. Через открытую балконную дверь врывались шумы утреннего города: шарканье ног по асфальту, гул автомобилей и трамваев. На деревьях под самым балконом бешено верещали радостные воробьи и еще какие-то птицы. Со сном не получалось, хотелось встать и посмотреть в окно. Окунев недоумевал, потому что еще вчера единственным его желанием было желание — отоспаться вволю: весь год художник хронически недосыпал. «И вот — радуйтесь, — думал он, прислушиваясь к себе со злостью и любопытством, — поднялся ни свет ни заря…» Странное чувство, разбудившее его утром, вернулось, неприятно сжимая сердце. — Свихнуться можно! — сказал вслух Окунев и встал. Он вспомнил, что не получал еще за отпуск деньги, и решил сходить в издательство. Кассирша утрами обычно уходила в банк, но он все равно пошел, рассудив, что так все-таки лучше… В лифте издательства Окунев по привычке ткнул кнопку седьмого этажа и только очутившись около комнаты, где работали художники, сообразил, что сделал не то: бухгалтерия была тремя этажами ниже. Минуту он колебался — заходить или нет, потом махнул рукой и пошел, волоча ноги, вниз. В бухгалтерии художнику неожиданно повезло. Кассирша уже вернулась из банка и деньги ему выдала без промедления. Окунев спустился в вестибюль и долго стоял в раздумье, ощущая тупую тяжесть в затылке, решал, что делать: он все еще не придумал, где провести отпуск. Подошла Клара, корректорша с четвертого этажа, яркая по-южному девица, попросила на обед рубль. — Помираю, Мишка! — весело сказала она. — И помру, коли не дашь… — Ой ли? — усмехнулся Окунев, подавая деньги. Клара иногда забегала в мастерскую художников, Окунев вспомнил — она как-то жаловалась ему, что забирают в армию мужа, хотел спросить, как обернулось дело, но передумал: говорить не хотелось, ничего не хотелось. — Ты плохо выглядишь, Миша. Нездоровится? — забеспокоилась девушка. Окунев улыбнулся и отрицательно покачал головой. Он заметил, как опустили письмо в ящик, висящий у входа, и подумал, что стоит сходить на почту. Девушка уехала, помахав из лифта рукой. На площади летала горькая пыль, пахло разогретым гудроном. Окунев расстегнул рубашку и закурил теплую сигарету. «Опять жарит», — тоскливо подумал он, хотя и к холоду, и к жаре относился в общем-то равнодушно. Прохожие изнывали от зноя, держась затененных мест, а Окунев прямо по солнцепеку пересек площадь, прошел мимо чугунных ворот сквера, автобусной остановки и поднялся по длинным гранитным ступеням к стеклянным дверям почтамта. В окне «до востребования» женщина с мокрым стертым лицом равнодушно заглянула в его паспорт и достала из длинного деревянного ящика тощую стопку писем. Она небрежно перебрала их, оставляя на конвертах темные влажные следы. «Не читает», — догадался художник, но скандалить не стал: он знал, что писем ему нет. — Нет, — сказала женщина. — Пока нет… Окунев кивнул. — Могли бы и написать, — сказал он обиженно. Женщина вяло улыбнулась. В зале было душно и влажно: уборщицы протирали «лентяйками» затоптанный бетонный пол. Около них стояли цинковые бачки с теплой грязной водой. Старухи макали в бачки привязанные к палкам тряпки и возили мокрые тряпки по бетону. Обычно ему писали женщины. Он легко сходился с ними во время командировок и отпусков, никогда, впрочем, ничего не обещая. Им это нравилось почему-то больше всего, они долго еще слали ему письма. Окунев их получал и внимательно прочитывал, не веря ни единому слову, а отвечал редко и равнодушно. Постепенно страсти стихали, письма шли реже, пока не случалось очередное знакомство… На автобусной остановке толпились пассажиры. Окунев знал, что маршрут ведет к озеру, но решительно свернул в пропыленный сквер: его напугала потная автобусная толкотня. В сквере было пусто, отсутствовали даже обязательные пенсионеры. Бронзовый мальчишка в фонтане неутомимо держал за голову мокрую рыбу. У рыбы давно отбили хвост, но рыбака это не смущало, он был обрадован навсегда. Окунев прогнал от крайней скамьи наглых красноглазых голубей, сдул с угла пыль и сел. Он никак не мог вспомнить имя девушки, с которой познакомился прошлым летом в Крыму. У нее было удлиненное книзу лицо, тонкая талия и широкие бедра — это он помнил. Ночами она любила смотреть в море, ей все казалось, что там плавают контрабандисты, и ему на ходу приходилось придумывать для нее жуткие истории, — это он тоже помнил. Спали они днем, потому что ночи проводили у моря. Он прошел за ограждение, и на летном поле она окликнула его. Пришлось вернуться. «Скажи, ты не знаешь — долго женщина может жить без мужчины?» — она смотрела на него сквозь железную аэропортовскую ограду ясными зелеными глазами и ждала ответа. Ему захотелось вернуться, но он сдержался — по привычке. «Зачем тебе это?» — сказал он, и она поняла… Он все помнил, а имя забыл. На середину скамьи падала редкая тень от жухлой обломанной сирени. Окунев машинально подвинулся к ней, поднял из-под ног спичку и задумчиво набросал на пыльной земле силуэт женщины. Она сидела на камне, поджав к подбородку длинные ноги, и грустно смотрела на втоптанный в землю окурок. «Надо бы зайти куда-нибудь поесть», — думал художник. Подошел голубь и, склонив голову, оглядел рисунок. — Похожа? — спросил Окунев и бросил в голубя спичку. Голубь испуганно отскочил, но потом вернулся и деловито поклевал спичку, наверное, думал, что съедобная. — Чудак ты, — успокоенно сказал голубю Окунев, поднял голову и засмеялся: обходя фонтан, к нему шла Клара. Она улыбалась. — Видит бог, — торжественно выпрямляясь, сказал художник, — я тебя ждал, женщина! Идем. Окуневу неожиданно стало легко и весело. Он подмигнул настороженному голубю и увлек слабо протестующую девушку к выходу. — Все правильно! — сказал он загадочно. — Все правильно… Им повезло. На стоянке стояло с полдесятка машин с неверными огоньками. Окунев обошел их, приглядываясь к водителям, и выбрал серую разбитую «Волгу». В машине было душно. Художник молча опустил стекла, положил на истертое сиденье рядом с водителем синюю пятирублевую бумажку и вежливо попросил до конца улицы ехать «вперед багажником». Таксист обернулся, но чеканное лицо Окунева было непроницаемо. — Вперед багажником, — повторил он, — вы не ослышались. Таксист невозмутимо опустил деньги в карман и развернул машину. — Мишка, ты спятил, а меня ждут дома, — жалобно говорила Клара. Таксист стоял одной ногой на подножке и гнал машину, по пояс высунувшись наружу. Прохожие удивленно поворачивали головы. — Они думают, что мы сумасшедшие. — Едва ли, — сказал водитель. — В машинах случаются неисправности. Окунев откинулся на сиденье и закрыл глаза. Девушка демонстративно отвернулась к окну, но глаза ее смеялись. — Теперь к озеру, — сказал Окунев не открывая глаз. …Ресторан был плавучий. Когда проходили катера, он покачивался и скрипел. — С тобой хорошо плавать, — доверительно сказала Клара. — Я боюсь, когда начинают дурачиться в воде. — Она потрогала влажные концы волос и потрясла головой. Окунев промолчал, ему опять стало грустно. Между привинченными к полу столиками ходил длинный прилизанный саксофонист и играл «Черноморскую чайку». Клара смотрела на него и тихонько подпевала, не разжимая губ. Окунев видел, что ей хорошо сейчас. — Послушай… — сказал он и замолк. Девушка резко повернулась, все еще покачивая головой в такт музыки. Ее удивил голос художника. — …Ты могла бы выйти за меня замуж? Она оглядела его критически с головы до ног. — А что? Ты в общем-то красивый парень, — девушка секунду подумала, подыскивая определение. — Высокий. И денег, кажется, много получаешь… — О-хо-хо! — вздохнул Окунев, а девушка засмеялась. Ей казалось, что она знает художника тысячу лет.В сумерках на ресторане зажгли сигнальные огни. Они отбрасывали на черную воду светлые дрожащие пятна. — И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, — сказал Окунев, тупо разглядывая, воду. Мысли художника были неясны и рыхлы. — …что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели, — подхватила девушка. Она знала эти стихи. — Завтра я поеду в деревню… — сердита сказал художник и заплакал. — Буду ловить рыбу…
3
Малев проснулся под утро: разбудил пес, ткнул в щеку влажным холодным носом. — Ты чего? — приподнялся Малев. Пес обрадовался голосу, полез к Малеву с лапами, но тот прикрикнул, и Загря виновато лег на землю. — Не бойся, не проспим! — успокоил собаку Малев и подтянул сбившийся к ногам полушубок. Плашкоут так и не пришел. Вернувшись к реке с остатками рыбы, Малев до вечера провозился с садком, который еще раньше наметил сделать в ближнем к Реке озере. Он нарубил ворох тальнику, зашел в воду на сколько позволяли развернутые сапоги и забил в дно по кругу десятка полтора кольев, а потом оплел их вицами, как плетень. Получилось как надо, вода свободно проходила через садок, и рыба могла в нем жить долго. Возвращаться к стану не хотелось. Малев набросал в обласок сухой прошлогодней травы, лег и укрылся полушубком, подумав мельком, что сила у него стала уж не та, ушло времечко… — Ночуем здесь, Загря, — сказал он собаке и сразу же уснул, крепко и без снов. Теперь вставать было еще рано, Малев выпростал из-под полушубка онемевшие руки и потряс кистями, восстанавливая кровообращение. Руки у него в последние годы немели ночами, и он даже как-то ходил к врачихе, но та сказала, что ничего сделать нельзя, руки немеют от того, что много работали. Это она правильно сказала, и Малев успокоился: «Подюжат еще…» …Спать расхотелось, качнув обласок, Малев вылез из него, обулся, закурил и по привычке оглядел Реку. Вода начала спадать. Кое-где всплыли узкие, похожие на щук, отмели, а на берегах остались соры — обломки деревьев, подмытые кусты и другой хлам. Малев спустился к моторке и перевел ее ближе к обрыву, на место поглубже, чтобы не обсохла, потом развел в затишке под кустами небольшой огонь и пошел к озеру. Караси в садке стояли неподвижно, и он казался пустым, потому что спины рыбин сливались с дном. Но когда Малев нагнулся и сунул в садок руку, вода там взорвалась, в лицо ударил целый сноп брызг. Малев выхватил все-таки карася, вышел из воды, бросил его на землю и обтер лицо. — Вот и умылись! — сказал он Загре, прижавшего карася лапой к земле, чтобы не прыгал. Выпотрошив тяжелую рыбину, Малев натер ее солью, насадил на палку, а палку воткнул в землю, наклонив над огнем в дымке. Минут через тридцать карась испекся. Загря подошел к дремавшему хозяину и поскреб лапой по полушубку. — Мясо не довари, а рыбу перевари, слыхал? — спросил Малев, но встал и осторожно, чтобы не развалился, снял карася с палки. Отвалив на весло мясо с хребта рыбины, Малев бросил остатки на траву. Пес, наклонив голову, обошел вокруг своей доли, лег и стал ждать, пока остынет. Солнце еще не взошло, а они уже закончили завтрак и стали собираться в дорогу к озерам. Малев выбросил из обласка траву и взял ружье, а потом обернулся к Реке и увидел под яром на другой стороне оседающий столб воды, тут же по ушам ударил звук взрыва, и злобно зарычал Загря. Метрах в ста ниже взрыва от берега отошла лодка, человек в ней стоял во весь рост, сачка не было видно, но Малев понял, что «тот» держит его в руках и ждет, когда начнет всплывать убитая рыба. «Откуда он взялся? — подумал Малев, сбегая к лодке. — Не слыхать было мотора…» Он не представлял четко, что именно собирается сделать. — Поглядеть бы на тебя, гада, — бормотал он, дергая шнур заводки мотора один раз, другой… Мотор взревел на самой высокой ноте, вытолкнул из воды лодку, и она дробно застучала по мелким волнам. Пса, успевшего заскочить на нос, отбросило в середину лодки, он посмотрел на Малева и остался лежать, больше не вставал. Мотор на другой стороне заработал чуть раньше «Вихря» Малева. «Тот», видно, заметил опасность. — Покасливой, а трусливой! — пробормотал Малев. Обрывки мыслей в его голове теперь определились в ясное и вполне осознанное решение: догнать! Неторопливо вставало солнце. Малев приподнял за ручку бачок и на вес определил количество бензина. Двойной ноющий звук повис над рекой, будто два невиданных комара завели бесконечную песню. «Я те дам, — бормотал Малев. — Не уйдешь…» Он прикинул, не добавить ли оборотов мотору, но не стал, чтобы не рвать машину. Отдумал.4
В утренней тишине взрыв хлопнул неожиданно громко. Окунев вздрогнул и непроизвольно сжался, хотя и ждал его. Ему казалось, что кто-то обязательно должен закричать, но на Реке по-прежнему было тихо, и он оттолкнулся от берега, чтобы перехватить всплывшую рыбу, пока не унесло течением. «Тундра!» — усмехнулся художник, вспомнив дядино словечко, поднялся в лодке и взял в руки сачок. Три дня продолжалась гулянка в поселке лесорубов по случаю приезда Михаила Окунева. Три дня в просторном доме его дяди, прозванного Пожарником за непомерный рост и худобу, не убирали со столов и дым стоял коромыслом. — Художник! Из самой Москвы прибыл, не забывает дядьку! — хвалился пожарник, нависая над застольем как вопросительный знак. — Пей, Михаил! Ешь, что душа желает!.. Окунев, не унимая сочиняющего напропалую дядю, пил и ел, удивляясь втайне богатству стола: осетровой икре,горой наваленной на блюдо, туесам с яичницей, мороженой и моченой клюкве, грибам и великому разнообразию рыбы — вареной и соленой. — Нельмушкой, нельмушкой закуси! — советовала тетка. — Во рту тает… — Стерлядь лучше! Стерлядь — это рыба! — возражал дядька, прерывая на секунду вранье уважительно внимающим лесорубам про «Михайловы картины в заграничных музеях». На Реке не всякую рыбу считали рыбой. Окунев видел в чулане громадную щуку с застывшей навсегда, хищно разинутой зубастой пастью. — Держу, чтобы мышей пугала, с зимы лежит! — объяснил дядька. — Не рыба. — Как не рыба? — удивился Окунев. — А так, — сказал Пожарник. — Щука, карась — не рыба. Закусывая нельмой, действительно тающей во рту, Окунев, чтобы поддержать разговор, спрашивал, где ее покупают. Мужики за столом хохотали. — Сами ловим! — кричал Пожарник. — Кто ловит, а кто смотрит… — Запретная рыба, — объяснил Окуневу сидящий рядом мужик. — Потихоньку промышляют… — На все запреты, хоть на край света уехай — и там запреты! — жаловался дядька… — Волков бояться — в лес не ходить! — хохотало застолье. «Лихие ребята!» — думал Окунев, потихоньку сбегая на улицу. Он бродил по поселку, удивляясь деревянным крышам и старухам, бесцеремонно вслух разговаривающим о нем, когда он проходил мимо палисадников и скамеек, на которых они сидели часами. «Чей же это парень-то? Не знаешь?» — «Пожарников племянник, из Москвы, бают, приехал». — «Эвоно что…» и т. д. Когда пьянка поутихла, дядя показал Окуневу свою лодку, мотор, бочку с бензином, и тот стал ездить по реке, иногда с этюдником, а то и просто так — приятно было управлять летящей по пустынной реке и послушной каждому движению посудиной. — Чего зря бензин жгешь? Рыбачил бы, — советовал дядька. — А чем? — спрашивал Окунев. — Удочкой?! Так не клюет, говорят… — Удочкой?! — хохотал Пожарник. — Ну, даешь!.. Принесу я тебе утре удочку, вставай только пораньше… На следующее утро он разбудил художника до света и вручил что-то завернутое в тряпку, из которой торчал конец шнура. — Вот тебе удочка, бросишь где поглубже, к камню только примотай, чтобы потяжелей был, а то унесет. Взрывники тут просеку у нас бьют, пни корчуют — дали маленько, — объяснил Пожарник. — Опасно? — неуверенно сказал Окунев, принимая пакет. — Шнур длинный, не бойся, — успокоил Пожарник. — Я не про то, — заторопился Окунев, боясь, что дядька поймет его сомнения как трусость, — вдруг увидят? — Кто? — удивился дядька. — На тридцать верст — ни души, форменная тундра. А поглубже спустишь — и не слыхать будет. Оглядись, конечно. Сак возьми. Окунев спустился по Реке километров на десять, выключил мотор и долго лежал в лодке, наблюдая за медленно проплывающими берегами. Места все казались ему недостаточно глубокими, и он с сомнением поглядывал на сачок, представлявшийся ему слишком хлипким для пудовых рыбин, которые всплывут из таинственных глубин.…«Мамочки мои!» — ужаснулся художник, когда вокруг поплыли мелкие, как спички, белобрюхие мальки. Он никак не ожидал подобного результата и оторопело смотрел на тысячи убитых рыбешек. Вода выбрасывала их беспрерывно. Серая лента ширилась и росла на глазах, как отмель, когда быстро спадает вода. Окуневу стало не по себе, и он торопливо завел мотор, чтобы бежать от этого страшного места. Он отплыл уже довольно далеко, когда оглянулся и увидел, что следом идет лодка. «Влип!» — холодея, подумал он, закрутил до отказа газ и торопливо выбросил из лодки сачок, еще недавно представлявшийся такой необходимой снастью. Приток входил в Реку под углом, почти против ее течения, и место, где сшибались потоки, походило на кипящий котел. Вода здесь то закручивалась воронками, глубокими, как колодцы, то пучилась буграми, которые медленно растекались, сминая волны. Окунев на полной скорости врезался в эту мешанину воды и почувствовал, что лодка вдруг задребезжала, как старая таратайка на разбитой дороге, а потом увидел, что прямо перед носом лодки разверзлась на ровной воде яма. Он рванул руль, ощущая, как отрывается и летит куда-то вниз живота сердце, на секунду закрыл глаза, ожидая самого худшего и надеясь уже только на старый спасательный жилет, который натянул перед поездкой заместо телогрейки, но лодка, резко вильнув, взлетела на водяной холм, прыгнула с него, как с трамплина, и приземлилась уже в спокойной воде. Окунев сообразил, что вошел в Приток, открыл глаза и облегченно стер с лица пот, перемешанный с брызгами воды. Он оглянулся, страстно надеясь, что больше уж не увидит преследователя, но лодка сзади шла как привязанная, не приближаясь, но и не отставая. Сомнений не было никаких — она гналась именно за ним. «Вот тебе и «тундра»!» — зло подумал Окунев и хотел было уже остановиться, чтобы предоставить отдуваться за все самой «пожарной каланче», но тут же мелькнула мысль, что не Пожарник, а именно он убил мальков. И мало ли что дядя достал взрывчатку у каких-то там пенькокорчевателей, у которых никто ее не учитывает и никто не знает, сколько они суют ее под тот или другой пенек? Он бросил взрывчатку в воду, и он, Михаил Окунев, будет виноват во всем, только он. Это было ясно. Окунев не чувствовал ненависти к преследователю, думая уже, что, пожалуй, и сам бы поступил так же — а какого черта? — реки не хватит на таких «любителей»… Но, думая так, он все-таки гнал и гнал вперед лодку, потому что еще сильнее боязни ответственности мучил его стыд. Он совершенно не представлял себе, что мог бы сейчас сказать человеку, который преследовал его. Что он мог бы сказать ему в свое оправдание? «Надо мне эту рыбу?» — спрашивал Окунев, со всей очевидностью понимая, что не надо ему было никакой рыбы. Он опять подумал о дядьке, припоминая его разговор с рыбаком по имени Васька, когда Пожарник первый раз привел его на причал, чтобы показать лодку. Тогда Окунев не придал этому разговору ровно никакого значения, но сейчас все всплыло перед ним до мельчайших подробностей. …Они вышли через задние ворота в огород и зашагали вниз к причалу мимо почерневших куч прошлогодней картофельной ботвы. Причал заскрипел под тяжелыми шагами дядьки, между досок проступила вода, и этот Васька (он собирал рыбу в мешок в своей лодке) поднял голову. — Ну и туша же ты, Пожарник! — в сотый, должно быть, раз искренне удивился Васька, маленький и какой-то засушенный. Дядька не ответил, после обеда он спал и теперь был настроен благодушно. — Вот она, красавица! Двести восемьдесят — как один рубчик… — сказал дядька и подвел «казанку» боком к причалу, чтобы Окуневу удобнее было оценить предмет его гордости. — И работа у тебя вроде прозвания, — не отставал Васька, как бы и не замечающий Окунева. — Сутки спишь, двое отдыхаешь. Чистый пожарник! Дядька работал, как он объяснил Окуневу, «оператором на газовой печи в поселке нефтяников», но Ваське это явно было невдомек, и Пожарник поспешил перевести разговор на другое. — Есть рыба? — примирительно спросил он. — Нет! — сказал Васька, выволакивая на причал мешок с рыбой. — Какую ты промышляешь, той нет. Пожарник хохотнул, хотя Васькин тон раздражал его и выказывал перед гостем в невыгодном свете. Он лихорадочно выискивал, чем бы таким принизить Ваську, но тот неожиданно заговорил о другом. — Халей новый, сказывают, объявился, — сообщил Васька, морща свое маленькое личико. — На почтовой заимке, слыхал, ночует. — Врешь все! — неуверенно отмахнулся Пожарник. — В красном спасжилете ходит. И один, сказывают, ходит, не боится, — продолжал Васька как ни в чем не бывало. — От двоих-то, мол, убегают, лодка, слышь, под двумя-то тише ходит. — Чего ему бояться? — пробормотал Пожарник. — Власть! — Ага! — хрипло хохотнул Васька. — Она. Сумку актов, говорят, написал… — А кто это такой — «халей»? — спросил Окунев, когда дядька торопливо увел его к дому. — Инспекторов так зовут! — неохотно объяснил Пожарник. Окуневу показалось, что мотор начинает давать перебои, он подумал, что кончается бензин, и схватился за запасную канистру. Орудовал он одной рукой, чтобы не выпускать руль, струю бензина отжимало ветром, и она плескала больше по сапогам Окунева и в лодку, чем в узкую горловину бака. Отбросив пустую канистру, художник оглянулся и с облегчением отметил, что идущая сзади лодка не приблизилась — моторы были равны по силе. Окунев достал сигарету, зажал между колен коробок и чиркнул спичкой. Она обломилась и зашипела на дне лодки, а потом в лицо неожиданно клубком ударило пламя. Художник инстинктивно отшатнулся, выпустил руль и заслонил лицо руками. Он еще успел ощутить толчок, бросивший его вперед…
5
Когда «тот», не одолев устья, свернул в Приток, Малев определил, что человек не здешний и едва ли уйдет далеко: Приток кишел мелями и плавучим лесом. «Шпонку сорвет либо на мель наскочит», — рассуждал Малев. Но лодка впереди уходила все дальше, каким-то чудом минуя мелководья протоков, куда должна была влететь, по расчетам Малева, уже давно, и он решил не жалеть больше новый мотор, выданный ОРСом. — Не порвется, поди, — вздохнул он. — Потерпит… Малев поднял со дна лодки ружье, вылил из ствола воду и прибавил газ. Скорость заметно увеличилась. — Ну куда ты деваешься, посуди? Куда ты прешься? — негромко спрашивал Малев, когда на лодке впереди полыхнул огонь, а потом она вскинулась на дыбы. Малев недоуменно протер глаза и сбросил скорость. — Ото-то! — только и смог вымолвить он, когда подъехал вплотную. Вспоротая топляком от самого носа почти до середины, лодка «того» уходила мотором в воду и через минуту скрылась с негромким чмоканьем, на поверхности остался только горящий бензиновый бак, который неторопливо уносило течением. Над лесом поднялось солнце. На берегах на все лады заливались птицы, и где-то в глубине леса «урлюкали» косачи. Малев отвел глаза от вспыхнувших на воде солнечных бликов, огляделся и машинально засек место, где утонула лодка. Безжизненное тело Окунева покачивалось на волнах. «Гляди-ка, не тонет!» — изумленно сказал Малев и потянулся к телу веслом, чтобы втащить в лодку. На правой ноге Окунева не было сапога, голая ступня стукнулась о дно лодки и как-то неестественно отвалилась в сторону. Малев поправил ее, подумав мельком, что ладно, видно, шарахнуло парня, раз из сапог вылетел… Загря настороженно подошел к утопленнику и с врожденной брезгливостью ко всему мокрому обнюхал голову. — Живой, палкой не убить, — предположил Малев, но пес равнодушно отошел в сторону, и рыбак заторопился. Лодка ткнулась в мель метрах в пяти от сухого берега. Малев спрыгнул в воду и взвалил Окунева на плечо. Загря скачками бросился вперед, вздымая фонтаны воды. На берегу Малев свалил художника на песок и, опустившись на колено, навалил его животом на другое. Из носа и рта утопленника полилась вода, он захрипел, но Малев продолжал встряхивать обмякшее тело, чтобы окончательно очистить желудок и легкие. Вскоре Окунев судорожно задергался, его начало рвать, и Малев освободил колено. — Не умрет теперь! — успокоился он, оглянулся и увидел, что освобожденную от груза лодку сняло с мели и унесло течением. Она покачивалась на волнах метрах в двухстах от берега, и ни догнать, ни остановить ее было нечем. Малев отыскал глазами пса, беззаботно шныряющего вдали под деревьями, и выругался. Он считал, что собака обязана была предупредить его насчет лодки. — Сукин ты сын! — сказал Малев без всякого выражения и, не оглядываясь, зашагал по медвежьим следам вслед за лодкой. Когда Окунев продышался, на берегу никого не было. Он обнаружил, что лежит на песке, вскочил на ноги, но тут же свалился и опять потерял сознание от дикой боли, полоснувшей по сердцу. А Малев, прошагав песками километра три в надежде, что лодка застрянет где-нибудь на мели, остановился, размышляя, стоит ли возвращаться. Выходило, что стоит: парень остался не в лучшем виде. «Сгибнет, щенок!» — беззлобно подумал Малев и повернул назад. Он нашел Окунева там же, где оставил, только тот лежал теперь на спине, выставив к солнцу алебастровое, без единой кровинки лицо. Босая нога распухла и сравнялась по толщине с сапогом. «Эк, как ее разворотило!» — удивился Малев и загрустил, поскольку дело принимало худой оборот. Окунев открыл глаза и увидел Малева. — Где я? — хрипло спросил он. «Воскрес!» — вывел Малев, присел и ощупал распухшую ступню художника. — Нога! — застонал Окунев. — Вижу, что не рука! — пробормотал Малев, соображая, что предпринять, потому что нога у парня по всем видам была изломана. Малев поднялся и пошел к лесу. — Куда же вы? — растерянно спросил Окунев, но Малев даже не оглянулся. «Связался черт с младенцем», — думал он. Малев вошел в мелколесье и нашарил на поясе нож. Нож был на месте, это его успокоило, и он принялся ссекать две березки подлиньше, размышляя между делом, что вот перезимовали деревья, только расти да расти, а их приходится губить, потому что иначе в этом деле не обойдешься. Оставив свободными комли, Малев соединил березы у ветвей поперечинами из тальника. Получилась волокуша с оглоблями, вроде тех, на которых таскают сено. Зачистив концы оглобель, чтобы кора не драла руки, Малев потащил волокушу к берегу. Окунев лежал ничком метрах в двадцати от прежнего места. На песке, там, где он прополз, виднелась неровная борозда. «Сопляк, а туда же. Ладно, что не убился». Малев завалил художника на волокушу и потащил к лесу, где наметил развести огонь, чтобы обсушить утопленника. На опушке под низкими сучьями старой березы Малев быстро развел большой костер и ловко вытряхнул Окунева из одежды, перевалив его с волокуши на свой полушубок. Мокрые тряпки он развешал на сучьях березы, и от них сразу же повалил пар. Закурив и привалившись к березе спиной, Малев оглядел мальчишески хрупкое, слегка тронутое загаром тело художника, вздохнул и подтянул полушубок вместе с Окуневым поближе к огню. Потом встал и ободрал трубой с ближней осины кору. Труба, корявая и шишковатая снаружи, внутри была гладкой и холодной. Уложив в лубок ногу художника, Малев соединил края коры и крепко обвязал, разодрав надвое подсохшую майку. Получилось это у него ловко, нога оказалась закованной не хуже чем в гипсе. Окунев открыл глаза, приподнялся и удивленно оглядел свою ногу, превратившуюся в обрубок дерева, потом увидел Малева и вопросительно посмотрел на него. — Я ничего не помню! — сказал он, откидываясь на спину. — Только огонь и медведя… «Ладно его звездануло!» — второй раз подумал Малев. Он подробно, будто сам при этом присутствовал, рассказал художнику, как тот налил в лодку бензина, а потом бросил окурок и потерявшая управление посудина врезалась в топляк. — Спичку! — сказал Окунев. — Что спичку? — Я спичку уронил, — сказал Окунев. — Хрен редьки не слаще, — сказал Малев, сдирая с ветвей высохшие вещи и бросая их художнику. — Ты чей будешь? — Я художник, — сказал Окунев. — Моя фамилия Окунев. Михаил. Я к Пожарнику приехал. — А, — сказал Малев, — понятно. Окунев не стал спрашивать, что именно понятно этому странному человеку, в глазах у него мутилось, и он беспрекословно позволил втащить себя на волокушу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не застонать. — Держись! — посоветовал Малев и потащил волокушу по песку. Окунев вцепился рукой в перекладину и, сжав зубы, закрыл глаза. «Вот это номер! — думал он. — Ладно хоть нотаций не читает!» Путь до лодки показался ему нестерпимо длинным. Он повернул голову и увидел, что река мелькает справа и волокуша двигается вдоль воды. — Куда вы меня везете? — спросил он. — Домой! — не оборачиваясь, бросил Малев. — К Пожарнику. Лодка уплыла, пока я с тобой вошкался. Окунев от неожиданности выпустил перекладину и съехал на песок. Трусивший сбоку Загря свернул к нему и выжидательно остановился. — Это я виноват! — сказал Окунев, приподнимаясь. — Я сам пойду. — Давай! — разрешил Малев. — Спробуй. С минуту он презрительно наблюдал, как художник возится на песке, потом подошел и за плечи втащил его обратно в волокушу. «В два дня, пожалуй, не добраться! — прикидывал он, стараясь шагать пошире. — На прижимах помучаюсь…»«Хоть бы ругался, что ли!» — думал Окунев, глядя на заросший затылок шагающего впереди человека. Вскоре он опять впал в забытье, и Малеву пришлось закреплять его на волокуше тальником, чтобы не скатывался. Часам к четырем Малев почувствовал, что сил больше нет, подтащил волокушу к лесу и сел прямо между оглоблями. Отдышавшись, он перетащил Окунева на полушубок под деревья и ненадолго задумался, соображая, как добыть пищу. Надеяться приходилось только на себя, потому что ни пешком, ни на моторе никто в этот Приток не сунется, делать нечего. Разве что пойдут вверх баржи, повезут хантам продукты, пока не спала вода, но это через неделю, не раньше, а столько сидеть тут Малев не собирался. Он огорчился немного, подумав, что плашкоут, надо быть, уже подошел к стану и могли приплавить лошадь, а его нет на месте. Но, поразмыслив, решил, что большой беды не будет, мужики обнаружат садок и выберут рыбу, а лошадь ничего, покормится пока в пойме, волков там нету. Взглянув на красное, пятнами лицо Окунева, Малев огорченно вздохнул и принялся разводить огонь. Потом принес с берега пару голышей и бросил их на угли, чтобы калились. Подходящую березу Малев нашел недалеко от костра. Она была ровная и гладкая, с четверть в диаметре — как раз то, что надо. Сделав аккуратный надрез, он содрал трубку бересты сантиметров тридцать длиной и сел на буреломную лесину, помянув старика, который когда-то научил его пригодившемуся теперь ремеслу. Дело было нехитрое. На одной кромке берестяной трубки он нарезал ройные отверстия, а на другой треугольники. Треугольники плотно вошли в отверстия, и трубка сшилась, крепко и быстро. Оставалось подыскать дно. Малев нашел обломок подходящей дощечки на песках, поставил на него трубку, очертил кончиком ножа и вырезал круг, ровный и гладкий. Поставив трубку на колено, Малев сверху затолкал в нее дно и осадил до нижнего конца. Дно было немного больше диаметра берестяной трубы, поэтому село прочно и надежно. — Без малого — все! — подвел итог Малев, набрал в туесок воды и быстро пошел к костру, потому что вода все-таки протекала в шов и у дна, а он хотел донести ее как можно больше. Поставив туесок на землю, он выхватил из костра один из камней, прихватив его шапкой, и опустил в туесок. Вода там мгновенно закипела, береста распухла и затянула все щели. — Вот так! — сказал Малев. — Теперь хоть спирт наливай. Отойдя немного в сторону, он набрал горсть всегда зеленого брусничника, выполоскал его, залил чистой водой и заварил тем же способом, предварительно обтерев каленый камень рубахой, чтобы снять золу. Пока остывал брусничный отвар, Малев вырезал пятиметровую жердь, подрезал в двух местах ее конец и согнул треугольником. Получился остов сачка с длинной ручкой, натягивай сетку и рыбачь, но сетки не было, и Малев приспособил вместо нее нижнюю рубаху, завязав узлом ворот и рукава. Чтобы вода все-таки проходила сквозь, он проткнул в ткани ножом несколько отверстий. Последний раз подобным способом Малев рыбачил лет сорок назад, ловил пескарей. Вспомнив это, он хмыкнул и пошел к воде. Такая ловля на родине Малева называлась «накидкой». Веснами, пока не отстоялась вода и рыба не видела снасти, ребятишки не вылазили с речки, накидывая саки на все маломальские заводины. — Господи благослови! — усмехнулся Малев, подумав, что тут-то вода — мутнее не бывает, и набросил свой диковинный сак на крохотный омуток метрах в трех от берега. Он спустил его вниз устьем, почувствовал, когда передняя планка уперлась в дно, и потащил к себе, стараясь не отрывать от земли. Тащить приходилось медленно, потому что вода все же плохо проходила сквозь ткань, хоть там и были дыры. С первого раза Малев накрыл двух крупных чебаков, а уже в следующей заводине зацепил у самого берега пятикилограммового налима, который едва не ушел вместе с рубахой. — Вот он кто — в мутной-то воде живет! — довольно сказал Малев псу, привлеченному возней с налимом. Да, той детской речке было далеко до Притока. Отремонтировав покалеченную налимом снасть, Малев поймал еще килограмма три мелочи, снял с сачка рубаху и сбросил в нее рыбу. «Так-то оно лучше, голова не болит», — думал он, возвращаясь к костру. …Окунев съел кусок печеного налима, выпил горьковатого отвара, приготовленного Малевым, и почувствовал себя бодрее. — Я сам не знаю, зачем сделал все это! — виновато сказал он, хотя Малев ничего не спрашивал. «Поглядеть ты хотел, что выйдет. Вот и поглядел…» — подумал Малев, прилаживая к волокуше рубаху с рыбой. — Мне страшно стало, когда я увидел, что их всплыло так много, — продолжал Окунев, спеша выговориться. — Я ведь художник и природу люблю… «Никого вы нынче не любите, — вздохнул про себя Малев. — Ни себя, ни зверей…» Он втащил Окунева на волокушу, закрепил, чтобы не свалился, потом залил костер, взялся за оглобли и пошел, держа путь к закату. «Какие теперь ночи? — подумал он. — На час разве стемнеет. Идти надо…» Окунев терзался, чувствуя полную зависимость от своего молчаливого спутника, поступающего, по его мнению, совсем не так, как должен поступать инспектор, догнавший браконьера. Он пытался даже как-то объяснить ему себя. — Я в деревне родился! — вспомнил Окунев. Малев хотел ответить, что, может, и так, многие родились в деревне, да не многие помнят, но не нашел подходящих слов. Промолчал.
6
Машина не имела каких-то определенных очертаний, но Окунев знал точно, что эта белая стена за спиной Клары — машина. Клара расставляла около стены корзины, сшитые из бересты. — Зачем они тебе? — спросил Окунев. — Складывать части, — ответила Клара. Он удивился, что части человеческого тела, прежде чем за них примется машина (она трансформировала людей), бросают в корзины. «Могли бы придумать что-нибудь получше», — подумал он, увидев свою ногу, лежащую в такой корзине. Оторванной частью нога касалась грубой коры прутьев, и Окуневу стало не по себе. Потом он сообразил, что видит какие-то сны, и решил управлять ими, чтобы увидеть что-нибудь приятное. Так он стал гостем эскимосского вождя. Они сидели с ним на снегу и пили чай, а вокруг танцевали девушки, похожие на натурщиц. — Это пять твоих жен! — сказал вождь, показывая на девушек. Окунев удивился и хотел спросить, почему именно пять, а не три или шесть, но вождь сказал ему, что таков обычай. — Я принимаю твою веру! — сказал вождю Окунев. Но и этот сон не имел конца, и Окунев рассердился. Он подумал, что достаточно хорошо знает искусство, и может в конце концов позволить себе сон — как полагается — с концом и началом, с завязкой, развязкой и эпилогом. — Я сам придумаю такой сон, если никто не может! — решил он определенно. — Не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами… — сказал Голос, и сон начался. «…В крестьянской избе старик и мальчик схлебывают пену с обрата — обезжиренного синего молока. Мальчику лет восемь, зовут его Мишкой, а старик имени своего не помнит из-за того, что все в деревне называют его Кумом. Кум да Кум — вот он и забыл. — Не беги, не прокиснет! — нарушает молчание Кум и больно щелкает Мишку высохшим костлявым пальцем по шишковатому затылку: тот черпнул синюю пену не в свой черед. Мишка исподлобья подозрительно оглядывает старика, бросает ложку и молча идет из избы. — Опять выживаться стал, — хмуро говорит он, усаживаясь на кособокую прогнившую приступку. Во дворе пусто. Только корова Манька стоит у разваливающегося заплота и вдумчиво что-то пережевывает, хотя травы или какой-то другой коровьей пищи нигде не видно. «Набрала на поскотине полный рот и теперь ест бережно», — догадывается мальчик и двигает губами, сожалея, что сразу проглатывал пищу. Ночь спустилась на землю, а Мишка все глядит на корову, ожидая, когда у нее закончится еда. Все молоко, скопленное за день этой тихой коровой, вечерами выдаивает тетка Поля и без промедления относит в рогатом подойнике на молоканку. Мишке и Куму молока она дает редко, его надлежит сдавать без остатка, чтобы отбить масло. Масло Мишка представляет смутно, он никогда не видел его, так как домой тетка взамен молока приносит один обрат. Молоканка поблизости, поэтому пена на обрате осесть не успевает, и Мишка первый придумал есть ее ложкой. Но Кум, ясное дело, этого не помнит, где ему все упомнить, раз он такой старый. — Манька, а Манька? — зовет Мишка корову, но говорить с ней не собирается, мысли его идут в другом направлении. Мальчик прикидывает, не пожаловаться ли тетке, когда она явится с разнарядки из колхозной бригады, но передумывает. «Подь ты к семи чертям!» — скажет она, и дело на том останется. Мишка вздыхает. Ему грустно от того, что нет у него человека, с которым можно поговорить серьезно: отец и мать пропали без известий в войне, а Зинка померла весной от живота, говорили, объелась. Чем таким можно объесться, чтобы насовсем помереть, когда кругом голод и никакой еды нет, Мишка не знает и пустым разговорам не верит. Сестра у него была совсем большая, ходила и все понимала, только говорить не умела. Мишка скорбно сморкается, зажимая по очереди ноздри грязным пальцем, и вытирает руку о доски завалины. Верь не верь, а Зинку-то закопали. Проглядев его во мраке двора, в избу проходит тетка, зажигает лампу и принимается за что-то ругать Кума. — Пошла работа, — морщится Мишка и решает, что пойдет, пожалуй, завтра сходит к этим семи чертям, поскольку другого выхода не предвидится: долго ли, коротко ли, а придется им с Кумом туда идти, тетка этого дела так не оставит. «Дня за три обернусь, а то — за два, если покруче идти», — размышляет мальчик. Он думает о том, что, может, черти дадут каких продуктов, если обсказать, как обстоит дело, но тут же трезво гонит надежды. Сами, должно, с пятого на десятое живут — время такое. Заодно он отказывается от мысли брать с собой деда: слабый вовсе, не дойдет. — За него и за себя схожу разом, — говорит он корове, — пусть поживет маленько. Выходит тетка и начинает причитать, что навязались вот на нее старый да малый, а она сама еле ноги таскает от трудной работы. «А ну их совсем, — решает Мишка. — Уйду на войну, пусть отдыхают». Он входит в избу и ложится на свое место. Ночью Мишка видит себя большим. Он идет по полю и стреляет немцев из горячего прыгающего пулемета, а когда убивает всех, повар наваливает ему целый котелок жирной каши. Мишка чмокает во сне губами, ворочается. На другой день он встает вместе с солнцем. Кум сидит на лавке, долбит в ступке, поставленной на колени, прошлогоднюю лебеду на лепешки, а тетки нет, пошла провожать корову в стадо. На столе в полулитровой банке стоит немного молока, но Мишка его не пьет. — Пойду я, — говорит мальчик старику. — Ты меня не теряй, а молоко выпей. Он уже не сердится на Кума, зло не живет долго. Старик не обращает внимания на Мишку, продолжает работать. Мишка не мешает, выходит из избы и идет, не задерживаясь, через деревню по следам табуна, перемешавшего на дороге пыль. Он держит путь к северу, где темнеют на горизонте маленькие телефонные столбы. За столбами начинается согра, весной кто-то поджег там камыши, и они горели неделю, ночами в этом краю стояло кровавое зарево, смотреть на которое было тоскливо и страшно. Мишка полагает, что где-то там, за горелой местностью, и располагается фронт. Дорогу мальчик не спрашивает: к фронту ведет степь, идти легко, и все видно. Сухой ковыль и колючки отмякли от росы, Мишка ступает по ним привыкшими ногами смело и быстро продвигается вперед. Когда солнце начинает припекать, он набредает на влажное место. Маленькое зеленое пятно — в желтой горячей степи. Высыхающее болото дает влагу растениям, и они живут вокруг него торопливо и радостно. Мишка идет поискать воду и замечает дикий лук, растущий большими пучками. Он долго и с удовольствием ест его, выбирая молодые стебли, пока не наполняется живот. Потом идет дальше, находит воду, пьет и опять возвращается туда, где растет лук, чтобы заготовить про запас на дорогу. Он собирает толстый пучок, завязывает камышинкой и закидывает на спину. Потом оглядывается, чтобы запомнить удачное место. Деревня давно скрылась за холмами, а телеграфные столбы приближаются тихо, вроде бы он и не шел. Мишка вскоре устает и ложится прямо на ковыль. Он лежит долго, дергает из пучка стебли и неторопливо съедает, думая о том, что неплохо бы угостить луком Кума, потому что если разобраться, то он тоже не очень родной тетке Поле, он ей свекор, а свекор — родня так себе. Солнце поднимается и начинает привычно жечь землю. Дождя нет с весны, и Мишка знает, что коли не будет его еще с неделю, зимой весь народ помрет. Он много раз слышал это от Кума и сердился на солнце: умирать ему не хотелось, и так все умерли. На соседнем холме протяжно свистит сурок, и Мишка удивленно поднимает голову, забыв про солнце: окрест деревни еще по весне выловили всех сусликов и сурков, их мясо стоит в большой цене. Мишка и Кум тоже кормились промыслом, пока завидный человек не унес в одну ночь оба ихних капкана, настороженные на глупых зверей. Теперь в деревне уж давно никто не ловит грызунов, только колхозный объездчик Дергоножка привозит изредка из потаенных мест одного-двух сурчат. Объездчик на войну не пошел по причине короткой ноги, а несмотря на недостаток, был в деревне самым исправным мужиком. — Пустили козла в огород, — говорит по этому поводу Кум и ругается плохими словами. Мишка знает, что дед подозревает в воровстве капканов Дергоножку, но молчит, поскольку не пойман — не вор. Мальчик встает, оставив лук, и подходит потихоньку к взгорку, где сидит сурок, приглядывая по дороге какой-нибудь предмет. Но степь голая. Тогда он оставляет мысль подбить зверя и решает просто осмотреть местность. Он скорым шагом поднимается по склону и видит целое сурчиное поселение. Справа и слева, заметив его, бегут к норам толстые, похожие на маленьких собак, сурки. Мишка собирается продолжать путь, но замечает в одной из нор странно застрявшего зверя. «Сдох, должно, от болезни», — думает мальчик и идет посмотреть, в чем дело. Сурок оказывается живым, в нору ему не давал убежать капкан, сжавший длинную заднюю ногу. Капкан привязан к колышку, вбитому рядом с норой; Мишка осматривает капкан и широко открывает глаза: на пружине виднеются метки, сделанные в свое время Кумом, — два крестика и палочка поперек. Мишка помнит их хорошо, Кум при нем наносил их напильником на поверхности пружины. Мальчик оставляет пойманного сурка в покое, идет кустами. Он находит там небольшую палку, возвращается и бьет сурка по заду, а когда тот выворачивается из норы и скалит длинные как шилья зубы, ударяет его палкой по носу. Зверь перевертывается и скребет ногами. Мишка отвязывает капкан и, устроив мертвого сурка на плечо, обходит остальные норы. Он находит еще шесть капканов, терпеливо ожидающих жертв, снимает их, аккуратно связывает и тоже пристраивает на спину. Мишка знает, что Кум не одобрит его, если он оставит хоть один капкан подлому человеку. Сам мальчик пока еще не научился разбираться в сложных положениях жизни, но ему помогает инстинкт справедливости, заложенный во всех людях. За работой Мишка сильно устает и потеет, он возвращается к покинутому до времени луку, кладет на землю ношу и садится передохнуть перед дорогой. День сворачивает на другую половину, но жара все не спадает. Где-то далеко, на конце неба, курчавятся тучи и даже гремит, но так идет с самой весны, а дождь не доходит до деревни, проливается на землю в ненужных местах. Мишка переводит взгляд с неба на поникшую от жары степь и замечает вдали верхового. Подозрения оживают в мальчике, он узнает Дергоножку. Всадник съезжает в низину и скрывается из глаз, но Мишка уже не сомневается насчет его пути и высматривает место для убежища. Он торопливо собирает поклажу, низом обходит взгорок, углубляется в кочкарник и садится там за стеной камыша. Вскоре из-под кочки неторопливо выползает черная болотная гадюка, сворачивается в полукольцо и опасно смотрит стеклянным глазом на гостя. — Иди, иди, — говорит ей Мишка. — А то вон, видишь? Сила-то у него не меряна, не выболел. Прибьет обоих… Гадюка уходить не хочет, тогда Мишка срывает длинную камышину и издали щекочет пушистой верхушкой узкую голову. Змея отворачивается и стремительно уползает, прошуршав сухим камышом. — Давно бы так, — одобряет мальчик. — Не до тебя… Дергоножка выезжает на взгорок, спугнув успокоившихся сурков, и крутит коня, потом подозрительно оглядывает окрестности, трогает коня в направлении дома. — Ищи ветра в поле… — говорит о себе Мишка и оглядывается, отыскивая глазами змею, чтобы сказать ей, что опасность прошла, но гадюка скрылась окончательно. Мальчик гладит сурка по жирному боку и смотрит на солнце. — Придется топать обратно, — говорит он. — Отнесу мясо, а то пропадет, ишь — жарит… Мишка вздыхает, сожалея, что приходится откладывать задуманный поход, и споро шагает к дому, сгибаясь под непосильной тяжестью. Он идет другой дорогой, решив завернуть по пути на поле, по которому в прошлом году садили картофель. Картофель остался в зиму, копать его было некому, весной солнце высушило землю, а вместе с ней и перезимовавшие картофелины, превратив их в сухие шарики, пригодные для выпечки лепешек и черного крупитчатого киселя. Люди давно собрали этот картофель для питания, но если порыться в земле, можно найти еще гнездо-два. Мишка знает места, где гнезда попадаются сравнительно часто. — Принесу заодно и картошку, — рассуждает он, разрывая куском палки пыльную землю и радуясь, что вернется домой с запасами пищи. Мешка у него нет, но он приспосабливает рубаху, завязав узелками рукава. К вечеру она набирается доверху. Мишка пробует нести все сразу, но сил не хватает. Тогда он замечает впереди приметную травину и относит туда картошку, а потом возвращается за капканами и сурком. Он подходит к своей избе с огородов, перебрасывает через прясло всю поклажу, перелезает кое-как сам и садится на землю. Мысль о том, что все доставлено и теперь уж никто не отнимет у него добытые запасы, успокаивает, Мишка ложится на теплую землю и тут же засыпает, глубоко и спокойно. А когда луна освещает пыльную деревню, его находит Кум. Старик приносит из избы старый облезлый тулуп и перекатывает на него Мишку, укрывает полой. — Кормилец, стало быть, вырос, — заявляет Кум тетке Поле. — Теперь не пропадем. — Солнце нынче в тучу ушло, и воробьи в пыли купались, — должно, дождь будет, — с надеждой говорит она. — Дай-то бог, — вздыхает Кум, поднимает с земли тяжелого сурка и идет по двору свежевать». …— Но это же не сон, — сказал Окуней удивленно. Сознание после передышки опять потихоньку вернулось к нему. Ненадолго.7
К вершине ночи, когда на сером небе проступили блеклые звезды, Малев вышел к ручью, впадающему в Приток. Он знал о нем и все время помнил, но шел, надеясь, что лодка застрянет где-нибудь раньше, а теперь пути вперед больше не было. Ручей, который в разгар лета перешагнуть, что плюнуть, разлился в реку. Художник то ли спал, то ли опять был без памяти, он бормотал что-то невнятное и стонал. «Топоришко бы маломальский!» — думал Малев. Во рту у него пересохло. Хотелось упасть прямо на песок и не двигаться. Он подошел к берегу и черпнул черную воду ладонью. Рука дрожала и расплескивала воду, но он все-таки напился и только тогда прилег недалеко от волокуши, притянув к спине собаку, чтобы грела; так или иначе, а приходилось ждать утра. Часа через два Малев проснулся и оценил обстановку. Положение оказалось хуже, чем он думал: ручей разлился метров на двести. Можно было бы попробовать подняться по ручью и перейти его где-нибудь в вершине, но с волокушей по лесу не пройти, нечего и думать. Ручей и Приток, сливаясь, образовывали длинную косу. Малев стоял на ее конце, а кругом была вода. — Край земли! — сказал сзади Окунев. Малев обернулся и поглядел на заострившееся, с опаленными бровями лицо спутника. — Бросьте меня, потом вернетесь! — вяло предложил Окунев. Ему не хотелось ни говорить, ни двигаться. — Вернусь или нет — бабушка надвое сказала, — ответил Малев, думая о плоте, который без топора едва ли удастся сделать. Примерно в километре ниже по течению Притока виднелся островок, разбивающий реку на два рукава. Остров был достаточно длинный, Приток плотно обжимал его, и Малев почти не сомневался, что лодку прибило к острову. Но близко локоть, да не укусишь. — Давай чай покуда варить! — решил Малев и стал собирать костер из плавника прямо под ногами. Окуневу было все равно. Ему ничего не хотелось и все было безразлично. Костер разгорелся, выбрасывая к небу белый дымок. Сыроватые дрова потрескивали и разбрасывали искры. Малев вымыл несколько кусков налима и укрепил на прутьях над огнем, потом набрал в туесок воды и достал из кармана горсть слегка увядшего брусничника, ополоснул его в струе и встряхнул, чтобы вода стекла. — Вот так! — приговаривал Малев, заваривая чай. — Живы будем — не помрем. Ну, пей, красна девица!.. Окунев впервые увидел, что сухие, обветренные губы спутника чуть тронула улыбка, и автоматически стал глотать горькую, пахнущую баней, красноватую воду. «С него даже портрет не получится — обыкновенное лицо», — вяло думал Окунев, чувствуя, как возвращаются силы. В двух шагах невозмутимо катилась вода. Опять взошло солнце и рассыпалось по ней тысячами зеркал, вспыхивающих в мелких волнах. Через реку пролетел глухарь, Малев проводил его взглядом и подумал, что токам подходит конец, время садиться на гнезда. Он навалился на локоть и закурил, вытянув ноги. — Замечаю — не куришь? — спросил он Окунева. — Не хочу! — отозвался тот, ощущая неприятную горечь во рту. «Верный признак, — подумал Малев. — Курить не хочешь — захворал. К бабке ходить не надо — по себе знаю… Застудился парень…» Он оглядел пустынные белые пески и решил вернуться назад, где лес подступал поближе к воде, посмотреть насчет плота. Он прошел довольно далеко по кромке воды, когда заметил черную доску, ребром выглядывающую из песка. Он походя пнул ее, но доска только спружинила, и он остановился, боясь поверить догадке. Малев опустился на колени и руками отгреб от доски песок. Сомнений не оставалось — это был борт замытой песком старой деревянной лодки. «Без дна, поди?» — суеверно подумал Малев, все еще не надеясь на удачу. Под ногти набивался песок, вода плотно спрессовала его, и Малев оглянулся, выглядывая подходящий к случаю инструмент. Вскоре он нашел короткий заостренный обломок доски, которая при нужде могла заменить и весло. Примерно через час Малев откопал долбленный из цельного ствола громадной осины неводник, поднимавший в свое время, должно быть, тонну рыбы, убедился, что днище у него сохранилось. Правда, по всей его длине, от носа до кормы, шла трещина пальца в два шириной, но Малев решил, что дело это поправимое, если бы удалось спустить эту оказию на воду: того и гляди — разломится. Он вспомнил, что видел где-то на берегу бревно с обрывком алюминиевого троса, походил по пескам и нашел его. Трос он расплел на три части и в трех местах стянул лодку, пропустив проволоку под днище. Поверху бортов он закрутил связки палкой до тех пор, пока не почувствовал, что проволока напряглась и вот-вот лопнет. Получилось не очень надежно, но Малев был доволен. Оставалось столкнуть лодку к воде, что он и сделал довольно легко, используя вместо катков круглые обломки плавника. Лодка скользнула по ним и закачалась на волне, на глазах заполняясь водой. Тогда Малев, поднатужившись, вытащил ее обратно на кромку песка. Вода сбежала в реку, а через трещину в днище стало видно песок. Малев снял пиджак, растянул его на дне лодки, чтобы занимал побольше места, и законопатил главную часть трещины. Оставались еще дыры в носу и корме, но на них должно было хватить рубахи, в которой хранилась рыба. Теперь можно было бы перегнать лодку к волокуше, но, поразмыслив, Малев решил не делать этого. Отплывать от берега надежнее было отсюда; от косы лодку могло пронести мимо острова, дощечкой течения не осилить… Он подтащил волокушу к лодке, вытряхнул рыбу из рубахи, разорвал ее надвое и окончательно заделал трещину. Окунев совсем раскис и тупо наблюдал, как Малев возится с невесть откуда появившейся лодкой. «Ну, — подумал Малев, выгребая на стрежень, — теперь ежели что — и пиджачок не поможет…» Он посмотрел на художника, оценивал его возможности, но тот никуда не годился, сидел прямо в воде, набравшейся в лодку, и не открывал глаз. Загря стоял рядом, поджимая по очереди то одну, то другую лапу, и смотрел на остров. Лодка хорошо слушалась дощечки, которой Малев торопливо загребал воду, она постепенно заполнялась водой, но шла ходко и сидела на воде надежно, как новая. Видно было, что ее делал мастер, и Малев с легкой завистью подумал, что это совсем не просто — из обрубка дерева вырубить такую совершенную вещь. Остров стремительно надвигался. Лодка ткнулась носом в камни, проволоки, стягивающие ее борта, лопнули, и она развалилась на две половинки, как раковина. Окунев оказался спиной на камнях, Малев подхватил его под мышки и оттащил повыше на ровную землю, за кусты. — В самый раз управились, — сказал Малев и бросил последний взгляд на обломки лодки, затонувшие у камней. Из кустов к людям бросилась, радостно повизгивая, тощая грязно-белая собачонка. Загря мгновенно сбил ее с ног, и она тоненько заскулила, поджав хвост. — Цыц ты! — заорал на пса Малев, и тот опустил на загривке шерсть, настороженно обнюхивая гостью. Малев подошел к собаке, потрепал за ушами, и сучонка доверчиво прижалась к его ногам, боязливо косясь на Загрю. «Льдом унесло от хантов», — сделал выводМалев и пошел осматривать остров. Как он и думал, его лодка была здесь. Нависшие над водой корни подмытых деревьев крепко держали ее за мотор. «Ладно, что не затопило!» — облегченно вздохнул Малев и принялся освобождать лодку из паутины корней. Белая собачонка кубарем слетела в лодку вслед за ним и прижалась к баку. — Ишь ты… Найдена! — ласково пробурчал Малев. — Натерпелась тут. Он на веслах обогнул остров, соображая, что теперь-то ему сам черт не брат, и не успел еще пристать к кусту, за которым лежал Окунев, когда услышал мотор. Он сразу узнал Пожарника, столбом возвышающегося на носу лодки, и погодил причаливать, чтобы тот тоже его заметил. За рулем сидел Васька-рыбак, он лихо воткнул лодку в песок между камнями и заглушил мотор. — Здорово, Иван Александрович, — заговорил Васька, удивленно глядя на Малева. — Да ты тут рыбачишь, никак? Малев промолчал, с брезгливым любопытством оглядывая Пожарника, точно видел его впервые. — Парня евоного ищем, художника! — объяснил Васька. — Всю реку изъездили, сгиб, видно, парнишка… — За кустом вон лежит! — сказал Малев. — Ну?! — Васька от неожиданности открыл рот и выпрыгнул из лодки. Окунев глядел равнодушными глазами и не пытался даже подняться. — Ой-о-ой! — заохал Пожарник. — Что это с тобой такое сделалось? А лодка где? Пожарник уже заглянул в лубок и убедился, что нога у Окунева на месте, не оторвана. — Лодка утонула! — сказал Окунев. — Я потом расскажу… — Да как же это? С ногой-то что? — спрашивал Пожарник, лихорадочно подсчитывая убытки: мотор — четыре сотни, лодка — двести восемьдесят… — Ты не причитай, его в больницу надо везти, а то плохо будет, — сказал Малев. — Сейчас, сейчас, помоги-ка, Васька! — заторопился Пожарник, жалея лодку и радуясь одновременно, что Малев, видно, ничего не знает о взрывчатке. «Как-нибудь извернемся, извернемся как-нибудь», — лихорадочно думал он. С помощью Васьки Пожарник уложил Окунева в лодку и вернулся на берег за спасательным жилетом. — Сейчас, сейчас, — бормотал он. — Ты где аммонал берешь? — бесцветным голосом спросил Малев и придержал за рукав наладившегося в лодку добытчика. — Да ты что? — чувствуя, как немеет спина, закричал Пожарник, отступая к воде и оглядываясь на Ваську. — Какой аммонал? Васька дипломатически молчал, освобождая весла. Загря, вытянув шею, пружинисто шел за Пожарником, готовый вцепиться ему в горло по первому знаку хозяина, но Пожарник его не замечал, не смея оторвать глаз от лица Малева. Вода уже лилась через голенища коротких Пожарниковых сапог, но он продолжал пятиться. — Ты это… — не меняя голоса и не двигаясь с места, продолжал Малев. — На реку больше не кажись. Отвадься. — Садись! — Васька ткнул Пожарника в спину веслом, и тот задом завалился через борт в лодку, болтая сапогами. — Пока, Иван Александрович! — крикнул Васька и отпихнулся веслом от камней. — Ширмач! — бормотал Пожарник, нервно передергивая плечами. Он никак не мог отделаться от холода, сковавшего позвоночник. — Такой утопит и не задумается! — Ага. Кончит! Даже не сомневайся, — радостно уверил Пожарника Васька и завел мотор. Окунев хотел сказать, что не будет Малев никого убивать, не такой он человек, но передумал. Для пользы дела.8
Малев подъехал к своему берегу минут через тридцать после того, как Васька увез художника. Подружившиеся собаки выскочили из лодки, едва она коснулась песка, и убежали в пойму, а он, усмехаясь своей недавней оплошности, несколько раз обмотал лодочную цепь вокруг коряги, торчавшей из обрыва, и защелкнул карабин. В обласке лежал мешок с продуктами, дополнительно присланными из дому Марией, тут же валялся хомут с постромками и вальком, а неподалеку ходила лошадь, выбирая из-под старой травы проклюнувшуюся молодь. Увидев Малева, лошадь приветственно заржала и подошла к обласку. — Натосковалась? — спросил Малев и развязал присланный из дома мешок. Лошадь потянулась мордой к мешку, и он дал ей кусок калача, с удовольствием ощущая на своей ладони мягкие лошадиные губы, потом позвал собак. — Найдена! — крикнул Малев, и белая собачонка подбежала к нему, торопливо выбравшись из кочек, где промышляла мышей. «Ну вот, и мы не без заутрия», — подумал довольно Малев, радуясь, что собачонка уже усвоила имя. Он дал ей большой кусок калача и оглянулся на Загрю, который ревниво наблюдал за ним со стороны. — Иди, иди, — позвал Малев. — Не стесняйся! — И пес подошел и осторожно взял свою долю. Все было ладно, по уму; Малев с наслаждением вытянул ноги, привалился спиной к мешку и закурил. Перед ним лежала пойма, испещренная блюдцами-озерами и покрытая бурой прошлогодней осокой. За поймой у горизонта темнели холмы материка, справа к материку уходила узкая грива, заросшая лесом. В голых ветвях старой осины на ближнем краю гривы Малев видел черную точку — орлиное гнездо, там был его стан. Над поймой перелетали табуны уток и гусей, а где то в стороне кричали лебеди. Большой черный муравей выполз с травы на руку и побежал по ней, намереваясь забраться под рукав. Малев осторожно стряхнул его на траву и закрыл глаза. Зима была долгой, но весна опять пришла в пойму и еще будет приходить. Не однажды…Рассказы о стариках
Кассир
На эвакуацию всем выписали повышенный аванс, поскольку никто не знал, как пойдет дело: дорога, она дорога и есть. Эшелоны с оборудованием цехов и основным народом отбыли в воскресенье, а в понедельник должен был уйти последний состав с разной мелочью, нужной на новом месте. Снимать ее отрядили людей, которые посмелее. Оставшимся выдавал деньги горбатый кассир заводоуправления Филюкин. В понедельник утром он одетый сидел в кассе на своем обычном месте и глядел в зарешеченное окошко. Утро было ветреное и сырое. В комнате дуло как на улице, потому что стекол в окне не было — высыпались от бомбежек. Филюкин не знал, сколько времени ему придется сидеть в кассе, он плотно завернул в пальто тощее тело, а руки спрятал в рукава. В окно ему видать было часть заводского двора, проходную и площадь перед ней. На площади рябились большие лужи и ходили голодные взъерошенные голуби. Проходную никто не охранял, и это обстоятельство злило Филюкина больше всего. Получалось, что завода нет, а он, кассир Филюкин, пребывает здесь случайно и последние часы. В окошечко, устроенное в глухой деревянной стене по правую руку от кассира, застучали нетерпеливо и громко. Филюкин повернул на стук узкое с глубоко сидящими глазами лицо и погодил открывать, потому что касса — не пивной ларек. По стуку он определил, что явился слесарь Марьин из четвертого цеха, непутевый парень и любитель выпить. Филюкин убрал задвижку, выждав определенное время, и строго посмотрел на Марьина. На голове слесаря была шапка-ушанка без левого оторванного уха, а сам он был весь перемазанный грязью и провонял дымом. Марьин нисколько не удивился, обнаружив кассира на привычном месте; сколько он помнил себя на заводе, Филюкин всегда сидел здесь. Но время было смутное, и Марьин на всякий случай решил похвалить Филюкина. — Молодец, хрыч! — сказал Марьин. — Дело соблюдаешь. Марьин — все знали — был шалопай, но кассиру стало приятно, что его похвалили, хотя вида он, конечно, не подал, а отыскал в ведомости фамилию слесаря, поставил знак, где расписываться, и отсчитал деньги. Выкидывая красные тридцатки перед носом Марьина, Филюкин еще раз пересчитал их и сказал, чтобы Марьин проверил деньги, не отходя от кассы. Марьин, не считая, сгреб деньги и ушел, но вскоре воротился. — Слышь-ка, старик! — заорал он через стену, так как Филюкин уже затворил окно. — Парторг сказал, чтобы ты сидел. И никуда!.. Понял? Попеременке подбегать будут. Слышишь? — Слышу, — сказал Филюкин, и Марьин ушел. После ухода слесаря кассир сосчитал в ведомости людей, не получивших деньги. Их вышло семнадцать, на сумму пять тысяч сто рублей. Филюкин открыл старый облезлый сейф, проверил деньги и опять стал спокойно глядеть в окно, потому что в сейфе столько оно и было — пять тысяч сто. Во дворе копошились вокруг машины люди, грузили железо. Единственная эта машина моталась к тупику, где стоял состав, и обратно почти беспрерывно. Филюкин прикинул, что если так пойдет дело, то к вечеру они управятся. Среди людей у машины он разглядел парторга в телогрейке и с наганом у пояса, но у других оружия не было видно, и это Филюкину тоже не понравилось: мало ли что… Постреливали где-то поблизости, но кассир не волновался, он знал, что город запланировано сдавать ночью, — слыхал такой разговор. «Переможится», — решил он насчет стрельбы и стал думать о том, что хорошо бы догнать на какой-нибудь станции своих, чтобы сообща прибыть к новому месту. На площадь перед главными воротами завода выбежали два красноармейца с ручным пулеметом. Оглядевшись, они перебрались к проходной и залегли там за бетонным порогом. Проходная, таким образом, оказалась опять охраняемой, и Филюкин удовлетворенно подумал, что порядок, он всегда рано или поздно, а вернется, не бывает такого, чтобы не вернулся. Успокоенный боевым видом красноармейцев, он подумал даже, что все еще образуется, отгонят немцев и эшелоны вернутся, но суеверно прогнал хорошие мысли, чтобы не испортить дело. Загадывать не полагалось — Филюкин знал это на собственном опыте. В молодости он загадывал, что, может, найдется какая женщина и полюбит его не глядя на горб. Не нашлась. Потом устроился на завод и думал уж, что дотянет до пенсии на сподручной работе, а оно вон как повернулось… Филюкин приготовил ведомость, чтобы человек, когда придет, мог расписаться без задержки, но на лестнице затопали сапоги, и слесарь Марьин заорал снизу, чтобы Филюкин выкатывался на волю. — Шевелись! — кричал Марьин. — Немцы! — А как же деньги? — удивился Филюкин, но никто ему не ответил, внизу стали стрелять. Тогда кассир рассовал деньги по карманам, взял ведомость, химический карандаш, чтобы было чем расписаться, и побежал к выходу. Ноги еще служили ему исправно. Слесарь Марьин поджидал кассира в подъезде, выставив дуло винтовки наружу. — Отступай к западной проходной, — приказал он Филюкину и бахнул из винтовки неизвестно куда. «Дурак! — решил кассир. — В войну играет». Но Марьин в войну не играл, Филюкин понял это, когда выкатился из подъезда и едва не наступил на парторга, лежащего поперек дороги. Парторг стрелял из нагана и даже не взглянул на Филюкина. Кассир огляделся, увидел, что на площадь перед проходной въезжают мотоциклы, и побежал вдоль забора к противоположным воротам. У проходной враз ударили несколько пулеметов и кто-то закричал длинно и тонко. Впереди Филюкина отступал шофер с полуторки Степанов, мужик тяжелый и воловатый. Он был без оружия и скоро задохнулся. Кассир настиг его за углом и упал рядом. Степанов хрипел и плевался вязкой слюной. — По домам надо разбегаться, немцы станцию взяли, — сообщил он Филюкину, но того в данный момент этот вопрос не интересовал. — Распишись! — сказал Филюкин и подал карандаш шоферу, опасаясь, как бы тот не надумал бежать с карандашом. Он сунул шоферу деньги и побежал дальше, чтобы поспеть перехватить у западной проходной остальных. «Мало ли что — станцию заняли, — размышлял он. — Хоть на поезде, хоть пешком — без денег много не отступишь…» Рабочие перебегали в глубь завода отстреливаясь, хотя немцы за проходную входить не решались, а палили по заводу прямо с площади. Толку от этого не было, а шум был. Филюкин стоял за каменным углом проходной и старался по шуму определить, как идет бой. Минут через пять к нему присоединились восемь или десять рабочих, и он немедленно выдал им деньги, потому что война войной, а ведомость должна быть закрыта. Подбежали парторг, Марьин и красноармеец с пулеметом, другого убили. — Все! — закричал Марьин. По всему городу шла стрельба, и ничего нельзя было понять. Тишина стояла только в одной стороне — за старой железнодорожной веткой, которая шла от завода к щебеночным карьерам. Этой веткой пользовались, когда строили завод. — Отходить к карьерам, за ними дорога! — приказал парторг и с сомнением посмотрел на Филюкина. Филюкин дал парторгу расписаться и спросил, где остальные. — Разбежались, должно быть, по домам, — ответил парторг и понюхал простреленную руку, из нее капала кровь. — Отступать надо, — сказал красноармеец, стукнул о рельсы ненужный пулемет и полез с насыпи. — Дорогу перережут. Филюкин подумал и отстал потихоньку от всех, чтобы не мешать отступлению. Он решил потолкаться пока у насыпи на случай, если кто остался на заводе и будет пробегать мимо. Филюкин лег в репьях, достал ведомость и пересчитал деньги, он не любил работать вполруки. Репьи были густые, с широкими лопухами, Филюкина ниоткуда не было видно, и если бы не сырость, было бы вовсе хорошо. Филюкин лежал тихо и недвижно, наблюдая за видимой частью завода. Об ушедших он не печалился; деньги они получили. Немцы постреляли издали по заводу, посовещались и решили обследовать территорию. Филюкин видел, как они, выставив вперед автоматы, осторожно прошли проходную и рассыпались на группы. В путанице строений он скоро перестал их различать, но слышал хорошо. Прочесав завод, немцы уехали. Филюкин полежал еще с полчаса, но никто больше из завода не выходил, и кассир решил идти в город. Городок был небольшой, Филюкин знал, где живут не получившие деньги рабочие, и надеялся застать их дома.Браконьер
Лоси пересекли распадок и ушли вверх по горе. Их раздвоенные коровьи следы терялись в корявом ельнике, одевшем понизу гору, выше лес был стройнее. Боков, ломая гнилые нижние ветви, продрался через подлесок, снял лыжи и полез по крутому склону, используя лыжи как палки. Он часто отдыхал, вытирая шапкой узкое с чалой бороденкой лицо, давал остыть сердцу. В половине горы подъем стал круче. Старик надел лыжи, пошел вдоль склона искать место поположе, не нашел и опять полез прямиком. Перевал уже угадывался впереди по просветам между елями, когда Боков поскользнулся, выронил лыжи и упал лицом в снег. Он долго лежал, пережидая, пока перестанет дергаться от непомерного напряжения горло, и ни о чем не думал. Только отворотил лицо немного в сторону, чтобы попадал воздух, а головы не поднимал: горячей щеке было приятно в снегу. Рядом, за перевалом, злобно лаял Трус, остановивший лосей, но Бокова этот лай больше не волновал, силы ушли из него. Трус задыхался, хрипел, лохматым клубком кидаясь под ноги животным. Лось-рогач сердито крутил нацеленной на него головой, бросался и загонял в густерню, под схлестнувшиеся лапы елей. Пес, повизгивая, забивался под них, но стоило лосю отойти, как он тут же оказывался перед его мордой. Лось был молодой, сильный и злой. Трус надоел ему, он отпрыгнул, присел слегка на задние ноги, весь напружинился и стал ждать. Но пес не показывался, старый и опытный, он знал, чем грозит ему такая поза. Лось подождал немного и неторопливо побежал, а этого Трус вынести не мог. Он выбрался из-под кустов и бросился к быку, пытаясь обойти и добраться до уязвимой морды. Но он не рассчитал и молчком ткнулся в снег, убитый наповал коротким ударом острого копыта. — Решил собаку сохач! — безразлично подумал Боков, отметив разом оборванный лай, но тут же охнул, трезвея, пополз на четвереньках к вершине. А лось гордо постоял над неподвижной собакой, предупреждающе постукивая ногой, и спокойно затрусил вниз. Лосиха все это время ждала неподалеку в мелколесье, тревожно повернув к месту схватки комолую губастую голову. Она дождалась, пока самец подбежит к ней, и пошла в чащу. Боков насилу дотащился до перевала и вскоре нашел Труса. По следам он понял, как все было, и долго сидел в снегу, сжавшись от горя. Потом встал, рукой обтер с лица высохший солью пот и, не оглядываясь, двинулся обратно. Закапывать собаку не было сил. К лошади, привернутой у приметной осины, Боков добрался в потемках, похудевший и слабый. С трудом подтянув чересседельник, он ничком упал в дровни. Рыжко потихоньку развернулся и некруто повез недвижимого хозяина старым следом в деревню. Дома распрягать лошадь Боков не стал, а слез с дровней и прямиком в избу. Как был в валенках, шапке, пиджаке, стеженых штанах, так и залез на печь, только полушубок сбросил у порога. Места на печи ему хватало вполне, ростом он был небольшой и тощий. Старуха стала допытываться, что с ним приключилось, но Боков разговаривать с женой не пожелал, лежал и молчал. Поворчав немного, она пошла и сама распрягла Рыжка, а потом подалась через всю деревню к Хорихе, поговорить насчет Бокова. Хориха считалась в деревне знающей, умела блазн снять и хворь изгоняла. Она пошла к Бокову с его старухой вроде бы занять дрожжей, а на самом деле, чтобы поглядеть на старика. Боков это дело сразу раскусил и прогнал доморощенную ведьму. — Ступай, бабка! Ступай, — сказал он ей в ответ на домогательства о здоровье и пригрозил «тыкнуть ухватом». К утру Боков отогрелся, хотел слезть с печи, поглядеть лошадь, но не сумел: ноги ему не повиновались. — Обезножел… Накликала ведьма, — заключил про себя Боков и притих, больше не возился. Старуха утром пошла в сельсовет звонить в город сыну, поскольку Боков сказал ей, что скоро начнет помирать. Сын на другой день приехал и привез с собой из города знакомого доктора. Боков дал доктору себя обследовать и не перечил, когда с него снимали ватные штаны и пимы, ему было приятно, что сын у него хотя и большой начальник в городе, а заботливый, приехал. Доктор сказал, что у Бокова разыгрался ревматизм, а так он еще ничего, крепкий. Он дал старухе Бокова мази и наказал натирать ему ноги дважды в день — утром и вечером. Сын перед отъездом долго уговаривал Бокова бросить все и переезжать к нему в город, квартира, дескать, большая, места хватит… Старуха была согласная, но Боков воспротивился наотрез, сказал, что никуда не поедет, не будет на старости лет поглощать городскую пыль, а помрет, как положено, на родительском месте. Когда гости уехали, Боков хорошо обмыслил все обстоятельства и приказал старухе идти за соседом. В соседях у Бокова проживал бывший тунеядец, осевший в деревне. Парень женился на вдове с двумя ребятишками, за что Боков одобрительно к нему относился и называл «тунеяром». Со временем это прозвище превратилось как бы в фамилию, и никто уже не помнил настоящего имени боковского соседа. Тунеяр явился незамедлительно, и Боков без лишних разговоров попросил его пособить старухе зарезать овечку. — Ты ведь лицензию хлопотал, али не дали? — удивился Тунеяр, обучившийся говорить по-деревенски и наслышанный, что Боков добивался в районе лицензии на убой лося. Боков разъяснить дело не успел, не дала старуха. Высокая, чуть не вполовину выше мужа, могутная женщина, она прямо осатанела, прослышав про овечку, и тотчас вытолкала из избы невиновного Тунеяра. Боков хотел, как бывало не однажды, осадить жену, но вспомнил свое положение и только накрыл голову пимом, чтобы не слушать, как она обзывает его разными непристойными словами. «Погоди — подымусь…» — мрачно мыслил Боков, прикидывал, как лучше расправиться с непокорной бабой, когда в ноги возвернется сила. Хворал Боков долго. С макаронов и рыбных консервов, которые старуха приобретала в деревенской лавке, он совсем отощал и маялся животом. Безвылазно проживая на печи, Боков наблюдал жизнь тараканов и вспоминал годы, когда был помоложе, а в доме не переводилось мясо. Теперь на такое житье рассчитывать не приходилось, и Боков сильно горевал, что кончает жизнь, питаясь такой неподходящий пищей. Но теперь уже ничего не поправишь. Частенько он поминал Труса, погибшего в начале зимы, и все больше склонялся к тому, что его вина — погибель собаки, не подоспел вовремя. — Может, он оттого и полез под копыто, что понял — не охотник я боле? — спрашивал Боков пространство за печкой и подолгу ждал ответа. Засыпая, охотник бродил с лайкой по заповедным местам, и они обсуждали разные общие дела. — Шестой год ты у меня проживаешь, — сообщал псу Боков. — Не надоело? — Что ты? — отвечал пес. — С тобой не соскучишься: мужик ты ходкий. — Где уж там, — смущался Боков. — Вот раньше… — Гляди, — предупреждал пес, — белка! Видишь? Вон, на третьей лесине. Верхи пошла! Боков стрелял белку, сдирал шкуру, а тушу давал Трусу. — Куницу бы поискал, — просил он. — Дорогая вещь, одна — тридцать белок стоит. — Не стало вовсе куницы, — жаловался пес, — бегаешь, бегаешь… — Время теперь для ей тяжелое, — объяснил Боков, — ружья в каждом дому… Как на войне живет зверь… Так они и беседовали, продвигаясь помалу вперед, пока навстречу не попался тот лось. — Продай собаку, Боков! — ревел он. — Добром говорю — продай! Боков вскидывал ружье, трудно ворочался, будил себя и подолгу лежал без сна, все думал. В марте дело вроде бы сдвинулось к поправке. Боков уже сам слезал с печки, выходил на улицу и подолгу просиживал на солнышке, копил силу. Двухметровый снег в огороде, а стало быть, и в лесу, подтаивал днями под солнцем, утром же покрывался твердой ледяной коркой. Боков повадился утрами в огород, раздалбливал палкой корку и что-то прикидывал про себя. Однажды он отыскал в чулане свое ружье, заржавевшее без присмотра, промыл в керосине и смазал. В конце марта выдался особенно теплый день, с крыш бежало ручьями. Боков повеселел, полез на избу и столкал весь снег, замшелые, почерневшие доски крыши сохли на глазах, от них шел пар. А к вечеру ударил мороз, потянуло зимой, и это бесповоротно вернуло охотнику бодрое состояние духа. Весь вечер он точил ножик, напевая хрипатым голоском насчет того, что «бросит водку пить, поедет на работу и будет деньги получать каждую субботу». Старуха подозрительно на него косилась, но ничего не говорила, опасалась. На другой день он встал рано, вышел, как всегда, в огород и попытался расколотить палкой ледяную корку на снегу, но она не подавалась. Для верности Боков ударил по льду пару разов пяткой, пробить не смог и пошел запрягать Рыжка. — Куда это лыжи-то навострил? Али забыл с перепугу, что запрет? — ехидно поинтересовалась старуха, но Боков ответом ее не удостоил, а продолжал свое дело. Он бросил на сани чистый брезент, лыжи, приспособил топор, отзавтракал, закинул на плечи ружье и на зорьке подался со двора. Дорога за ночь превратилась в горбатую катушку, сани съезжали с нее то на один, то на другой бок, Рыжко шел осторожно, но Боков не торопил его, ехать было не так далеко. Много раз он забывался и вертел головой, разыскивая глазами собаку… Вскоре охотник свернул с наезженной дороги и по еле заметному следу ударился в сторону. Он проехал километра полтора, остановил лошадь, бросил ей на снег сена, старательно приладил к пимам лыжи и покатил по звенящему насту, держа в обход синеющей впереди болотины. В болотине, среди густых тальников, отлеживалась лосиха, выжидая, пока солнце отпустит наст. Рогач топтался рядом, осторожно прислушиваясь ко всем звукам. Бык заметно похудел за зиму, но был все так же свиреп и решителен. Он вздрогнул, когда услышал подозрительное похрустывание, идущее от перешейка, соединявшего болото с лесом. Рогач еще не знал, что это Боков жестоко и расчетливо отсекает его от спасительного леса. Он ткнул мордой подругу, предлагая подняться и изготовиться к бою, но тут же испуганно прянул: ветер донес до него человеческий запах. Лось медленно пошел прочь, оглядываясь на самку и осторожно пробивая копытами твердый, как железо, наст. Лосиха недовольно поплелась сзади. Боков пришел на место, где лежали лоси, внимательно осмотрел все и споро побежал по свежему следу. Лыжи шли легко, не проваливались. — Теперь поглядим! — многозначительно пообещал неизвестно кому охотник и стрельнул в воздух. Рогач, после выстрела, метнулся по полю вскачь, увлекая за собой комолую лосиху, но сразу же остановился: ледяные лезвия наста в клочья изодрали на ногах кожу. Идти дальше лоси не могли, но Боков напирал, и они тяжело побежали, оставляя на снегу кровь и лохмотья кожи. Первой не выдержала лосиха. Она легла в снег и, беспомощно вытянув шею, стала ждать человека, дрожа от боли и страха. Боков не обратил на нее никакого внимания, только покосился и прошел мимо, в перелесок, где в неглубоком ложке стоял обессиленный рогач, судорожно поводя впалыми боками. Минуту они смотрели друг на друга, потом Боков неторопливо снял с плеча ружье и выстрелил, целясь в лоб, под рога. Наверное, потому, что задохся, он малость обвысил, пуля скользнула с лобовой кости, срезав кончик рога. Оглушенный бык осел задом в снег, нелепо задрав красивую голову. Боков передернул затвор, подошел поближе и выстрелил ему в ухо. Впервые за длинную охотничью жизнь Бокову хватило дня. Солнце стояло еще в половине сосен, а он уже управился, разрубленная на куски туша лося была уложена на сани и накрыта брезентом. Шкуру Боков брать не стал, свернул в тюк и закопал в отдалении в снег вместе с рогатой головой и ногами быка. Потом отогнал лошадь и забросал чистым снегом окровавленное, утоптанное место. Ничего, кроме удовлетворения и усталости, он не чувствовал, присел на сани и долго курил, соображая, что ложок попался удобный, весной всю требуху смоет полой водой, очистит землю. В деревню Боков приехал потемну, сходил за Тунеяром, и вдвоем они перетаскали мясо на сеновал. Боков дал соседу за помощь пуда два мяса и пошел спать. А чуть свет его разбудил участковый и сообщил, что ему поступило донесение об убийстве лося в запретное время, поэтому он вынужден произвести в подворье Боковых обыск. — Хориха настукала, — шепнул Бокову Тунеяр, которого участковый привез в понятые. Боков припомнил, что она мельтешила у ворот, когда перетаскивали мясо, и понял, что пирогов с осердьем ему не видать. — Ищи, коли потерял, — грустя, сказал он представителю власти и стал одеваться. Участковый вывел Бокова во двор, поставил у поленницы, приказал понятым лезть на сеновал, а сам пошел оглядывать конюшню. Тунеяр и Зинка, соседка Бокова с другой стороны, залезли по лестнице на сеновал, походили там, поговорили, спустились обратно и доложили участковому, что ничего не нашли. Участковый им не поверил и полез на сарай сам, из чего все поняли, что он знает, где лежит мясо. Участковый вскоре вернулся на землю и набросился на Тунеяра и Зинку: мясо лежало на виду, не заметить его никак было нельзя. — У тебя, у лягавого, нюх на эти дела особый, вот ты и нашел, — объяснил участковому его успех Тунеяр, а Зинка засмеялась. Участковый рассерчал совсем, сказал, что привлечет Тунеяра за оскорбление власти, и приказал сволакивать мясо вниз, а сам пошел в избу сочинять протокол. Тунеяр залез и стал сбрасывать мясо на землю как попало, но Боков строго сказал ему, чтобы не баловал, добро следует оберегать. Тогда Тунеяр спросил у него, не раздать ли мясо, народу во дворе набилось достаточно. Боков одобрил предложение, Тунеяр мигнул ребятишкам, и они сразу его поняли… Заднюю, четырехпудовую, часть, которая ребятишкам оказалась не под силу, легко перебросил через прясло в проулок кузнец Прохор, и она сразу утонула в глубоком снегу. Когда участковый вышел, чтобы позвать Бокова и понятых подписать протокол, мяса уже не было. Участковый все понял. Тунеяр протокол подписывать отказался, нагло заявив, что мяса не видел. Зинка расписываться тоже не пожелала. Боков прикинул про себя это обстоятельство и решил молодых в грех не вводить, расписался в протоколе. — Зря это ты! — укорил его Тунеяр, когда участковый скрылся, забрав только боковское ружье. Боков кивнул согласно головой, сгорбился и пошел потихоньку в избу, он опять почувствовал себя худо. Старуха причитала, Боков хотел прицыкнуть на нее, но передумал: «Существо слабое». По весне, примерно через месяц после происшествия, пришла повестка — ехать в район на суд, но Боков не поехал, велел передать, что хворает. Его осудили заочно. Сын заплатил штраф и летом перевез стариков к себе в город, где Боков вскоре умер. Схоронили охотника, по его наказу, на деревенском кладбище, рядом с отцом, матерью и братовьями. В родительские дни, когда вся деревня веснами пировала на кладбище, поминая успокоенных, на могилу к Бокову непременно заявлялся пьяный Тунеяр, выпивал из бутылки стакан водки, а остатки выливал под крест, чтобы покойник тоже выпил. Он не знал, что кресты ставят в ногах.Синяя птица
Дед Мирон помирал. Третьего дня он шел по огороду из бани, зацепился нога об ногу и сел в снег. Земля крутнулась под ним и стала на место, а он встать уж не смог. — Становая жила размякла и лопнула, — определил дед и стал ждать, пока кто-нибудь выйдет из дома. После бани ему было тепло и уютно в снегу, и он не очень-то волновался. Его положили на широкую лавку подле нештукатуренной бревенчатой стены под окно. Он вытянулся на мягкой подстилке и затих, не ел и не пил. На стене перед ним висели ходики, он некоторое время глядел на них, соображая, чего это так медленно двигается маятник, но, решив, что дело это теперь не его, закрыл глаза и стал ждать смерть. Мысленно он перебрал всех деревенских стариков, прикинул по годам, очередь получалась его… К смерти дед Мирон относился спокойно и серьезно, как к работе, которую надо исполнять. У него, кстати, все было давно готово к ней, даже гроб и тяжелый ясеневый крест, на котором он еще три года назад написал чернильным карандашом свое имя, фамилию и год рождения. Наследникам назначалось только проставить на кресте дату смерти. Но смерть что-то не шла. Вместо нее явилась фельдшериха из деревенской больницы. Сноха называла ее Зинаидой Ивановной, чему дед малость подивился: сколько он помнил, в деревне все звали фельдшериху Зиной, а то и Зинкой, потому как была она местная. Деду все теперь виделось как в кино при замедленной съемке, поэтому он спокойно отметил, что Зинка «тоже не торопится», и стал ждать, что будет дальше. Он не возражал, когда она крутила и ощупывала его ослабшее тело, и не отвечал, когда спрашивала, где болит. «Ладно, — думал он, — где болит, там и болит». Дед лежал спокойно, глаз лишний раз не открывал, только прислушивался к тому, что делается за стеной. На улице, как он предполагал, крутила непогодь: в окно бил снег. Краем уха он услыхал, что Зинка собирается вызывать врача, вспомнил, что до района сорок километров, и мысленно усмехнулся, туда и в добрую-то погоду вороны не летают, а теперь и подавно… Дед Мирон немного оживился перед уходом фельдшерихи, даже пожалел, что как следует не выдрал ее крапивой, когда лет двадцать назад застал в своем палисаднике. Уходя, она сказала, что, дескать, если что, то, мол, и в область позвонит, оттуда врачи прилетят. Фельдшериха ушла, а дед стал обдумывать, как такое может случиться. До Челябинска — в деревне считали — двести километров. Дед представил себе все это пространство, до неба набитое снегом, и плюнул на одеяло. — Дуреха — дуреха и есть! — заключил он. Дед хотел еще осердиться на Зинку, но не успел, сознание тихонько ушло из него. Он лежал, вытянувшись во всю длину лавки, скрестив на груди руки, как и полагается покойнику. Часы на стене будто ждали этого, взяли и остановились. При жизни дед строго наблюдал за ними, поэтому его четырехлетний внук Колька подошел к лавке и подергал старика за бороду. Он хотел сказать ему про часы. Мать оттащила Кольку и собралась нашлепать, но тут в избу к ним пришло много людей. Они положили деда на носилки, накрыли тулупом и унесли. Колька увязался было за ними, но мать его не пустила, сказала, чтобы сторожил избу. Все ушли. Колька повертелся около окна, но, так как оно замерзло, ничего не увидел. Ему стало скучно одному в пустой избе, он поревел немного, потом поставил друг на друга табуретки, залез на них и пустил часы — все-таки занятие… Вскоре вернулась мать и сказала Кольке, что деда увезли на самолете в город. — Должно — не довезут, — вздохнула она. Но деда Мирона довезли и сделали нужную операцию. Очнулся он в большой светлой палате областной больницы, открыл немного глаза, осмотрел незнакомое место и снова закрыл. Потом тихонько пошевелил под одеялом ногой… Дежурная сестра заметила эти упражнения, подошла и отодвинула штору на окне рядом с кроватью. Старик, сообразив наконец, что видит не рай и не сон, приподнял голову и поглядел в окно. Как раз в это время во двор больницы опускался вертолет. — На нем тебя, дед, и привезли, — пояснила сестра. Дед Мирон кивнул, но спрашивать ничего не стал, решив, как поправится, хорошенько все разузнать. Поправлялся дед Мирон на глазах. Он освоился и свободно разгуливал по палате, а то лежал, часами разглядывая на стене репродукцию с известной картины Герасимова, изображающую какой-то общий праздник в неизвестном месте. — С чего это они? — недоумевал дед, осматривая невиданных краснощеких людей. Потом он привык к картине и удивлялся уже по другому поводу: — Надо же… Столь народу нарисовал человек, а все как есть: глаза, руки, ноги… Зрение у деда Мирона было отличное, детали он различал досконально. Выписали его из больницы недели через три теплым солнечным деньком. Дед получил свою одежду в подвале и отправился спрашивать про человека, который вертолетами командует. — Интересуюсь, — разъяснил он дежурной по больнице. Комната санитарной авиастанции оказалась в этом же помещении, через три двери от комнаты дежурной. Дед подошел, подозрительно оглядел дверь, решительно ничем не отличающуюся от других, расправил бороду и постучал. Помещение деду не понравилось: тесновато. Но вида он не подал, сказал, кто он такой есть, и познакомился с начальником. Что это начальник, дед определил сразу: сидит отдельно, строгий и при галстуке. «Фамилия будто нерусская — Луневич, но мужик серьезный, ничего», — расценил начальника дед и спросил, верно ли, что его, Мирона, доставили в больницу на самолете. Луневич подтвердил, что все так и было, а девчушка, вроде деревенской фельдшерицы, сидевшая за особым столом с телефонами, даже показала толстую книгу, в которой была записана его фамилия под номером восемь тысяч шестьсот девяносто два. Дед уважительно подержал книгу в руках… Его интересовал вопрос, всех ли теперь больных возят на самолетах или не всех. Луневич объяснил, что нет, не всех, а только тяжелых и оттуда, куда ничем не доберешься… — Вот, скажем, как вас, — сказал он. Дед все понял и поинтересовался, много ли это стоит денег, чтобы вот как его. Девчонка-телефонистка фыркнула, но начальник приструнил ее и объяснил деду, что час работы вертолета стоит сто с лишним рублей, самолет — подешевле, рублей тридцать пять. «Многие тыщи тратят, — заключил про себя дед Мирон и с уважением покосился на девчонку. — Зелена, а гляди ты…» Луневич разговорился и показал деду карту области, испещренную разными кружочками и флажками, похвастался, что скоро они будут выполнять задания и ночью, осваивают ночные полеты. Дед все слушал и запоминал. — Не можем вот никак договориться с Уфой о взаимной поддержке, — пожаловался Луневич. — Они бы, понимаешь, легко могли брать наших больных из пограничных районов, им туда ближе. А мы бы из Магнитогорска обслуживали юг Башкирии. — Резонное дело, — одобрил дед. — Пока не получается, — вздохнул Луневич. Дед Мирон решил не встревать в отношения с союзной республикой и промолчал. Пока они разговаривали, пришло два вызова. Луневич отправил в одно место машину, а в другое — самолет. — Андрей Петрович, — неожиданно сказала Луневичу помощница, — у нас ведь Дюрягин сейчас кровь повезет в горы… Луневич обрадованно хлопнул себя по лбу и сказал Мирону, чтобы он срочно собирался. Дед не понял, но высказался в том плане, что готов. — Повезло тебе, дед, — сказала девушка, — считай, что дома. Вертолет в вашу сторону идет. Деда Мирона посадили в «скорую помощь» и повезли на аэродром вместе с лекарствами, которые понадобились какой-то больнице. Машина шла быстро, и дед не успел еще обдумать всех событий, которые свалились на него, как оказался в аэропорту. Там, в маленькой комнате, отведенной санитарам, он познакомился с пилотами. Он повторял про себя их фамилии, чтобы не забыть и рассказать в деревне. — Дюрягин. — Расщукин. — А меня, дедушка, зовут Ира, — сказала ему бортсестра, — это я вас привезла. Дед осторожно подал руку женщине и решил держаться к ней поближе, в сутолоке аэропорта ему было неуютно без привычки. Ира провела его мимо больших блестящих лайнеров к краю летного поля, где ютились под чехлами маленькие самолеты и вертолеты. С крайнего вертолета Дюрягин и еще один незнакомый деду мужчина-техник снимал чехол. — Ну, счастливо, — сказала Ира и ушла. Дед уселся рядом с пилотом, опасливо отодвинувшись от тонкой и ненадежной, по его мнению, дверцы. Он почувствовал себя несколько увереннее, когда Дюрягин пристегнул его к сиденью предохранительным поясом. — В добрый путь, — тихонько сказал себе дед Мирон. Пилот повернул какую-то ручку, вертолет вздрогнул и затрясся мелкой непрерывной дрожью. Дед прикрыл на всякий случай глаза, а когда открыл, оказалось, что он уже летит. Внизу виднелась дорога. Она плавно убегала куда-то в сторону. Машина больше не тряслась, а мощно и ровно гудела, плавно унося деда все дальше и дальше. Дед одобрил машину, она ему понравилась. — Как трактор, — засвидетельствовал дед и хотел было сказать об этом пилоту, но в кабине стоял гул, и он отказался от этой своей мысли. Они летели над полями и лесами, пересекали речки. А примерно через час дед стал примечать вроде бы знакомые места. Пилот с ним не разговаривал, он смотрел вперед и изредка шептал что-то в резинку, висевшую на шее. «Означает себя», — сообразил дед. Ему хотелось поговорить с Дюрягиным насчет знакомых мест, но он пересилил себя, решил не мешать. Вскоре пилот сам закричал ему в ухо. — Указывай дом! — разобрал дед, взглянул вниз и увидел деревню. Она рассыпалась на склоне горы среди леса, как стадо серых коров. Свою избу дед Мирон различил по трубе, которую сам белил по осени. — Во — она! — показал дед. Вертолет остановился над домом, и дед Мирон отметил в деревне заметное оживление. Примерившись, пилот плавно опустил машину прямо в огород, рядом с баней. Дед ничему уже не удивлялся. Он пожал пилоту руку, хотел было похвалить его, но не посмел, а только спросил, тревожась: — Долетишь? — Долечу, долечу! — сказал Дюрягин и засмеялся. Дед махнул рукой, степенно вышел из машины и пошел по тропинке, протоптанной к дому от бани, под взглядами навеки удивленных лесорубов. К нему подбежал Колька, до того стоявший на крыльце с раскрытым ртом. Дед отвел внука подальше, чтобы не задело ненароком ветром. Машина с красным крестом на боку легко оторвалась от земли, подпрыгнула и ушла за лес. — Видал птицу? — строго спросил дед внука. — Синяя! — ахнул Колька, хотя вертолет был зеленый. Потом они шли к дому, старый и малый. Колька не поспевал за дедом, размышляющим над тем, что с очередью насчет смерти в деревне теперь образовалась путаница.От автора
Автор
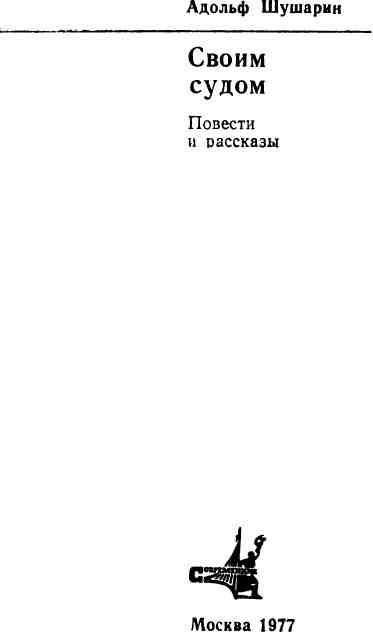

Последние комментарии
1 час 27 минут назад
1 час 35 минут назад
1 день 12 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 21 часов назад