Редьярд Киплинг ОТВАЖНЫЕ КАПИТАНЫ
 .
.

Джозеф Редьярд Киплинг ОТВАЖНЫЕ КАПИТАНЫ Харьков/Белгород, «Клуб Семейного Досуга», 2016 г. Серия: «Морские приключения» Составитель серии: Антон Санченко Переводчики: Клавдия Августовна Гумберт Татьяна Валерьевна Иванова Анатолий Александрович Михайлов Художник: Андрей Печенежский Обложка: твердая Формат: 84х108/32 (130х200мм) Тираж: 19 000 экз. Страниц: 416
ДРУГОЙ КИПЛИНГ
Не было зафиксировано ни одного случая депрессии у младших лейтенантов.Редьярд Киплинг
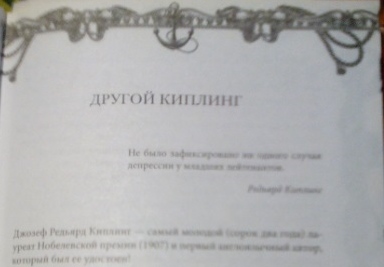
Джозеф Редьярд Киплинг — самый молодой (сорок два года) лауреат Нобелевской премии (1907) и первый англоязычный автор, который был ее удостоен! Читатели традиционно знакомятся с Киплингом в раннем детстве, начиная с непревзойденного «Маугли» и других рассказов «Книги джунглей», «Второй книги джунглей» и «Сказок просто так». Многие этим и ограничиваются — ограничиваются начальным образованием по Киплингу, а когда приходит черед открыть для себя приключенческий роман воспитания, то берут с полки Стивенсона[1], Твена[2], Каверина[3]. Истинным ценителям маринистики в литературе остается только цитировать «Купцов»[4]:
Антон Санченко, писатель-маринист
ОТВАЖНЫЕ КАПИТАНЫ

Глава 1
Туман клубился над Атлантическим океаном. Большой пароход быстро шел вперед, резким свистом разгоняя на пути рыбачьи лодки. Дверь в курительную комнату была настежь раскрыта. — Этот мальчишка Харви совершенно несносен, — произнес человек в сером пальто, порывисто захлопнув дверь. — Вовсе нам не нужен здесь этот выскочка! — Знаю я это воспитание. В Америке много таких господ! — проворчал сквозь зубы седоволосый немец, прожевывая сандвич. — Они плохо кончают! — Ну… особенно тревожиться тут нечего, скорее надо пожалеть его! — возразил обитатель Нью-Йорка, растянувшись во весь рост на подушках дивана. — Его таскали из отеля в отель, когда он был еще совсем ребенком. Сегодня утром я говорил с его матерью. Она очень милая леди, но совсем не умеет руководить сыном. Он отправляется в Европу, чтобы закончить свое образование. — Это образование еще не начиналось! — раздалось из угла, где сидел, скорчившись, филадельфиец. — Мальчик говорил мне, что получает двести долларов в месяц карманных денег. Ему еще нет и шестнадцати лет. — Его отец — железнодорожный туз? Не правда ли? — спросил немец. — Да, и это, и рудники, и акции, и суда. Он заведовал постройкой в Сан-Диего и в Лос-Анджелесе, владеет полдюжиной железных дорог и позволяет жене проматывать свои деньги, — усталым голосом продолжал филадельфиец. — Запад не удовлетворяет богатую леди. И вот она кружит по свету со своим мальчиком и своими расстроенными нервами. Побывали они и во Флориде, и в Адирондаке, и в Нью-Йорке и т. д. Мамаша желает позабавить своего мальчика. Когда он вернется из Европы домой, это будет сплошной ужас! — Что хочет сделать из него отец? — Старик мечтал о многом и несколько лет тому назад осознал свою ошибку. Жаль, потому что в мальчике много хороших черт. Дверь снова растворилась, и в комнату вошел стройный, высокий мальчик лет пятнадцати, держа сигарету в углу рта. Желтоватый цвет лица мало подходил его возрасту, а в его взгляде читалась нерешительность, вызов и какая-то болезненность. Юноша был одет в цветную куртку, гамаши, красные чулки и велосипедные башмаки. Красная фланелевая шапочка была сдвинута на затылок. Свистнув сквозь зубы, он оглядел все общество и громко произнес: — Туман порядочный… Около нас столпилось много рыбачьих лодок… Не наехать ли нам на одну из них?.. — Закройте дверь, Харви, — сказал житель Нью-Йорка, — закройте ее и уйдите. Вы нам не нужны! — Кто запретит мне стоять здесь? — возразил юноша развязно. — Разве вы платили за мой проезд, мистер Мартин? Я имею такое же право быть здесь, как все другие пассажиры! Он схватил фигуры с шахматной доски и начал перебрасывать их с руки на руку. — Скучно, джентльмены! Не сыграть ли нам в покер? Ответа не последовало. Харви пыхнул сигаретой, покачал ногой и забарабанил пальцами по столу. — Как чувствует себя сегодня ваша мама? — спросил один из присутствовавших. — Я не видел ее сегодня за завтраком. — Она у себя, я полагаю, мама почти всегда бывает больна на море. Я готов дать пятнадцать долларов служанке, чтобы она получше ухаживала за ней. Сам я редко спускаюсь вниз, потому что не люблю проходить мимо этих лакейских чуланов. Вот я в первый раз переезжаю океан, джентльмены, и, кроме первого дня, я не был нисколько болен! Юноша торжествующе махнул кулаком и собрался уходить. — О, да, вы, должно быть, высококлассная машина, — произнес, зевая, филадельфиец, — и будете пользоваться кредитом у себя дома! — Я знаю это. Я прежде всего американец до мозга костей и буду им всегда. Проеду по Европе и покажу им себя. Ну!.. Сигаретка докурилась… Нет ли у кого из джентльменов настоящей сигары? В эту минуту вошел главный механик, красный, улыбающийся, мокрый. — Скажите, Макс, — закричал Харви весело, — как дела? — Все идет обычным путем, — был серьезный ответ, — младшие почитают старших, а старшие стараются оценить младших! Легкий стук послышался в углу. Немец открыл свой сигарный ящик и подал Харви прекрасную сигару. — Вот, покурите, молодой друг! — произнес он. — Я могу доставить вам это удовольствие. Харви зажег сигару, хотя чувствовал себя неловко в этом обществе взрослых. — Однако, начинает сильно качать! — проговорил он. — Мы сейчас узнаем это, — возразил немец. — Где мы теперь, мистер Макдональд? — Бродим вокруг и около, мистер Шеффер, — ответил инженер. — Сегодня ночью мы будем на Большой Отмели. Мы находимся среди рыбачьих лодок. — Нравится вам моя сигара? — спросил немец Харви, глаза которого были полны слез. — Прекрасная, ароматная сигара! — ответил он сквозь зубы. — Мы, кажется, замедлили ход, не правда ли? Я пойду посмотрю, что показывает лот. Харви зашагал по мокрой палубе к ближайшим перилам. Ему было скверно, но, заметив лакея, занимавшегося уборкой палубы, он поспешил дальше. Похваставшись, что никогда не страдал морской болезнью, Харви, из гордости, не желая никому показать своей слабости, шатаясь, добрался до кормы. На деке[6] никого не было, и Харви едва добрался до фок-мачты. Здесь он замер от боли. Ему казалось, что голова его распухла, огненные пятна мелькали перед глазами, тело потеряло свой вес, а ноги выплясывали дикий танец. Юноша совершенно ослаб от морской болезни. Вдруг сильный толчок перебросил его через перила. Огромная серая волна, вынырнувшая из тумана, приняла его в свои материнские объятия… Зеленоватая глубина сомкнулась над ним. Харви потерял сознание… Он очнулся при звуке обеденного сигнала, подобного тому, который он слышал в летней школе в Адирондаке. Медленно припомнилось ему, что он — Харви Чейн, что он утонул в океане; но слабость мешала ему сосредоточиться. Холодная дрожь пробегала по спине; он вдохнул странный запах; его рот был полон соленой воды. Открыв глаза, он заметил, что море серебристым пространством расстилается вокруг него, что он лежит на куче рыбы, около человеческой фигуры, одетой в голубую вязаную куртку. «Скверно! — подумал юноша. — Я умер, конечно, и все это мне просто мерещится». Харви громко застонал. Человек повернул к нему голову, сверкнув парой золотых серег, едва видневшихся из-под нависших курчавых черных волос. — Ага! Чувствуешь себя получше? — произнес он. — Лежи себе спокойно, лучше будет! Легким толчком он столкнул лодку в море, не прерывая своего разговора и не обращая внимания на огромную волну, грозившую лодке. — Ловко я поймал тебя! — продолжал он. — Ловко!.. Как это ты упал? — Я был болен, — отвечал Харви, — и ничего не помню. — Я трубил в рог, чтобы ваш пароход не наскочил на мою шлюпку. Вижу, ты свалился. Я поймал тебя, как хорошую рыбу, и вот ты жив! — Где я теперь? — спросил Харви. — У меня. Зовут меня — Мануэль, я со шхуны «Мы здесь» из Глостера. Скоро будем ужинать! Казалось, у этого человека было две пары рук и железная голова. Он не удовлетворился тем, что трубил в свой рог, но испускал еще резкий, пронзительный крик, терявшийся в тумане. Харви не мог сообразить, сколько времени продолжалась эта забава, потому что в ужасе откинулся назад. Ему чудилось, что он слышит выстрел, звук рога и крики. Несколько голосов заговорили сразу. Харви положили в какую-то мрачную нору, дали выпить чего-то горячего и сняли с него платье. Он крепко уснул. Когда мальчик проснулся, то ждал звонка к первому завтраку на пароходе, удивляясь, что его каюта вдруг уменьшилась в размерах. Повернувшись, он увидал, что находится в узком треугольном углублении, освещенном висячей лампой. За треугольным столом, около печки, сидел юноша его лет, с полным, красным лицом и серыми искристыми глазами, одетый в синюю куртку и высокие сапоги. Несколько пар такой же обуви, старая шапка и носки лежали тут же, на полу, вместе с черными и желтыми вощанками. Всевозможные запахи смешивались тут: особенный и присущий вощанкам запах, вместе с запахом свежей и жареной рыбы, краски, перца и табака. Надо всем этим царил запах судна и соленой воды. Харви с отвращением заметил, что спал без простынь и лежал на грязном мешке. Движение шхуны не походило на движение парохода. Она скользила и вертелась, шум воды долетал до его ушей, и волны тихо рокотали около киля. Все это привело юношу в отчаяние и заставило его вспомнить о матери. — Лучше себя чувствуешь? — спросил его мальчик, усмехаясь. — Хочешь кофе? Он принес полную чашку черного кофе. — Разве у вас нет молока? — произнес Харви, оглядывая ряд скамеек, словно ожидая найти там корову. — У нас не бывает ничего подобного до половины сентября, — возразил мальчик. — Кофе хороший, я сам заваривал! Харви молча выпил чашку, затем мальчик принес ему блюдо с ломтями свинины, которую он с удовольствием съел. — Я высушил твое платье, — сказал мальчик, — оно все сморщилось. Повернись-ка, я взгляну, не ушибся ли ты? Харви вертелся в разные стороны, не помня себя от обиды. — Ничего! — весело произнес мальчик. — Теперь иди на дек. Отец хочет взглянуть на тебя. Я его сын — Дэн, я помогаю повару и исполняю всю черную работу. С тех пор как уехал Отто — он был немец, ему было двадцать лет, — здесь не осталось мальчиков, кроме меня. Как это тебя угораздило свалиться в море в такую тихую погоду? — Вовсе не тихую, — сердито возразил Харви, — было ветрено; я страдал морской болезнью, меня перебросило через перила! — Море было тихо в эту ночь, — сказал мальчик. — Если ты это называешь ветром, — он свистнул, — тогда ты мало смыслишь! Ну, живо иди! Отец ждет тебя! Подобно многим плохо воспитанным юношам, Харви никогда в жизни не слышал приказаний, за исключением долгих рассуждений о добродетели послушания. Миссис Чейн жила в вечном страхе за свое здоровье, так как у нее бывали сильнейшие нервные припадки. Харви возмутило это приказание. — Твой отец может сам прийти сюда, если хочет говорить со мной. Я попрошу отвезти меня в Нью-Йорк и заплачу ему за это! Ден широко раскрыл глаза. — Слышишь, отец, — вскричал он, — он говорит, что ты можешь сам прийти, если желаешь говорить с ним! Слышишь?.. — Не дурачься, Дэн, и пошли его ко мне! Эти слова были произнесены таким низким голосом, какого Харви никогда и не слыхивал. Дэн усмехнулся и бросил Харви его башмаки. В интонации этого странного голоса было что-то, заставившее юношу сдержать свой гнев и утешиться мыслью, что он расскажет этим людям о богатстве своего отца. Когда он освободится от них и вернется домой, друзья будут считать его настоящим героем. Он поднялся по лестнице на дек, споткнулся и подошел к сидевшему на ступеньках маленькому, плотному человеку с чисто выбритым лицом и серыми глазами, которые сверкали под густыми, хмурыми бровями. За ночь волнение утихло. Море слабо плескалось. На горизонте белели паруса рыбачьих лодок. Шхуна тихо качалась на якоре; за исключением шкипера, на ней никого не было. — Доброго утра! Добрый полдень, вернее сказать! Ты проспал круглые сутки, приятель! — таким приветствием встретили Харви. — Доброго утра! — ответил он. Ему вовсе не понравилось название «приятель», так как, в качестве тонувшего, он рассчитывал на лучший прием. Его мать сходила с ума, если ему приходилось промочить ноги, а этот моряк даже не побеспокоился спросить его о здоровье. — Ну-с, теперь послушаем, что ты скажешь! Кто ты и откуда? Харви сказал свое имя, название парохода, на котором ехал, рассказал о своем приключении и просил немедленно свезти его в Нью-Йорк, где отец заплатит за все. — Гм, — произнес моряк, слушавший неподвижно рассказ Харви. — Я не могу точно сказать, что мы могли подумать о человеке, или, вернее, о мальчике, который падает с парохода, как сверток, при тихой погоде. Конечно, его извиняет, что он страдал морской болезнью… — Извинение! — вскричал Харви. — Неужели я упал в воду нарочно, чтобы попасть на вашу грязную лодку? — Не знаю, нарочно ли ты упал, друг мой, или нет, но знаю, что если бы я был на твоем месте, то не бранил бы лодку, которая волей Провидения спасла тебя от смерти! Во-первых, это не благочестиво, а, во-вторых, мне это неприятно. Я — Диско Троп, владелец шхуны «Мы здесь» из Глостера! — Я этого не знаю и знать не желаю, — отвечал Харви. — Я очень благодарен за спасение и за все, и чем скорее меня доставят в Нью-Йорк, тем лучше — я заплачу! — Сколько же? Троп приподнял свои густые брови, под которыми светились кроткие голубые глаза. — О, доллары, сотню долларов, — ответил Харви, восхищенный тем, что его слова произвели впечатление, — много долларов! Он засунул руку в карман и похлопал себя по животу, чтобы придать себе величия. — Вы никогда еще не заработали в своей жизни столько, сколько получите, доставив меня в Нью-Йорк. Я — Харви Чейн! — Сын богача? — О, если вы не знаете, кто такой Чейн, то мало знаете. Ну, поворачивайте шхуну и спешите! Харви был убежден, что в Америке множество людей, мечтающих и завидующих долларам его отца. — Может быть, я исполню твое желание, может быть, и нет. Это зависит от меня. Я не собираюсь ни в Нью-Йорк, ни в Бостон. Только в сентябре мы увидим восточный берег, и твой отец — жалко, что не слышал о нем ничего, — может дать мне тогда десять долларов, если у него есть! — Десять долларов! Вот… Харви вытащил из кармана пачку с сигаретами. — Меня обокрали! — закричал он. — Обокрали! Денег нет! — Значит, мне придется ждать, когда твой отец наградит меня! — Сто тридцать четыре доллара — все украдено! — кричал Харви, в отчаянии роясь в карманах. — Отдайте их назад! Курьезная перемена произошла в суровом лице Тропа. — Что ты мог делать со ста тридцатью четырьмя долларами в кармане, друг мой? Откуда они у тебя? — Это часть моих карманных денег, выдаваемых мне каждый месяц! — Ого! Только часть денег! Не много ли это, товарищ? Старик Хаскен со шхуны «Восточный ветер», — продолжал он как бы про себя, — работал всю жизнь и боролся с врагами… теперь он дома в Эссексе с маленькой суммой долларов!.. Харви изнывал от злости, но Троп продолжал: — Очень жаль, очень жаль, ты еще так молод! Надеюсь, больше не будем говорить о деньгах? — Конечно, вы украли их! — Погоди! Если мы украли их, то для твоего же комфорта, для тебя же! Ты не можешь теперь попасть домой, потому что мы попали сюда ради куска хлеба. У нас нет карманных денег, сотен долларов в кармане. При удаче мы пристанем к берегу через пять недель, но только в случае удачи, а то не раньше сентября! — Но теперь только май. Я не могу оставаться здесь, ничего не делая, пока вы будете ловить рыбу. Не могу я, поймите! — Правильно, товарищ! Никто не просит тебя ничего не делать. Отто уехал от нас, а ты будешь работать, если можешь! Не правда ли? — Я могу многое сделать для всего экипажа, когда мы высадимся на берег! — сказал Харви, кивнув головой и бормоча про себя что-то о «пиратах», на что Троп только улыбнулся. — Ну, что попусту разговаривать! Ты можешь и умеешь говорить больше, чем весь экипаж шхуны. А теперь вот что, друг мой, смотри в оба, где что надо сделать, помогай Дэну убирать и стряпать, и я положу тебе десять с половиной долларов в месяц — тридцать пять в конце нашей работы. Работа принесет тебе пользу; а рассказывать нам про своих папу и маму и свои деньги ты можешь после! — Мама на пароходе! — сказал Харви со слезами на глазах. — Отвезите же меня в Нью-Йорк! Бедная женщина! Когда меня возвратят ей, она все простит! — Но нас восемь человек; если мы не вернемся назад больше чем за тысячу миль — мы потеряем время и заработок! — Отец заплатит за все! — Не сомневаюсь в этом, — возразил Троп, — но уплатить восьми рыбакам заработок всего сезона! Приятно ли тебе будет видеть его разорение? Иди наверх и помогай Дэну! Десять с половиной в месяц, говорю тебе, остальное зависит от тебя самого! — Что? Я буду мыть кастрюли и горшки? — спросил Харви. — Не хочу! Мой отец даст столько денег, что можно будет купить десять таких грязных шхун, — Харви топнул ногой, — если меня доставят домой, в Нью-Йорк! У меня уже взяли сто тридцать четыре доллара! — Как это? — лицо Тропа омрачилось. — Как? Вам лучше знать как. Потом еще хотят заставить меня работать. Я не хочу! Троп внимательно разглядывал мачту, пока Харви изощрялся в красноречии. Дэн схватил Харви за локоть. — Перестань спорить с отцом! — сказал он. — Ты назвал его вором два или три раза, знаешь ли ты, что никто не смел сказать ему это! — Мне все равно! — кричал Харви.
— Это не по-товарищески, — произнес наконец Троп, взглянув на юношу, — я не осуждаю тебя, и ты не вправе судить меня. Ты не знаешь, что говоришь! Итак, десять с половиной долларов… второму мальчику на шхуне, чтобы научить работать и поправить его здоровье. Так или нет? — Нет! — возразил Харви. — Я хочу домой, в Нью-Йорк! Он плохо помнил, что было с ним дальше. Юноша упал на пол, держась за нос, из которого ручьем лилась кровь. Троп спокойно смотрел на него. — Дэн, — сказал он сыну, — я составил слишком поспешное мнение об этом юноше. Никогда не прибегай к поспешным заключениям, Дэн. Теперь мне жаль его, потому что он просто сумасшедший и невменяем. Он не сознает, вероятно, что оскорбил меня, не помнит, что прыгнул с корабля в воду, в чем я почти убежден. Обращайся с ним ласково, Дэн, и ты не пожалеешь об этом. Пусть он говорит, что хочет! Троп ушел в каюту, предоставив Дэну позаботиться о несчастном наследнике тридцати миллионов.
Глава 2
— Я предостерегал тебя, — сказал Дэн, — отец не любит этого… Ну!.. Чего тут горевать! Плечи Харви вздрагивали от судорожных рыданий. — Я понимаю твое чувство! Не будь же таким плаксой! — Этот человек помешанный или пьяный… Я не умею ничего делать! — жалобно простонал Харви. — Не вздумай сказать это отцу! — прошептал Дэн. — Он теперь выпивши и сказал мне, что ты безумный! Ну, зачем ты назвал его вором? Ведь он мой отец! Харви сел, вытер глаза и рассказал Дэну всю историю пропавших денег. — Я вовсе не безумный, — продолжал он, — но твой отец никогда не видел у себя в руках более пяти долларов, а мой отец может купить вашу шхуну и нисколько не обеднеет! — Ты не имеешь понятия о ценности шхуны «Мы здесь». Твой отец должен иметь для этого кучу денег. Как он достал бы столько? — У отца деньги в золотых рудниках и других предприятиях. — Да, я читал об этом. На западе, да? Отец твой ездит с пистолетом на быстром пони? Я слышал, что шпоры и узда у них из чистого серебра! — Какие глупости! — возразил Харви, невольно улыбаясь. — Отцу вовсе не нужны пони. Когда ему нужно выехать, он велит подать экипаж! — Как? Какой экипаж? — Свой собственный, конечно. Разве ты никогда в жизни не видел собственных экипажей? — У Бимана есть такой, — ответил Дэн осторожно, — я видел в Бостоне этот экипаж, управляемый тремя неграми. Но Биман владеет всеми железными дорогами на острове. Он — миллионер! — Ну, а мой отец — дважды миллионер, у него два собственных автомобиля: один называется «Харви», как я, другой носит имя моей матери — «Констанция»! — Отец не позволяет мне клясться, но мне хочется, чтобы ты поклялся, что говоришь правду. Скажи: «Пусть я умру, если солгу!» — Пусть я умру, если каждое мое слово — не чистая правда! — Сто тридцать четыре доллара! Я слышал, как ты говорил отцу! Дэн был хитрый юноша и скоро убедился, что Харви не лжет. — Я верю тебе, Харви, — произнес он с улыбкой восхищения на своем широком лице, — отец ошибся в тебе. Только он не любит ошибаться! Дэн лег и начал похлопывать себя по бедрам. — Я не желаю, чтобы меня еще раз поколотили! Я все-таки взял верх над ним! — Сроду не слышал, чтобы кто-нибудь взял верх над моим отцом. Он все же поколотил тебя!.. Золотые рудники, два своих экипажа, двести долларов карманных денег в месяц! Очень нужно работать за десять с половиной долларов в месяц! Дэн разразился тихим смехом. — Значит, я был прав? — спросил Харви. — Совсем нет! Отец — справедливый и честный человек. Это знают все рыбаки! — А это тоже справедливо? — Харви указал на свой разбитый нос. — Это пустяки и полезно для твоего здоровья. Я не хочу иметь дела с человеком, который считает меня или отца вором. Мы — рыбаки, работаем вместе уже шесть лет. Когда я сушил твое платье, я не знал, что там в карманах. И я и отец — мы ровно ничего не знаем о твоих деньгах. Слышишь?! Кровотечение из носу освежило голову Харви. — Это правда, — сказал он со смущенным видом, — мне кажется, что, как спасенный от смерти, я оказался не очень благодарным, Дэн! — Да, ты глупо вел себя и обидел нас! — А где твой отец теперь? — В каюте. Что тебе надо от него? — Увидишь! — произнес Харви и пошел, шатаясь, по лестнице в каюту. В выкрашенной желтой краской каюте Троп сидел с записной книжкой, держа в руке огромный черный карандаш. — Я был несправедлив, — сказал Харви. — Что такое случилось? — спросил моряк. — Вы поссорились с Дэном? — Нет, я говорю… — Я слушаю! — Я беру свои слова назад. Если человека спасли от смерти… Харви запнулся. — Ну! — Он не должен быть неблагодарным и оскорблять людей! — Что верно, то верно! — согласился Троп с сухой усмешкой. — Я пришел сказать, что очень сожалею!.. Снова пауза. Троп поднялся с места, и его огромная рука легла на плечо Харви. — Я не доверял тебе, а теперь вижу, что ошибся в своем мнении! — произнес он. Заслышав легкий смех на деке, он добавил: — Я редко ошибаюсь в своих суждениях. Мы немножко не поладили с тобою, мой юный друг, но я не думал о тебе ничего худого. Иди займись теперь делом! — Ты хорошо поступил, — сказал Дэн, когда Харви вернулся на дек… — Я не чувствую этого! — ответил тот, покраснев до корней волос. — Но я рад, что все кончилось хорошо. Раз отец принял решение, он никогда не изменит его. Он прав, что не хотел везти тебя домой. Мы должны ловить рыбу и зарабатывать деньги. Люди наши скоро вернутся, поймав кита! — Зачем вернутся? — спросил Харви. — Ужинать, конечно. Разве твой желудок молчит? Тебе надо многому научиться здесь! — Да! — ответил Харви, окинув взором блоки и снасти наверху. — Подожди, — произнес Дэн, — когда мы кончим ловлю, а пока у нас много работы! Он указал на люк между двумя мачтами. — Что там такое? — спросил Харви. — Там пусто. — Да, и мы должны наполнить эту пустоту рыбой. — Живой? — спросил Харви. — Нет. Сначала рыба уснет, потом ее посолят. — Где же рыба? — В море, в лодках у рыбаков, — ответил Дэн. — Мы с тобой, — продолжал он, указывая на нечто вроде деревянного загона, — должны грузить рыбу сюда. Все будет полно сегодня ночью. Теперь они скоро вернутся! Дэн взглянул через низкие перила на море, где виднелось до полдюжины лодок. — Я никогда не видел море так близко! — сказал Харви. — Прекрасный вид! Склонявшееся к закату солнце окрашивало воду пурпуром, золотя набегавшие валы и оттеняя быстрину. На каждой лодке виднелись черные фигуры, маленькие издали, как куколки. — Они хорошо работали, — сказал Дэн, прищурившись, — Мануэлю не хватит места для рыбы! — Который из них Мануэль? — Последняя лодка слева! Это он вытащил тебя из воды вчера ночью. Мануэль — португалец, это нетрудно угадать по его манере грести. Вот эти широкие плечи — это Долговязый Джэк, родом из южного Бостона. Все они молодцы. Вот этот — Том Плэт… Он мало говорит, но зато умеет петь и удачлив в рыбной ловле! Звучное пение донеслось до их ушей из одной лодки. — Да, это Том, — произнес Дэн, — он расскажет тебе завтра об «Орио». Смотри, вон голубая лодка позади него. Это мой дядя — брат отца! Как плохо он гребет! Я готов биться об заклад, что он опять сегодня обжегся «клубникой»; ему ужасно не везет! — Чем обжегся? — переспросил Харви. — «Клубникой». Мы так называем особый вид водорослей. Теперь попробуем поработать. Правда ли, что ты говорил мне, что никогда ничего не делал? Тебе страшно начать? — Я попытаюсь! — спокойно отвечал Харви и схватил веревку и железный длинный крюк, пока Дэн притащил устройство, которое он называл «верхний лифт». В это время к ним подплыл Мануэль в своей лодке. Португалец улыбнулся Харви и начал бросать рыбу на дек. — Двести тридцать одна штука! — воскликнул он. — Дай ему багор! — сказал Дэн. Мануэль схватил багор, зацепил им за корму и прыгнул на шхуну. — Тащи! — скомандовал Дэн, и Харви тащил, удивляясь, что лодка так легка. — Держи! — и Харви держал, потому что лодка находилась на весу, над его головой. — Спускай! — кричал Дэн, и, когда Харви спустил, Дэн поднял легкую лодку одной рукой и поставил ее позади грот-мачты. — Легко! Эта лодка очень удобна для пассажиров! — Ага! — подтвердил Мануэль. — Ну, как ты себя чувствуешь, милый? Вчера ночью мы поймали тебя вместо рыбы. Теперь ты сам ловишь рыбу. Каково! — Я очень благодарен вам! — сказал Харви, снова роясь в своих карманах и вспомнив, что у него нет денег. — Меня нечего благодарить! — возразил Мануэль. — Разве я мог допустить, чтобы ты утонул? Теперь ты — рыбак. Я сегодня не успел вычистить лодку. Слишком много дела. Дэн, дитя мое, вычисти за меня! Харви двинулся вперед. Он мог и хотел помочь человеку, который спас ему жизнь. Дэн бросил ему швабру, и юноша принялся чистить лодку, счищать ил, тину; делал он это, правда, неловко, неумело, но с полным усердием. Целый ливень блестящей рыбы полетел в загородку. — Мануэль, держи лодку! Харви, почисть ее! — Эта лодка — словно утка на воде! — сказал Долговязый Джэк, высокий человек с седым щетинистым подбородком и длинными губами. Троп в своей каюте что-то ворчал и громко сосал карандаш. — Двести три штуки! Дай-ка взглянуть! — попросил человек, который был ростом еще выше Долговязого Джэка. Лицо его было безобразно из-за огромного рубца, тянувшегося от левого глаза до правого угла рта. Не зная, что делать дальше, Харви вымыл дно лодки, снял поперечины и положил их на дно. — Он — молодец! — произнес человек с рубцом, имя которого было Том Плэт, критически оглядывая Харви. — Есть два способа работать: один — это ловить рыбу, другой… — То, что мы делали на старом «Орио»! — прервал его Дэн. — Не мешай мне, Том Плэт, дай мне накрыть на стол! Он прислонил конец стола к перилам и ткнул его ногой. — Дэн, ты ленив и способен спать целый день, — сказал Долговязый Джэк, — ты также достаточно дерзок; но я уверен, что ты исправишь в неделю этого молодца, если захочешь! — Его имя — Харви! — сказал Дэн, размахивая двумя ножами очень странной формы. — Он стоит пятерых из южного Бостона! Юноша положил ножи на стол, покачал головой и полюбовался на производимый ими эффект. — Я думаю, тут сорок два! — произнес где-то снаружи тонкий голос. — Счастье изменило мне, — ответил другой голос, — у меня сорок пять штук! Раздался смех. — Сорок два или сорок пять! Я сбился со счета! — Это Пенн и дядя Сальтерс считают улов! — сказал Дэн. — Это вся их дневная добыча? Надо взглянуть! — Назад, назад! — прогудел Долговязый Джэк. — Сыро там сегодня, детки! — Сорок два, ты сказал? — спросил дядя Сальтерс. — Я пересчитаю! — ответил ему чей-то голос. Обе лодки причалили к шхуне. — Постой! — вскричал дядя Сальтерс, расплескивая воду веслом. — Терпеть не могу таких людей, как ты! Ты только сбил меня со счету! — Мне очень жаль, мистер Сальтерс. Я пошел в море, рассчитывая вылечить нервную диспепсию! — Убирайся ты со своей нервной диспепсией! Провались ты совсем! — проворчал дядя Сальтерс, жирный, плотный маленький человек. — Сколько ты сказал, сорок два или сорок пять? — Я забыл, мистер Сальтерс! Надо пересчитать! — Конечно, сорок пять штук, — ворчал Сальтерс, — ты плохо считаешь, Пенн! Диско Троп вышел из каюты. — Сальтерс, — сказал он, — убери рыбу как следует! — Голос его звучал повелительно. Пенн, стоя в лодке, продолжал считать улов. — Это улов всей недели! — сказал он, жалобно посматривая кругом. — Одна, две, четыре, девять! — считал Том Плэт. — Сорок семь всего! — Подержи! — ворчал дядя Сальтерс. — Держи, я опять сбился со счета! — Кто-нибудь из наших будет собирать «клубнику», — сказал Дэн, обращаясь к восходящему месяцу, — и наверное, найдет много! — А другие, — возразил дядя Сальтерс, — будут есть и лентяйничать. — За стол! За стол! — кричал чей-то голос, которого Харви еще не слышал. Троп, Том Плэт, Джэк и Сальтерс пошли к столу. Маленький Пенн наклонился над рулем. Мануэль лежал, вытянувшись, на деке, а Дэн вколачивал молотком гвозди в бочку. — Скоро будем ужинать и мы, — сказал он, — Том Плэт и отец ужинают вместе с другими, это — первая смена! Ты, я, Мануэль и Пенн — юность и красота нашего общества. Это — вторая смена! — Ну что же, — сказал Харви, — я очень голоден! — Они скоро кончат. Хорошо пахнет? Отец держит хорошего повара. Сегодня славный улов! Какова была вода, Мануэль? — Двадцать пять локтей! — ответил португалец. Луна уже высоко поднялась на небе и отражалась в спокойных водах моря, когда старшие кончили ужин. Повару не пришлось звать «вторую смену». Дэн и Мануэль уселись за стол в то время, когда Том Плэт, самый рассудительный из старших, усердно вытирал рот рукой. Харви последовал за Пенном и сел за стол перед кастрюлей с вареной треской, за которой следовали свинина со свежими овощами и горячим хлебом и крепкий черный кофе. Как они ни были голодны, но ждали, пока прочтут молитву. Затем они принялись за еду. Наконец Дэн тяжело вздохнул и спросил Харви, как он себя чувствует. — Хорошо, но место в желудке еще есть! — отвечал Харви. Кок — огромный черный негр — почти не говорил, ограничиваясь улыбками и знаками. — Смотри, Харви, — сказал Дэн, — молодые и красивые люди, ты, я и Мануэль, — мы — вторая смена и едим после первой. Они — старые рыбаки. Их желудки не любят ждать. Они едят первые. Не правда ли? Кок кивнул головой. — Разве он не говорит? — спросил Харви шепотом. — Немного. Его язык очень смешон. Он явился с Бретенского мыса, где говорят на каком-то наречии шотландского языка. — Это не шотландский язык, а гэльский, — сказал Пенн. — Я читал в одной книге! — Пенн много читает! — Твой отец, Дэн, уже спросил, сколько они наловили рыбы? Они его не обманут? — Нет. Какой смысл им лгать из-за какой-то трески? Вторая смена кончила ужин. Тень от мачт и оснастки черным пятном ложилась на палубу. Целая груда рыбы на корме светилась, словно серебро. Диско Троп и Том Плэт ходили взад и вперед. Дэн передал Харви вилы и повел его к грубому столу, по которому дядя Сальтерс нетерпеливо барабанил рукояткой ножа. У его ноги стоял ушат с соленой водой. — Помоги дяде Сальтерсу солить рыбу, да береги глаза, когда Сальтерс начнет размахивать ножом, — сказал Дэн, качаясь на подпорке. — А я буду передавать соль вниз. Пенн и Мануэль стояли на коленях, размахивая ножами. Долговязый Джэк, в рукавицах, разместился против дяди Сальтерса. — Га! — вскричал Мануэль, взяв одну рыбу под жабры, и бросил ее в загородку. Сверкнуло острие ножа, и рыба с распоротым брюхом упала к ногам Джэка. Долговязый Джэк держал в руке черпак. Вот печень упала в корзину. Еще удар, и треска, обезглавленная, выпотрошенная, шлепнулась в ушат, разбрызгивая соленую воду в лицо удивленному Харви. Все работали молча. Скоро ушат был полон рыбы. — Натирай солью! — крикнул дядя Сальтерс, не поворачивая головы, и Харви начал натирать рыбу солью. Мануэль ревностно работал, стоя неподвижно, как статуя, но его длинные руки непрестанно загребали рыбу. Маленький Пенн также работал добросовестно, но видно было, что он неловок. Иногда Мануэль находил возможность помочь Пенну, не пропуская в то же время и своей очереди. Раз Мануэль уколол палец о французский крючок и закричал от боли. Крючки эти делаются из мягкого металла, чтобы можно было вторично загнуть их после употребления, но треска часто срывается с этих крючков и уносит их с собою, пока не падет вновь. Вот почему глостерские рыбаки не жалуют французов и их изобретений. Звук втирания крупной соли напоминал шум точильного колеса; вместе с ним смешивался шорох режущих ножей, отделявших голову от туловища, шлепанье падающих внутренностей и распластанной рыбы. Поработав с час, Харви очень не прочь был отдохнуть. Свежая сырая рыба вовсе не так легка, как вы думаете. От постоянного сгибанья у Харви заныла поясница. Зато в первый раз в жизни у него было сознание, что он — полезный член трудящегося человечества. Эта мысль заставляла его гордиться, и он молча продолжал работать. — Стой! — крикнул наконец дядя Сальтерс. Пенн выпрямился и взглянул из-за груды распластанной рыбы. Мануэль начал раскачиваться, чтобы размять уставшее тело. Долговязый Джэк облокотился. Как молчаливая черная тень, пришел негр-кок, подобрал несколько рыбьих голов и хребтов и ушел. — Славное у нас будет блюдо на завтрак! — чмокнул губами Долговязый Джэк. — Отварная рыба с сухарями! — Воды! — попросил Диско Троп. — Вот там кадка стоит, а рядом ковш, Харви! — скомандовал Дэн. Харви живо сбегал и вернулся с огромным ковшом мутной, застоявшейся воды, которая, однако, показалась слаще нектара и развязала язык Диско и Тому Плэту: они перекинулись замечаниями насчет количества пойманной трески. Но вот Мануэль снова подал сигнал приниматься за дело. На этот раз работали, пока не выпотрошили и не посолили всей остальной рыбы. Покончив с работой, Диско Троп и его брат отправились в каюту, ушли также и Мануэль с Долговязым Джэком, скоро исчез и Том Плэт. Несколько минут спустя Харви уже слышал громкий храп, доносившийся из каюты, и вопросительно поглядел на Дэна и Пенна. — Кажется, Дэнни, я сегодня работал чуточку получше, — сказал Пенн, едва поднимая отяжелевшие веки. — Однако надо помочь тебе убрать все это! — Уходи восвояси, Пенн, — отвечал Дэн. — Это вовсе не твое дело. Тащи-ка сюда ведро, Харви. А ты, Пенн, помоги мне стащить вот это в кладовую, а потом и ступай себе спать! Пенн поднял тяжелую корзину с рыбьей печенью и переложил ее содержимое в огромную бочку, после чего исчез и он. — Мыть палубу — обязанность юнг; они же должны стоять на вахте в тихую погоду. Таковы правила на шхуне «Мы здесь»! — Дэн энергично принялся мыть пол, вычистил ножи и стал точить их, в то время как Харви, по его указанию, выбрасывал за борт оставшиеся рыбьи кости и отбросы. При первом всплеске из спокойной, словно застывшей воды поднялось что-то серебристо-белое и послышался какой-то странный вздох. Харви отскочил и вскрикнул от испуга. Дэн засмеялся. — Это касатка! — сказал он. — Бросай-ка теперь рыбьи головы. Они всегда так вздыхают, когда голодны. Разве ты никогда не видел раньше касаток? Ты увидишь их здесь сотнями. Я ужасно рад, что у нас на шхуне опять есть юнга. Отто — стар, да к тому же немец. Мы с ним постоянно ссорились. Да ты спишь? — Едва на ногах стою! — кивнул Харви. — На вахте спать нельзя.Пойди-ка посмотри, горит ли наш сигнальный огонь. Ты сегодня дежурный, Харви! — Ну, зачем же? Никто не натолкнется на нас. Светло как днем! — Всякое случается. Бывает, что заснешь вот так, в хорошую, ясную погоду, а какой-нибудь пароход наскочит и раскроит судно надвое. А потом будут уверять, что на шхуне огни не были зажжены и был непроглядный туман. Харви, я тебя полюбил, но, если ты будешь клевать носом, я тебя разбужу вот этим концом каната! Сиявший в эту ночь на небе месяц был свидетелем странной картины: худенький, стройный юноша в красной куртке, спотыкаясь, ходил взад и вперед по палубе семидесятитонной шхуны, а за ним, зевая и тоже спотыкаясь, следовал другой и размахивал в воздухе концом морского каната. Руль тихо поскрипывал, паруса слегка трепались под дыханием слабого ветерка, брашпиль покрякивал, а странная процессия все двигалась. Харви жаловался, грозил, кричал, наконец, даже расплакался, а Дэн заплетающимся языком рассказывал ему о красотах ночи, продолжая стегать концом. Наконец пробило десять часов, и Пенн выполз на палубу. Он нашел обоих мальчиков спящими рядом. Они спали так крепко, что ему пришлось тащить их до коек.Глава 3
Благодатный сон освежил их душу и тело, и к завтраку они явились с завидным аппетитом. Опорожнив большую оловянную чашку сочной рыбы, они принялись за работу: вымыли тарелки и сковороды, оставшиеся от обеда старших, которые уже отправились на рыбную ловлю, нарезали ломтями свинину к обеду, заправили лампы, натаскали в кухню угля и воды. День был ясный, теплый. Харви вдыхал свежий, чистый воздух полной грудью. За ночь подошло немало других шхун, и море пестрело парусами. Вдали дымили невидимые пароходы да виднелись паруса большого корабля. Диско Троп сидел на крыше каюты и курил. Он смотрел на море, кишевшее мелкими судами. — Когда отец вот эдак задумается, — сказал Дэн, — это неспроста. Отец хорошо знает нравы трески. А весь рыбачий флот знает отца. Вот они все и собрались сюда, будто невзначай, на самом же деле зорко следят за нашей шхуной. Вон «Принц Лебо», он подобрался к нам ночью. А вот та большая шхуна, с заплатой на парусе, это «Кэри Питмэн» из Чэтгэма. Когда отец пускает дым кольцами, вот как сейчас, это значит, что он изучает все рыбьи хитрости и планы. Если теперь заговорить с ним, он страсть как рассердится. Недавно я подвернулся ему в такую минуту, так он в меня сапогом швырнул! Диско Троп сосал свою трубку и смотрел вдаль. Действительно, он старался угадать, куда направится треска. Он знал, что все эти появившиеся на горизонте шхуны пришли, чтобы воспользоваться его опытом и знаниями; но это только льстило его самолюбию. Однако на добычу он все-таки пойдет один. По окончании сезона он отправится в Виргинию. Так раздумывал Диско Троп. Он ничего не забыл, принял в расчет и погоду, и ветер, и течение, и количество имеющихся съестных припасов. Поглощенный мыслями о треске, сам он походил на большую треску. Наконец, он вынул изо рта трубку. — Отец, — сказал Дэн, — мы сделали свое дело. Позволь нам спуститься на шлюпке. На море тихо! — Только не в этом красном шутовском наряде и желтых башмаках. Дай ты ему, Дэн, что-нибудь поприличнее! — Отец сегодня в хорошем расположении духа, — заметил весело Дэн, увлекая за собою в каюту Харви. Им вдогонку Троп бросил ключ. — Моя запасная куртка хранится у отца, потому что мать говорит, что я неряха! Дэн порылся в сундуке, и несколько минут спустя Харви преобразился: на нем была грубая темно-синяя матросская куртка с заплатами на локтях, а на ногах красовались огромные резиновые сапоги, какие носят рыбаки. — Ну вот, теперь ты на человека похож! — сказал Дэн. — Да ну же, поворачивайся скорее! — Далеко не забирайтесь, — напутствовал Троп, — да к чужим шхунам не подходите близко. Если вас кто спросит, что я намерен делать, отвечайте правду — то есть, что вы ничего не знаете! Маленькая, окрашенная в красный цвет шлюпка была привязана к корме. Дэн притянул ее и легко спрыгнул на дно шлюпки. За ним тяжело свалился в лодку Харви. — Ну, этак в лодку прыгать не годится, — укорил его Дэн. — Хорошо, что сегодня тихо; будь волны, ты бы опрокинулся вместе со шлюпкой и пошел бы ко дну. Учись быть ловким! Дэн вложил уключины и сел на переднюю скамейку, наблюдая за Харви. Мальчику случалось раньше грести, только катаясь на каком-нибудь пруду, и греб он, как барышня. Но между легкими веслами, какими он взмахивал тогда, и тяжелыми длинными веслами, которыми приходилось работать теперь, была большая разница: он не мог вытащить их из воды, и у него вырвался вздох досады. — Чаще! Греби чаще! — кричал Дэн. — Надо поворачивать весла в воде! Шлюпка была чистенькая. На дне ее лежали маленький якорь, два ковша, гарпун, пара лесок с двойными крючками и тяжелыми грузилами. — А где же мачта и паруса? — спросил Харви, успевший уже натереть себе мозоли на руках. — Плохая ловля на парусах! — захохотал Дэн. — Да ты не очень налегай! Скажи, хотел бы ты иметь такую лодочку? — Отец мог бы подарить мне не одну такую! — отвечал Харви. — Правда. Я забыл, что твой отец миллионер. Ну а ты пока не разыгрывай из себя миллионера. Так ты думаешь, он тебе подарил бы шлюпку со всеми снастями? Ведь это стоит кучу денег! — В этом не было бы ничего удивительного. Мне только не приходило в голову просить об этом отца. — Должно быть, твой отец очень добрый и расточительный человек. Тише, Харви! Весло выскочило из уключины и ударило Харви в подбородок, отбросив его назад. — Вот видишь! Да мне и самому попадало, когда я учился грести. Только мне тогда было всего восемь лет! Харви сел на прежнее место. Челюсть ныла. Он сидел, нахмурившись. — Нечего дуться. Отец говорит, что мы сами виноваты, если не умеем обращаться с вещами. Ну-ка, попытаем счастья здесь. Вот и Мануэль! Португалец был на расстоянии мили от них, однако, когда Дэн подал ему знак веслом, он замахал в ответ левой рукою. — Тридцать сажен, — сказал Дэн, насаживая на крючок приманку. — Ну, нечего нежничать. Смотри на меня и делай так же! Дэн давно уже закинул удочку, а Харви все еще не мог умудриться насадить на крючок приманку. Лодка легко скользила по течению. Они еще не бросили якоря. — Попалась! — закричал Дэн. Крупная треска, всплеснув хвостом по воде, обрызгала Харви и тяжело шлепнулась в лодку. Дэн ловко оглушил рыбу молотком и выдернул из ее рта крючок. В это время и Харви почувствовал, что на его удочку клюнуло. — Посмотри, Дэн, ведь это «клубника»! — закричал он. Крючок запутался в кусте «клубники», очень похожей на настоящую лесную, с такими же белыми с розовыми бочками ягодами, только листьев не было, а стебли были липкие. — Брось! Не трогай! Но было уже поздно. Харви снял пучок клубники с крючка и любовался им. — Ой! Ой! — закричал он вдруг. Он обжег пальцы, точно схватил крапиву. — Ну, теперь ты знаешь, что такое морская клубника. Отец говорит, что ничего, кроме рыбы, нельзя трогать голыми руками. Швырни эту дрянь в море, да насаживай поскорее приманку. Нечего зря глазеть! Харви улыбнулся, вспомнив, что ему положили десять с половиною долларов жалованья в месяц, и подумал о том, что сказала бы его мать, увидев его на рыбачьей лодке, посреди океана. Она не находила себе места от волнения, когда он отправлялся кататься на лодке по Серенакскому озеру. Вспомнил он также, что смеялся над ее страхом. Вдруг удочку сильно потянуло у него из рук. — Отпусти немного! — закричал Дэн. — Сейчас я тебе помогу! — Не смей! Это моя первая рыба, я сам хочу… Да уж не кита ли я поймал? — Пожалуй, палтуса! — Дэн наклонился, стараясь разглядеть, что там, в воде, и держа наготове на всякий случай гарпун. Что-то овальное и белое блестело в воде… — Эге! Да эта рыбка не меньше пятнадцати фунтов весом! Ты что же, непременно хочешь справиться с нею один? Лицо Харви было красным от напряжения и волнения. Пот катился с него градом. Солнце отражалось в воде и слепило глаза. Мальчики устали возиться с палтусом, который двадцать минут бился, увлекая за собою лодку. Наконец, они справились с крупной рыбой и втащили ее в лодку. — Недурно для начала! — сказал Дэн, вытирая лоб. Харви с гордостью смотрел на свою добычу. Он часто видел пойманных палтусов на мраморных столах магазинов, но никогда не интересовался тем, как их ловят. Теперь он это знал по опыту. Усталость давала себя знать во всем теле. — Если бы отец был здесь, — заметил Дэн, — он сказал бы, что это значит. Теперь рыба попадается все больше мелкая, а ты поймал самого крупного палтуса, какие ловились нами в это плаванье. Вчера поймали много крупной рыбы, но ни одного палтуса. Это что-нибудь да значит. Отец знает все приметы рыбной ловли в этом месте! В это время на шхуне «Мы здесь» раздался выстрел из пистолета и на мачте показалась корзина. — Что бы это значило? Это сигнал, чтобы вся команда возвращалась на шхуну. Отец никогда не прерывал рыбной ловли в это время. Поворачивай, Харви! Он шли против ветра и приближались уже к шхуне, как вдруг до них донеслись жалобные крики Пенна, находившегося в полумиле от них. Он кружился со своей лодкой на одном месте, как огромный водяной паук. Пенн пробовал сдвинуться с места, но лодка тотчас поворачивала назад, точно притянутая веревкой. — Надо помочь ему, — сказал Дэн, — а то он останется здесь до второго пришествия! — Что с ним случилось? — спросил Харви. Теперь он жил в особом мирке, в котором многое было ему ново, и он не только не чувствовал себя вправе предписывать законы старшим, как это делал раньше, но постоянно должен был обращаться к ним за разъяснениями. Море было по-прежнему спокойно. — Опять запутал якорь. Уж этот Пенн, вечно потеряет якорь. Вот за это плавание он уже посеял два якоря в песчаном дне. Отец говорит, что, если он потеряет еще один, он даст ему «келег». Вот почему Пенн в таком отчаянии! — А что такое «келег»? — спросил Харви, смутно представляя себе какую-нибудь ужасную пытку, практикуемую моряками. — Большой камень вместо якоря. Если на чьей-нибудь лодке увидят камень, все знают, что это значит, и поднимают матроса на смех. Пенн страшно боится этого. Он такой чувствительный! Ну что, Пенн, опять запутался? Брось, милый, свое искусство! — Не могу сдвинуться с места, — пожаловался Пенн. — Уж я пробовал и так и сяк — ничего не помогает! — А это что за гнездо? — спросил Дэн, указывая на связку запасных весел и веревок. — Это испанский кабестан, — с гордостью отвечал Пенн. — Сальтерс научил меня делать его, но и он не может сдвинуть лодку с места! Дэн закусил губу, чтобы скрыть улыбку, дернул раз, другой за веревку и вытащил якорь. — Принимай, Пенн! — засмеялся он. — Не то опять зацепится! Пенн широко раскрыл свои голубые глазки, удивленно смотрел на якорь и горячо благодарил Дэна. Когда они отъехали от лодки Пенна так, чтобы их не было слышно, Дэн сказал Харви: — У Пенна шариков не хватает. У него разум помутился. Ты заметил? — В самом деле или это предположение твоего отца? — спросил Харви, налегая на весла. Работа веслами шла у него заметно лучше. — Отец в этом случае не ошибся. Пенн действительно странный. Я расскажу тебе, как это с ним случилось… Так, так, Харви, ты теперь гребешь отлично… — Он был когда-то моравским пастором. Его звали Джэкоб Боллер — это отец мне говорил, — у него была жена и четверо детей, и жили они где-то в Пенсильвании. Раз Пенн забрал их всех и отправился на моравский митинг; на ночь они остановились в Джонстауне. Ты слышал когда-нибудь, что есть такой город? Харви подумал. — Слышал, — вспомнил он, — только не помню, по какому поводу. Вот и другое такое имя — Аштабула — почему-то припоминается мне! — Потому что с обоими связаны воспоминания о страшных событиях. В ночь, когда Пенн и его семья были в гостинице, Джонстаун исчез с лица земли. Плотины прорвало, и город погиб от наводнения. Дома смыло и унесло водою. Я видел картины, на которых было изображено это бедствие — оно было ужасно. Жена и дети утонули на глазах у Пенна прежде, чем он успел опомниться. Вот с этого времени ум его и помутился. Он смутно помнит, что что-то случилось в Джонстауне, но что — не помнит. Забыл он даже, кто он, чем был раньше. Дядя Сальтерс встретил его в Алетани-Сити. Сальтерс — добрый человек, он взял Пенна к себе и дал ему работу. — Разве твой дядя Сальтерс фермер? — Всегда был земледельцем. Ферму свою он продал недавно одному бостонцу, который выстроил на ее месте дачу. Он заплатил дяде кучу денег. Ну, вот на эту ферму, которая еще тогда не была продана, Сальтерс и привел Пенна. Оба бобыля жили себе, скребли землю; только раз моравские братья[7], к секте которых принадлежал Пенн, проведали, где он находится, и написали Сальтерсу. Не знаю, чего они хотели от него, только Сальтерс страшно рассердился. Сам он принадлежал к епископальной церкви и ответил, что ни за что не выдаст Пенна какой-то моравской секте и не отпустит его в Пенсильванию. Потом он, вместе с Пенном, пришел к отцу — это было два года тому назад — и попросил, чтобы отец взял их с собою на рыбную ловлю. Он не ошибся, предположив, что моравцы не пустятся в погоню за Джэкобом Боллером в море. Отец охотно взял Сальтерса на шхуну — я это прекрасно помню, — и он рыбачил. Морской воздух хорошо подействовал на Пенна. Отец говорит, что когда он придет в себя, вспомнит про жену и детей, то и умрет. Никогда не говори Пенну о Джонстауне, не то дядя Сальтерс выбросит тебя за борт! — Бедняга Пенн! — прошептал Харви. — А между тем кто бы мог подумать, что Сальтерс так заботится о нем! — Я тоже люблю Пенна, мы все жалеем его, — сказал Дэн. — Мы бы могли взять его лодку на буксир, да я хотел тебе рассказать все это про него, чтобы ты знал! Они подошли близко к шхуне. Подходили за ними и остальные лодки. — Будет вам сегодня ловить рыбу! — закричал Дэн. — Посмотри, Харви, сколько судов прибыло еще с утра. Все они выжидают, куда пойдет отец. Взгляни, Харви! — Мне они все кажутся похожими друг на друга! Действительно, для непривычного глаза все эти покачивающиеся в море шхуны казались одинаковыми. Но Дэн хорошо знал их все и начал называть их Харви по именам, рассказывать, кому они принадлежат и откуда пришли. — Что это не видно «Эбби Диринг», отец? Верно, и она подойдет завтра! — Завтра вы не увидите других шхун, Дэнни, — отвечал Троп. Старик всегда называл сына Дэнни, когда был в духе. — Тесно здесь, молодцы, уж очень мы окружены! — продолжал он, обращаясь к рыбакам, высаживавшимся на шхуну. — Пусть себе ловят и крупную и мелкую рыбу другие, а мы уйдем на другое место! — Троп взглянул на привезенную рыбаками добычу: за исключением пойманного Харви палтуса, рыба была вся мелкая. — Я жду перемены погоды, — прибавил Троп. — Что-то не предвидится перемены, — сказал Долговязый Джэк, окинув взглядом безоблачное небо. Однако через каких-нибудь полчаса над морем спустился туман. Он клубился и ложился, как дым, над бесцветной водой. Рыбаки молча принялись за дело. Сальтерс и Джэк стали поднимать якорь. Брашпиль заскрипел, когда стали наматывать мокрый канат. Наконец, с шумом, похожим на рыданье, якорь был вытащен. — Поднимай кливер и фок-вейль! — отдал приказание Троп. Скоро шхуна «Мы здесь» стояла под парусами, которые наполнялись ветром. — Туман принес с собой ветер! — сказал Троп. Харви с удивлением смотрел на все, что происходило вокруг. Больше всего его удивляло, что он почти не слышит команды. Только изредка старый Троп не то скажет, не то проворчит что-то или в виде одобрения скажет: «Вот так, сынок». — Ты никогда еще не видел, как снимаются с якоря? — спросил Том Плэт. — Никогда. Куда мы пойдем? — На рыбную ловлю, как ты мог догадаться, прожив неделю на шхуне. Тебе все в диковину. А мы привыкли к неожиданностям. Думал ли я когда-нибудь, что попаду… — Все лучше, чем получить четырнадцать долларов в месяц и пулю в живот! — откликнулся Троп, стоя у руля. — Доллары и центы хороши, — возразил отставной служивый, прилаживая что-то у кливера. — Да мы об этом не думали, когда работали у брашпиля на «Мисс Джим Бок», выйдя с рейда Бофор в то время, как нам вслед открыли огонь с крепости, а море так и кидало нас. Где ты был в то время, Диско? — В этих же местах, где мы находимся сейчас, зарабатывал себе хлеб рыбной ловлей да старался не попасться в лапы пиратам. Жаль, что не могу услужить тебе, Том Плэт, горячим боем. Однако, кажется, мы выйдем в море, как следует, с попутным ветром! Волны всплескивали у киля и рассыпались брызгами у носа шхуны. Тяжелые капли падали со снастей. Все рыбаки ушли на подветренный борт шхуны, только дядя Сальтерс упрямо оставался у люка. Вот волна со свистом и шумом хлестнула через борт, ударила Сальтерса прямо в спину и окатила его с ног до головы. Он встал, сердито сплюнул и пошел было на другое место, но его опять окатило. Сальтерс попробовал встать у фок-мачты, но и тут воды было ему по колено. — Пенн, ты бы шел в каюту и напился кофе, — сказал Сальтерс, — нечего тебе слоняться по палубе в такую погоду. — Ну, теперь они будут распивать кофе и играть в шашки, пока коровы с поля не придут! — сказал Дэн, когда дядя Сальтерс вслед за Пенном отправился в каюту. — Да, пожалуй, скоро последуем их примеру и мы все. Нет на свете людей ленивее наших земляков, когда они не на рыбной ловле! — А я и забыл, что у нас на шхуне есть пассажир! — закричал Долговязый Джэк. — Только и вспомнил, когда ты заговорил с ним, Дэнни. Тому, кто не знает названия снастей, некогда лениться. Передай-ка нам новичка, Том Плэт, мы его поучим! — Ну, теперь очередь не за мною! — засмеялся Дэн. — Иди один. Меня учил концом морского каната отец! Целый час мучил Долговязый Джэк свою жертву, показывая, как он говорил, вещи, которые каждый должен знать на море, будь он слеп, пьян или спросонья. На шхуне вместимостью в семьдесят тонн не Бог весть сколько снастей, но Долговязый Джэк любил красноречие и выразительные жесты. Желая обратить внимание Харви на гардель, он упирался пальцами в затылок мальчика и заставлял его долго смотреть вверх; чтобы научить его отличать корму от носа, у него тоже была особая система: не доходя несколько футов до гафеля, он слегка потягивал его за нос; название каждого каната укреплялось в памяти Харви легким ударом конца веревки. Урок был бы легче, если бы палуба не была так завалена. Но по ней трудно было двигаться. Приходилось шагать через цепи и канаты брашпиля, пробираться мимо насоса, между кадок для рыбьей печени. Том Плэт не забыл также описать Харви, какие паруса и снасти были на «Орио», пароходе, на котором он когда-то служил. — Не слушай его, малый! — вмешался Джэк. — Том Плэт, ты только сбиваешь с толку мальчика со своим «Орио»! — Должен же я ознакомить его с основными правилами мореходства! — возразил Том. — Управлять парусным кораблем — целое искусство, Харви. Я бы показал тебе, если бы… — Знаю, ты бы его до смерти заговорил. Молчи, Том. Ну-ка, Харви, скажи, как ты возьмешь рифы у фок-вейля? Подумай хорошенько! — Натяну вот эти… — ответил Харви, указывая на подветренную сторону. — Что? — Рейки. Потом притяну вот эту веревку, которую вы мне показали сзади… — Это непорядок! — вмешался Том Плэт. — Оставь! Он еще учится и не помнит всех названий. Не робей, Харви! — Вспомнил: тали, зацеплю канат за фиш-тали и спущу… А нет, надо сказать: закреплю паруса у гардели, — продолжал Харви, вдруг вспоминая затверженные названия. — Покажи! — сказал Джэк. Харви начал показывать и называть снасти. — Кое-что ты позабыл, но мало-помалу всему научишься. На шхуне нет ни одной лишней снасти, потому что, если бы нашлось что лишнее, выбросили бы за борт. Вот послушай меня. Я тебя не худому научу: научу, как зарабатывать доллары и центы. А с деньгами в кармане ты можешь добраться из Бостона до Кубы и рассказать там, чему тебя научил Джэк. Ну а теперь обойдем шхуну вместе, я тебе буду называть все снасти, а ты повторяй за мною! Он начал, а Харви, уже порядком уставший, нехотя поплелся за ним. Вдруг конец морского каната обвился вокруг его ребер. Дух замер у Харви от боли. — Когда у тебя будет своя шхуна, — сказал Том Плэт, сурово взглянув на него, — ты можешь разгуливать такой походкой. А до тех пор бегай, когда исполняешь приказания. А для верности вот тебе еще! Харви и без того было жарко от постоянного движения. Теперь от удара его бросило в жар. Харви был мальчик впечатлительный, достойный сын умного человеке и чувствительной женщины. От природы он был решительного характера, но систематическое баловство сделало его страшно упрямым. Он взглянул на окружающих и заметил, что даже Дэн не улыбается. Очевидно, им это казалось в порядке вещей и ничуть не оскорбляло их нравственного чувства. Пришлось проглотить обиду и постараться запомнить урок. Долговязый Джэк назвал еще несколько снастей, а Харви извивался по деку, как угорь во время отлива, не спуская глаз с Тома Плэта. — Отлично! — похвалил Мануэль. — Ужо вечерком я тоже покажу тебе все снасти. Ну, помаленьку и научишься! — Недурно для пассажира, — подтвердил и Дэн. — А я тебя поучу на следующем дежурстве! Диско озабоченно всматривался в туман, который становился все гуще и гуще перед носом корабля. Уже в десяти футах расстояния от утлегаря[8] не было видно не зги. А мутные волны, шепча и словно лаская друг друга, катились вдаль торжественной, бесконечной чередой. — Ну, теперь я тебя поучу тому, чему Долговязый Джэк не сумел научить! — воскликнул Том Плэт… И он схватил из отделения под палубой, у кормы, дип-лот и обмакнул его в баранье сало. — Я тебе покажу, как летают голуби. Шш! Диско повернул колесо, и шхуна пошла в другом направлении, Мануэль и Харви бросились ему помогать. Харви опустил кливер. Лот загудел, когда Том Плэт быстро начал им вертеть. — Вперед! — нетерпеливо закричал Долговязый Джэк. — Мы всего в двадцати пяти футах от Огненного острова, а кругом туман. Не до фокусов теперь! — Измерение глубины моря лотом своего рода фокус! — сказал Дэн. — Зачем ты это сделал, отец? Диско переменился в лице. Его честь была затронута. Он пользовался среди остальных рыбаков репутацией искусного моряка и кичился тем, что знает отмели, как свои пять пальцев. За ним следовали и другие рыбачьи суда. — Шестьдесят! — сказал он, взглянув на компас. — Шестьдесят! — воскликнул Плэт, натягивая длинную мокрую веревку. Шхуна еще раз повернула в другом направлении. — Бросай! — приказал Диско четверть часа спустя. — Как ты это узнал, отец? — прошептал Дэн, с гордостью глядя на Харви. Но Харви был слишком преисполнен сознанием своей ловкости, чтобы обращать внимание на него. — Пятьдесят! — сказал отец. — Я думаю, мы теперь как раз находимся у Зеленой отмели! — Пятьдесят! — кричал Том Плэт, которого почти нельзя было разглядеть в тумане. — Насаживай приманку, Харви! — сказал Дэн, отыскивая лесу. Шхуна, казалось, блуждала в густом тумане; передний парус обвис. Рыбаки смотрели на мальчиков, которые принялись за рыбную ловлю, и выжидали. — Эй! — Леса Дэна вздрогнула. — Как это отец угадал? Помоги, Харви! Должно быть, крупная попалась! — Они потянули и вытащили большую пучеглазую треску в полпуда весом. Она глубоко проглотила крючок с приманкой. — Да она вся покрыта маленькими крабами! — удивился Харви, повертывая ее брюхом вверх. — Положительно, ты видишь под водою, Диско! — заметил Джек. Якорь с плеском погрузился в воду, и рыбаки все забросили лесу. — Можно их есть? — спросил Харви, вытаскивая с бьющимся от волнения сердцем вторую покрытую крабами треску. — Конечно. Когда попадается вот такая вшивая треска, это значит, что она ходила стадом тысячами, а это верный признак, что она голодна и будет глотать не то что приманку, а голый крючок! — Посмотри-ка, какая огромная! — кричал Харви, вытаскивая бьющуюся и тяжело дышащую рыбу. — Отчего бы нам не ловить треску всегда так, со шхуны, вместо того, чтобы выезжать на лодках? — Надо спешить, пока головы и отбросы со шхуны не испугали рыбу. Ловля с лодки не может быть так удачна. Отец уж знает, что лучше. Пожалуй, сегодня ночью попробуем ловить рыбу неводом. Только спину-то побольше ломит, когда тащишь треску вот как теперь, со шхуны, чем когда сидишь в лодке! Труд в самом деле был тяжелый. В лодке рыбу почти не надо поднимать и держать на весу; она поддерживается водою. Тащить рыбу до борта шхуны труднее; приходится все время лежать, перевесившись через борт. Но рыбаки работали горячо, с увлечением, и на палубе лежала уже большая груда рыбы, когда наконец треска перестала ловиться. — Где же Пенн и дядя Сальтерс? — спросил Харви, убирая лесу. — Пойди-ка принеси нам кофе, заодно увидишь и дядю Сальтерса с «Пенсильванией»! В каюте за столом, при желтом свете лампы, сидели два человека и играли в шашки. Сальтерс все время брюзжал, что Пенн плохо играет. Они были далеки от мысли о происходившей наверху ловле трески. — Ну, что там? — спросил Сальтерс, когда Харви, держась за кожаные перила трапа, позвал кока. — Целые груды крупной рыбы! — отвечал Харви. — Ну, есть игра? У Пенна задрожали губы. — Пенн не виноват! — сердито забрюзжал Сальтерс. — Ну что, в шашки играют? — спросил Дэн, когда Харви вернулся с дымящимся кофе. — Ну, сегодня, значит, не нам придется мыть палубу. Отец человек справедливый. Они отдыхали, пока мы все работали, они и будут чистить шхуну! — А тем временем два других знакомых мне молодчика будут закидывать невод! — сказал Диско, готовя колесо. — Гм! Уж лучше я буду мыть и чистить, отец! — Знаю, что тебе было бы лучше, да мало ли что! Ладно, почистит и Пенн, а вы половите рыбку! — Черт возьми! Отчего же эти глупые мальчишки не сказали нам, что ловят рыбу? — ворчал дядя Сальтерс. — Этот тупица Дэн! — Ну, если вы от шума бакштова не проснулись, наймите себе мальчика, чтобы будил вас, — огрызнулся Дэн, споткнувшись впотьмах о бак, в котором сложены были лесы. — Как ты думаешь, Харви, не спуститься ли нам вниз за приманкой? Решено было, что мальчики возьмут в качестве приманки оставшиеся от чистки рыбы отбросы, сложенные в кадках, в трюме. Тут же лежали свернутые в кольца лесы с большими крючками. Насаживать на эти крючки приманку — целое искусство. Дэн хорошо справлялся с этой задачей на ощупь. Харви постоянно колол себе пальцы о бородку крючка. Пальцы Дэна проворно работали. — Я закидывал невод еще в то время, когда не умел хорошо ходить, но все же нахожу, что это дело нелегкое. Ах, отец, отец! — вздохнул он. Диско и Том Плэт в это время занимались засолом рыбы. — Сколько скатов должны мы наловить? — Штуки три. Ну, поворачивайся живее! О! — вскрикнул он вдруг и сунул палец в рот. — Вот и я уколол себе руку. Веришь ли, Харви, если бы мне собрали и предложили деньги всего Глостера, я и тогда не согласился бы поступить на корабль, на котором рыбу ловят только неводом. Пусть это самый усовершенствованный способ ловли, по-моему, это самый каторжный, самый тяжелый труд на свете! — Я не знаю, что это такое, — сказал Харви угрюмо. — Знаю только, что у меня все пальцы изрезаны в кровь! — Это одно из самых тяжелых испытаний, какому подвергает отец. Но у него всегда есть серьезные причины поступать так. Отец всегда знает, что делает, поэтому и ловля у него всегда удачная! — Пенн и дядя Сальтерс, по приказанию Диско, вымыли палубу, но от этого мальчикам не стало легче. Том Плэт и Долговязый Джэк осмотрели с фонарем шлюпку, поставили в нее баки и маленькие баканы и спустили в море, которое, как показалось Харви, было очень бурное. — Они непременно пойдут ко дну, потому что так нагрузили лодку! — сказал он. — Целы будем и вернемся! — успокоил его Джэк. Лодку подняло гребнем волны. Казалось, она вот-вот разобьется вдребезги о корпус шхуны, но она как-то скользнула и исчезла в тумане. Дэн дал Харви в руки веревку от висевшего за брашпилем колокола и велел ему все время звонить. Харви звонил усердно. Он знал, что в его руках жизнь двух людей. Однако Диско, пославший этих людей на опасную ловлю и записывавший что-то в вахтенный журнал у себя в каюте, вовсе не походил на убийцу. Проходя мимо Харви ужинать, он даже улыбнулся при виде его озабоченного лица. — Что это за буря! — сказал Дэн. — Это и мы с тобой могли бы отправиться в такую погоду. Они недалеко отошли от шхуны. Право, не стоит так трезвонить! Но Харви продолжал звонить еще с полчаса. Вдруг послышался крик и стук. Мануэль и Дэн бросились к борту. Это вернулись Долговязый Джэк и Том Плэт. Они выловили, казалось, половину рыбьего населения Северного Атлантического океана и тащили его на себе. Том Плэт сбросил с себя мокрую ношу. Джэк снял сапоги и вылил из них воду, потом, неуклюже прыгнув, как вздумавший дурачиться слон, смазал Харви по лицу жесткой, пропитанной рыбьим жиром рукой, — Будем иметь удовольствие вместе откушать! Сегодня мы почтим ужин второй смены нашим присутствием! Действительно, все четверо пошли ужинать. Харви наелся до отвала отварной рыбы с сухарями и пирога и заснул как раз в то время, когда Мануэль вытащил из ящика двухфутовую модель «Люси Хольмс», корабля, на котором он совершил свое плавание, и собирался показать на ней все снасти. Харви даже пальцем не шевельнул, когда Пенн уложил его на скамейку. — Как тяжело, должно быть, его отцу и матери, которые думают, что он утонул. Трудно, ох трудно потерять ребенка! — вздохнул Пенн, вглядываясь в лицо Харви. — Не думай об этом, Пенн, — сказал Дэн, — пойди лучше закончи свою партию в шашки с дядей Сальтерсом. Отец, я постою сегодня на вахте за Харви. Он совсем умаялся! — А малый, право, славный! — сказал Мануэль, стаскивая с себя сапоги и тоже укладываясь на скамье. — Из него, пожалуй, выйдет человек. А что, Дэнни, ведь он вовсе не такой бестолковый, как показалось твоему отцу? Дэн хотел выразить согласие, но тоже захрапел. Море бурлило. Поднялся ветер, и стоять на вахте пришлось старшим. Часы мирно отбивали такт. Море ревело, а в каюте раздавался свист и храп спящих. Печка шипела, когда брызги попадали в трубу. Мальчики спали, а Диско, Джэк, Том Плэт и дядя Сальтерс по очереди ходили смотреть штурвал, якорь или поворачивали на фордевинд.Глава 4
Харви проснулся, когда уже первая смена сидела за завтраком. Двери хлопали. Шхуна трещала по всем швам. В маленькой корабельной кухне негр-кок раскачивался, то и дело теряя равновесие, а котлы и сковороды дребезжали и прыгали, хотя и были прикреплены к деревянной переборке. С грустным воплем вздымались и падали волны. Слышно было, как они разбивались, на минуту как бы в бессилии замолкали, чтобы снова обрушиться на палубу. Скрипел канат; брашпиль сердито визжал; шхуна поворачивала на бакборт[9]; ее бросало из стороны в сторону. — Ну, теперь к берегу! — услышал Харви голос Джэка. — Уйдем от флотилии рыбачьих судов. Честь имеем кланяться! Джэк, как большая змея, перевалился от стола к скамье и начал курить. Его примеру последовал Том Плэт. Дядя Сальтерс с Пенном отправились на вахту. Кок начал подавать завтрак второй смене. Смена не заставила себя ждать. Аппетит у нее был богатырский. Подкрепив силы, Мануэль набил трубку каким-то ужасным табаком, уселся на скамью, положил ноги на стол и, лениво развалившись, с улыбкой смотрел на кольца дыма. Дэн растянулся на другой скамейке и наигрывал на пестрой, разукрашенной позолотой гармонике. Кок, прислонившись к шкафу, в котором держал пироги (Дэн ужасно любил пироги), чистил картофель, не спуская глаз с плиты, опасаясь, чтобы вода не слишком залила трубу. Дым и запах стояли невообразимые. Вопреки ожиданиям Харви не чувствовал усталости. Тем не менее он с удовольствием лег на скамейку, как будто это был мягкий диван. А Дэн наигрывал какую-то народную песенку, насколько позволяли толчки шхуны. — Что же, это долго будет продолжаться? — спросил Харви у Мануэля. — Может, до ночи, а может быть, и дня два. А что, не нравиться? Вот поутихнет, опять будем ловить рыбу! — Неделю тому назад я бы расхворался от такой качки, а теперь ничего! — Это от того, что ты теперь стал настоящим рыбаком. На твоем месте, вернувшись в Глостер, я поставил бы вот какую толстую свечу за свое спасение, да и не одну, а две-три! — Кому свечу? — Ну, конечно, Божьей Матери, в нашей церкви, что на холме. Она милостива к рыбакам. Мы, португальцы, чтим ее, а потому редкие из наших рыбаков тонут! — Ты католик? — Я уроженец Мадейры, как же мне не быть католиком? Так вот, я и ставлю всегда две-три свечи по возвращении в Глостер, и Матерь Божия не забывает меня! — Я этому не верю! — откликнулся со своего места Том Плэт, посасывая трубку. — Море капризно. Чему быть, того не миновать. Тут ни свечи, ни керосин не помогут! — Что ни говори, а вера — великое дело, — сказал Джэк, — я согласен с Мануэлем. Лет десять тому назад я был матросом на одном бостонском торговом судне. Корабль пошел ко дну, бедняга. Тогда я пообещал, если останусь в живых, показать святым угодникам, какого талантливого малого они спасли. Как видите, я остался цел и невредим, а модель старого «Кэтлина», над которой я проработал добрый месяц, я передал священнику, чтобы он повесил ее в алтарь. По-моему, в жертве модели больше смысла, чем в приношении свечи. Свечей можно поставить сколько угодно, а принося святым модель, жертвуешь свой труд, и они видят, что человек им благодарен! — И ты веришь всему этому, ирландец? — спросил Том Плэт, приподнимаясь на локте. — Если бы не верил, то и не делал бы того, что говорю, друг мой. — Прекрасно. А вот Енох Фуллер сделал модель «Орио», так она теперь в музее. Славная модель, скажу я вам, только Енох никому не посвящал ее… Рыбаки могли бы говорить на эту тему еще долго, если бы Дэн не перебил их, затянув веселую песню, излюбленную рыбаками. Долговязый Джэк подхватил. В песне говорилось про скумбрию с полосатой спиной, про треску с глупою башкой, про камбалу, которая любит плавать глубоко по дну морскому. Дэн пел и по временам опасливо поглядывал на Тома Плэта. Вдруг толстый сапог Плэта полетел и попал прямо в Дэна. Плэт почему-то выходил из себя, когда пели или насвистывали эту песенку, и если Дэн хотел подразнить его, он всегда напевал ее. Дэн швырнул сапог обратно в Плэта. Началась настоящая война. — Если тебе не нравится моя музыка, вытащи на свет Божий свою скрипку. Не могу же я лежать здесь целый день и слушать ваши рассуждения о свечах. Сыграй нам что-нибудь на скрипке, Том Плэт, или я выучу Харви своей песне! Плэт вытащил из сундука старую скрипку. У Мануэля заблестели глаза. Он тоже достал откуда-то инструмент с проволочными струнами, похожий на гитару. — Концерт, — улыбнулся сквозь облако дыма Джэк, — форменный концерт, точно в Бостоне! Дверь распахнулась, и на пороге появился Диско в желтом непромокаемом плаще. — Добро пожаловать, Диско. Ну, как погодка? — Какая была, такая и осталась! Не удержавшись на ногах от сильной качки, Диско не сел, а почти шлепнулся на сундук. — Мы тут на сытый желудок вздумали петь. Ну-ка, Диско, будь запевалой! — сказал Джэк. — Да я только и знаю каких-нибудь две песни, и то вы много раз слышали! Между тем Том Плэт заиграл грустную-грустную мелодию; в ней, казалось, слышался плач ветра и стон гнущейся мачты. Диско устремил взгляд в потолок и запел старинную-старинную песню, прелюдию к которой только что сыграл Плэт. Они пели про путешествие какого-то судна из Ливерпуля к Ньюфаундлендским отмелям, где вода так мелка и дно такое песчаное, что видно, как плавают рыбы. Песня была бесконечно длинная. Путешествие от Ливерпуля до Нью-Йорка описывалось добросовестно, слушатели могли себе смело представить, что сами сидят на палубе судна. По временам хор подхватывал припев. Доехав благополучно до места назначения судна, певцы попросили и Харви спеть что-нибудь. Харви был очень польщен этой просьбой, но оказалось, что он ничего не помнит, кроме «поездки шкипера Айрсона». Эту песню он выучил в школе. Казалось, она соответствовала как нельзя более месту и обстоятельствам. Но едва он успел упомянуть о ней, Диско топнул ногой и закричал: — Не пой, милый! Это сплошная ложь! — Какая ложь? — удивился и даже немного обиделся Харви. — Все, что ты собираешься рассказывать нам, — неправда. Ложь с начала до конца. Айрсон не виноват. Отец мой рассказал мне все. Вот как было дело! — В сотый раз повторяет он эту историю! — пробормотал про себя Джэк. — Бэн Айрсон, милый мой, был шкипером на судне «Бетти», которое возвращалось с Отмелей. Случилось это еще до войны 1812 года. Но правда всегда останется правдой. Они встретили портландский корабль «Актив», на котором был шкипер Гиббонc. На корабле открылась течь. Дул сильный ветер. «Бетти» шла на всех парусах. Айрсон уверял, что в такую бурю нельзя рисковать, но его не послушали. Он предложил, чтобы «Бетти» не удалялась от «Актива» до восхода солнца. Не согласились они и на это и решили обогнуть мыс при какой угодно буре, во что бы то ни стало. Они пошли дальше, Айрсон, конечно, с ними. Жители Марбльхэда, куда они пришли, страшно сердились на Айрсона за то, что он не рискнул подойти к «Активу», с которого между тем на следующий день другому кораблю удалось снять несколько человек. Но они забыли, что на следующий день на море было тихо. Между тем спасшиеся с «Актива» люди распустили в городе слух о том, что население восстановлено против них, пошли к нему и стали сваливать свою вину на него. Не вступись тогда за Айрсона марбльхэдские женщины, с ним расправились бы судом Линча: вымазали бы дегтем и обваляли в перьях; однако все же Айрсона посадили в старую лодку и волоком протащили по всему городу, пока не вывалилось дно. Айрсон говорил своим мучителям, что когда-нибудь они пожалеют, что так поступили с ним. В самом деле, впоследствии истина открылась, хотя, как это часто бывает, слишком поздно — честный, ни в чем не повинный человек уже пострадал. Тот, кто сочинил песенку про Бена Айрсона, подхватил дошедшую до него нелепую и заведомо лживую историю и вторично надругался над невиновным уже после его смерти. Мой Дэн тоже раз принес эти стихи из школы, но ему здорово за них влетело. Ты не знал, что эти стихи лживые, но теперь я тебе рассказал правду, запомни ее раз и навсегда. Бен Айрсон никогда не был таким, каким его представил рифмоплет. Отец мой знавал его и до и после того случая. Так вот, друг мой, никогда не осуждай людей слишком опрометчиво. Никогда еще Харви не приходилось слышать, чтобы Диско так долго и так горячо говорил. Дэн успокоил его, заметив, что мальчик не виноват, если его научат в школе чему-нибудь ненужному: учиться он должен, а разобраться в том, что правда и что ложь, не так-то просто. Между тем Мануэль забренчал на своей расстроенной и дребезжащей гитаре и запел какую-то смешную песенку про «Невинную Нину». Кончил он ее, ударив по струнам так, что они чуть не лопнули. После него Диско удостоил почтенное собрание своей второй песенкой, на старомодный заунывный мотив. Рыбаки подпевали ему хором. «Уже наступает май и стаял снег, — пели они, — нам пора оставить Нью-Бедфорд и тронуться в путь. Китоловы никогда не видят, как колосится пшеница. Когда ее сеют, мы уходим в море, а когда возвращаемся, находим на столе уже испеченный свежий хлеб». Скрипка звучала так грустно, и Харви хотелось плакать, он сам не знал почему. Дело пошло еще хуже, когда кок бросил чистить картофель и тоже взялся за скрипку. Послышалась уже не печальная, а прямо какая-то зловещая мелодия. После короткой прелюдии он запел что-то на непонятном для слушателей языке. Толстым подбородком он прижимал к себе скрипку, а белки глаз его так и сверкали при свете лампы. Харви даже встал со скамейки, чтобы лучше слышать. Скрипели мачты, шумели волны, звуки песни заглушались стоном и ревом прибоя и, наконец, замерли щемящею душу жалобой. — Бр! У меня мороз по коже пробегает от этой песни, — сказал Дэн. — Что это такое ты пел? — Песню одного моряка, плававшего в Норвегию. Повар не Бог весть сколько знал по-английски, но слова, которые он произносил, звучали правильно и как-то отрывочно, точно из фонографа. — Я был в Норвегии, но ничего подобного не слышал. Впрочем, это, должно быть, какая-нибудь старинная песня! — вздохнул Джэк. — Вот послушайте для разнообразия кое-что повеселее! — сказал Дэн, и его гармоника заиграла какую-то бойкую, бравурную песенку. — Замолчи! — заревел Том Плэт. — Что ты хочешь — накликать на нас беду, что ли? Эту песню можно петь, только когда мы кончим рыбную ловлю. Это — Иона! — Никакой беды не будет, если только не спеть последнего куплета. Не правда ли, отец? А про Иону мне рассказывать нечего. Я и сам все хорошо знаю! — Какой Иона? — спросил Харви. — Что это такое? — Ионой у нас называется все, что приносит несчастье. Иногда несчастье приносит человек, мальчик, иногда какая-нибудь вещь, ну, хоть ведро. Раз на одном корабле, на котором мне пришлось совершить два плавания, был нож для разделки рыбы — он приносил нам несчастье! — сказал Том Плэт. — Разные бывают Ионы. Джим Бурк был тоже Ионой, пока не утонул. Я ни за что не соглашался служить на одном судне с Джимом. На «Эзра Флуд» была зеленая шлюпка, которая тоже приносила несчастье. На ней утонули четыре рыбака! — И вы этому верите? — спросил Харви, припоминая слова Тома Плэта о свечах. — Ведь Бог всякому человеку посылает свою судьбу! Рыбаки начали спорить. — На суше — одно, на море — другое дело, — сказал Джэк. — Никогда не смейся над Ионой, друг мой! — Ну уж Харви нельзя назвать Ионой, — вставил слово Дэн. — Вспомните, какой у нас был удачный улов на другой день после того, как мы выловили из моря Харви! Вдруг кок поднял голову и как-то дико захохотал. Всем сделалось жутко. — Каторжный! — выругался Долговязый Джэк. — Не смей больше так хохотать! — Разве я не правду говорю? — сказал Дэн. — Харви принес нам счастье! — Конечно, — отвечал кок, — но ведь лов еще не кончился! — Он нам не причинит зла! — горячо вступился Дэн. — На что ты намекаешь? Он ни в чем не виноват! — Зла, пожалуй, не сделает. А вот в один прекрасный день он будет твоим хозяином! — Только-то! — холодно возразил Дэн. — Хозяин! — указал кок наХарви. — Слуга! — кивнул он на Дэна. — Вот еще выдумал! С каких пор? — засмеялся Дэн. — Через несколько лет. Я доживу до этого времени и увижу. Хозяин и слуга, слуга и хозяин! — Кто тебе это сказал, черт возьми? — спросил Том Плэт. — Я предвижу это! — Как это? — спросили все с удивлением. — Не знаю как, но так случится! — Он опустил голову и отправился чистить картофель. Больше от него ничего не могли добиться. — Ну, — сказал Дэн, — много еще времени пройдет до тех пор, пока Харви сделается моим хозяином. Хорошо, однако, и то, что наш колдун не назвал Харви Ионой. Ну а вот дядя Сальтерс, по-моему, настоящий Иона своего собственного счастья. Не знаю только, не заразительна ли болезнь «неудача» так же, как ветряная оспа. Ему бы плавать на шхуне «Кэри Питмэн». Удивительно не везет этой шхуне. Мне кажется, что она когда-нибудь потерпит крушение в тихую погоду! — Мы ушли далеко от остальных рыбачьих шхун, — сказал Диско. — «Кэри Питмэн» тоже осталась далеко позади. Вдруг на палубе послышалась возня. — Должно быть, Сальтерс поймал свое счастье! — сказал Дэн. Диско вышел. — Прояснилось! — крикнул он сидевшим в каюте. Все высыпали на палубу подышать свежим воздухом. Туман рассеялся, но море еще сердито волновалось. Волны, не зная ни покоя, ни жалости, вздымались до верхнего конца бизань-реи, а ветер со свистом наполнял паруса и гнал шхуну между водяных гор и холмов. Море пенилось; белые гребни венчали мутные волны на необозримом пространстве. И над этой безотрадной пустыней то и дело проносились бесцельные порывы ветра. — Как будто что-то мелькает вон там! — сказал Сальтерс, указывая по направлению норд-оста. — Неужели это кто-нибудь из рыбаков? — подумал вслух Диско, вглядываясь вдаль, где в промежутках между валами виднелся большой корабельный нос. — Сбегай-ка, Дэн, посмотри, как лежит наш буй! Дэнни, стуча толстыми сапогами, взобрался на грот-мачту, цепляясь за краспиц-салинг, и долго блуждал взглядом, пока не увидел на расстоянии полумили бакан с развевавшимся на нем флагом. — Буй на месте! — крикнул он отцу. — Это шхуна, отец. Я вижу дым! Через полчаса небо расчистилось еще больше. Там и сям, сквозь разорванные клочки облаков, проглядывало солнце, бросая на море зеленые блики. Ныряя, показалась из волн толстая фок-мачта с пожелтевшими парусами. — Француз! — закричал Дэн. — Наверно, француз! — Нет, не француз! — отозвался Диско. — У меня хорошее зрение, — сказал Сальтерс. — Это дядя Абишай! Шхуна была старая, грязная, с обтрепанными, спутанными и связанными узлами снастями. Ветром гнало ее со страшной быстротой. Стаксель был спущен, а малые рейки съехали набок. Шпринтов торчал, как у старомодного фрегата! Утлегарь был скреплен и сколочен кое-как гвоздями в ожидании более основательной починки. Шхуна похожа была на неряшливую, нечесаную старуху. — Ну, так и есть — Абишай, — подтвердил Сальтерс. — Его шхуна, верно, идет на рыбную ловлю в Микелон! — Ну, пожалуй, она пойдет не в Микелон, а ко дну, — сказал Джэк. — С такими снастями в бурю не ждать добра! — Не пошла ко дну до сих пор, не потонет и теперь, — возразил Диско. — Скорее похоже, что она рассчитывает потопить нас. А что, как будто она слишком глубоко сидит в воде, Плэт? — Да, не худо бы им повыкачать воду насосом! В это время на полуразбитой шхуне показался седобородый старик и крикнул что-то, чего Харви не разобрал. Но лицо Диско омрачилось. Старик махал руками, как будто работал у насоса, и указывал вперед. Судовая команда смеялась в ответ на его угрозы. — Убрать снасти, поднять якорь! — кричал дядя Абишай. — Ветер свежеет. Это ваше последнее плавание. Все вы — глостерская треска, вы не увидите более своего родного Глостера. — Он бредит, как всегда, — сказал Плэт. — Хорошо было бы, если бы он нас не заметил! Шхуну увлекло течением, так что слова сумасшедшего предсказателя перестали доноситься. У Харви волосы встали дыбом от ужаса при виде полуразрушенного судна и его странной безумной команды. — Это не корабль, а какой-то плавучий ад! — сказал Джэк. — Это рыболовное судно, — объяснил Дэн Харви. — Оно плавает по побережью. Теперь оно идет к южному берегу. — Он указал по направлению берегов Ньюфаундленда. — Отец никогда не берет меня на этот берег. Народ там живет грубый. Но самый грубый из них — Абишай. Ты видел его шхуну. Говорят, что она вышла из Марбльхэдских верфей лет семьдесят тому назад. Теперь больше таких не строят. Абишай не показывается в Марбльхэд, да его там и не ждут. Он ловит рыбу и шлет проклятия, вот как ты слышал сейчас. Много лет считается рыбаками Ионой, торгует зельями и заклинаниями, говорят также, что он может дать морякам попутный ветер. Я думаю, что все это вздор! — Ну, сегодня ночью нечего и думать о рыбной ловле, — сказал Том Плэт с уверенностью. — Он нарочно прошел мимо нас, чтобы принести нам неудачу. Увидим его, бывало, на шкафуте «Орио», так и знаем, что в этот день будут наказывать матросов! Качаясь, как пьяная, шхуна Абишая неслась по ветру. Все смотрели ей вслед. Вдруг кок закричал своим четким голосом фонографа: — Это он на свою голову беду накликал! Смотрите, корабль идет ко дну! Судно вышло в полосу света милях в четырех от них. Но солнце только на минуту осветило кусочек моря и снова спряталось. Так же скоро исчезла под водой и шхуна. Только что ее все видели, и вдруг ее не стало. Диско вскочил. — Пьяны они или трезвы, но мы должны им помочь! Живо! Поднимайте паруса! Подняли кливера и фок-вейль, спешно снялись с якоря. От быстрого движения шхуны Харви чуть не отбросило на другой конец палубы. Речь шла о жизни и смерти, и маленькое суденышко «Мы здесь» волновалось, полное жалости к гибнущим, точно оно было не судно, а живой человек. Оно полетело на всех парусах к месту, где исчезла шхуна Абишая. Но там плавали только две-три кадки из-под рыбы, бутылка из-под джина и шлюпка. — Не трогайте ничего, — сказал Диско, хотя никто и не пытался выловить плавающие предметы. — Я ни за что не взял бы к себе на корабль даже спички, принадлежавшей Абишаю. Быстро они пошли ко дну. Должно быть, шхуну надо было законопатить неделю тому назад, а они не позаботились и даже воду не выкачивали. Неудивительно: они всегда были пьяны! — Слава Богу! — сказал Джэк. — Если бы они не утонули, нам пришлось бы их вылавливать! — Да, так лучше! — согласился Том Плэт. — Ну, они унесли с собою свою неудачу! — сказал кок, дико вращая глазами. — Я думаю, рыбаки будут рады, когда мы им расскажем о случившемся, — заметил Мануэль. — Да, их сильно гнало ветром, а шхуна была ветхая, — и пакли не было в пазах… — Он развел руками, как бы желая выразить беспомощное состояние погибшего корабля. Пенн зарыдал от жалости и ужаса. Харви не мог дать себе отчета в том, что только что видел, но ему было нехорошо. Дэн взобрался на краспиц-салинг, а Диско направил шхуну к тому месту, где плавал их буй. Только они вернулись, туман снова спустился над морем. — Да, умереть недолго, — задумчиво сказал Диско. — А ты, мальчик, не верь, что тут замешано колдовство; дело не в колдовстве, а в зелье-водке! После обеда рыбаки, пользуясь тихой погодой, принялись ловить рыбу на лодках. На этот раз деятельное участие приняли в ловле Пенн и Сальтерс. Рыбы поймали много, и попадалась все крупная. — Абишай унес с собою свое несчастье, — подумал вслух Сальтерс. — Ветру нет, да вот и рыба клюет. Впрочем, я никогда не был суеверен! Том Плэт стоял на своем, что лучше было бы бросить якорь в другом месте. — Счастье переменчиво, — сказал кок. — Присмотритесь, сами увидите. Уж я-то знаю! Джэк не знал, к кому примкнуть, наконец он согласился с Томом Плэтом, и они отправились вдвоем. Рыбаки закидывали лесу, снимали рыбу, снова насаживали на крючки приманку и закидывали в море. Труд этот далеко не безопасен: тяжелая рыба, оттягивая лесу, может опрокинуть лодку. В тумане послышалось чье-то пение. Вся команда шхуны встрепенулась, шлюпки заходили вокруг. Добыча доставалась богатая. Том Плэт звал на помощь Мануэля. — Нам везет, — сказал Джэк, ловко вонзая в рыбу гарпун, а Харви раскрыл рот от удивления при виде ловко управляемой лодки, которая чуть было не опрокинулась от тяжести рыбы. — Живей, Мануэль, тащи нам сюда кадку с приманкой! Сегодня на нашей улице праздник! Рыба так и клевала. Ее не успевали снимать с крючков. Том Плэт и Долговязый Джэк методически закидывали лесу, стряхивали с нее по временам морские огурцы, за которые она цеплялась, оглушали ударом молотка пойманную треску, складывали ее в кучу. Так работали они до сумерек. — После ужина мы примемся за чистку рыбы! — сказал Диско. Это была грандиозная чистка. Опять из воды вынырнули три или четыре касатки, поглотившие выброшенные за борт рыбьи внутренности. Так провозились рыбаки до девяти часов. Диско уже в третий раз приказывал кончать, Харви все еще бросал разделанную рыбу в трюм. — Ты очень быстро привык, — сказал ему Дэн, когда рыбаки ушли и они стали точить ножи. — Сегодня на море случилось много необычного, что же ты ничего не говоришь? — Некогда разговаривать, — отозвался Харви, пробуя только что отточенное лезвие. — Я только что думал о нашей шхуне. Видишь, как она качается! Маленькая шхуна качалась на якоре среди серебристых волн. Она пятилась, насколько позволяла длина каната, и тогда в клюзе раздавался точно выстрел. Покачивая носовой частью, точно кивая головою, она, казалось, говорила: «Жаль, но я не могу оставаться здесь с вами. Я пойду на север». Вот она собирается уплыть, но вдруг останавливается, трагически загремев снастями. «Я хотела сказать…» — начинает она торжественно, как подгулявший прохожий, обращающийся с речью к фонарному столбу. Впрочем, речь выражалась пантомимой, и конец ее терялся в припадке суетливости. Повинуясь капризу волн, шхуна билась, как щенок, который старается перегрызть свою привязь, тряслась, как неуклюжая женщина в седле, как курица, которой отрезали голову, или корова, ужаленная шершнем. — Смотри, — засмеялся Дэн, — теперь она говорит проповедь, как Патрик Генри! Вот она поднялась на волне и жестикулирует утлегарем, бакбортом и штирбортом. — Дайте, ох дайте мне свободу или смерть! Вот она попала в полосу лунного света, манерно раскланивается, но в это время захихикало колесо. — Право, она точно живая! — громко расхохотался Харви. — Она так же устойчива, как дом, и суха, как копченая селедка! — с восторгом отозвался Дэн, стоя на палубе, куда со всех сторон долетали брызги. — «Посторонитесь, посторонитесь, не подходите, не подходите ко мне близко!» — говорит ста. — А хорошие теперь строят яхточки! Вся наша шхуна могла бы поместиться в каюте такой яхты. Отец не жалует их. Отец хотя опытный рыбак, но он отстал от века и не судья в этом деле. Случалось тебе когда-нибудь видеть яхту «Электор» в Глостере? — Сколько может стоить такая яхта, Дэн? — Груду долларов! Тысяч пятнадцать, а то и больше. Я бы назвал такую яхточку «Хэтти С», — закончил он про себя, будто мечтая о чем-то.Глава 5
В первый раз Харви услышал от Дэна, что он хотел бы назвать воображаемую рыболовную яхту, сделанную по модели Бергесса, именем своей шлюпки. Харви много слышал о настоящей Хэтти, которая живет в Глостере; ему показали даже локон ее волос. Дэн ухитрился отрезать его на память в то время, как девушка сидела на школьной скамье перед ним; показал Дэн Харви и фотографию Хэтти. Ей лет четырнадцать, она страшная гордячка и всю зиму терзала сердце Дэна. Все это поведал Дэн товарищу, взяв с него клятву молчать, на палубе в лунную или темную ночь или среди непроглядного тумана, под звуки плачущего штурвала, среди вечно неспокойного, бурного моря. Мальчики все больше и больше сближались. Раз они затеяли бороться и с яростью преследовали друг друга от кормы до носа, пока не пришел Пенн: он разнял их и обещал, что не скажет Диско, который считал, что драться на вахте еще хуже, чем спать. Харви физически был гораздо слабее Дэна и должен был признать себя побежденным. От постоянно мокрой куртки и клеенки у Харви руки от кисти до локтя покрылись болячками. Соленая вода страшно раздражала больную кожу. Когда нарывчики созрели, Дэн разрезал их бритвой Диско. При этом он сказал Харви, что теперь он настоящий «рыбак с Отмелей», так как у всех у них на руках рубцы — это клеймо их ремесла. С тех пор как Харви стал юнгой на шхуне, он был очень занят, и ему не лезли в голову глупые мысли. Случалось, что он тосковал о матери, ему хотелось ее увидеть и рассказать ей все, что с ним случилось, какой новой жизнью он живет. Иногда он думал о том, как она перенесла известие о его мнимой гибели. Раз он стоял на трапе, слушая упреки кока, который обвинял его и Дэна в том, что они стащили у него пирожки, и ему показалось, что это лучше, чем выговоры посторонних людей в салоне наемного парохода. Он был признанным членом экипажа шхуны «Мы здесь». У него было определенное место за столом, своя койка. В долгие бурные дни он принимал участие в беседах моряков и сам рассказывал о своей прежней жизни, казавшейся им «волшебной сказкой». Он пробыл на шхуне каких-нибудь два дня, а прежняя жизнь уже казалась ему чем-то далеким-далеким. За исключением Дэна рыбаки недоверчиво относились к его рассказам о домашнем житье-бытье, да и Дэн, пожалуй, верил лишь наполовину. Вот почему он перестал говорить в своих рассказах о себе, а рассказывал им о своем приятеле, который катался в миниатюрной коляске, запряженной четверкой пони, в Орио, заказывал себе по пяти костюмов сразу. Сальтерс находил, что рассказывать такие сказки просто грешно, но сам жадно слушал их, как и прочие рыбаки. Их критические замечания изменили, однако, взгляды Харви на костюмы, дорогие папиросы, кольца, часы, духи, званые обеды, шампанское, карты и жизнь в отелях. Мало-помалу рассказы его о «приятеле» становились все скромнее и сдержаннее. Долговязый Джэк окрестил героя его рассказов такими лестными прозвищами, как «полоумный козленок», «бэби с золотым обрезом» и «младенец Вандерпуп». Харви был наблюдательный мальчик, он все слушал, все подмечал и быстро приспособлялся к новой среде. Скоро Харви узнал, где Диско прячет свой квадрант — под матрацем своей койки. Когда Диско по положению солнца и при помощи альманаха «Старый фермер» отыскивал широту, Харви одним прыжком оказывался в каюте и царапал вычисления и число месяца на заржавевшей трубе печи. Харви усвоил все приемы настоящего, лет тридцать прослужившего во флоте механика. Квадрант, карта берегов, «Альманах фермера», «Береговой лоцман» и «Мореплаватель» были для Диско единственными указателями пути, если не считать дип-лота, который был для него третьим глазом. Харви чуть не убил дип-лотом Пенна, когда Том Плэт в первый раз хотел показать ему, как «летают голуби». У Харви не хватало силы измерять дип-лотом глубину воды в бурную погоду, но, когда море было спокойно, Диско поручал ему делать замеры семифунтовым дип-лотом. — Отцу вовсе не нужны твои измерения, — объяснял ему Дэн, — он велит тебе это делать ради науки. Хорошенько смажь лот салом, Харви! Харви старательно смазывал салом конец лота и заботливо относил Диско все, что приставало к нему: песок, раковины, тину. Диско осматривал, обнюхивал принесенные предметы и руководствовался в плавании особенностями морского дна. Когда Диско думал о треске, сам он, как уже сказано, преображался в треску. Инстинкты и многолетний опыт всегда заставляли его направлять шхуну туда, где ловилась рыба. Как искусный шахматный игрок с завязанными глазами может вести игру на шахматной доске, так и Диско инстинктивно находил места, где водится рыба. Шахматной доской Диско была Большая Отмель, треугольник в двести миль длины и пятьдесят миль у основания, обширное, зыбучее море. Здесь царили сырые туманы, дули ветры, совершали набеги холодные льдины, бороздили волны пароходы, раскидывали свои белые крылья шхуны рыбаков. Иногда приходилось работать в тумане. Сначала Харви оставляли на шхуне, и он звонил в колокол. Когда он привык к морским туманам, Том Плэт стал брать его с собою. Сердце Харви замирало от страха. Однако туман не рассеивался, а между тем рыба клевала, некогда было давать волю нервам. Харви сосредоточивал все свое внимание на лесе и остроге, пока не приходило время возвращаться на шхуну. Гребли они, руководимые отчасти просто чутьем Тома Плэта. Но Харви быстро привык. Теперь даже во сне ему снилось, что они меняют место якорной стоянки, идут среди тумана, снилась леса, закидываемая в невидимое пространство. Раз Харви с Мануэлем заехали в такое место, где якорь не доставал дна. Сознание, что он не чувствует под собою почвы, наполнило душу мальчика ужасом. — Это Китовая Пещера, — сказал Мануэль. — Воображаю, как это не понравится Диско. Они стали грести обратно к шхуне. Здесь уже Том Плэт и другие рыбаки подсмеивались над своим шкипером: наконец-то он ошибся и привел их в Китовую Глубь, где не ловится рыба. Несмотря на туман, переменили место стоянки. Когда Харви снова пришлось выйти в море в шлюпке Мануэля, волосы у него стали дыбом от волнения и страха: в белом тумане двигалось что-то белое; от него веяло холодом могилы, слышался рев и плеск воды. Ему в первый раз приходилось видеть плавающую ледяную глыбу, и он в ужасе забился на дно лодки, а Мануэль смеялся над ним. Бывали и теплые, светлые дни, когда хотелось бы целыми часами лениться и отдыхать. Иногда Харви учили управлять шхуной. Он вздрогнул от радостного волнения, когда в первый раз почувствовал, что киль, руль и паруса повинуются ему. Это наполнило его гордостью. Однако, желая показать свое умение, Харви прорвал один парус, и ему пришлось поучиться, под руководством Тома Плэта, владеть иглой и наперстком и самому починить парус. Дэн страшно обрадовался неудаче друга, потому что когда-то и с ним случилась такая же беда. Харви наблюдал за всеми и от всех что-нибудь перенимал. Он гордился, как Диско, когда стоял у руля, взмахивал рукой, закидывая лесу, как Джэк, греб веслами ни дать ни взять как Мануэль и даже походку перенял у Плэта. — Любо посмотреть, как он привыкает к делу, — сказал Джэк, наблюдая раз за Харви в то время, как тот возился у брашпиля. — Он выучился шутя и стал настоящим моряком. Взгляните, он работает, как взрослый! — Все мы так начинали, — отвечал Том Плэт. — Мальчики всегда воображают, что они взрослые. Так было и со мною, на старом «Орио». Помню, как я гордился, когда в первый раз стоял на вахте. То же чувствуют теперь Дэн и Харви. Вот они смолят канат с видом старых рыбаков. Кажется, ты ошибся насчет Харви, Диско. Помнишь, ты нам говорил, что малый с придурью? — Да он и был придурковат, когда мы его взяли на шхуну, — откликнулся Диско. — Теперь он исправился. Я вылечил его! — А врать он умеет ловко, — сказал Том Плэт. — Как-то вечером он рассказывал нам сказки про такого же мальчугана, как он сам, который катался в Толедо в коляске, запряженной четверкой пони, и задавал ужины своим товарищам. Забавная волшебная сказка, и он их знает много! — Со временем он выкинет весь этот вздор из головы, — заметил Диско, писавший что-то в вахтенный журнал у себя в каюте. — Кроме Дэна, никто не верит его сказкам, да и Дэн над ним смеется, я сам слышал! — Век не забуду, что сказал Симон Питер Кахун, когда за его сестру Хатти посватался Лорин Джеральд. Тогда его словечко подхватили и долго потом смеялись! — лениво процедил сквозь зубы дядя Сальтерс, мирно лежавший у штирборта. Том Плэт сердито пыхнул трубкой. Он был местный старожил и никогда не слыхивал про Джеральда такой сплетни. Между тем Сальтерс продолжал со смехом: — Симон Питер сказал, и он был прав, что Лорин наполовину кутила, а наполовину дурак. А я слышал, что она все-таки вышла за него замуж. — Лучше бы ты, Пенсильванец, предоставил рассказывать эту историю уроженцу мыса! — Я знаю, что я не красноречив, — возразил Сальтерс. — Так, только к слову пришлось. Вот и наш Харви такой — не то кутила, не то дурак. А некоторые верят, что он богач! — А и весело было бы на шхуне, если бы у нас в команде было несколько таких умников, как Сальтерс! — сказал Долговязый Джэк. — Половина жила бы в трюме, другая в камбузе, как мог бы сказать Кахун. Все засмеялись. Диско не принимал участия в разговоре и продолжал записывать в вахтенный журнал свои замечания. Вот что можно было прочитать на засаленных страницах этой книги:«17 июля. Сегодня густой туман и много рыбы. Переменили якорную стоянку, взяв на север. Так прошел сегодняшний день». «18 июля. Сегодня с утра туман. Поймали немного рыбы». «19 июля. Сегодня дует легкий ветерок с норд-оста и погода ясная. Переменили стоянку, взяв на запад. Поймали много рыбы». «20 июля. Сегодня, в субботу, туман и легкий ветерок. Так прошел день. Итого поймано рыбы в течение недели 3478 штук».По воскресеньям никто на шхуне не работал. Рыбаки мылись, брились, а «Пенсильвания» пел гимны. Раза два он робко заявил, что, пожалуй, мог бы прочитать проповедь. Дядя Сальтерс чуть не задушил его от негодования и стал уверять его, что он не пастор, и нечего ему и думать о проповедях. — Пожалуй, он этак вспомнит и про Джонстаун, — пояснил Сальтерс, — а что тогда с ним случится? Рыбаки согласились только на предложение Пенна почитать им вслух Книгу Иосифа. Это была толстая книга в кожаном переплете, с виду очень похожая на Библию. В ней было много повествований о битвах и осадах, и рыбаки прочитали ее от первой до последней строчки. Иногда на Пенна находила полоса: он целыми днями просиживал молча. При этом он играл в шахматы, слушал песни рыбаков, смеялся, когда они рассказывали смешные истории. Когда же его старались вызвать на разговор, он отвечал: — Я не хочу быть нелюдимым, но мне нечего говорить. У меня в голове — пустота. Я даже не помню, как меня зовут! — Неужели ты забыл, что тебя зовут Пенсильвания Прэт? — закричал Сальтерс. — Никогда не забуду, — с уверенностью отвечал Пенн. — В самом деле — Пенсильвания Прэт! — повторил он. Иногда Сальтерс сам забывал и говорил Пенну, что его фамилия — Гаскинс, Рич или Витти, но Пенну было все равно, он с одинаковой уверенностью повторял за ним каждое новое прозвище. Пенн питал какую-то особенную нежность к Харви, считая, что он некоторым образом осиротел. Видя это, и Сальтерс смягчал свое обращение с ним. Вообще же Сальтерс был человек суровый и думал, что мальчиков следует держать в ежовых рукавицах. Харви сначала побаивался его, зато впоследствии они с Дэном не прочь были сыграть с Сальтерсом какую-нибудь шутку. По отношению к Диско Харви себе этого никогда не позволил бы. Правда, у старика была своеобразная манера отдавать приказания. Он говорил обыкновенно: «Я думаю, ты бы лучше сделал, если бы…», или: «Ведь ты сделаешь так или этак?» В складке губ Диско, в уголке глаз было что-то внушающее уважение. Диско ознакомил Харви с картой берегов, которую ставил выше всяких одобренных правительством изданий. Водя по ней карандашом, он показал ему все места якорных стоянок вдоль целого ряда отмелей — Ле-Гав, Западной, Банкеро, Сен-Пьер, Зеленой и Большой Отмелей. В то же время он говорил ему о местонахождении трески. В этой науке Харви обогнал Дэна, зато в остальном он отстал. Диско говорил, что ему надо было бы поступить на шхуну лет десяти, чтобы одолеть все трудности морского дела, а теперь поздно учиться. Дэн мог насаживать приманку, закидывать невод, найти всякую снасть, править шхуной в темноте. Все это он исполнял механически, так же легко, как он взбирался на мачту. Он правил лодкой, как будто она составляла часть его самого. Но Харви он не мог передать своего умения. В бурные дни моряки сидели в каюте: из их бесконечных рассказов, прерываемых по временам стуком падающих на шхуну предметов, Харви мог многому научиться. Диско рассказывал о ловле кашалотов, описывал предсмертную агонию этих животных среди бурного моря, говорил о крови, брызгающей на сорок футов в вышину, о разбитых в щепки лодках китоловов, о гибели рыбаков в северных льдах. Все это были дивные, но правдивые рассказы. Еще удивительнее были рассказы Диско о треске, о ее рассуждениях и размышлениях на дне глубокого моря. Долговязый Джек любил сверхъестественное и чудесное. В глубоком молчании, с замирающим сердцем, слушали мальчики его рассказы о привидениях, которые пугают искателей раковин в заливе Мономей, о заживо погребенных в песчаных дюнах, о кладах, зарытых на Огненном Острове, о «Летучем голландце», носящемся ночью со своей мертвой командой. Харви, привыкший к беседам в уютных богатых гостиных, сначала смеялся над этими сказками о призраках и привидениях, но мало-помалу он стал относиться к ним серьезнее и молча слушал их. Том Плэт постоянно вспоминал свое плавание на «Орио» и сражения, в которых участвовал. Он рассказывал, как заряжали пушку ядрами, как шипела и дымилась картечь. Много недель стояли они на якоре, блокируя крепость. Дули холодные ветры, снасти обледенели… Плэт вышел в отставку, когда пароходы еще только начали появляться, и флот, который он описывал, был довольно-таки первобытной конструкции; однако Плэт не слишком уважал современное изобретение — пароходы и твердо верил, что время парусных фрегатов в десять тысяч тонн не прошло. Рассказывал иногда и Мануэль, но больше о хорошеньких девушках Мадейры, которые полощут белье у живописных берегов речки, при лунном свете, под тенью развесистых бананов. Иногда тихим, ровным голосом он передавал внимательным слушателям легенды о святых или причудливые истории о плясках и потехах рыбаков в гаванях Ньюфаундленда. Сальтерс охотнее придерживался земледельческих тем. Хотя он и любил почитать Книгу Иосифа, настоящим призванием его было хлебопашество, и он мог долго и много говорить о преимуществах какого-нибудь удобрения. Иногда он вытаскивал из сундука засаленную книжонку об удобрении почвы и принимался читать ее Харви. Харви сначала смеялся над этой страстью Сальтерса, но, заметив, что его насмешки обижают маленького Пенна, он перестал насмехаться и стал молча выслушивать это чтение. Характер Харви вообще изменялся к лучшему. Кок не принимал участия в беседах рыбаков. Он редко и мало говорил, но иногда на него находил какой-то странный стих, и он начинал говорить без конца на смеси гэльского и ломаного английского языков. Особенно часто он разговаривал с мальчиками и любил повторять им свое предсказание о слуге и хозяине. Кок рассказывал также о том, как ездят на санях, запряженных собаками, в Кудрее, как ледорез-пароход ломает лед между материком и островом Принца Эдуарда. Вспоминал он свою мать, которая рассказывала ему о жизни на далеком юге, где вода никогда не замерзает. Когда он умрет, душа его полетит туда и найдет покой на песчаном берегу теплого южного моря, под ветвями чудных пальм. На самом деле бедный негр никогда в жизни не видывал ни одной пальмы. За обедом кок постоянно спрашивал, вкусно ли приготовлено кушанье, и при этом всегда обращался только к Харви. Это очень потешало «вторую смену». Впрочем, рыбаки питали какое-то суеверное уважение к дару ясновидения кока и невольно уважали за это Харви. Харви жадно ловил каждой клеточкой души новые познания, жадно вдыхал полной грудью здоровый воздух. А шхуна между тем шла своей дорогой и делала свое дело. Серебристо-серые груды рыбы в трюме все росли. Лов шел не слишком блестяще, но и не дурно. Другие рыбачьи шхуны зорко следили за Диско. Однако он ловко умел ускользнуть от них в туманные дни, среди хорошо знакомых ему отмелей. Избегал он соседства других потому, что не любил быть в обществе шхун разных национальностей. Большинство судов было из Глостера, Провинстоуна, Гарвича и Чаттэма, но экипаж был набран Бог знает откуда. В толпе беззаботных, алчных до наживы моряков всегда может случиться какая-нибудь неожиданная неприятность. — Пусть себе их ведут оба Джеральда, — говорил Диско. — Мы теперь в плохих местах, Харви… — Неужто? — спросил Харви, черпая ведром воду. — Что же? Можно сесть на мель? — Я бы хотел выбраться поскорее к Мысу Восточному, — сказал Дэн. — Скажи, отец, неужели мы здесь застрянем недели на две? Там, Харви, начнется горячая работа: некогда будет ни есть, ни спать. Хорошо, что ты попал к нам на шхуну месяцем раньше, а не теперь, а то мы не успели бы обучить тебя к прибытию на отмель Старой Девы! Харви сообразил, рассматривая береговую карту, что отмель Старой Девы была поворотным пунктом плавания и что там они пополнят груз своей шхуны. Отмель эта обозначалась крошечной точкой, и Харви удивлялся, как Диско может найти ее с помощью квадранта и дип-лота. Впрочем, Харви многого еще не знал, и многое ему приходилось видеть и слышать вновь. Так, в один очень туманный день он услышал впервые звук сирены, напоминавший крики слона. Они шли осторожно вперед, как вдруг из тумана вынырнули красные паруса какого-то судна. На шхуне принялись звонить в колокол. Послышался крик команды, спустили передние паруса. — Француз, — сердито сказал дядя Сальтерс. — Наверное, идет из Сен-Мало в Микелон! — Hi! Backez-vous, backez-vous! Standes awayez, эй, вы, бодливые, mucho bono! Откуда идете, из Сен-Мало? — Есть! Есть! Mucho bono! Clos Poulet — St. Malo. St. Pierre et Miquelon! — закричала в ответ команда другого корабля, смеясь и размахивая в воздухе фуражками. — Bord! Bord! — Принеси-ка сюда доску, Дэнни. Удивляюсь, какой берег эти французы ищут здесь. Подай им сигнал сорок шесть, сорок девять! Дэн начертил цифры мелом на доске и вывесил на грот-мачте. Матросы с встречного корабля благодарили. — Не очень-то любезно отвечаем мы им! — сказал Сальтерс. — Жаль, что ты не научился говорить по-французски с прошлого плавания, — отвечал Диско. — Я не хочу тащить с собой балласта, как случилось в Ле-Гаве! — Может быть, ты, Харви, умеешь говорить по-французски? — Умею, — смело вызвался Харви. — Эй! Послушайте! — заорал он. — Arretez-vous! Attendez! Nous sommes venus pour tabac! — Ah! Tabac, tabac! — кричали они и смеялись. — Это им по нутру. Спустим-ка шлюпку! — сказал Том Плэт. — Мои познания французского языка не удостоверены дипломом, но я знаю другой язык — у меня есть смекалка. Пойдем со мною, Харви, в качестве толмача! Когда Плэт и Харви высадились на соседнюю шлюпку, их встретили невообразимым гамом и криком. В каюте всюду висели ярко размалеванные изображения Божьей Матери, покровительницы ньюфаундлендцев. Моряки с Отмелей говорили на таком исковерканном французском языке, что не понимали Харви, и ему пришлось тоже объясняться жестами и любезными улыбками. Том Плэт больше размахивал руками и бойко объяснялся. Капитан угостил их каким-то особенным ужином, а вся команда, в красных шапках, с волосатыми открытыми шеями, длинными кортиками за поясом, встретила их, как братьев. Началась торговля. Они везли настоящий американский беспошлинный табак, а им нужны были шоколад и морские сухари. Харви отправился обратно на шхуну, чтобы переговорить с Диско и коком, которые заведовали припасами. Он привез французам просимые жестянки какао и бочонки с сухарями. Том Плэт и Харви вернулись с пачками табаку для куренья и жеванья. После этого обмена веселые моряки исчезли в тумане, напевая хором веселую песенку. — Почему это они меня не поняли, а тебя, Том Плэт, поняли, хотя ты и говорил не по-французски, а знаками? — спросил Харви. — Потому, что речь знаками много старее всех языков. А потом также потому, что на французских пароходах тьма франкомасонов!
Глава 6
Харви удивляло, что большинство судов бродило по Атлантическому океану наугад. Дэн объяснил ему, что рыбачьи шхуны обязательно должны зависеть от любезности своих соседей, но что даже пароходы не знают хорошенько, куда идут, было прямо удивительно. Случилось, что старый пароход, доверху нагруженный скотом, гнался за шхуной «Мы здесь» целых три часа. Когда он приблизился, командир начал переговоры с Диско. А Диско смеялся над шкипером. — Куда вы забрались? Не знаете? Бродяги вы этакие, рыщите по морю, не зная куда, и распиваете кофе, вместо того чтобы смотреть, куда вас несет! Шкипер в ответ на это только любезно раскланивался и говорил какие-то комплименты по поводу глаз Диско, который между тем на их вопрос о местонахождении отвечал: — Разве у вас нет дип-лота? Или запах навоза отбивает у вас обоняние, и вы не можете пронюхать, каково здесь дно? — Чем вы кормите скотину? — не удержался, чтобы не спросить, Сальтерс: в нем невольно заговорил фермер. — Говорят, что скот не переносит морского плавания и падает во множестве. Я знаю, что ему полезно давать мелко искрошенные жмыхи… — Черт возьми! — послышалось с парохода. — Из какого дома умалишенных выпустили этого пустомелю? — Друг мой! — продолжал Сальтерс, стоя у грот-мачты. — Позвольте дать вам совет… Командир, стоя на мостике, вежливо раскланялся: — Извините, но я хотел попросить указаний. Если этот сельский хозяин немножко посторонится, то мы сможем переговорить со шкипером и узнаем, где мы! — Вечно ты суешься не в свое дело, Сальтерс! — сердито сказал Диско. Ему было неловко не отвечать на вопрос, предложенный в столь вежливой форме, и он сказал, наконец, на какой широте и долготе они находятся. — Это какие-то помешанные, — сказал шкипер, направляясь в машинное отделение и кидая в шхуну связку газет. — Сальтерс, ты ничуть не умнее этих дураков, — ворчал Диско, в то время как шхуна удалялась. — Я только что собирался сделать им выговор за то, что они бродят, как слепые, а ты непременно должен был сунуться с вопросом! Харви, Дэн и остальная команда стояли в стороне и только весело переглядывались. Диско и Сальтерс ссорились до самого вечера. Диско упрекал брата в недостатке честолюбия настоящего рыбака. Когда шкипер не в духе, всем приходится плохо. Долговязый Джэк долго хранил молчание, но после ужина он заметил вскользь: — Ну, что же они про нас скажут? — Они теперь везде будут рассказывать про жмыхи… — С солью! — дополнил неисправимый Сальтерс, читатель земледельческого отдела в старой нью-йоркской газете. — Нет, это меня просто бесит! — сказал Диско. — Я не вижу тут ничего особенного, — примирительно вступился Долговязый Джэк. — Посмотри, Диско, уже не второй ли это пакетбот идет сюда? Сальтерс, правда, сболтнул лишнее, но ты, Диско, забудь это. В другой раз он будет умнее. Ведь он это от простоты! Дэн толкнул Харви под столом, а тот со смеха чуть не захлебнулся своим кофе. — Конечно же, — несколько храбрее заговорил и Сальтерс. — Я ведь сказал, потому что к слову пришлось! — Правда, — вмешался и Том Плэт, большой знаток морской дисциплины и этикета, — ты сам виноват, Диско, что не остановил его, если находишь, что он сунулся не в свое дело! — Не мог же я угадать, что он собирается говорить! — уже несколько спокойнее возразил Диско, польщенный признанием своего авторитета. — Конечно, ты, как шкипер, был вправе заставить меня замолчать. А я, разумеется, замолчал бы при малейшем намеке, уж если не по убеждению, то ради примера вот этим мальчишкам! — Что я тебе говорил, Харви? Что ни говорят, а до нас непременно доберутся. Всегда во всем окажутся виноваты «мальчишки»! — А все-таки незачем было соваться, — настойчиво повторил Диско. — Надо уметь различать вещи: земледелие — одно, рыбная ловля — другое! Сальтерс набивал табак в трубку и не возражал. — Умение различать вещи — великое дело, — сказал Джэк, стараясь примирить спорящих. — Это сказал и Стейнинг, когда посылал Коннана шкипером на «Марилле» вместо капитана Ньютона, захворавшего острым ревматизмом. Мы называли Коннана Мореплавателем! — Ник Коннан никогда не садился на корабль, не взяв с собой запаса рому, — сказал Том Плэт. — Бывало, он ходит в Бостоне около агентов и высматривает, не возьмет ли его какой-нибудь судовладелец капитаном на буксирный пароход. Сам Кой содержал его раз целый год за свой счет за то, что он хорошо умел рассказывать истории. Как не знать Коннана Мореплавателя! Он умер, я думаю, лет пятнадцать тому назад? — Пожалуй, семнадцать будет. Он умер в тот год, когда строился «Каспар Вит». Ник никогда не умел различать вещи. Стейнинг взял его потому, что не смог найти никого лучше. Все моряки уже уехали на Отмели, а Коннан был вечно без дела. Груз «Мариллы» застраховали, и она отправилась из Бостона на Большую Отмель при сильном норд-весте. На беду, на шхуне нашелся ром. «Марилла» шла под фок-вейлем. Шли, шли они так. Не видно ни берега, ни чаек, ни других шхун. Прошло две недели, а Отмелей как не бывало. Ну, наконец, решили измерить глубину воды. И что же? Шестьдесят локтей! «Это ничего! — утешал себя Коннан. — Отмели начнутся скоро. Опустим дип-лот и насчитаем тридцать локтей. Коннан Мореплаватель знает свое дело». Еще раз спустили дип-лот и намеряли девяносто. «Либо дип-лот никуда не годится, либо отмель провалилась!» — говорил Коннан. Вытащили дип-лот, сели на дек и начали отсчитывать узлы. «Марилла» все идет себе да идет. Навстречу ей попался какой-то другой корабль. «Не видели ли вы тут поблизости рыбачьих шхун?» — спросил Коннан будто невзначай. «У побережья Ирландии их много!» — ответили ему. «Убирайтесь вы со своей Ирландией, что я там забыл, в вашей Ирландии?» — «Так зачем же вы сюда пришли?» — «Помилуй Бог! — говорит Коннан. — Да где же это я?» — «В тридцати милях на запад от мыса Клир, если желаете знать и если это вас утешит!» Коннан даже подпрыгнул. Корабельный кок смерил его прыжок и говорит, что он был не меньше как четыре фута семь дюймов. «Хорошо утешение, — сказал он. — За кого вы меня принимаете? Тридцать пять миль от мыса Клир и две недели пути от Бостона? Помилуй Бог! Вот так история, доказательством которой служит то, что моя матушка живет в Скаберрине!» Коннан вышел из себя от гнева. Но, видите ли, он никогда не умел владеть собой. Команда большей частью состояла из уроженцев Корка и Керри, кроме одного мэрилэндца, который пробовал было уговорить их вернуться; они, однако, назвали его бунтовщиком и ввели «Мариллу» в гавань Скаберрина. Вдоволь нагулялись они за неделю на родимой стороне с друзьями-приятелями. Потом пошли в обратный путь. Только через месяц добрались они до Отмелей, и, когда пришли, вода была низка, и Коннану пришлось вернуться в Бостон без добычи. — А что сказал хозяин шхуны? — спросил Харви. — Что же ему было говорить? Рыба осталась на Отмелях, а Коннан в Бостоне рассказывал о своем замечательном плавании на восток. Решили, что в другой раз будут умнее и будут держать ром и команду в отдельных помещениях, тогда шкипер не спутает Скаберрин с Кверо. Да, чудной был человек Коннан Мореплаватель, царство ему небесное! — Когда я служил на «Люси Гольмс», — начал Мануэль своим методичным голоском, — мы пришли с грузом рыбы в Глостер; но цены на рыбу упали, и мы решили продавать ее в другом месте. Подул свежий ветерок, потом стало еще свежее. Корабль наш быстро понесло, куда — мы не знали. Наконец увидели мы землю. Стало жарко. Смотрим, навстречу идет бриг, на нем три негра. Спрашиваем их, где мы? И что же бы вы думали, они нам отвечают! — На Канарских островах? — догадался Диско. Мануэль с улыбкой покачал головой. — У берегов Бианко? — спросил Плэт. — Хуже. Мы очутились у берегов Безагоса, а негры были из Либерии. Так вот где нам пришлось продавать рыбу! — А что, могла бы наша шхуна пойти прямо в Африку? — задал вопрос Харви. — Отчего же? Могла бы даже обойти мыс Горн, — сказал Диско. — Отец ходил не на такой шхуне, а на пакетботе, всего в пятьдесят тонн водоизмещением, в Гренландию, где в то время ловили треску. Полгода плавали они среди ледяных глыб. Мало того, отец взял с собою в одно из таких плаваний мою мать, чтобы показать ей, как ему достаются трудовые деньги. Они там чуть не замерзли. В это плавание появился на свет и я. Родился я, когда пакетбот был близ Диско, вот почему мне и дали прозвище. Конечно, нельзя сказать, чтобы было благоразумно производить на свет младенцев среди холодных айсбергов, но что же делать: все мы люди, и все можем ошибаться! — Вот, вот, — кивнул головой Сальтерс, — все могут ошибаться. Слышите, мальчики, — обратился он к Дэну и Харви, — когда вы сделаете какую-нибудь ошибку, а вы и делаете не меньше сотни в день, лучше всего сознаться в своем заблуждении. Долговязый Джэк подтвердил сказанное, и инцидент оказался исчерпанным. Они переменили несколько якорных стоянок в северном направлении. Лодки почти каждый день выходили на ловлю и шли вдоль восточного края Большой Отмели, на глубине тридцати — сорока локтей. Здесь Харви впервые пришлось увидеть сквидов. Раз ночью рыбаков разбудил крик Сальтерса: «Сквид! Эй!» Полтора часа ловили сквидов. Лов этот производится при помощи окрашенного в красный цвет лота с расположенными в виде зонтика, загнутыми вверх булавками на конце. Сквид почему-то любит эту своеобразную приманку и идет на нее. Его вытаскивают раньше, чем он успеет освободиться от иглы. Когда рыбу эту тащат из моря, она выпускает в рыболова сначала струю воды, затем черную, как чернила, жидкость. Курьезно видеть, как рыбаки всячески стараются избежать чернильных брызг, отклоняя головы от пойманной рыбы. Тем не менее, когда лов окончился, лица у всех рыбаков были черные, как у трубочистов. Зато целая груда сквидов лежала на палубе. Крупная треска хорошо ловится на кусочки серебристо-белого мяса сквида, надетые на крючок. На следующий день поэтому лов шел очень успешно. В тот же день навстречу шхуне попалась «Кэри Питмэн». Рыбаки сообщили им о своей удаче. Моряки с «Кэри Питмэн» предложили им семь крупных штук трески в обмен на одного сквида, но Диско не согласился. «Кэри» быстро повернула под ветром и бросила якорь на расстоянии полумили от шхуны, желая попытать счастья сама. После ужина Диско послал Дэна и Мануэля отвезти канат к бакану, чтобы повернуть судно. Дэн передал это одному рыбаку из экипажа «Кэри», который спросил его, зачем они ставят баканы, коли дно вовсе не каменистое? — Отец говорит, — весело крикнул Дэн, — что в милях в пяти от вас идет, кажется, паром! — Почему бы вам не обойти его? Кто вам мешает? — Потому, что вот и вы сейчас обошли нас с подветренной стороны. А отец этого ни от кого не потерпит, не говоря уж о таком старом днище, как ваша шхуна, которая идет, куда ее ветром несет! — В это плавание мы еще ни разу не дрейфовали! — обиженно отвечал моряк. Дело в том, что «Кэри Питмэн» пользовалась нелестной репутацией шхуны, которая теряет якоря. — Так как же вы становитесь на якорь? — сказал Дэн. — Если не дрейфовали, у вас новый утлегарь? Это окончательно рассердило рыбаков «Кэри», и они закричали: — Эй ты, португальский шарманщик, возьми свою обезьяну обратно в Глостер! Иди-ка назад в школу, Дэн Троп! — Шаровары! Шаровары! — дразнил Дэн, знавший, что один из людей команды «Кэри» работал прошлую зиму в швальне, где изготовлялись шаровары. — Карапузик! Глостерская креветка! Убирайся к себе в Новую Шотландию! Назвать глостерского уроженца новошотландцем считается большим оскорблением, и Дэн не остался в долгу. — Сами вы новошотландцы, городские пачкуны, чатгэмские выродки! Убирайтесь со своим кораблем к черту! — Знаю я, чего они добивались, — говорил Диско. — Дождутся ночи, а когда мы все заснем, сдрейфуют. Правда, здесь нет других судов, которые бы нас окружали, но все же я не собираюсь отсюда в Чатгэм! На закате поднялся ветер, но не настолько сильный, чтобы сорвать с якоря даже лодку. «Кэри Питмэн», однако, имела свои особенности. В эту ночь на вахте стояли мальчики. Под утро они услышали выстрел из допотопного револьвера, заряженного, должно быть, еще с дула. — Аллилуйя! — запел Дэн. — Вот она пошла, как сонная. Точь-в-точь, как тогда в Кворо! Будь это другое судно, Диско принял бы какие-нибудь меры, но тут он только перерезал якорные канаты в момент, когда «Кэри Питмэн» полным ветром пошла на шхуну. Шхуна «Мы здесь» под кливером чуть-чуть посторонились — Диско не желал отыскивать потом свой якорь целую неделю. «Кэри» прошла среди града насмешек. — Доброй ночи! — сказал Диско, снимая фуражку. — В каком состоянии ваш огород? — Поезжайте в Орио и наймите там мула, — сказал дядя Сальтерс. — Нам здесь фермеры не нужны! — Не одолжить ли вам якорь от моей шлюпки? — предложил Джэк. — Послушайте, — пронзительным голосом кричал Дэн. — Эй! Послушайте! Что это у портных нынче стачка, что ли, или в швальне наняли шить шаровары баб? Крикнул какую-то шутку и Харви, которого подучил Том Плэт. Даже безобидный Пенн пропищал что-то. Всю ночь якорь продержали на цепи, и шхуна неприятно вздрагивала на этой короткой привязи. Полдня трудились моряки, разыскивая канат. Но все это казалось мальчикам вздором в сравнении с тем наслаждением, которое они испытали, осмеивая злосчастную «Кэри». То и дело им приходила в голову новая острота или насмешка, которую они могли бы крикнуть пристыженной «Кэри Питмэн», но не успели.Глава 7
Наутро рыбаки подняли паруса и пошли в северо-западном направлении. Им казалось уже, что они скоро должны прийти на отмель Девы, как вдруг неожиданно опустился густой туман, и пришлось бросить якорь. Со всех сторон до них долетал звон колоколов. Рыба ловилась не Бог весть как хорошо, но рыбачьи шлюпки все же бродили в тумане, встречались и обменивались новостями. Дэн и Харви выспались днем, а ночью, уже на рассвете, вздумали таскать пирожки. Им не было запрещено взять их просто, а не тайком, но краденые пирожки казались им вкуснее, да и кок ужасно смешно сердился. Вместе с награбленной добычей они вышли из душной каюты на палубу. Здесь они застали Диско. Он звонил в колокол и, когда Харви подошел, передал ему веревку. — Звони! Мне кажется, что в тумане что-то слышно! Действительно, слышался какой-то легкий звон, а по временам до слуха Харви доносился звук пароходной сирены. Он уже настолько знал жизнь на Отмелях, что понял всю грозившую опасность. Вспомнилось ему, как когда-то мальчик в красной куртке, невежда и бездельник, говорил, что было бы «интересно», если бы пароход наехал на рыболовное судно. У того мальчика была великолепная каюта с ванной. Каждое утро он минут десять посвящал изучению роскошного меню. Теперь тот же самый мальчик — впрочем, нет, он значительно старше, это его старший брат — встает в четыре часа утра, тусклого туманного утра, стоит в непромокаемом плаще и что есть силы звонит в маленький колокольчик, — меньше того, по звуку которого сходились к завтраку пассажиры, — звонит в то время, как обшитый сталью пароход несется где-то совсем близко со скоростью двадцать миль в час. Как горько было ему думать, что там, на пароходе, люди спят себе в сухих, обитых сукном и кожей каютах, что эти люди встанут только к завтраку и даже не узнают никогда, что они наехали на рыбачью шхуну и разбили ее. Харви с отчаянием продолжал звонить. — Ну да, они замедлили немного ход машины, — сказал Дэн, — и если переедут и пустят ко дну какое-нибудь судно, будут считать себя правыми — они действуют по закону!
И небо, и море были окутаны молочно-белым туманом. Сирена отчаянно ревела, колокольчик безнадежно дребезжал. Харви внезапно почувствовал близость чего-то надвигающегося, большого. В сыром тумане перед ним встал, словно утес, огромный корабельный нос, готовый, казалось, перерезать шхуну. На окрашенном в розоватый, яркий цвет борту Харви прочел целый ряд римских цифр — XV, XVI, XVII, XVIII. Сердце замерло у Харви от страшно близкого шипенья и свиста. Цифры исчезли, промелькнул обитый медью борт. Харви беспомощно поднял руки, задыхаясь в клубах пара, на перила шхуны плеснуло теплой водой, шхуна затрепетала, закачалась на волнах, поднятых пароходным винтом, и в тумане мелькнула корма удалявшегося парохода. Харви чуть не потерял сознания. Вдруг послышался треск, словно от падения срубленного дерева, и откуда-то донесся чей-то глухой голос: — Спасите! Мы идем ко дну! — Мы? — задыхаясь, спросил Харви. — Нет. Чья-то чужая шхуна. Звони! Мы пойдем на помощь! — сказал Дэн, быстро спуская шлюпку. Менее чем через минуту все, исключая Харви, Пенна и кока, ушли на шлюпках. Сломанная фок-мачта какой-то шхуны плыла по течению. За нею показалась какая-то зеленая шлюпка. Волнами ее ударило о корпус шхуны; казалось, она просила, чтобы ее взяли, приютили. Вот проплыло чье-то туловище в синей куртке, но только туловище, без ног. Пенн побледнел, как полотно. Харви звонил, как безумный, боясь, что вот-вот их шхуна тоже пойдет ко дну. Когда рыбаки вернулись и Дэн окликнул Харви, мальчик пришел в себя. — «Дженни Кушмэн» перерезало надвое, — чуть не рыдая проговорил Дэн. — В четверти мили отсюда. Отец спас старика. Других никого не видно. А со стариком был сын. О! Харви! Харви! Я не могу вынести этого! На моих глазах… Он спрятал лицо на груди Харви и зарыдал. Тем временем остальные рыбаки втащили на шхуну какого-то седовласого старика. — Зачем вы спасли меня? — стонал он. — Диско, зачем ты меня вытащил из воды? Диско положил ему на плечо свою могучую руку. Взор старика дико блуждал, губы дрожали. Вдруг вышел и заговорил… кто же? Пенсильвания Прэт, он же Гаскинс Рич или Витти, как приходило на память дяде Сальтерсу. Лицо его странно преобразилось. То было не лицо безумного, а лицо мудрого старца. — Бог дал, Бог и взял, — заговорил он громко. — Да святится имя Его. Я был, я и сейчас — служитель Господа. Пустите его ко мне! — Вы служитель Божий? — сказал старик. — Так умолите Бога, чтобы Он вернул мне сына! Пусть Он вернет мне мою шхуну, стоившую тысячу долларов, и тысячу центнеров рыбы! Если бы вы не спасли меня, вдова моя никогда не узнала бы о случившемся. Теперь я сам должен рассказать жене все! — Не надо рассказывать, Джэзон Оллей, — сказал Диско. — Лучше приляг теперь! Трудно найти слово утешения для человека, который потерял в полминуты сына, трехмесячный заработок и шхуну, дававшую ему средства к жизни. — Все это были глостерцы, не правда ли? — спросил Том Плэт. — Ах, это все равно, кто бы они ни были! — сказал Оллей, отжимая свою мокрую бороду. Потом он запел:
Счастливы птицы, которые летают и поют
Вокруг Твоих алтарей, о Всемогущий!
Глава 8
Никогда в жизни не забудет Харви чудной картины, которая представилась его глазам. Солнце, которого они не видели уже целую неделю, стояло на горизонте. Лучи его заливали пурпуром паруса многочисленных стоявших на якоре шхун. Шхун было не меньше сотни, всяких конструкций и из разных стран. Были тут и французские суда. И все они любезно раскланивались друг перед другом. Как пчелы из населенного улья, от каждой шхуны отделялись шлюпки. Слышался скрип канатов и цепей, всплески весел. По мере того как солнце поднималось на горизонте, паруса меняли свой цвет, казались сначала черными, потом серыми, наконец, белыми. С юга прибывали все новые и новые шхуны. Шлюпки собирались в кучу, расходились, обгоняли друг друга, но все шли в одном направлении. Гребцы приветствовали друг друга, свистели, мяукали по-кошачьи, пели, бросали в воду всякую ветошь и мусор. — Город! В самом деле город! Диско не ошибся! — сказал Харви. — Я разглядел бы его, если бы он был даже меньше! — отвечал Диско. — В этом городе — тысяча человек жителей. А вот там отмель Девы! — указал он на сероватое пятно в море, где не было ни одной шлюпки. Шхуна «Мы здесь» обогнула всю флотилию. Диско то тут, то там отвечал на приветствия своих друзей и знакомых и бросил якорь молодцевато, как на парусной гонке. Рыбаки мало обращают внимания на хороших моряков, зато неловкого шкипера непременно поднимут на смех. — Ну, как удался лов? — спросили с «Короля Филиппа». — Как раз вовремя подоспели! — послышалось с «Мери Чильтон». — Эгей! Том Плэт! Приходи сегодня вечером, поужинаем вместе! — пригласили с «Генри Клея». Вопросы и ответы летели перекрестным огнем. Шлюпки встречались и раньше во время лова в тумане, но там было не до разговоров. Все, казалось, знали о спасении Харви и спрашивали, научился ли он рыбачить… Молодые рыбаки перебрасывались шутками с Дэном, который никогда не имел привычки лезть за словом в карман и осведомлялся о здоровье каждого, называя его самым нелюбезным для него прозвищем. Мануэль тараторил на своем родном языке со своими земляками. Даже молчаливый обыкновенно кок повис на утлегаре и кричал что-то своему приятелю, такому же черному, как он сам. Вокруг отмели Девы дно каменистое, и того и гляди якорный канат оборвется, поэтому они подвязали его к буям. Шлюпки же отправились, чтобы присоединиться к целой флотилии шлюпок, стоявших на якоре на расстоянии одной мили. Шхуны качались и поглядывали на окружающие шлюпки, как утка смотрит на своих утят. У Харви в ушах звенело от замечаний, направленных по его адресу, когда он, сидя на веслах, греб среди массы других шлюпок. Слышались всевозможные наречия: португальское, неаполитанское, французское, гэльское, раздавались крики, песни. Может быть, это происходило от того, что он слишком долго жил на шхуне «Мы здесь», все в одном и том же тесном кружке людей. Ему было не по себе среди насмешек этих чужих и грубых людей. Легкая зыбь вздымала ряд разноцветных шлюпок; с минуту они выделялись на фоне неба, как чудная фреска; люди в лодках что-то кричали и жестикулировали. В следующую минуту лица, руки, обнаженные шеи исчезали за волной, в то время как другая приносила ряд новых лиц. Точно куклы в театре марионеток! Харви смотрел пораженный. Проталкиваясь и держа лодку по ветру, приветствуя старых приятелей, окликая старых врагов, командор Том Плэт вел свою маленькую флотилию с подветренной стороны от остальных шлюпок. Вдруг море вокруг потемнело от множества серебристой рыбы. На пространстве пяти или шести акров треска начала прыгать, как форель в мае месяце. За трескою на поверхности воды показались три или четыре широкие темные спины, вокруг которых вода словно кипела. Все заволновались, закричали, снялись с якоря, отталкивали лесу соседа, закидывали свою, давали друг другу советы. А море вокруг кипело, как содовая вода. Треска, кашалоты, люди — все перемешалось. Закидывая невод, Дэн чуть не столкнул Харви за борт. Во всей этой суматохе Харви преследовал злобный, маленький глаз плававшего почти на поверхности воды кита, который, казалось, подмигивал ему. Кашалоты запутались в сетях двух или трех рыболовных шлюпок и увлекли их за собою на полмили. Через пять минут все утихло, слышен был только шум погружавшейся в воду лесы, всплеск трески и удары, которыми рыбаки оглушали рыбу. Это была чудесная ловля. Харви смотрел в воду и видел, как блестела чешуя трески, то и дело попадавшейся на крючки. По закону, на отмелях Девы запрещается насаживать на лесу более одного крючка, но лодки стояли так близко, что даже один крючок задевал соседей. Харви горячо переругивался по этому поводу с молодым, кудрявым ньюфаундлендцем и кричавшим португальцем, лодки которых стояли по обе от него стороны. Каждая шлюпка бросила якорь, где пришлось. Когда треска стала идти уже не такой сплошной массой, все рыбаки устремились сменить место якорной стоянки. При этом оказалось, что якорные канаты в тесноте перепутались. Обрезать канат у чужого якоря считается на Отмелях преступлением, однако это делалось. Том Плэт поймал одного рыбака на месте преступления и ударил его веслом. Так же угостил одного своего земляка Мануэль. Обрезали канат и у якоря Харви и Пенна. Тогда они стали отвозить пойманную рыбу на шхуну. В сумерках приплыла новая масса трески. Снова раздались крики рыбаков. В этот день они вернулись на шхуну, когда уже было темно, и чистили рыбу при свете керосиновых ламп. Они начистили огромную груду рыбы. На другой день несколько лодок отправились на ловлю к мысу Девы. Харви был тоже там. Треска шла легионами, прячась в водорослях. В полдень в ловле наступило затишье, и рыбаки начали шутить. Дэн первый завидел приближение шхуны «Надежда Праги», и, когда с нее спустили шлюпки, рыбаки встретили их вопросом: «Кто самый презренный человек во флоте?» — Ник Брэди! — закричали хором триста голосов. — Кто крал ламповые фитили? — послышалось опять. — Ник Брэди! — заорал хор. На самом деле Ник Брэди вовсе не был таким презренным человеком, но за ним закрепилась такая репутация. Нашли и другого козла отпущения, рыбака, которого обвиняли в том, что он будто бы насадил на свою лесу пять или шесть крючков, когда ловил треску на Отмелях. Его прозвали Джимом Зацепой и, как он ни старался пройти незамеченным, его увидели и запели хором: «Джим! О, Джим! Джим! О, Джим, Зацепа Джим!» Этот экспромт ужасно всем понравился. Досталось и «Кэри Питмэн». Всем было страшно весело. Впрочем, всем попало, каждой шхуне, каждому рыбаку. Высмеивали неряшливого и плохо стряпавшего кока с одной из шхун. Подмечены были и выставлены в смешном виде малейшие характерные черточки людей: непогрешимость суждений Диско, зазнобушка Дэна (о, Дэн был малый не промах!), неумение Пенна справиться с якорем, знания Сальтерса по части удобрения полей, романтические похождения Мануэля, наконец, дамское жеманство, с каким греб веслами Харви. Серебристый туман окутывал море на закате, а голоса звучали как хор присяжных, выносящих обвинительный вердикт. Шлюпки продолжали тесниться и ловить рыбу, пока не начался прилив. Тогда они разошлись во все стороны, чтобы не разбиться одна о другую. Вдруг какому-то бесшабашному рыбаку пришло в голову, пользуясь течением, пройти на лодке над самым утесом Девы. Напрасно уговаривали его. Волны катились на юг, увлекая за собою в туман лодку смельчака, ближе к утесу. Это была опасная игра со смертью ради похвальбы. Все молчали. Но вот Долговязый Джэк погнался вслед за смельчаками и заставил их вернуться, крича, чтобы они не рисковали так жизнью. Между тем следующая волна была уже слабее, и из пенящегося, бешено ревущего моря показалась вершина утеса. Если бы лодка не остановилась, ее разбило бы вдребезги. Со всех сторон по адресу Джэка послышались приветствия. — Ну, разве не молодцы? — восторгался Дэн. — Ты видел все, что есть наиболее замечательного на Отмелях, Харви, — сказал Плэт, указывая на прилив, — да чуть не увидел и смерть! Туман сгустился, и на шхунах слышался звон колоколов. Вот из-за белой завесы показался огромный нос какой-то баржи, осторожно подвигавшейся вперед. — Добро пожаловать! — приветствовали его с одной из шхун. — Это француз? — спросил Харви. — Разве не видишь, что это балтиморское судно? — возразил Дэн. — Ишь, как ползет. Должно быть, его шкипер в первый раз идет сюда! Окрашенный в черную краску корабль этот был вместимостью в восемьсот тонн. Передний парус был спущен, задний еле шевелился при слабом ветерке. Большая, нерешительная в своих движениях, баржа напоминала женщину, осторожно приподнимающую платье, чтобы перейти через грязную мостовую. Шкипер знал, что находится где-то по соседству с утесом Девы, слышал рев разбивающихся о него волн и опасливо осведомился о фарватере. — Утес Девы? Бредите вы, что ли? Сегодня воскресенье, и вы пришли в Ле-Гав. Отправляйтесь-ка домой и проспитесь! — послышалось в ответ. — Берегись! Берегись! — кричали хором. — Вы на самой вершине утеса! — Беритесь за палку! — Спускайте кливер! Терпение, наконец, лопнуло у шкипера. Он начал отругиваться. В ответ посыпался ряд комплиментов по адресу его баржи. Его спрашивали, застрахована ли она; не украл ли он якорь у «Кэри Питмэн»; говорили, что он пугает рыбу и т. д. Какой-то досужий молодой рыбак подошел к самой барже и дразнил шкипера, за что удостоился наказания: кок высыпал на него ведро золы. Парень начал швырять в кока рыбьими головами. Из кухни стали сыпать уголь, что, наконец, устрашило забияк и заставило рыбачьи лодки отойти от баржи. Если бы она была действительно в опасности, рыбаки, конечно, предупредили бы ее, но, зная, что она далеко от скалы, не могли отказать себе в удовольствии потешиться над нею. Но вот снова волна прилива заревела над утесом, и на барже поспешили закрепить все паруса, чтобы ветром не понесло на скалу. Рыбаки перестали шутить и смеяться. Всю ночь хрипло ревели волны у рифа Девы. Утром Харви увидел, что море злится и пенится. До десяти часов весь флот стоял на якоре. Наконец, два брата Джеральда, собственники шхуны «Утренний глаз», тронулись в путь. Половина рыбачьих судов пустилась вслед за ними. Но Троп не последовал их примеру. Он не любил рисковать, а море было слишком бурным. К вечеру разыгралась настоящая буря, и рыбакам шхуны «Мы здесь» пришлось сушить и обогревать не одного промокшего до костей смельчака. Мальчики стояли у шлюпок с фонарями. Рыбаки пристально всматривались в волны и готовы были при первой необходимости, с опасностью для жизни, броситься на помощь. Вот среди мрака раздался крик: «Лодку! Лодку!» Они вытащили из воды человека и полузатонувшую лодку. Раз пять стоявшие на вахте Дэн и Харви бросались к гафелю и окоченелыми руками закрепляли паруса. Волны плескали на дек. Одна лодка разбилась в щепки, а сидевшего в ней гребца ударило головой о шхуну. К вечеру на шхуне спасли еще одного матроса: у него была сломана рука, и он спрашивал, не видел ли кто его брата. За ужином на шхуне сидело семь потерпевших крушение чужих рыбаков. На следующий день на всех шхунах было нечто вроде перекличек вернувшихся рыбаков. Там, где вся команда оказывалась налицо, ели с лучшим аппетитом. Утонули только два португальца и один старик родом из Глостера, но много было ушибленных и раненых. Две шхуны сорвались с якоря, и их унесло на два дня пути к югу. На одной французской шхуне умер матрос. Это была как раз та шхуна, которая продала нашим морякам табак. В одно тихое, но дождливое утро эта шхуна тихо поплыла на глубокое место, и Харви увидел впервые, как хоронят моряков. За борт спустили какой-то длинный сверток, и только… Не было заметно, чтобы по покойнику молились или совершали какой-нибудь обряд; ночью Харви услышал пение какого-то гимна. Звуки плавно и печально неслись по усеянной звездами поверхности моря. Том Плэт ездил на французскую шхуну, потому что покойный был масон. Умерший упал и ударился спиною о борт, так что сломал себе позвоночник. Весть о смерти матроса облетела все шхуны, потому что, вопреки обычаю, на корабле устроили аукцион оставшихся после умершего вещей: все, от вязаной шапки до кожаного пояса, было разложено и развешано. Дэн и Харви присоединились к любопытным. Дэн купил себе на аукционе кортик с медной рукояткой. Когда они возвращались, шел дождь, вода струилась по их клеенчатым плащам; неожиданно спустился туман. Дэн решил закинуть лесу, нацепив на нее большой кусок приманки. Рыба клевала. Харви поднял воротник и смотрел на поплавок с равнодушным видом старого рыбака. Туман его больше не пугал. Дэн вынул купленный им нож и стал рассматривать его. — Прелесть! — сказал Харви. — Как это они продали его так дешево? — Потому что католики суеверны, — сказал Дэн, сверкая лезвием. — Они боятся брать вещи после покойников! — Купить на аукционе не значит «взять». Это торговля! — Мы-то это знаем, потому что мы не суеверны. Вот одно из преимуществ жизни в стране прогресса! — Дэн начал насвистывать какую-то песенку про суеверия жителей Истпорта. — А как же один матрос из Истпорта купил сапоги умершего? А каково население Мэна? — Не очень-то прогрессивно. У них даже дома не крашеные стоят. Истпортский матрос сказал мне, что ножичек этот был в ходу — ему французский капитан рассказывал! — Убийство? — Харви вытащил рыбу и бросил ее в лодку. — Да. Когда я это услышал, мне еще больше захотелось купить его! — Господи! А я и не знал, — сказал Харви, разглядывая нож. — Продай мне его за два доллара. Отдам, когда получу жалованье! — В самом деле? Он тебе нравится? — спросил Дэн, краснея от удовольствия. — Признаться, я и купил-то его, чтобы подарить тебе; я только не знал, понравится ли. Возьми его, Харви, на память. Ведь мы с тобой товарищи и так далее, и тому подобное. На, бери! Он протянул ему пояс и нож. — Но, Дэн, я не вижу причины, почему бы… — Возьми, возьми. Мне не нужно. Я для тебя купил! Соблазн был слишком велик. — Ты славный, Дэн! Я буду хранить твой подарок до смерти! — Приятно слышать, — сказал Дэн, смеясь. — Смотри, твоя леса за что-то задела! — перевел он разговор на другую тему. — Зацепилась, — проговорил Харви, дергая. Но предварительно он опоясался подаренным ему кушаком. — Да что это, леса зацепилась крепко, точно за дно, поросшее «клубникой», а ведь здесь дно, кажется, песчаное? Дэн перегнулся и помог ему тащить. — Это палтус, должно быть, а не «клубника». Потяни-ка еще, авось подастся. Они разом потянули, и таинственная добыча медленно поднялась. — Вот так добыча! — закричал Дэн, но крик его перешел в вопль ужаса: они вытащили из моря труп похороненного двумя днями раньше француза! Крючок зацепил его за правое плечо, и верхняя часть туловища плавала на поверхности воды. Руки покойника были связаны, лица нельзя было различить, оно было разбито. Мальчики в страхе упали на дно лодки и лежали почти без чувств в то время, как труп висел на лесе. — Это его принесло течением! — сказал Харви, дрожащими руками стараясь расстегнуть пояс. — О, Харви! — простонал Дэн. — Отдай ему нож скорее! Он пришел за ним. Снимай скорее! — Мне его не нужно, не нужно! — кричал Харви. — Но я не могу найти пряжку! Харви силился расстегнуть пряжку и с ужасом смотрел на голову мертвеца, лица которого не было видно под волосами. Между тем Дэн вынул свой нож и перерезал лесу, в то время как Харви отбросил пояс далеко от себя. Труп погрузился в воду. Дэн встал со дна лодки. Он был бледен как полотно. — Он приходил за своим ножом. Другие тоже забрасывали лесу, но он приплыл именно к нам! — Зачем я только взял этот нож! Он приплыл бы тогда к тебе, а не ко мне, попался бы на твою лесу! — Это было бы все равно. Мы оба одинаково испугались. О, Харви! Ты видел его голову? — Еще бы! Я никогда не забуду ее. Только знаешь, Дэн, я думаю, его появление здесь не было преднамеренным. Просто его принесло течением! — Какое течение! Он специально приплыл за ножом. Я сам видел, что его отвезли и бросили в воду за шесть миль отсюда и привязали к трупу балласт! — Какое преступление мог он совершить этим ножом во Франции? — Должно быть, ужасное. Вот теперь он должен явиться с этим самым ножом на страшный суд, дать ответ… Что ты делаешь, Харви? Харви бросал пойманную им рыбу за борт. — Бросаю рыбу! — отвечал он. — Зачем? Ведь не мы ее есть будем! — Все равно. Если хочешь, ты свою рыбу оставь, а я свою побросаю в море! — Так, пожалуй, будет лучше, — сказал Дэн. — Я бы отдал свой месячный заработок, только бы этот туман рассеялся. В светлый, ясный день никогда не случается того, что может случиться в тумане! — Как бы мне хотелось быть теперь на шхуне, Дэн! — Я думаю, наши ищут нас уже. Подам-ка я голос! Дэн взял рог и хотел затрубить, но остановился. — Что же ты? — спросил Харви. — Не ночевать же нам здесь? — А как это понравится ему? Один матрос рассказал мне, что командир одной шхуны раз, спьяну, утопил юнгу. С тех пор, когда на шхуне трубили в рог, чтобы подать сигнал ушедшим в море шлюпкам, труп утопленника неизменно подплывал к шхуне и кричал: «Шлюпка! Шлюпка! Сюда!» — Шлюпка! Шлюпка! — послышался из тумана чей-то хриплый голос. Мальчики замерли в ужасе. Рог вывалился из рук Дэна. — Да это наш кок! — закричал Харви. — И дернула меня нелегкая рассказать эту историю! — рассердился на себя Дэн. — Ведь это в самом деле наш колдун! — Дэн! Дэнни! Ого, Дэн! Харви! Ого-го-го, Хар-ви-и! — Мы здесь! — хором закричали мальчики. Послышался где-то близко всплеск весел, и, наконец, они увидели кока. — Что с вами случилось? — спросил он. — Будет вам сегодня взбучка! — Так нам и надо. Поделом! — отвечал Дэн. — Пусть нас колотят, сколько угодно, только бы нам вернуться на шхуну. Если бы ты знал, в какой компании мы очутились! — и Дэн рассказал коку о случившемся с ними. — Конечно. Это он за своим ножом приходил! — утвердительно сказал кок. Никогда еще шхуна не казалась мальчикам такой милой и уютной, как теперь, когда кок вывел их к ней из тумана. В каюте светился огонек. Пахло вкусной пищей. Раздававшиеся на шхуне голоса Диско и других рыбаков казались им божественной музыкой, хотя рыбаки встретили мальчиков бранью и обещанием колотушек. Кок оказался ловким стратегом. Он до тех пор не причаливал к шхуне, пока не рассказал о случившемся с мальчиками приключении, прибавив при этом, что они спаслись, вероятно, лишь благодаря обычному счастью Харви. Таким образом, мальчики вступили на шхуну уже в качестве героев. Все их приветствовали и закидывали вопросами. О побоях, которыми им угрожали, не было и речи. Пенн пытался сказать что-то о суеверии, но его не слушали; все слушали рассказы Долговязого Джэка о привидениях и утопленниках, которыми он потчевал экипаж вплоть до полночи. Все были настроены как-то особенно, и только Пенн да Сальтерс сказали что-то об «идолопоклонстве», когда кок принес зажженную свечу, пресный хлеб и щепотку соли и бросил все это за корму, чтобы француз не приплыл к ним в случае, если душа его все еще не нашла покоя. Дэн зажигал свечу, потому что он купил пояс, а кок в это время бормотал какие-то заклинания. — Какого ты мнения о прогрессе и о суевериях католиков? — спросил Харви Дэна, когда они вечером отправились на вахту. — Мне кажется, что я так же мало суеверен, как другие; но когда этакий мертвец-француз вздумает напугать двух ни в чем не повинных мальчуганов из-за какого-то дрянного ножа, которому и цена-то вся тридцать центов, тогда я готов верить всякому коку. Я не люблю иностранцев, все равно, мертвые они или живые! На следующее утро всем, кроме кока, было как-то неловко и стыдно за вчерашние церемонии. Рыбаки мало разговаривали между собой и отправились на рыбную ловлю. Шхуна «Мы здесь» шла нос к носу с «Перри Нормэн», пополняя свой груз последними центнерами рыбы. Все остальные шхуны смотрели на это состязание и бились об заклад, которая из двух кончит первая свой лов. На шхуне работали с раннего утра до поздней ночи не покладая рук. Даже кока приспособили к делу, заставив его складывать рыбу; Харви поручили солить рыбу, а Дэн разделывал и чистил треску. Шхуна «Мы здесь» вышла победительницей. Харви давно казалось, что трюм так полон, что уж некуда втиснуть и одной лишней рыбы, но Диско и Том Плэт все прибавляли и прибавляли, утрамбовывая крупными камнями, балластинами уже сложенную в кучу треску. Наконец, соль вышла вся. Диско ничего не сказал; он пошел ставить грот. Было десять часов утра. А к полудню шхуна была уже под парусами. Со всех сторон к ней подплывали шлюпки: это рыбаки привезли письма с просьбой передать их на родину. Все завидовали возвращавшимся домой счастливцам. Вот шхуна подняла флаг — это право первого судна, возвращающегося с Отмелей, — снялась с якоря и пошла. Диско провел свою шхуну среди других шхун, чтобы все могли передать ему письма. На самом деле это было триумфальное шествие, которое он совершал уже пять лет из года в год, и это льстило его самолюбию моряка. Том Плэт заиграл на скрипке, а Дэн на гармонике мелодию песенки, последнюю строфу которой нельзя петь до окончания лова, не то будет неудача. Теперь песню можно было петь смело, без боязни накликать беду. «Посылайте свои письма! — пели рыбаки. — У нас нет больше соли, и мы снялись с якоря! Поднимайте паруса! Мы возвращаемся в Америку с полным грузом рыбы!» На палубу шхуны передали последние письма, и глостерцы посылали вдогонку поклоны и поручения своим женам и матерям. Под звуки этих приветствий шхуна закончила свое триумфальное шествие среди флота. Харви не узнавал скромной шхуны «Мы здесь», переходящей с одной якорной стоянки на другую, в этой шедшей на всех парусах горделивой шхуне с развевающимся на мачте флагом. Дэну и Харви приходилось следить за парусами, а в свободное время выкачивать воду, которая, с тех пор как шхуна была наполнена рыбой, проникла в трюм. Но все же с прекращением лова оставалось больше свободного времени, и Харви теперь наблюдал море совсем иначе. Шхуна, и без того низкая, теперь глубоко сидела в воде. Горизонта почти не было. Шхуна суетливо бежала среди серых или синевато-серых, увенчанных серебристою пеною волн, будто ласкаясь к ним. Казалось, она просила их: «Пожалуйста, не причините вреда маленькой беспомощной шхуне «Мы здесь». Самый равнодушный человек, оставаясь часами в море, сживается, наконец, с ним, начинает понимать его речь. Харви же нельзя было отказать в наблюдательности. Он скоро стал понимать говорливый шум вечно бурливых волн. Он полюбил смотреть на голубые с золотом облачка, собиравшиеся в кучу под напором ветра, чудный вид восходящего солнца, утренние туманы, ослепительный блеск моря в полуденную пору, шелест водяных капель, миллионами падающих на необозримое пространство моря, вечернюю прохладу, зыбь при лунном свете. Больше всего радовался Харви, когда его с Дэном ставили у руля. Том Плэт оставался на расстоянии оклика. Шхуна накренялась к синим волнам подветренной стороной, а над брашпилем виднелась маленькая радуга из водяных брызг. Наполненные ветром паруса страшно шумели. Ныряя в пространство между волнами, шхуна шуршала, как нарядившаяся в шелк женщина, затем выплывала с мокрым кливером. Они уже вышли из холодной однообразной серой области Отмелей. Навстречу им стали попадаться громоздкие суда, отправляющиеся в Квебек через пролив Св. Лаврентия, корабли, шедшие из Испании и Сицилии. Попутный ветер привел их в Ле-Гав, потом к побережью Джорджа. Дальше мели стали попадаться реже, и шхуна шла быстрее и увереннее. — Хетти и мать не дождутся меня, — сказал Дэн Харви. — В будущее воскресенье мы будем дома. Надеюсь, ты пробудешь некоторое время с нами, пока твои не приедут за тобой? Знаешь, что меня больше всего радует на берегу? — Теплая ванна? — спросил Харви. — Это тоже приятно, но еще лучше ночная рубашка. С тех пор как мы кончили лов и повернули обратно, я даже во сне вижу ночные рубашки. Мама, наверно, приготовила мне новенькую, мягкую, чисто выстиранную. Мы идем домой, Харви. Понимаешь ли ты, что значит домой? В воздухе пахнет родиной! На самом деле становилось душно. Ветер был слабый, и паруса повисли. Вдруг полил дождь, барабаня по палубе и с шумом падая на поверхность моря. Раздался удар грома. Началась одна из августовских гроз. Дэн и Харви лежали на деке и придумывали, какое блюдо закажут себе к обеду, когда будут на берегу. Берег уже ясно виднелся. Недалеко от шхуны шла глостерская рыбачья лодка. На носу стоял человек с гарпуном. Он был без шапки, и волосы его были мокры от дождя. Он что-то весело напевал. Завидев шхуну, он закричал: — Вуверман ждет тебя, Диско! Какие вести привез ты от рыбачьего флота? Диско тоже что-то крикнул в ответ, несмотря на молнии и страшный ливень этой летней грозы. Вот уже показалась низкая цепь холмов, окружающих Глостерскую гавань, рыбные склады, крыши домов, а на воде, в порту, шлюпочные мачты и баканы. Как в калейдоскопе, проносилось все это в то время, как шхуна шла вперед. Наконец, синевато-белые молнии стали сверкать все реже и реже, раздался еще один сильный, как выстрел целой батареи мортир, удар грома, от которого задрожал воздух, и гроза утихла, замерла… — Флаг! Флаг! — сказал вдруг Диско, указывая вверх. — Зачем? — спросил Долговязый Джэк. — Подними флаг на нижней мачте! Разве ты забыл про Отто? Теперь нас могут видеть с берега! — Забыл. Но ведь у Отто нет родственников в Глостере? — Есть невеста! — Бедняжка! — пожалел Джэк и поднял флаг на мачте в честь Отто, который утонул три месяца тому назад в Ле-Гаве. Диско провел рукою по мокрому от дождя лицу и направил шхуну к пристани Вувермана. Он отдавал приказания тихо, почти шепотом. Шхуна прошла мимо стоящих на якоре буксирных судов. Слышались оклики ночных часовых. В таинственной темноте наступающей ночи Харви чувствовал близость берега, запах земли после дождя. Все это заставило его сердце учащенно биться. У него перехватывало дыхание. На пристани тускло светили фонари. Кто-то громко храпел в сторожевой будке, но проснулся и бросил им конец. Они молча причалили к пристани. Между тем Харви сидел у рулевого колеса и всхлипывал, всхлипывал так, что вот-вот, казалось, сердце его разобьется от грусти. Высокая женщина, сидевшая на сходнях, сошла на шхуну и обняла Дэна. Это была его мать. Она узнала приближающуюся шхуну по огням ее фонарей. На Харви она не обращала внимания до тех пор, пока Диско не рассказал ей его историю. На рассвете все они пошли в дом, где жил Диско. Телеграфное отделение было еще закрыто. Харви не мог отправить депеши своим родителям и чувствовал себя таким покинутым и одиноким. Он плакал. Зная, что шхуна «Мы здесь», по крайней мере, на неделю опередила все другие, Диско распустил свою команду и дал ей свободу погулять. Дэн расхаживал по городу, важно задрав нос, и ни в грош не ставил своих родителей. — Если ты будешь продолжать так, Дэн, я устрою тебе взбучку, — сказал задумчиво Троп. — С тех пор как мы высадились на берег, ты стал несносен! — Если бы он был моим сыном, — сказал дядя Сальтерс, — я бы задал ему уже теперь! — Ого! — воскликнул Дэн, расхаживая взад и вперед с гармоникой и готовясь обратиться в бегство при первом наступательном движении врага. — Смотри, отец, помни, что в моих жилах течет твоя кровь. А ты, дядя Сальтерс, главный виночерпий фараона, смотри лучше за собой! Диско важно расхаживал в вышитых туфлях и курилтрубку. — Ты делаешься такой же полоумный, как Харви, — сказал он. — Оба вы прыгаете, возитесь, валяетесь под столами; от вас никто в доме не знает покоя! — Скоро вы узнаете, почему мы так веселимся! — возразил Дэн. Дэн и Харви отправились на конке в восточную часть города. Там они пробрались к берегу, легли на красный гравий и смеялись, как безумные. Харви показал Дэну какую-то телеграмму. Оба дали клятву до поры до времени хранить молчание. — Родители Харви? — сказал Дэн за ужином с самым невинным видом. — Должно быть, они не представляют из себя ничего особенного, иначе мы бы услышали о них уже давно. У его отца есть какая-то лавочка. Может быть, он и даст тебе, отец, долларов пять за Харви! — Что я говорил? Что? — торжествовал Сальтерс. — Не всякому слуху верь, Дэн!Глава 9
Как бы ни было велико личное горе миллионера, да и вообще всякого трудящегося человека, оно не может заставить его бросить дела. Харви Чейн, отец, выехал в июне месяце навстречу своей жене, которая возвращалась сломленная горем, близкая к помешательству: день и ночь ей мерещилось, что она видит, как сын ее тонет в море. Муж окружил ее врачами, учеными сиделками, массажистками — ничто не помогало. Миссис Чейн тихо лежала и стонала или целыми часами говорила о своем мальчике со всяким, кто хотел слушать ее рассказы. У нее не было никакой надежды. Никто не мог ее утешить. Ей только хотелось знать, по крайней мере, одно: ушибся ли он, когда упал в море. Муж зорко следил за нею, чтобы она не произвела этот эксперимент лично. Сам он говорил мало о своем горе и даже как-то не сознавал, насколько оно глубоко, пока раз не поймал себя на вопросе: «К чему все это?» — в то время как отмечал что-то на памятном листке своего календаря. Прежде он всегда лелеял мысль, что когда-нибудь, когда он окончательно приведет в порядок свои дела, а Харви закончит курс училища, он сделает сына своим компаньоном, и они будут работать сообща. Но сын его умер, утонул в море, как швед-матрос с одного из крупных пароходов Чейна, шедших с грузом чая. Жена тоже была чуть не при смерти. Самого его сживала со свету целая армия докторов, сестер милосердия и просто сердобольных женщин. Его измучили также капризы бедной женщины, не находившей покоя своей мятущейся душе. Все это отразилось на нем и сокрушало его энергию. Он отвез жену в свой новый замок в Сан-Диего, где она заняла со своим штатом целый флигель. Сам Чейн целыми днями просиживал со своим секретарем на веранде. Четыре западных железнодорожных компании вели конкурентную борьбу, в которой принимал участие и Чейн. На его предприятии в Орегоне рабочие устроили стачку. Законодательная палата Калифорнии тоже объявила войну предпринимателям. В былое время он не ждал бы вызова и вел бы энергичную борьбу. Теперь он сидел безучастно, надвинув низко на лоб мягкую черную шляпу, сгорбившись, устремляя взор то на свои сапоги, то на китайские джонки, плавающие в заливе, и машинально отвечал на вопросы, которые ему задавал секретарь, вскрывавший утреннюю почту. Тут же, у телеграфного аппарата, сидела молодая девушка. Чейн высчитывал, сколько будет стоить полная ликвидация его дел. Он мечтал переехать в одно из своих имений в Колорадо, в Вашингтоне или Южной Каролине и там забыть о постигшей его трагедии. Машинка внезапно перестала стучать. Девушка взглянула на секретаря, а тот побледнел как полотно. Он передал Чейну телеграмму из Сан-Франциско: «Взят на рыбачью шхуну «Мы здесь» после того, как упал с парохода на Отмелях. Жду денег и инструкций в Глостере, у Диско Тропа. Телеграфируйте, что делать и как здоровье мамы. Харви Чейн». Прочитав это, отец выронил депешу из рук, приник головою к столу и тяжело задышал. Секретарь побежал за доктором миссис Чейн. Когда доктор пришел, Чейн ходил по комнате взад и вперед. — Что вы думаете об этом? Возможно ли это? Есть ли в этом смысл? Я ничего не понимаю! — восклицал он. — Я понимаю, — отвечал доктор, — что я потеряю мой гонорар, семь тысяч долларов в год. Вот и все! — Он вспомнил о своей утомительной нью-йоркской практике, которую бросил по просьбе Чейна, и возвратил ему депешу. — Как вы думаете, можно ли сообщить ей об этом? Или, может быть, это обман? — Какова могла бы быть цель обмана? — спросил, в свою очередь, доктор. — Наверное, это писал ваш сын! В комнату вошла горничная-француженка: — Миссис Чейн просит вас сейчас же к ней: она беспокоится, что вам дурно! — сказала она. Владелец тридцати миллионов покорно встал и последовал за Сюзанной. С верхней площадки лестницы послышался высокий женский голос: — Что случилось? Крик, вырвавшийся у миссис Чейн и пронесшийся по всей анфиладе комнат огромного дома, когда муж довольно неосторожно рассказал ей новость, не поддается описанию. — Ничего, — успокаивающе сказал доктор секретарю. — Современная медицинская литература учит, что от радости не умирают! Тотчас же было дано распоряжение по телеграфу, чтобы был приготовлен особый поезд для владельца железных дорог Чейна. Весть о выезде миллионера облетела все ветви железной дороги от Лос-Анджелеса до Бостона и Барстова, от Южной Каролины до Атчисона, Топеки, Санта-Фе и Чикаго, чтобы везде были готовы поезда, путь свободен, и частный экстренный вагон «Констанция», названный так в честь жены миллионера, мог как можно быстрее, без задержек и остановок, пролететь две тысячи триста пятьдесят миль. Пущено было в дело шестнадцать локомотивов, шестнадцать лучших машинистов и столько же кочегаров были экстренно призваны. Для перемены паровозов приказано было затрачивать не более двух с половиной минут, для возобновления запаса воды — три минуты и столько же — для запаса углем. «Распорядитесь, чтобы приготовлены были резервуары, потому что Харви Чейн спешит, спешит… спешит…» — неслось по телеграфным проводам. «Поезд должен идти со скоростью сорок миль в час. Расстелите ковер-самолет, чтобы пролететь пространство от Сан-Диего до Чикаго. Скорее! О, скорее!..» — Жарко будет, — сказал Чейн жене, когда они в воскресенье утром выехали из Сан-Диего. — Мы поедем очень быстро, мамочка, как только можно быстро. Ну, зачем ты надела перчатки и шляпку? Лучше бы ты прилегла и приняла лекарство. Я бы предложил тебе сыграть партию в домино, но сегодня воскресенье! — Мне хорошо, очень хорошо. Если я сниму шляпку, мне будет казаться, что я не в дороге и никогда не доеду до места! — Попробуй заснуть, мамочка. Ты и не заметишь, как мы приедем в Чикаго! — Но мы еще только в Бостоне. Ах! Прикажи им поторопиться! Шестифунтовые двигатели отбивали такт, быстро мчась из Сан-Бернардино, через Могавские степи. Степь дышала раскаленным воздухом. Затем началась такая же знойная холмистая область. Повернули на восток, к реке Колорадо. Было томительно жарко. Миссис Чейн лежала со льдом на голове. Дальше потянулись под раскаленным небом леса и каменоломни. Угольки, вылетавшие из трубы паровоза, стучали по крыше вагона. За бешено вертящимися колесами летел вихрь пыли. Запасная поездная прислуга сидела и ждала очереди. Чейн, не зная, куда деваться, пошел к этим простым людям, кочегарам и машинистам, и начал рассказывать им о своем сыне, которого считал погибшим, но который спасся. И они радовались вместе с ним и предлагали прибавить ходу. И поезд несся все с большей и с большей скоростью, пока, наконец, главный начальник движения не запротестовал против такой скорости, находя ее опасной. А миссис Чейн лежала в своем вагоне-будуаре, слегка стонала и просила мужа приказать поторопиться. Вот уже пески и скалы Аризоны остались позади. Наконец, треск приводов зубчатых колес и визг тормозов возвестили о прибытии в Кулидж, место Континентального разветвления. В Альбукерке поезд перевели в Глориетту; он прошел через Ратонский туннель и Додж-Сити. Здесь Чейну случайно попала в руки газета, в которой он прочитал известия о сыне. Какой-то репортер интервьюировал Харви. По его словам, это был действительно сын железнодорожного туза Чейна. Сообщение это несколько успокоило миссис Чейн, но она все продолжала просить доставить ее поскорее до цели путешествия. Как вихрь, пронеслись они мимо Никерсона, Топеки и Марселина. Теперь уже чаще стали попадаться на пути города и деревни. Они ехали среди более населенных мест. — Я ничего не вижу на циферблате. У меня глаза болят. С какой скоростью едем мы теперь? — Очень быстро. Быстрее и незачем: мы приехали бы слишком рано, и нам все равно пришлось бы ждать другого поезда! — Мне все равно. Мне только приятно сознавать, что мы двигаемся вперед. Сядь и говори мне, сколько миль мы проезжаем! Чейн сел и стал считать мили по мере того, как они продвигались вперед. Локомотив жужжал, как гигантская пчела, и мчался вперед. А миссис Чейн все еще находила, что они едут недостаточно быстро. Был август месяц. В вагоне было жарко и душно. Часовые стрелки, казалось, не двигались. Ах! Когда же, наконец, они будут в Чикаго?После сильного волнения у большинства людей, особенно же у мальчиков, появляется аппетит. Они спустили шторы и устроили пир по случаю возвращения блудного сына, наслаждались своим счастьем, в то время как поезда с шумом и свистом проносились мимо них. Харви пил, ел и без умолку говорил, рассказывая о своих приключениях. Когда одна из его рук оказывалась свободной, мать брала ее и нежно гладила. Голос Харви возмужал от жизни на воздухе. Руки у него стали жесткие и грубые. От его синей куртки и резиновых сапог пахло треской. Отец, привыкший оценивать людей одним взглядом, проницательно смотрел на сына. Он не замечал, чтобы пребывание среди рыбаков дурно отразилось на сыне. Он должен был признаться, что до сих пор мало знал своего сына, но все же он помнил его заносчивым, вечно всем недовольным подростком, который к старшим относился без всякого уважения, постоянно мучил и заставлял плакать свою мать, пользовался репутацией веселого шалопая среди жителей гостиниц и посетителей ресторанов. Между тем этот воспитанный среди рыбаков юноша замечательно стоек в своих убеждениях; он смотрит открыто и уверенно; со старшими говорит с уважением. Кроме этого, видно было, что перемена эта в Харви произошла навсегда, что характер его окончательно установился. «Кто-то переломил его, — подумал Чейн. — Констанция никогда бы этого не позволила. Даже путешествие по Европе не могло бы принести ему такой пользы!» — Но почему же ты не сказал этому… кажется, Тропу, кто ты такой? — допрашивала мать, когда Харви успел рассказать историю своих приключений, по крайней мере, дважды. — Диско Троп, милая. Это самый лучший из людей, которые когда-либо ступали по палубе. Это имя я запомнил твердо, до остальных мне дела нет! — сказал Чейн-отец. — Почему ты не велел ему довезти тебя до берега и высадить? Ты ведь знал, что папа озолотит его! — Знал, но дело в том, что он принял меня за помешанного. Кажется, я имел неосторожность назвать его вором, потому что не нашел у себя в кармане бумажника с деньгами! — Матрос нашел его в ту ночь у флагштока! — вздохнула миссис Чейн. — Теперь все объясняется. Впрочем, я нисколько не обвиняю Тропа. Потом я сказал ему также, что не желаю работать, и он так ударил меня, что у меня из носу потекла кровь, как у зарезанного барана! — Мой бедный мальчик! Они, должно быть, ужасно дурно обращались с тобой? — Нет, ничего. Это меня образумило! Чейн похлопал сына по колену. Он ему был теперь милее и дороже, чем когда-либо. Он не узнал в нем прежнего Харви. Даже глаза у мальчика светились каким-то новым, ясным светом. — Ну, потом старик назначил мне десять с половиной долларов в месяц жалованья. Теперь он мне заплатил половину. Я не могу похвастать, что мог исполнить работу, как взрослый рыбак, но умею править лодкой не хуже Дэна, не боюсь тумана, могу управлять шхуной, когда ветер не особенно силен, закинуть невод, знаю все снасти, до поздней ночи могу складывать соленую рыбу. Да вы и не подозреваете, с какой массой работ можно ознакомиться за десять с половиной месяцев! — Мое ученье продолжалось восемь с половиной месяцев, — сказал отец. — Как это? Ты мне никогда не рассказывал, отец. — Ты никогда и не спрашивал, Харви. Если хочешь, когда-нибудь расскажу. А теперь попробуй-ка вот этих оливок! — Троп говорит, что полезнее всего на свете посмотреть, как трудятся и зарабатывают хлеб другие люди. А все-таки приятно обедать за хорошо сервированным столом! Не подумайте, что нас плохо кормили. На нашей шхуне еда была лучше, чем на всех других шхунах с Отмелей. Диско кормил нас прекрасно. Он чудесный человек. Был еще там его сын и мой товарищ Дэн; дядя Сальтерс, знаток по части удобрения, он любил читать Книгу Иосифа. Сальтерс и сейчас убежден, что я помешанный. Был там еще бедненький Пенн, тот помешан на самом деле. Вы не должны упоминать при нем Джонстауна, потому что… Ах! Вы непременно должны познакомиться с Томом Плэтом, Долговязым Джэком и Мануэлем. Мануэль спас мне жизнь. Жаль, что он португалец. Говорит он мало, но очень любит музыку. Он увидел, что меня несло течением, и выловил меня из воды! — Удивляюсь, как все это не потрясло твоей нервной системы! — сказала миссис Чейн. — Отчего бы, мама? Я работал, как лошадь, ел за двоих и спал как убитый! Дальше нервы миссис Чейн не выдержали, так как она представила себе сына среди морских волн. Она пошла в свой будуар, а Харви остался с отцом и стал рассказывать ему, как многим он обязан рыбакам. — Можешь быть уверен, Харви, что я сделаю все, что могу, для этих людей. Из твоих слов я вижу, что они очень хорошие люди! — Лучшие из всего рыбачьего флота, отец. Ты можешь справиться в Глостере, — сказал Харви. — Но Диско до сих пор убежден, что я был сумасшедшим, и что ему удалось вылечить меня. Дэн — единственный, которому я рассказал все о вас, о наших поездах, обо всем, но я не уверен, что и Дэн всему этому верит. Я хочу удивить их завтра. Нельзя ли нашему поезду «Констанция» проехать через Глостер? Мама все равно, кажется, не будет в состоянии никуда ехать завтра, да и нам завтра предстоит выгрузить шхуну. Вуверман купил у нас рыбу. Мы возвратились с Отмелей первые и продали рыбу по двадцати пяти долларов за центнер. Мы выдержали характер, пока он не дал настоящей цены: им нужна треска! — Ты хочешь идти завтра на работу? — Я обещал Тропу. Я буду смотреть, когда будут вешать рыбу. Вот квитанционная книжка! — Он вытащил засаленную записную книжку и заглянул в нее не без сознания собственного достоинства. — Осталось, по моему расчету, всего девяносто четыре центнера! — Найми кого-нибудь за себя! — предложил Чейн. — Невозможно. Я всегда вел счета на шхуне. Троп говорит, что я способнее Дэна по счетной части. Троп — человек справедливый! — Но как же ты поедешь туда, если я не прикажу отправить «Констанцию»? Харви посмотрел на часы. Было двадцать минут двенадцатого. — Тогда я просплю до трех часов утра, а потом пойду на товарный поезд, на котором нам — рыбакам — разрешено ездить бесплатно! — Это тоже способ. Но я думаю, можно будет доставить тебя и на «Констанции» не позже, чем если бы ты ехал с товарным поездом. Ложись спать! Харви сбросил сапоги, растянулся на диване и заснул раньше, чем отец успел погасить электричество. Чейн долго смотрел на лицо сына, который спал, закинув одну руку за голову. Он думал, и, между прочим, ему пришла мысль, что он, пожалуй, был по отношению к сыну небрежным отцом. — Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, — сказал он. — Сын, пожалуй, подвергался большей опасности, чем утонуть. Но, кажется, этого не случилось, и я не знаю, как отплатить за все Диско Тропу! Утром в окна повеяло свежим ветерком. «Констанцию» прицепили к товарному поезду, ехавшему в Глостер, и Харви отправился на работу. — Опять он упадет в море и утонет! — с горечью сказала мать. — Ну, поезжай с ним и брось ему спасательный канат. Ведь ты никогда не видела, как он зарабатывает на хлеб! — сказал отец. — Какие пустяки! Разве можно ожидать… Они шли мимо магазинов, где были вывешены вощанки и другие предметы, необходимые для рыбаков, к пристани Вувермана, где стояла на якоре с развевающимся флагом шхуна Тропа. Все были заняты. Диско стоял у люка и смотрел, как Мануэль, Пенн и дядя Сальтерс работали у талей. Долговязый Джэк и Том Плэт наполняли корзинки рыбой, а Дэн передавал их. Харви стоял с квитанционной книжкой и записывал. — Готово! — раздавались голоса в трюме. — Поднимай! — кричал Диско. — Ух! — говорил Мануэль. — Вот как! — отзывался Дэн, принимая корзину. Затем раздавался голос Харви, подсчитывавшего количество выгруженного товара. Когда всю рыбу выгрузили, Харви прыгнул с шестифутовой высоты на палубу, чтобы поскорее вручить Диско счета. — Сколько всего, Харви? — спросил Диско. — Восемь шестьдесят пять. Три тысячи шестьсот семьдесят шесть с четвертью долларов. Вот если бы мне столько жалованья получить! — Что же, Харви, ты стоишь такого жалованья! — Кто этот мальчик? — спросил у Дэна Чейн-отец. — Да как вам сказать, это в некотором роде добавочный груз, — ответил ему Дэн. — Мы его выловили из воды на Отмелях — он тонул, упав с парохода. Он был пассажиром, а теперь стал рыбаком! — Что же, он зарабатывает себе на хлеб? — Еще бы. Отец, вот этот господин спрашивает, заслуживает ли Харви свое содержание. Да не хотите ли перейти на шхуну? Мы приставим сходни! — Очень хотел бы. Не оступись, мамочка, осторожнее! Женщина, которая неделю тому назад лежала беспомощная и больная, теперь быстро сошла по сходням на палубу шхуны. — Вы интересуетесь Харви? — спросил Диско. — Да! — Он славный малый. Вам рассказывали, как он к нам попал? Когда мы его взяли на шхуну, у него было, кажется, какое-то нервное расстройство. Теперь он здоров. Пожалуйста, войдите в каюту. Сегодня в ней беспорядок, но все же милости просим, загляните. Эти каракули на дымовой трубе — это наши памятные записи! — Он спал здесь? — спросила миссис Чейн, садясь на сундук и разглядывая беспорядочно раздвинутые скамейки. — Нет, он спал в носовой части шхуны. Харви, как и своего сына, я могу упрекнуть только в одном, что они иногда дрались, да еще потихоньку таскали у повара пироги! — Харви вел себя хорошо, — сказал дядя Сальтерс, спускаясь по трапу. — К старшим, знающим побольше его, особенно в том, что касается земледелия, он относился почтительно, но иногда Дэн соблазнял его своим дурным примером! В это время Дэн отплясывал на деке какой-то воинственный танец. Харви шепнул ему что-то утром. — Том, Том! — громким шепотом кричал Дэн в люк. — Приехали родители Харви. Они разговаривают в каюте с отцом, а он и не подозревает, кто они такие. Она — прелесть, а он — вылитый портрет Харви. — Разве ты веришь его рассказам о запряженной четверкой коляске? — спросил Долговязый Джэк, вылезая из трюма, весь покрытый солью и рыбьей чешуей. — Я давно знаю, что это все правда, — отвечал Дэн. — На этот раз отец ошибся! Они вошли в каюту как раз в то время, когда Чейн сказал: — Очень рад, что у него хороший характер, потому что он — мой сын! Диско раскрыл рот и с изумлением смотрел то на Чейна, то на его жену. — Я получил от него телеграмму в Сан-Диего четыре дня тому назад, и вот мы приехали! — В заказном поезде? — спросил Дэн. — Он говорил мне, что у вас есть особые вагоны! — Да, в особом поезде! Дэн торжествующе взглянул на отца. — Он еще рассказывал, будто бы катался в запряженной четверкой пони коляске, — сказал Долговязый Джэк. — Правда ли это? — Очень может быть, — отвечал Чейн. — Была у него коляска, мамочка? — Кажется, была, когда мы были в Толедо! — ответила мать. — О! Диско! — Долговязый Джэк свистнул и больше ничего не сказал. — Я вижу, что ошибся в своем суждении о Харви, — сказал Диско. — Я не оправдываюсь перед вами, мистер Чейн: я действительно думал, что мальчик не в своем уме, потому что он сказал странную вещь о деньгах! — Он мне рассказывал. — А еще что-нибудь он вам говорил? Рассказал он вам, что я его раз ударил? Диско бросил боязливый взгляд на миссис Чейн. — Как же, — отвечал Чейн. — И мне кажется, что это принесло ему большую пользу! — Я рассудил тогда, что иначе нельзя. Потом я жалел, но дело было сделано. Пожалуйста, не подумайте, что на моей шхуне вообще дурно обращаются с юнгами! — Я этого и не думаю, мистер Троп! Миссис Чейн посмотрела на лица окружающих. Гладко выбритое, смуглое лицо Диско дышало железной волей. Лицо дяди Сальтерса обросло всклокоченной бородкой, как у настоящего фермера. Черты Пенна выражали растерянность и безумие. Спокойная улыбка озаряла лицо Мануэля. Долговязый Джэк чему-то страшно радовался. Шрам обезобразил лицо Тома Плэта. С виду все они казались грубыми, но сердце матери чутко, она подошла к ним. — Скажите, — спросила она, едва сдерживая слезы, — который из вас спас моего сына, кого я должна благодарить, за кого молиться? — Вот это лучше всякой благодарности! — сказал Долговязый Джэк. Диско представил, как умел, весь свой экипаж миссис Чейн. А она что-то бессвязно лепетала. Когда ей сказали, что Мануэль первый увидел Харви и вытащил его из воды, она чуть не бросилась в его объятия. — Да как же мне было не вытащить его? — удивлялся Мануэль. — Разве вы не так же поступили бы на моем месте? А? Он славный малый, и я очень рад, что он ваш сын! — Он рассказал мне, что Дэн — его товарищ! — продолжала миссис Чейн и поцеловала мальчика, который густо покраснел, хотя и без того был достаточно красен. Миссис Чейн обошла всю шхуну, поплакала при виде койки, на которой приходилось спать Харви. В кухне она увидела негра-кока и так ласково кивнула ему головой, точно сто лет была с ним знакома. Рыбаки, перебивая друг друга, рассказывали ей о своем житье-бытье, а она сидела на скамье, положив ручки в светлых перчатках на жирный стол, и смеялась, как ребенок. — Как мы теперь будем жить на шхуне «Мы здесь»? — сказал Долговязый Джэк Тому Плэту. — С тех пор как она побывала здесь, мне будет казаться, что это не судно, а церковь! — Церковь! — засмеялся Том Плэт. — Вот если бы наша шхуна была хоть немного покрасивее и поудобнее! Леди придется прыгать по сходням, как курице! — Значит, Харви не был сумасшедшим? — медленно произнес Пенн, обращаясь к Чейну. — Слава Богу, нет! — отвечал миллионер. — Это, должно быть, ужасно — быть помешанным. Не знаю, что может быть на свете ужаснее, разве вот потерять ребенка. Но сын ваш возвратился к вам. Возблагодарим Бога! — Ого-о! — окликнул их стоявший на пристани Харви. — Я ошибался, Харви! — закричал ему Диско, махая рукой. — Я ошибался на твой счет. Ты теперь от нас уйдешь, не правда ли? — Не раньше, чем получу полный расчет! — Ах, да! Я чуть не забыл! — И он отсчитал сумму, которую следовало доплатить Харви. — Ты служил хорошо, как был уговор, Харви. Ты все делал почти так хорошо, как будто тебя воспитывали… Диско запнулся. Он не знал, как кончить начатую фразу. — Не в заказном поезде? — подсказал бесенок Дэн. — Если хотите, я вам покажу этот поезд, — сказал Харви. — Подите сюда! Чейн остался на шхуне потолковать с Диско. Все остальные, с миссис Чейн во главе, отправились осматривать вагоны. При виде этого нашествия горничная-француженка закричала от испуга. Харви показывал вагоны своим друзьям молча. Так же молча осматривали они тисненую кожу, которой были обиты стены, бархатные диваны, серебряные ручки дверей, зеркала, столики с инкрустацией и т. д. — Я говорил вам, — оправдывался Харви, — говорил! — Такова была месть Харви, и он наслаждался ею. Миссис Чейн угостила своих гостей обедом, во время которого сама прислуживала им. Долговязый Джэк рассказывал потом об этом пире чудеса. От людей, привыкших обедать на оловянных тарелках, под музыку волн и свист ветра, трудно ожидать хороших манер. Потому миссис Чейн была очень удивлена, увидев, как чинно и прилично все они держали себя за столом. Мануэля она охотно взяла бы себе в дворецкие. Том Плэт вспомнил старину, когда офицеры «Орио» принимали на своем корабле даже царствующих особ, и не ударил в грязь лицом. Долговязый Джэк недаром был ирландец: он поддерживал разговор до тех пор, пока все не почувствовали себя как дома. Отцы между тем толковали, покуривая сигары, в каюте шхуны «Мы здесь». Чейн хорошо видел, что имеет дело с человеком, которому не может предложить денег. Он понимал также, что за услугу, какую оказал ему Диско, нельзя расплатиться деньгами. Поэтому он наблюдал за Диско и до поры до времени молчал о вознаграждении. — Я не сделал для вашего сына ничего особенного; я только заставил его работать, да научил разбираться в карте берегов, — сказал Диско. — Он гораздо способнее Дэна в этом деле! — А кстати, что вы рассчитываете сделать из вашего мальчика? — спросил Чейн. — Дэн — неглупый малый, мне нечего о нем беспокоиться, — отвечал Диско, держа сигару между пальцев. — Когда я умру, ему достанется эта шхуна. Он любит наше дело, и я знаю, что он не намерен бросать его или менять на другое! — Гм! Вы никогда не были на Западе, мистер Троп? — Бывал. До Нью-Йорка доходил на шхуне. Ни я, ни Дэн не пользуемся железными дорогами. Тропы любят соленую воду. Я много где бывал на своем веку, но всюду — морем! — Если Дэн желает быть шкипером, я могу предоставить ему соленой воды, как вы говорите, сколько угодно! — Каким образом? Я думал, что вы железнодорожный король. Харви, по крайней мере, говорил что-то такое! — Но у меня есть также клиперы для перевозки чая морем из Иокогамы в Сан-Франциско. Шесть из этих кораблей обиты сталью, и каждый вмещает тысячу семьсот восемьдесят тонн. — Негодный мальчик! Этого он мне никогда не говорил. Между тем это меня заинтересовало бы, конечно, больше, чем его рассказы о железных дорогах и пони! — Он сам ничего не знал об этих пакетботах. — Вероятно, такая мелочь его не интересовала? — Нет, я состою владельцем фрахтовых судов старой линии Маргон лишь с прошлого лета! — Создатель! — вскричал Диско. — Мне просто кажется, что меня дурачат во всем с начала до конца. Шесть или семь лет тому назад Филь Эргерт ушел как раз из этого порта штурманом на «Сан Джозе». Его сестра и сейчас живет в городе. Она читает его письма моей жене. Так эти-то пакетботы принадлежат вам? Чейн кивнул головой. — Если бы я знал это, я бы тотчас же повернул свою шхуну обратно в гавань, без единого слова! — Это было бы хуже для Харви! — Если бы я только знал! Если бы он хоть заикнулся об этих пакетботах, я бы понял. Это хорошие пакетботы. Филь Эргерт говорил мне! — Очень рад, что заслужил похвалу Филя Эргерта. Он теперь шкипером на «Сан Джозе». Так вот, я хотел знать, не отдадите ли вы мне Дэна на год-другой; может быть, и из него вышел бы шкипер! — Взять на себя заботу о таком невоспитанном мальчике трудно! — Я знаю человека, который сделал для меня гораздо больше! — Это совсем другое дело. Ну, так если хотите, вот как я вам аттестую Дэна — о, я говорю о нем так не потому, что он мне сын! Я знаю, что на Отмелях иное плавание, чем в океане. Однако Дэну вовсе уж не так многому надо учиться. Управлять штурвалом он умеет, а все остальное у него в крови! — Ну, вот и прекрасно. Эргерт за ним присмотрит. Он сделает один или два рейса в качестве юнги, а потом мы ему дадим лучшую должность. Пусть себе зиму проживет с вами, а раннею весною пришлите его ко мне. Атлантический океан, правда, не близко! — Пустяки! Мы, Тропы, все живем и умираем на море! — Поймите только одно. Если вам захочется повидать сына, скажите только, я уж позабочусь доставить его вам. Это не будет стоить ни одного цента! — Если бы вы прошлись со мной до моего дома. Мне хотелось бы поговорить с женой. Я уже столько раз ошибался, что теперь мне трудно поверить действительности! Они скоро пришли к белому домику, перед которым была разбита клумба с настурциями. Они вошли. В гостиной их встретила высокая серьезная женщина. Глаза ее были тусклы, как всегда бывает у людей, которые подолгу смотрят на море, ожидая возвращения близких. Чейн изложил ей свою просьбу, но она согласилась неохотно. — Море уносит каждый год до ста человеческих жертв из Глостера, мистер Чейн, — сказала она. — Я стала ненавидеть море. Бог создал его не для людей. Ваши пакетботы ходят прямо от места назначения домой? — Насколько позволяют ветры. Я выдаю премии шкиперам за скорейшую доставку чая, который портится от долгого пребывания на море! — Когда Дэн был маленький, он любил играть в лавочку и купца. Это подало мне надежду, что он и на самом деле займется торговлей. Но как только он научился управлять лодкой, все мои надежды рухнули! — Тут дело идет о больших кораблях со стальной обшивкой. Помнишь, сестра Филя читала тебе его письма! — Филь, я знаю, не имеет привычки лгать, но он очень уж смел, как часто бывает с моряками. Если Дэн захочет, мистер Чейн, он может сам согласиться на ваше предложение. — Она не любит моря, — пояснил Диско. — Я уж и не знаю, как поступить, чтобы не обидеть вас, но, мне кажется, лучше мы вас поблагодарим и откажемся! — Мой отец, старший брат, два племянника, муж моей сестры погибли в море, — сказала она, печально опустив голову. — Как можно поручиться за это коварное море, когда оно унесло уже столько жертв? Между тем вернулся домой Дэн и очень охотно согласился на предложение Чейна. Он видел теперь перед собою открытую дорогу к цели. Еще больше интересовала, однако, Дэна мысль, что он будет стоять на вахте на огромном деке, будет заходить в порты далеких стран. Миссис Чейн, со своей стороны, поговорила с Мануэлем, который спас Харви жизнь. Из разговора выяснилось, что денег он не желал. Когда к нему уж очень пристали, он сказал, что может, пожалуй, взять пять долларов на подарок одной девушке. Вообще же, на что ему деньги? Он сыт, табак у него есть, чего же больше нужно? Наконец, он предложил, если уж непременно желают дать денег, употребить их следующим образом: вручить какую-нибудь сумму одному португальскому священнику для передачи бедным вдовам. Миссис Чейн не любила католических патеров, но сделала, как было сказано, из желания угодить маленькому смуглолицему человеку. Мануэль был верным сыном церкви. — Теперь мои грехи отпущены, — говорил он, — я обеспечен, по крайней мере, на шесть месяцев. Сказав это, он отправился покупать платок пленившей его красавице. Сальтерс, взяв с собой Пенна, уехал на Запад и не оставил своего адреса. Он боялся, что миллионеры, чего доброго, заинтересуются его товарищем, а этого он никак не хотел допустить. Он поехал навещать каких-то родственников. — Не потерплю, чтобы тебя облагодетельствовали богатые люди, Пенн, — говорил он, когда они сидели в вагоне. — Лучше я расколочу шашечную доску о твою голову. Если ты когда-нибудь опять забудешь свое имя — а тебя зовут Прэт, — помни, что ты мой, Сальтерса Тропа, сядь где-нибудь и жди, пока я не приду за тобой!
Глава 10
Совсем иначе поступил кок со шхуны «Мы здесь». Он завязал в платок свою скрипку и явился к поезду «Констанция». За жалованьем он не гнался, ему было все равно, где ни спать, но он должен во что бы то ни стало сопровождать Харви — такое указание получил он свыше. Его пробовали уговорить, но убедить негра, алабамского уроженца, не так легко. Наконец доложили Чейну. Миллионер расхохотался и решил, что добровольный телохранитель лучше наемного, а потому пусть себе негр остается при Харви, хотя имя у него странное — Макдональд и ругается он по-гэльски. Поезд должен отправиться сначала в Бостон, потом на Запад; если негр не раздумает, пусть едет с ними. Отпрыск миллионеров Чейн о чем-то соображал. Глостер — новый город в новой стране. Он решил осмотреть его. Здесь наживают деньги на пристани и на транспортных судах. Почти все рыбаки, приехавшие из Глостера, завтракают в гостинице «Новая Англия». Здесь он слышал разговоры о зашедших в гавань пароходах, торговых оборотах, солении рыбы, грузах, страховании, заработной плате, барышах и т. д. Он толковал с судовладельцами, со шкиперами, которые большей частью были шведы и португальцы. Советовался он и с Диско, толкался по складам якорных цепей и джонок, задавал всем такие вопросы, что все невольно спрашивали, для чего ему все это понадобилось? Он отправился также в Общество взаимного страхования и попросил, чтобы ему объяснили смысл тех таинственных заметок мелом на черной доске, которая вывешивалась каждый день, и узнал о существовании в городе Общества вдов рыбаков и Общества вспомоществования сиротам. Секретари этих обществ самым беззастенчивым образом посягали на карман Чейна-отца, но он направил их к миссис Чейн — благотворительность была ее делом. Миссис Чейн отдыхала в гостинице, близ Истер-Пойнта. Местные порядки не мало удивляли избалованную леди. Скатерти на столах были белые, с красными шашками. Постояльцы, казалось, были давно между собой знакомы и часто шумели до полночи. На второй день миссис Чейн вынула из ушей бриллиантовые серьги, когда сошла к завтраку за табльдотом. — Ужасно странные здесь люди, — сказала она мужу, — такие простые! — Это не простота, мамочка! — Но почему женщины здесь так просто одеты? Ни у одной нет платья, которое бы стоило сто долларов! — Знаю, милая. Должно быть, у них, на Востоке, уж такая мода. Ну, как ты себя чувствуешь? — Я редко вижу Харви; он всегда с тобою; но я теперь уж не такая нервная, как была! — С тех пор как умер Вилли, я тоже никогда не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Раньше я как-то не понимал, что у меня есть сын. Теперь я вижу, что Харви уже не мальчик. Он сразу возмужал. Не принести ли тебе чего-нибудь, дорогая? Подушку под голову?.. Хорошо, хорошо. А мы пойдем опять пошатаемся по пристани. Харви ходил всюду за отцом, как тень. Они бродили вдвоем. Иногда Чейн-отец опирался рукою на плечо сына, Харви впервые заметил характерную черту отца: он умел проникнуть как-то в душу людей. — Как это тебе удается выпытывать у них все, не открывая в то же время своих планов? — спросил сын. — Мне приходилось видеть на моем веку немало людей, Харви, ну, я и привык распознавать их. У меня есть опыт! — Они сели на перила набережной. — Когда потолкаешься между людей, они начинают считать тебя за ровню. — Вроде того, как они обращаются со мною на пристани Вувермана? Я теперь такой же рыбак, как все они. Диско всем сказал, что я честно заслужил свой заработок. — Харви вытянул руки и потер их. — Опять стали мягкие! — сказал он. — Пусть они останутся такими еще несколько лет, пока ты заканчиваешь свое образование. Потом ты можешь опять сделать их жесткими работой! — Да, пожалуй! — ответил Харви, но не особенно веселым тоном. — Успокойся, Харви. Ты опять можешь спрятаться под крылышко мамаши. Она опять будет беспокоиться о твоих нервах, здоровье. — Разве я когда-нибудь делал это? — спросил Харви. Отец повернулся к нему всем корпусом. — Ты так же хорошо знаешь, как я, что я могу добиться от тебя чего-нибудь только в том случае, если ты будешь со мною заодно. С тобой одним я справиться могу, но, если мне придется бороться с вами обоими, с тобой и с матерью, — я пасую! — Ты меня считаешь повесой, отец? — Я сам отчасти виноват в этом; но уж если желаешь слышать правду, ты действительно был повесой. Не правда ли? — Гм! Диско думает… Скажи, сколько могло стоить и будет еще стоить все мое образование? — Никогда не подсчитывал, — улыбнулся Чейн, — но я думаю, около пятидесяти тысяч долларов, а может быть, и все шестьдесят наберутся. Молодое поколение стоит дорого! Харви свистнул, но в душе он, пожалуй, все-таки был скорее рад, чем огорчен, узнав, как дорого стоило его воспитание. — И все это мертвый капитал? — спросил он. — Надеюсь, он будет приносить проценты! — Положим даже, что тридцать тысяч я заслужил, но все же остаются еще тридцать, все же это большая потеря! — Харви глубокомысленно покачал головой. Чейн так расхохотался, что чуть не свалился в воду. — Диско получил куда больше выгоды от Дэна, который начал работать с десяти лет. А Дэну еще полгода ходить в школу! — А тебе завидно? — Нет, я никому не завидую. Я только довольно плохого о себе мнения, вот и все! Чейн вынул из кармана сигару, откусил кончик ее и закурил. Отец и сын были очень похожи друг на друга, только у Чейна была борода. Нос Харви был такой же орлиный, как у отца, те же темные глаза и узкое, овальное лицо. — С этих пор, — сказал Чейн, — до совершеннолетия я буду тратить на тебя от шести до восьми тысяч в год. Со времени совершеннолетия ты получишь от меня тысяч сорок или пятьдесят, кроме того, еще то, что даст мать. К твоим услугам будет также лакей, яхта, на которой, если угодно, можешь играть в карты с собственной командой. — Как Лори Тэк? — вставил Харви. — Да, или как братья де Витре, или сын старого Мак-Кведа. В Калифорнии много наберется таких. А вот для примера яхта, о какой мы говорим! Окрашенная в черный цвет новая паровая яхточка, с каютой из красного дерева, с никелевым нактоузом[10], с полосатым тентом, пришла на всех парах в гавань. На корме ее развевался флаг одного из нью-йоркских яхт-клубов. Два молодых человека, в каких-то фантастических костюмах, которые, очевидно, должны были сойти за морские, играли в карты. Около них сидели две дамы с цветными зонтиками и громко смеялись. — Не хотел бы я на такой яхте очутиться на море во время шторма! — сказал Харви, критически разглядывая яхту-игрушку, в то время как она причаливала. — Я могу подарить тебе такую яхту, даже вдвое дороже этой, Харви, хочешь? — спросил отец. Харви не отвечал, он продолжал смотреть на молодых людей. — Если бы я не умел бросить как следует конца, — сказал он, — лучше я остался бы себе на берегу, а не совался бы в моряки. — Остался бы на берегу? — Да, и держался бы за маменькину юбку! Глаза Харви презрительно сверкнули. — В этом отношении я с тобой согласен. — Положи мне десять долларов в месяц жалованья! — сказал Харви. — Ни цента больше, пока не заслужишь! — Я готов лучше кухню мести, только бы зарабатывать что-нибудь сейчас же, чем… — Я это понимаю. Ну, кухню мести может кто-нибудь другой. В молодости я сам сделал ошибку, принявшись слишком рано за дело! — И эта ошибка принесла тридцать миллионов долларов, не правда ли? — Кое-что я нажил, кое-что и потерял. Я расскажу тебе все! Чейн начал рассказывать сыну историю своей жизни. Он пощипывал бороду, с улыбкой смотрел в спокойную водную даль и говорил монотонным голосом, без жестов. А между тем эту историю охотно напечатал бы за деньги не один правительственный орган. Обзор жизни этого сорокалетнего человека был в то же время очерком жизни Нового Запада. Не имея родителей, Чейн еще мальчиком начал полную приключений жизнь в Техасе. Новые города вырастали тогда за какой-нибудь месяц, иные исчезали бесследно за несколько месяцев в междоусобных распрях. Взглянув на некоторые из современных благоустроенных городов, трудно даже предположить, что когда-то они были свидетелями диких и кровопролитных сцен. В то время было проложено три железных дороги. Чейн рассказывал о людях разных национальностей, которые вырубали леса, строили железные дороги, работали на приисках и других предприятиях. Он говорил о колоссальных богатствах, достававшихся случайно, в один день. Сам Чейн, живший в это время лихорадочной деятельности, пережил все превратности судьбы: то он был богат, то нищ, то ехал верхом по неведомой стране, но чаще брел пешком, всегда, однако, неизменно вперед, в погоне за счастьем. Он пробовал содержать гостиницу, был журналистом, механиком, барабанщиком, агентом страхового общества, политическим деятелем, торговцем ромом, собственником приисков, спекулянтом, пастухом, просто бродягой. Иногда под ударами судьбы он чувствовал себя утомленным до полусмерти, но потом снова успокаивался и, воспрянув духом, выплывал на жизненном море. Жизнь Харви Чейна была тесно связана с историей культурного развития его родины. В самые тяжелые минуты вера никогда не покидала его, ни на минуту не терял он также мужества и присутствия духа. Чейн рассказывал неторопливо и спокойно; память не изменяла ему, он помнил все прожитое в мельчайших подробностях. Ему приходилось платить добром за зло своим врагам, прощать им, уговаривать, упрашивать городские власти, товарищества и синдикаты для их же блага. Отовсюду он уходил, оставляя за собою выстроенные и проложенные им железные дороги, которыми могло пользоваться человечество. Харви слушал, затаив дыхание, немного наклонив голову набок. Он пристально смотрел на отца. Красноватый огонек сигары бросал в сумерках отсвет на густые брови и впалые щеки говорившего. Харви невольно пришло в голову, что перед ним — локомотив, стремительно несущийся, говорящий, растрогавший его своими словами до глубины души. Наконец, Чейн бросил окурок сигары, и оба остались в темноте. Море тихо лизало прибрежные камни. — Я еще никогда никому не рассказывал этого! — сказал отец. — Это великолепно! — воскликнул Харви восторженно. — Вот чего я достиг. Теперь скажу, чего мне не удалось получить. Ты, пожалуй, теперь еще не поймешь, как много я потерял в этом отношении, но дай Бог, чтобы тебе не пришлось дожить до моих лет, не поняв этого. Я знаю людей, я неглуп, но я не могу конкурировать с людьми, получившими образование. Кое-чего я набрался случайно, путем опыта, но, я думаю, каждый видит, как поверхностны мои знания! — Я никогда не замечал! — возмутился Харви. — Но будешь замечать со временем, когда сам пройдешь курс колледжа. Мне ли самому не сознавать этого! Сколько раз мне приходилось читать в выражении глаз говоривших со мной, что они считают меня разбогатевшим простолюдином. Я могу сокрушить их всех, если захочу, — но не могу сравняться с ними. Ты счастливее меня. Ты можешь получить образование, которого мне не хватает. За несколько тысяч долларов в год тебя научат всему, и ты извлечешь из этого миллионную пользу. Ты будешь знать законы, чтобы сберегать свое достояние, будешь солидарен с сильнейшими коммерсантами рынка, будешь даже сильнее их. Образование даст силу и власть и в политике, и в денежных предприятиях, Харви! — Пробыть четыре года в колледже не очень мне улыбается,отец. Пожалуй, я пожалею, что не удовлетворился яхтой и лакеем! — Ничего, сын мой, — настаивал Чейн. — Ты будешь вознагражден с лихвой за потраченные время и труд. А пока ты учишься, можешь быть спокоен, что дела наши не пошатнутся. Подумай и дай мне завтра ответ. А теперь пойдем скорее — мы опоздаем к ужину!
Ни Харви, ни Чейн не находили, конечно, нужным посвящать в предмет своего делового разговора миссис Чейн. Но миссис Чейн что-то подмечала, чего-то опасалась, начинала ревновать Харви к отцу. Ее баловень-сынок, вертевший ею, как хотел, вернулся к ней серьезным юношей. Он говорил мало, и то больше с отцом. Говорили они все о делах, в которых она ничего не смыслила. Если у нее и были подозрения, они усилились еще больше, когда Чейн, поехав в Бостон, привез ей новое кольцо с бриллиантом. — Вы оба что-то скрываете от меня! — сказала она, ласково улыбаясь. — Мы только все толкуем с Харви, мамочка! Действительно, ничего особенного не случилось. Харви по доброй воле заключил контракт. Железные дороги, недвижимая собственность и рудники его нимало не интересовали; но он питал особенную нежность к недавно приобретенным отцом кораблям. Он обещал пробыть четыре или пять лет в колледже, но при условии, что отец уступит ему это свое предприятие. Харви решил уже во время каникул ближе ознакомиться с милым его сердцу делом. Уже и теперь он вникал во все тонкости его и пожелал просмотреть все относящиеся к нему документы и книги, хранившиеся в Сан-Франциско. — До выхода из колледжа ты еще можешь двадцать раз переменить свои планы, — сказал Чейн, — но если ты останешься при своих теперешних взглядах и намерениях, когда тебе исполнится двадцать три года, я полностью передам тебе это дело. Хочешь, Харви? — Никогда не следует дробить дело, когда оно в полном расцвете. Конкуренция не страшна крупным предприятиям, но опасна для мелких. Родственники тем более должны работать вместе, не допуская дележа, — таково мнение Диско. Люди в его команде никогда не меняются, оттого и дело у них идет удачно. Кстати, шхуна «Мы здесь» уходит в понедельник в Джордж! — Кажется, пора уезжать и нам. Давненько уже я позабросил свои дела. Надо снова приняться за них. Впрочем, я на себя не пеняю: такие праздники случаются раз в двадцать лет! — Перед отъездом надо повидаться с Диско, — заметил Харви, — и побывать на празднике, который будет устроен в понедельник. Останемся, пожалуйста, до понедельника. — Что это за праздник? Сегодня в гостинице толковали что-то. — Чейн не противился желанию Харви, он тоже был не прочь отложить отъезд. — Это музыкально-танцевальный спектакль в пользу вдов и сирот. Обыкновенно читают список утонувших или не подающих о себе вестей рыбаков, говорят речи, стихотворения. Диско не очень любит эту благотворительность, потому что секретари благотворительных обществ чуть не дерутся между собой из-за вырученных денег. У Диско на все свои взгляды. — Мы можем остаться на этот праздник, — согласился Чейн, — и уехать вечером. — Тогда я пойду к Диско и попрошу его отпустить команду на праздник, пока они не снялись с якоря. Я буду вместе с ними! — Конечно, конечно, ведь ты здесь свой человек! — Настоящий рыбак с Отмелей! — закричал ему Харви, уже направляясь к сходням и оставляя отца наедине с его новыми, радужными мыслями о будущем. Диско, действительно, не жаловал общественных благотворительных собраний. Но Харви представил ему, как некрасиво будет, если команда шхуны «Мы здесь» не будет присутствовать. Диско тогда поставил свои условия, он слышал, что какая-то актриса из Филадельфии собирается прочитать песню о шкипере Айрсоне. Лично он не любит актрис, но это к делу не относится. Правда, однако, должна оставаться правдой, и он не потерпит лжи о бедном, ни в чем не повинном шкипере. Харви лично поехал к знаменитости и долго беседовал с нею прежде, чем ей удалось понять всю бестактность избранного ею номера. Актриса долго смеялась, но согласилась не тревожить память Бена Айрсона. Чейн не ожидал ничего нового от этого праздника. Он много видел таких вечеров и у себя на Западе. Было душно и жарко. Отовсюду стекались женщины в легких летних платьях, бостонцы в соломенных шляпах. У входа стоял целый ряд велосипедов. Распорядители суетливо бегали взад и вперед. Начали появляться на собрании и рыбаки. Были тут смуглые португальцы (их жены приходили или в кружевной косынке, или совсем с непокрытой головой), голубоглазые новошотландцы, уроженцы приморских провинций, французы, итальянцы, шведы, датчане. В толпе было также много женщин в трауре: они раскланивались друг с другом с каким-то сознанием мрачной гордости — это был их день, их праздник. Встречались среди публики и пасторы разных вероисповеданий, богатые владельцы пароходов и шхун, мелкие судовладельцы, рыбаки с Отмелей, агенты страховых обществ, капитаны, простые рабочие, вообще представители всего смешанного населения приморского города. Нарядные туалеты приезжих дам оживляли картину. Чейн встретил одного из служащих городского управления, с которым познакомился несколько дней тому назад. — Как вам нравится наш город, мистер Чейн? — спросил тот. — Пожалуйста, сударыня, здесь можно сидеть, где угодно. Я думаю, вы ко всему этому привыкли и на Западе? — Да, но мы моложе вас! — Это конечно. Вы только еще начинали жить в то время, как мы праздновали двестипятидесятилетнюю годовщину основания города. Наш город — старый, мистер Чейн! — Знаю, но почему, скажите, у вас нет первоклассной гостиницы? — Я это им постоянно говорю, мистер Чейн. Нам нужно… Тяжелая рука опустилась на его плечо. Повернувшись, он увидел перед собой шкипера одного портландского парохода, пришедшего с грузом угля. — В вашем городе нестерпимо сухо и душно. Пожалуй, в нем и пахнет чуть-чуть похуже, чем в последний раз, когда я тут был. Скажите, не отвели ли нам где-нибудь комнатку, где бы мы могли спокойно пить и угощаться? — спросил моряк. — Кажется, вы уже успели угоститься с утра, Корсен? Сядьте вот там у дверей и подождите, я к вам приду потолковать! — О чем еще толковать? В Микелоне шампанское стоит восемнадцать долларов ящик… Раздавшиеся звуки органа помешали ему продолжить, и он поспешил на свое место. — Это наш новый орган, — с гордостью сказал Чейну чиновник. — Мы заплатили за него четыре тысячи долларов. Сейчас будет петь хор сирот. Их учит петь моя жена. Я сейчас вернусь, мистер Чейн, позвольте оставить вас на минуточку — я вижу, меня там ждут! Высокие, чистые голоса запели какой-то псалом. Женщины в трауре теснились впереди. Миссис Чейн стала волноваться. Она прежде никогда не думала, что на свете есть столько вдов. Инстинктивно она искала также глазами Харви. Вот она его нашла; он стоит между Диско и Дэном, в группе рыбаков со шхуны «Мы здесь». Дядя Сальтерс тоже был с ними. Он вернулся накануне, вместе с Пенном, из Памлико-Саунда. — Что, твои родители еще не уехали? — спросил он Харви с подозрением. — Чего ты тут все еще околачиваешься, приятель? — Разве он не имеет права быть здесь, как и все мы? — спросил Дэн. — Не в таком костюме! — ворчал Сальтерс. — Замолчи, Сальтерс, — сказал Диско, — опять ты не в своей тарелке. Стой, Харви, где стоял, не слушай его! Между тем хор кончил петь, и на эстраду вышел какой-то член городского управления. Он приветствовал собрание, произнес попутно несколько слов в честь Глостера, упомянул о его значении как приморского города и перешел к цели — указал на сумму, которую нужно будет уплатить семьям ста семнадцати погибших моряков. В Глостере нет ни мельниц, ни мануфактур. Жители его живут исключительно тем, что заработают на море. Рыбаки, конечно, не наживают богатства, и потому город должен прийти на помощь вдовам и сиротам погибших в море. В заключение оратор выразил благодарность артистам, благосклонно согласившимся принять участие в празднике. — Терпеть не могу этого попрошайничества, — ворчал Диско. — Хорошего мнения о глостерцах будут все приезжие! — Если бы люди были предусмотрительнее и откладывали излишек про черный день, а не тратили бы его на роскошь, было бы лучше! — возразил Сальтерс. — Лишиться всего, всего! — сказал Пенн. — Что тогда делать? — Его бесцветные светлые глаза смотрели бессмысленно вдаль. — Я читал раз в какой-то книжке, как одна шхуна пошла ко дну. Спасся только один человек, и он сказал мне… — Молчи! — остановил его Сальтерс. — Лучше было бы, если бы ты поменьше читал и получше работал! Харви стоял в тесной толпе рыбаков и чувствовал, как по всему его телу пробегает дрожь. День был жаркий, а между тем ему было холодно. — Это актриса из Филадельфии? — спросил его Диско Троп, с мрачным видом указывая на эстраду. — Ты поговорил с нею, Харви, насчет Айрсона? Но артистка продекламировала не про Айрсона, а стихотворение про рыболовные суда, которые буря застала ночью вблизи Бриксамской гавани. Женщины разложили на берегу костер, который должен служить маяком. В костер этот они бросают все, что попадет под руку: «бабушкино одеяло и люльку малютки», так говорилось в песне. — Расточительные были женщины! — засмеялся Дэн. — А гавань плохо освещалась, Дэнни! — отвечал Долговязый Джэк. «Делая это, они не знали, зажигают ли они костер в честь возвращения моряков или погребальный факел», — пела артистка, и голос ее проникал в душу, и сердца слушателей замирали от волнения, когда она рассказывала, как море выбросило на берег промокших до костей, выбившихся из сил живых рыбаков и трупы утонувших. Тела утонувших разглядывали при свете огней и спрашивали при этом: «Дитя, это ли твой отец?» или «Женщина, не твой ли это муж?» Когда артистка кончила, ей мало аплодировали: женщины вытирали платком слезы, а мужчины смущенно смотрели в потолок, стараясь скрыть свое волнение. — Гм! — сказал Сальтерс. — Чтобы послушать это в театре, пришлось бы заплатить доллар, а то и два. Многие позволяют себе это, но, по-моему, это — пустая трата денег… Какими судьбами очутился здесь капитан Барт Эдуарс? — Он — поэт и тоже должен прочесть что-нибудь! — заметил кто-то сзади. Капитан Эдуарс уже пять лет добивался разрешения прочесть свое стихотворение на глостерском празднике. Наконец, комитет по организации утренника дал ему согласие. Выйдя на эстраду в своем лучшем праздничном платье, старик сразу завоевал симпатии всего собрания. Стихи его были грубо сколочены и длинны. В них описывалась гибель шхуны «Джон Гаскин» в 1867 году. Но все слушали со вниманием и, когда он кончил, громко приветствовали автора. Один бостонский репортер поспешил интервьюировать поэта и попросить у него копию его стихотворения. Самолюбие капитана Барта Эдуарса, бывшего когда-то китоловом, рыбаком и ставшего теперь, на семьдесят третьем году от роду, поэтом, было удовлетворено. — Очень трогательные стихи! — сказал голос из толпы. — Наш Дэн сумел бы написать не хуже, — возразил Сальтерс. — Он достаточно учен для этого! — Это не к добру: должно быть, дядя Сальтерс перед смертью стал хвалить меня, — засмеялся Дэн. — Что с тобой, Харви, тебе дурно? Ты весь позеленел! — Сам не знаю, что со мной, — отвечал Харви. — Я весь дрожу и мне не по себе! — Подождем, когда кончат читать, и выйдем. Нам тоже нельзя прозевать прилив. Вдовы рыбаков сидели между тем точно каменные, они знали, что теперь последует. Приехавшие на лето на морской берег барышни щебетали между собою, восторгаясь стихотворением капитана Эдуарса, и с удивлением оглянулись, заметив, наконец, что в зале водворилось гробовое молчание. Рыбаки протискались вперед, когда тот самый чиновник, который разговаривал с Чейном, вышел на подмостки и стал читать список имен погибших в течение года моряков. Голос его отчетливо раздавался в тишине: — 9 сентября. Пропала без вести со всей командой шхуна «Флори Андерсон». Экипаж ее составляли: Рубен Питмэн, владелец шхуны, 50 лет от роду, холост. Эмиль Ольсен, 18 лет, холост. Оскар Станберг, 25 лет, холост, швед. Карл Станберг, 18 лет, холост. Педро, уроженец Мадейры, холост. Джозеф Уэльш, он же Джозеф Райт, 30 лет, из Сен-Джонса, на Ньюфаундленде. — Нет, он родом из Аугусти, в Мэне! — поправил голос из публики. — Он ушел на шхуне из Сен-Джонса! — возразил читавший, отыскивая глазами, кто с ним говорит. — Знаю. Но родился он в Аугусти. Он мне племянником приходится! Чиновник сделал в списке отметку карандашом, чтобы исправить неточность, и продолжал: — На той же шхуне погибли: Чарли Ричи, из Ливерпуля, 33 года, холост. Альберт Мей, 27 лет, холостой. 27 сентября. Орвин Доллар, 30 лет, женатый, утонул на шлюпке близ Истер-Пойнта. На этот раз удар был нанесен метко. Вдова Доллара, сидевшая среди публики, зарыдала, закрыв лицо руками. Миссис Чейн, слушавшая чтение, широко раскрыв глаза от удивления, почувствовала приступ удушья. К ней на помощь поспешила мать Дэна. Между тем чтение шло своим чередом. Перечень кораблекрушений, случившихся в январе и феврале, вызывал в зале все больше и больше слез и волнений. — 14 февраля. Возвращавшаяся домой из Ньюфаундленда шхуна «Гарри Рандольф» потерпела аварию. Во время шквала упал с палубы и утонул в море Аза Музи, женат, 32 года. 23 февраля. Шхуна «Джильберт Хоп» разбита во время бури. Роберт Бивон, 29 лет, женатый, пытался спастись на шлюпке и до сих пор не найден. Жена Бивона была в зале. У нее вырвался нечеловеческий крик. Ее вывели. Мужа не было давно, она думала и раньше, что с ним могло случиться несчастье, но все же в душе ее еще жила надежда, что спасшегося на шлюпке мужа, быть может, приняли на какой-нибудь корабль. Теперь она знала наверняка, что его не спасли. Харви видел, как открылась дверь выхода и как полицейский усадил бедную женщину на извозчика. Полоса света, ворвавшаяся в полураскрытую дверь, исчезла. Дверь закрылась. Харви снова стал прислушиваться к чтению: — 19 апреля. Шхуна «Мами Дуглас» погибла на Отмелях, вместе с экипажем. Эдуард Кантон, владелец шхуны, 43 года, женат. Гаукинс, известный также по прозвищу Вильямс, 34 года, женат. Г. В. Клей, негр, 28 лет, женат… Казалось, списку не будет конца. Горло Харви судорожно сжималось. Он чувствовал почти такие же приступы морской болезни, как в день, когда он упал с парохода. — 10 мая. Со шхуны «Мы здесь» упал в море и утонул Отто Свенсон, 20 лет, холост. Опять в зале раздался раздирающий душу крик. — Напрасно она сюда пришла. Напрасно! — с сожалением говорил Долговязый Джэк. — Не распускай себя, Харви! — прошептал Дэн. Это были последние слова, которые расслышал Харви. Дальше он ничего не помнил, потому что в глазах у него сначала потемнело, потом завертелись какие-то огненные круги. Диско наклонился к жене и что-то сказал ей. Та сидела, обхватив одною рукою за талию миссис Чейн. Команда шхуны «Мы здесь» двигалась дружно к выходу, поддерживая бледного как полотно Харви. Его усадили на скамейку. Харви пришел в себя и смутился. — Мне совсем хорошо, — сказал он, стараясь встать. — Должно быть, я съел что-нибудь лишнее за завтраком. — Должно быть, это кофе, — поддержал его Чейн, лицо которого словно застыло. — Я думаю, не стоит теперь возвращаться! — Лучше пойдемте на пристань, — предложил Диско. — Тут недалеко, а миссис Чейн будет чувствовать себя несколько лучше на свежем воздухе! Харви уверял, что он совсем здоров. Они подошли к шхуне «Мы здесь», стоявшей у пристани Вувермана. Харви стало до боли грустно при мысли, что эта шхуна, с которой он сжился, должна уйти. Ему хотелось плакать. Плакала между тем всю дорогу миссис Чейн, плакала и говорила странные вещи. Миссис Троп уговаривала ее, как ребенка. Рыбаки перешли на шхуну. Харви отвязал канат от сваи, а рыбаки оттолкнулись от пристани. Всем хотелось сказать на прощание много-много, но как-то трудно было подобрать слова. Харви крикнул Дэну, чтобы он позаботился о морских сапогах дяди Сальтерса и о якоре Пенна, а Долговязый Джэк посоветовал Харви не забывать того, чему он научил его. Однако шутки не удавались в присутствии двух плачущих женщин, да и трудно быть веселым, когда разделяющая уходящих и провожающих зеленая полоска воды становится все шире. — Подымай кливер и фок-вейль! — кричал Диско, становясь у руля. — До свидания, Харви! Я не забуду ни тебя, ни твоих родителей! Шхуна удалилась уже на такое расстояние, что голоса с нее не доносились. Провожавшие все еще сидели на набережной и смотрели ей вслед. Миссис Чейн продолжала плакать. — Мы обе женщины, голубушка, — утешала ее миссис Троп. — Зачем так надрываться? Вот я на своем веку видела мало хорошего. Мне тоже приходилось плакать, но уж если я плачу, то не по пустякам!
* * *
Прошло несколько лет. В совсем другой части Америки, по одной из городских улиц, застроенных прихотливыми домами богачей, шел молодой человек. Он остановился перед кованой железной калиткой. Навстречу ему выехал верхом на дорогом коне другой юноша. — Это ты, Дэн? — вскричал он. — Харви! — послышалось в ответ. — Как ты поживаешь? — Я теперь служу вторым штурманом. А ты кончил, наконец, свой колледж? — Кончаю и скоро займусь делами! — Делами пакетботов, конечно? — Непременно. Зайди же к нам! — сказал Харви, спешившись. — Я именно и пришел с этой целью. А где же наш колдун? Я его не вижу! Бывший кок шхуны «Мы здесь» подошел к Харви и принял повод лошади. Он никому не позволял прислуживать Харви. Увидев негра, Дэн радостно закричал: — Ну, как твое здоровье, кудесник? Негр не ответил на вопрос, но, хлопнув Дэна по плечу, в сотый раз повторил ему свое пророчество: — Помнишь, Дэн Троп, что я тебе говорил еще на шхуне? — Не стану отрицать, что предсказание твое исполнилось, — сказал Дэн. — А славная была шхуна; я многим обязан ей и отцу! — Я тоже! — подтвердил Харви Чейн.ФЛОТСКИЕ БУДНИ
Заметки о двух путешествиях с Флотом Канала[11]

ГЛАВА 1
...Те моряки, Что в море парусом ведомы, Чтоб биться в войнах и хранить законы, Одним горохом живы, говорят.
Дж. С. Боулз «Матросский сундук в кают-компании»
В эту историю были вовлечены около трех десятков военных кораблей ее величества — примерно дюжина линкоров и семнадцать или восемнадцать крейсеров. Но мой интерес ограничился одним из новых кораблей, находившимся под командованием моего старого друга. До той поры я обладал некоторыми смутными представлениями об устройстве военных судов, но совершенно ничего не знал о том мире, в котором очутился, поднявшись по трапу из шлюпки, доставившей меня с портсмутской набережной в один из чудесных летних вечеров 1897 года. За исключением капитана, старшего механика и, возможно, трех-четырех унтер-офицеров, никому на борту этого судна еще не исполнилось и тридцати. Офицерскую кают-компанию заполняли свежие лица молодых людей в прекрасном возрасте чуть старше двадцати, аккуратно подстриженных, гладко выбритых и обладающих самым разнообразным жизненным опытом. Но если поразмыслить, то можно прийти к выводу, что легкий крейсер, способный давать ход в двадцать узлов, совершенно справедливо отдан улыбчивым молодым людям под командованием опытного капитана, которых до неприличия радуют обретенные ими огромные возможности, которые до сих пор не нашли своего отражения в приключенческих романах. Корабль был совсем юным, сами они — молоды, адмирал был недавно назначен, и все вместе мы вот-вот должны были отправиться на большие флотские учения. И уже на следующий день тридцать кораблей маневрировали, выходя из гавани в открытое море, между ста двадцатью все еще стоявшими на якорях не столь удачливыми собратьями. Весь этот бал мы открыли изящным и красивым маневром. Корабль сопровождения, составлявший с нами пару, двигался параллельным курсом между двумя линиями судов на рейде, но мы немедленно вырвались вперед, протиснувшись мимо столь же ловко и быстро, как лондонский кэб, сворачивая с Бонд-стрит, обгоняет автобус из Сити. Расстояния в море обманчивы, и пока я осыпал проклятиями грозный таран следовавшего за нами корабля, нацеленный прямо в наш беззащитный борт, кают-компания грохнула смехом. — О, это чепуха! — заявил некий джентльмен лет двадцати двух. — Дождитесь сегодняшней ночи, когда нам придется сохранять место в кильватерном строю. Это будет как раз моя вахта. — И не забудьте закрыть водонепроницаемые двери, — посоветовал другой младший лейтенант. — Я уже говорил нашему спутнику, чтобы он не удивлялся, если вдруг в полночь в нашу корму воткнется таран какого-нибудь бронепалубного чудовища.
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА ФЛАГМАНА
Затем все тридцать кораблей вытянулись в шестимильную линию с востока на запад. Как только это произошло, флагман стал подавать сигналы, и началась самая захватывающая забава центрального командования. Когда мне удалось лично познакомиться с нашим сигнальщиком, я смог еще лучше оценить всю ее прелесть. Флагман сплошь покрылся флажками и тросами, сигнальщик на нашем мостике прикипел к подзорной трубе, разбирая смысл приказов и распоряжений, старшина-рулевой вертел туда-сюда наш штурвал, а вахтенный офицер передавал указания машинному отделению по переговорной трубе. И мы заплясали, дергаясь взад-вперед, чтобы занять свое место в строю на таком-то и таком-то расстоянии от носа или кормы наших соседей. В результате произошло чудо, достойное всяческого восхищения. Длинная шеренга кораблей превратилась в четыре параллельных колонны неописуемой мощи и красоты, причем расстояние от крайних колонн составляло примерно милю с четвертью, и такое положение мы сохраняли до самого вечера. В двухстах ярдах позади нос другого корабля рассекал спокойную воду; на точно таком же расстоянии перед нами маслянистая вода кипела от работы винта судна, идущего впереди. Таков был приказ, и мы держали свои позиции, как приклеенные. Тем не менее наш капитан не преминул отметить, прибегнув к весьма энергичным выражениям, как неуклюже и медлительно осуществлял экипаж все эти маневры, возложив вину за это на недавние празднества. По его мнению, в ближайшие дни картина должна была в корне измениться. — Мы сейчас в совершеннейшем раздрае, — заключил он. — Корабли еще не сработались, а держать дистанцию в строю вовсе не так легко, как это может показаться. Позже я убедился, что это была истинная правда.НЕПОСТОЯНСТВО УСИЛИЙ
Есть одна вещь, которая впечатляет пассажира на борту корабля ее величества куда сильнее всех прочих. Военные суда редко ходят, не меняя скорости и курса на протяжении хотя бы трех часов. Пассажирский лайнер, выйдя из порта, набирает полный ход и держит его до самого конца плавания, а вот военным всегда приходится держать два-три узла, так сказать, «в рукаве» — на случай, если флагман внезапно потребует совершить спурт. В то же время линкор или крейсер всегда должен быть готов сбросить три-четыре узла, повинуясь взмаху флажка адмиральского сигнальщика, а то и вовсе залечь в дрейф и слегка помедитировать. Все это связано с постоянно меняющимися нагрузками на механизмы и постоянным напряжением людей, которые их контролируют. За одну вахту я насчитал семь разных скоростей — от восьми до семнадцати узлов, причем, как ни странно, максимальная вибрация палубы ощущалась в районе одиннадцати узлов. При восьми узлах было слышно, как наши упрямые двойные винты начинают гарцевать, словно непокорные лошади, которых сдерживает твердая рука; при семнадцати они тащили нас вперед, как пара коротконогих шотландских пони на крутой подъем. Но даже и тогда чувствовалось, что мощь судовых машин далеко не исчерпана. Тем, кто любит порассуждать о лайнерах, застрахованных от поломок и аварий, стоило бы побывать на борту корабля с машинами в семь тысяч лошадиных сил, чтобы вкусить все прелести запутанных маневров, а затем четырнадцатидневной гонки по соленым волнам.В КЛУБАХ И КОМПАНИЯХ
Некоторое время спустя я отправился на камбуз, чтобы кое-что узнать и об этих материях. Тут-то и выяснилось, что, спустившись с мостика и оказавшись за палубными торпедными аппаратами, вы попадаете в совершенно иной мир — мир моряков-торпедистов, артиллерийских спецов, коков, морских пехотинцев (у нас на борту их было две дюжины плюс сержант), юнг, сигнальщиков, а заодно и полной демократии. Здесь — исключительно в свободное время — они курили, образуя клубы по интересам и группы приятелей, болтали и при этом говорили все, что угодно, друг о друге и о корабельном начальстве. Речи эти велись тихо (если б на крейсере все говорили в полный голос, никто не расслышал бы даже собственных мыслей), жестикулировали здесь сдержанно (если бы кто-то принялся размахивать руками, то задел бы соседей), приходили и уходили по своим делам бесшумно. Все эти разговоры были бесконечно интересными, а кроме того, изрядно меня повеселили. Их сленг состоял из терминов машинного отделения, названий механизмов и орудий, насмешливо перевранных инструкций и цитат из самых свежих песенок из мюзик-холлов. И все это произносилось с поджатыми губами, вполголоса, и даже самые забавные и живые истории оставляли их лица невозмутимыми. Первое, что поражало стороннего наблюдателя, — выдающееся здоровье этих людей, затем их спокойная компетентность и, наконец, их сокрушительная вежливость. Но в теле нового флота бились сердца старых морских волков эпохи парусов. Те, кого обессмертил Марриэт[12], остались здесь: их лучше кормили и воспитывали, им дали хорошее образование, но сердце их осталось неизменным. Все они были полны житейской мудрости и при этом отличались изумительным простодушием и поразительной хитростью (чем, впрочем, буквально очаровывали меня все служащие британского военно-морского флота, независимо от их ранга). А свои прямые обязанности они выполняли спокойно и незаметно, как тени.НЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АДМИРАЛТЕЙСТВА
Все они искренне интересовались учениями — разумеется, не с точки зрения Адмиралтейства, а с личной. Многие из них служили под командованием других адмиралов и, соответственно, делились этим опытом с товарищами, о чем вы узнаете в свое время. Затем наступила ночь, и наш флот засиял, «как свора плавучих аптек», по меткому выражению одного из артиллеристов, характеризовавшему все шесть ходовых огней, вспыхнувших на каждом корабле к полному изумлению грузовых пароходов. Под одним из четырехдюймовых орудий на носу имелось некое подобие укрытия, где можно было спрятаться от полубака, от набитых людьми трюмных помещений, равно как и от бесконечного подшучивания у камбуза. Мое ночное бодрствование там разделил один морской пехотинец, прочитавший мне пространную лекцию о толщине черепных костей обитателей Южной Америки, в чем он имел возможность убедиться собственноручно. Заканчивалась эта лекция следующим образом: «Вот так я и получил десять суток в одной из их вонючих тюрем. Кормили меня исключительно виноградом, как и прочих убийц и насильников. Забавный народ эти латиноамериканцы! Нет, в тот раз мы там никого не убили. Всего лишь устроили небольшую потасовку в каком-то пригороде — шутки ради». — Шутки ради! Нам-то и досталось главное веселье! — прохрипел голос из темноты. Это один из кочегаров бесшумно, словно тюлень, вынырнул из машинного отделения глотнуть свежего воздуха, и выпрямился, подставляя взмокшую грудь ветру и окидывая взглядом огни флота. — Да что ты говоришь! А как там у тебя с конденсатором? — полюбопытствовал морской пехотинец. — И, будь добр, держи свои грязные руки подальше от коечных чехлов, если не хочешь получить выговор. — Наши угольные бункера, — прохрипела неразличимая во тьме фигура куда-то в сторону горизонта, — дребезжат, как мелочь в кармане дамского жакета. Мы обросли ими, как стертые ноги мозолями. Вот оно что такое — наши угольные бункера! С этими словами он нырнул обратно во тьму. А в это время появился вахтенный сигнальщик, направлявшийся сменить своего предшественника на мостике. — Тебя повесят, — сказал пехотинец, отличавшийся сообразительностью и оттого считавшийся здесь чуть ли не пророком. — Нет, если ты окажешься где-нибудь в толпе, точно не повесят, — послышался ответ, произнесенный на тех же полутонах — мол, «не буди лихо». — Ты что тут делаешь? — Не твое дело. Шел бы ты на свой благородный мостик и занимался своим делом. Боже праведный! Ни за что и никогда я не согласился бы стать сигнальщиком... Когда на следующее утро я обнаружил моего ночного приятеля «занимающимся своим делом», а именно — стоящим на посту у спасательного буя на корме, ни он, ни я друг друга не узнали; но я обязан ему несколькими довольно забавными историями.РАЗВОРОТЫ, ВРАЩЕНИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ
На следующее утро флот занялся благородными упражнениями в тактике морского боя. Но меня слишком интересовала жизнь на моем крейсере, час за часом проходившая перед моими глазами, поэтому я не слишком вдумчиво следил за эволюциями судов. Помню только, что мы то и дело занимали различные позиции на скорости в пятнадцать узлов в толпе других крейсеров, практически неотличимых друг от друга: серо-стальных, как сама гибель, с белыми бурунами пены, расходящимися от носа, — затем разворачивались, кружились и снова возвращались на исходную. Над более глубокими водами тяжелые линкоры танцевали величественную кадриль, а мы, своего рода легкая кавалерия, отплясывали польку на ветреном мелководье и, в точности так же, как танцоры в бальной зале иной раз переговариваются через плечо, общались с друзьями, проходя мимо и роняя с помощью флажкового кода с мостика пару-тройку совершенно неофициальных фраз. Судя по их содержанию, должен сказать, что на крейсерах служат удивительные люди. К середине дня линкоры догнали нас, в результате чего их светлые надстройки и орудийные башни стали казаться нам айсбергами, заполонившими все морские пути. Экипажи посерьезнели, механики немного передохнули, и, по мановению адмиральского флага, после прохождения мыса Лендс-Энд наш флот был поделен пополам. Одна часть должна была отправиться вдоль побережья Ирландии к заливу Блексот, а нам предстояло свернуть к Ирландскому проливу и следовать по нему к фьорду Лох-Суилли. Там мы должны были принять на борт уголь и ждать объявления «войны». После чего нам предстояло поиграть кое с кем в жмурки в заранее обозначенном на просторах Атлантики пространстве диаметром пятьдесят морских миль. Что касается той части флота, которая направлялась к заливу Блексод, то ей также предстояло некое рандеву в определенной точке океана, прежде чем она успеет укрыться в водах залива.ЭКСПЕРТЫ С НИЖНЕЙ ПАЛУБЫ
В этом плане, однако, быстро обнаружился некий изъян, и как только он стал известен на нижней палубе, тамошние эксперты принялись тыкать в него своими заскорузлыми пальцами, приговаривая: — Вы только взгляните! «Их» адмирал должен выйти из Блексода на некую встречу в точку, известную только ему. Так ведь? — Это все мы уже слышали, — перебил некто нетерпеливый и явно не знакомый с «войной». — Причем, оставив крейсеры позади... «Блейк», скорее всего, а может, «Бленхейм», чтобы сообщить ему о начале «боевых» действий. Это тоже верно? — Давай ближе к делу! К чему ты клонишь? — Сейчас увидите. Когда этот крейсер догонит его, ему придется продвигаться обратно к Блексоду с точки этой хваленой встречи, чтобы попасть домой прежде, чем его перехватит тот поганец. — И что же? — А вот что, слушайте. Что, если он не успеет к месту встречи, замедлившись, чтобы крейсер его догнал, а корабль, с которым он должен встретиться, полным ходом вернется в Блексод, прежде чем мы его перехватим? Я не вижу, чтобы тут хоть где-то была оговорена скорость хода. Попомните мое слово, он изо всех сил постарается не спеша соединиться с крейсером. И мы его тоже не догоним, потому что здесь, в плане, дыра, которой он непременно воспользуется. Я его знаю, в отличие от вас! Голос продолжал описывать этого «его» — адмирала нашего «противника» — как хитрого проныру, который во что бы то ни стало натянет нос Адмиралтейству. И действительно — в итоге вышло так, что этот второй адмирал поступил почти в точности так, как предсказывали знатоки с полубака. Он отправился к точке сбора судов очень медленно, был перехвачен крейсером примерно в ста милях от места встречи, развернулся обратно к Блексоду и тем самым стал победителем в игре «Кошка в углу», вальяжно дожидаясь у залива, когда же мы его догоним. Он был любезен и дружелюбен, насколько мог себе это позволить, когда объяснял ситуацию, и, думаю, ехидно улыбался. Он нашел дыру в правилах и сумел протащить в нее всю свою эскадру. Мы, северная эскадра, обнаружили фьорд Лох-Суилли во власти юго-восточного ветра и грязных судов-угольщиков, словно специально торчавших в тех местах, где они могли бы помешать становящемуся на якорь флоту. К нашему борту подполз угольщик с палубными механизмами, которые едва могли бы справиться и с половиной той грузоподъемности, на которую они были теоретически рассчитаны. К тому же на его борту не оказалось ни мешков, ни лопат, а жалкой стреле деррик-крана не хватало длины, чтобы поднять бадью с углем выше нашего фальшборта. Нам пришлось вооружиться собственными мешками и лопатами, разобраться с краном, поставить двоих парней из нашей команды на дребезжащие лебедки и взяться за работу под пронизывающим ветром и ледяными брызгами.БУНКЕРОВКА УГЛЯ: ПОДГОТОВКА К «ВОЙНЕ»
Такая подготовка к завтрашней «войне» оказалась несколько чрезмерной нагрузкой на команду. Матросы трудились поистине как матросы — за неимением более емкого и сильного выражения. Время от времени какой-нибудь красноглазый черный демон из младших офицеров, сияя белоснежными зубами, влетал в кают-компанию перекусить и выпить, а заодно докладывал нам о количестве загруженных в бункеры крейсера тонн, добавляя несколько соленых словечек по поводу оснащения угольщика и наших угольных бункеров. Затем он снова уносился туда, где визжали моторы лебедок, скребли и шуршали лопаты, скрипел и стонал кран, а старший лейтенант, словно высеченный из гагата, озвучивал все, что только приходило ему в голову. Прежде чем угольщик отчалил, флагман отправил к нам шлюпку, чтобы замерить некоторые параметры трюмного люка. Главным на шлюпке был мичман лет примерно семнадцати, хотя выглядел он заметно моложе. В кают-компании он появился без кровинки в лице, с посиневшими губами: его недавно уволили со службы в Средиземноморье по инвалидности из-за мальтийской лихорадки. — Где сейчас служишь? — спросил наш командир, которому случилось проходить мимо. — На «Викториесе»[13], сэр! Он опрокинул крохотный стаканчик марсалы, завернулся в промокший плащ и обреченно вернулся на шлюпку — возвращаться домой сквозь глухую тьму под шквальными порывами ветра. «Викториес» был эскадренным броненосцем водоизмещением примерно в четырнадцать тысяч девятьсот тонн. А в том, кого они послали провести сертификацию наших люков, едва ли набралось бы десять стоунов[14] вместе с мальтийской лихорадкой!ОФИЦЕРСКАЯ КАЮТ-КОМПАНИЯ РАЗВЛЕКАЕТСЯ
Мы наконец привели себя в порядок, перекошенное лицо старшего лейтенанта слегка расслабилось, и кто-то поинтересовался, куда это запропастились музыкальные инструменты. На свет немедленно появились две скрипки, мандолина, волынка, и наша кают-компания решила развлечься напевами трех народов, пока не объявлена «война». Этот момент застал нас в разгар попыток выяснить, как реагирует на гнусавый звук волынки наш корабельный котенок. И быстрее, чем он успел укрыться под диваном, кители были застегнуты, хохота как не бывало, а корпус крейсера задрожал от работы парового шпиля, выбиравшего якорь. Затем плеск воды о борта стал постепенно нарастать, и наш корабль заскользил мимо все еще стоявшего на якорях флота к устью Лох-Суилли. Нам была поставлена задача: сопровождать и поддерживать другой крейсер, уже направлявшийся к заливу Блексод, чтобы наблюдать за врагом. Именно он должен был сообщить нам весть о том, что вторая часть флота начала боевые действия. Была полночь седьмого июля, а по правилам игры главные силы флота не могли начать движение до полудня следующего дня. Нас же, едва мы включили ходовые огни, приняла в свои объятия холодная и беспокойная Северная Атлантика. Тогда-то я и начал понимать, почему крейсера этого типа уое-кто величает «кофемолками». Длиной корпуса мы могли сравниться с небольшим лайнерам, но нам катастрофически не хватало его массы, поэтому там, где грузопассажирское судно просто рассекало бы море, мы, военные, танцевали на гребнях волн, а оба наших винта, то и дело оказывающиеся на воздухе, брыкались, словно телята. В половине шестого весьма безрадостного утра мы поравнялись с большим крейсером (который нас до этой минуты вообще не замечал) и держались рядом с ним практически до семи, а потом развернулись навстречу нашей половины флота и встретили ее выходящей из Лох-Суилли примерно в первом часу дня. Погода была кошмарная. И снова мы шли на вест-норд-вест, делая в среднем тринадцать-четырнадцать узлов, а впереди лежали три сотни миль пути, поскольку направлялись мы к Рокуэлл-бэнк, одинокой скале, торчащей прямо из моря вдали от всех и всяческих берегов. Замысел флагмана заключался в том, что наш «враг» вполне мог назначить эту скалу местом встречи, а значит, была и надежда застать его там и прикончить всеми наличными силами. На протяжении этого на редкость мрачного дня на нашем крейсере царило изрядное оживление. К счастью, на борт мы принимали только брызги, потому что низко сидящие линкоры врезались своими тупыми носами в морские валы, рассекая их не хуже, чем прибрежные скалы. Флагман маневрировал, как полдюжины адмиралов Нельсонов, а я в конце концов свалился на свою койку в кате над самыми винтами и мог утешаться только мыслью о старшине-рулевом на бешено мотающемся из стороны в сторону мостике, которому не позволялось даже присесть. В открытую дверь каюты я видел залитую водой палубу, слышал свистки боцманских дудок и понимал, что передо мной — самая обычная жизнь на судне при юго-восточном ветре: вот прошла пара тех, кто давным-давно привык и к бортовой, и к килевой качке, на ходу натягивая плащи, пробежал с недовольным видом сигнальщик, затем я заметил уоррент-офицера, обеспокоенного кожухами вверенных ему скорострельных пушек, которые то и дело исчезали в хлещущей через фальшборт пене, а потом услышал голос лейтенанта, спокойно докладывавшего капитану, что «люди и вещи в наличии», а судно «в полном порядке». А в той стороне, куда беспечно несся наш крейсер, виднелись лишь бесконечные гряды серых, как гранит, океанских валов. Около полуночи наш крейсер-разведчик — тот самый, который еще ранним утром остался дожидаться появления «Блейка» или «Бленхейма» — снова присоединился к нам; но я не обратил на это внимания, как не обратил бы внимания даже на то, что весь наш флот отправился на дно — настолько меня доконала морская болезнь. К полудню девятого июля мы преодолели триста двадцать пять с четвертью морских миль, потратив на это двадцать четыре часа, но «враг» так и не осчастливил нас своим появлением к тому времени, как мы достигли границ отведенной нам в океане акватории. Тогда мы развернулись во фронт шириной в двадцать четыре мили от фланга до фланга и промчались еще двести пятьдесят миль на юго-восток — в сторону залива Блексод.ПРОМАХНУЛИСЬ!
К счастью, погода начала улучшаться — самые бурные воды остались за кормой. Но не прошло и трех минут с момента разворота, как во все головы всех экипажей одновременно пришла одна и та же мысль, а затем и само слово было произнесено громовым хором: «Промахнулись!» После обеда, когда эксперты с полубака снова собрались покурить, их доктрина была изложена подходящим к ситуации языком. После чего мне объяснили, причем с величайшей убежденностью, что другая сторона «переманеврировала» нас, снова воспользовавшись «пробелами в плане». Иными словами, нас «обошел их крейсер», в точности, как и предполагали мудрые головы; следовательно, результат игры был предрешен еще в самом начале. Выяснить что-то наверняка я так и не смог. Большой крейсер-разведчик снова ускользнул от нас на рассвете десятого июля и шесть или семь часов спустя снова появился — но на этот раз с новостями о противнике. Тут и выяснилось то, что позже было названо «закавыкой». Некий недалекий сигнальщик, как утверждали эксперты, неверно прочитал переданное флажками сообщение и вынудил нас поверить, что крейсер заметил врага там, где его никогда не было. В этом направлении мы и пустились в погоню, которая, хоть и осталась безрезультатной, стала прекрасным примером того, на что способен современный флот в предельно сжатые сроки.МЫ ОБНАРУЖИВАЕМ ОШИБКУ
Вот тогда-то, как я полагаю, мы и осознали, в чем просчитались, и дружно заторопились в залив Блексод, надеясь перерезать «противнику» путь к отступлению. Добравшись до разбросанных у входа в залив островов, мы отправили крейсер разведать, нет ли кого-либо в самом заливе, в то время как флагман передал остальному флоту: «Медленно продвигаться вперед в ожидании дальнейших распоряжений». С точки зрения метеоролога погода была превосходной — яркое солнце, легкая зыбь, на которой лениво ползущие крейсера живо напомнили мне свору гончих в высокой траве во время охоты. Но с навигационной точки зрения вот-вот должна была грянуть гроза. Все понимали: кое-что пошло не так, и когда флагман выразил свое недовольство работой сигнальной службы флота, то лишь оправдал всеобщие ожидания нагоняя. Да, но флагманский броненосец располагал пятью десятками сигнальщиков и сигнальным мостиком шириной с баржу, где царили чистота, достойная бального зала, и полная тишина. Наш мостик едва достигал четырех футов в ширину; рев вентилятора котельной, словно специально расположенного над ним, заглушал две трети слов каждого приказа, а между мостиком и ютом сигнальщиков, желавших получше разобратьприказ, ждала полоса препятствий в виде загроможденной до полной непроходимости палубы. Сигнальщиков у нас было шестеро. Понаблюдав за ними неделю, я и сейчас готов поклясться, что у каждого из них было как минимум по шесть рук и по восемь всевидящих глаз. Однако на флагмане думали иначе. Я-то слышал, что сигнальщики говорили по этому поводу, но этих слов ни при каких обстоятельствах не выдержит никакая бумага.СКОРОСТНАЯ РАЗВЕДКА
Наконец вернулся крейсер-разведчик с известием о том, что залив Блексод совершенно пуст. Одновременно еще три корабля были отправлены для поддержки другого быстроходного крейсера, чьей задачей был поиск контакта с «противником». Этому скоростному монстру несколько раз удавалось обнаружить «вражеские суда» — но на очень значительном расстоянии. Нам удача улыбалась еще меньше. Трем крейсерам третьего и второго класса (одним из них был и наш крейсер) было приказано патрулировать к северо-западу от острова Игл, сигнализировать ракетой, если ночью «враг» появится в поле зрения, после чего держаться от него на расстоянии до получения приказа на возвращение к основным силам. Когда мы достигла зоны патрулирования, море все еще было пустынным — до самого горизонта, на котором виднелась точка второго патрульного крейсера. Безлюдное побережье и мелкие, совершенно лишенные растительности острова на закате окрасились в пурпурно-пепельные тона. Вдали загорелись два маячных огня. В прозрачных сумерках наш крейсер прогуливался вдоль берега, словно лондонский констебль в подведомственном квартале. Безмятежный покой этой ночи нарушала лишь трепещущая лунная дорожка, рассекавшая надвое гладь спокойной воды. Враг не сумел бы подобраться к нам с севера незамеченным, разве что решился бы идти на яликах в тени берега, в полосе тумана, который там собрался. Сигнальщики благодарили своих морских богов за то, что оказались вдали от флагмана, а обитатели полубака и мой знакомый морской пехотинец, между тем, уверяли их, что всю сигнальную команду несомненно повесят на нок-рее, как только мы доберемся до ближайшего порта. Под мерный шум судовых машин весь экипаж обсуждал действия флагмана. — А я вам что говорил? Он опять нашел дыру в плане учений и опять в нее ускользнул! — Таков был припев общей печальной песни. Мы сожгли больше угля, чем когда-либо сжигали на настоящей войне, и до самого рассвета нам то и дело мерещились корпуса «вражеских» линкоров. Мы были отрезаны от командования, мы просто выглядывали за линию передовых постов, ничего не зная о происходящем, — как, собственно, и бывает всегда перед началом Настоящего Дела.ГЛАВА 2
В воскресенье около полудня к впавшим в полный ступор крейсерам-разведчикам подошел один из наших посыльных кораблей и передал общий приказ возвращаться обратно к флагману. Но добравшись до обозначенной в приказе точки, мы не обнаружили там ни флагмана, ни линкоров, а только гигантские бронепалубные крейсера «Пауэрфул» и «Террибл», которые немедленно взяли под свое крыло все шесть легких крейсеров второго и третьего класса. До этой минуты мы выглядели вполне внушительно, однако рядом с парой этих четырехтрубных гигантов мгновенно превратились в крошечные трамповые суденышки. Не так-то просто было привыкнуть к размерам и высоте бортов этих морских берсерков. После этого пошли всеобщие переговоры. Кто и что слышал и видел, куда девались все остальные, что слышно о «противнике». А шедший за нами крейсер сообщил уж и вовсе мрачную информацию, совершенно сбившую с толку всех и каждого. В половине восьмого сегодняшнего утра этот крейсер, как и мы, патрулировавший окрестности залива Блексод, доложил флагману: «Вижу противника к западу». Флот бросился в погоню, флагман дал выстрел из одного орудия, как только оказался на расстоянии трех миль от предполагаемого врага — то есть в пятнадцати милях к западу от залива. Но затем «враг» втянулся в залив, а наши корабли, по нению семафорившего нам крейсера, двинулись на юг — к Бантри. А что на самом деле сделал «враг», я уже в самых общих чертах объяснял. Что касается нас, то мы больше ничего поделать не могли. оставалось только отправиться на нос, чтобы послушать комментарии экспертов к этому сообщению.МОРСКИЕ АДВОКАТЫ
Голос, полный непоколебимой уверенности и горького опыта, произнес: — Нас поимели! И не надо мне тут рассказывать сказки. — Ничего подобного! Мы перехватили поганца, — начал было юный морской адвокат. Он торчал прямо на точке встречи у залива Блексод. — А какие при этом были правила? И что там с планом? — перебил его еще один голос. — Мы сражались не с правилами, а с человеком! И я говорю вам: нас поимели. Разве я не предупреждал об этом, как только мы сменили курс за Рокуэлл-бэнк? Там-то он нас и обошел — уж не знаю, каким образом. — Но поглядите сюда! Сигналы подтверждают, что победа на нашей стороне. — Только он с этим никогда не согласится. Обе стороны заявят о победе. — Так они всегда и делают. Когда я служил на... И голос начал повествовать о других маневрах, в которых, судя по всему, именно он сыграл ведущую роль. А легкие крейсеры тем временем плелись на юг за «Пауэрфулом» до самого восточного входа в Берхейвен. И никаких линкоров и броненосцев в заливе Бантри-Бэй — все они отправились на учебные стрельбы, а нас рассыпали между мысами с той же целью, а заодно с приказом впоследствии собраться в нескольких милях южнее Фастнета — этого потрепанного и заслуженного дорожного указателя для трансатлантических лайнеров.ПОЧТИ ДЬЯВОЛЬСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Никакое описание не поможет вам понять, какова мобильность флота в море. Это нечто почти дьявольское. Я видел, как корабли созывают с огромных пространств, как по единому слову команды флот разбивается на части и по единому же слову исчезает за горизонтом. Как они растягиваются в линию, словно стервятники в белесом от жары небе над умирающим зверем, как они выжидают, как взвиваются, словно лассо, захлестывают петлей горло противника, а затем вновь собираются тугим жгутом у седельной луки. Как раскладывают этот пасьянс на пятидесятимильном зеленом столе, как его собирают, тасуют колоду и заново раздают в каждой новой игре. Я видел такие крейсеры, которые летали, словно ястребы, на которых мчались, как на рвущихся к финишу лошадях, и при этом они маневрировали, словно легкие велосипеды. И тем не менее я так и не перестал поражаться тому, как они появляются и исчезают. «Пауэрфул» подавал сигнал — и через десять минут эскадра крейсеров растворялась в морской дымке; при этом у каждого из них имелись своя сера и свои спички, чтобы создать свой персональный ад. А каков этот ад, когда он работает на полную мощность, я понял только тогда, когда мы развернулись к земле и раздался сигнал горна. С этого момента самым важным и влиятельным лицом на борту стал главный артиллерист (в военно-морском флоте у каждого часа каждого дня есть свой «калиф»). Мы были всего лишь небольшим крейсером третьего класса, хоть и способным уничтожать миноносцы в штормовом море, но созданным, в первую очередь, для разведки и наблюдения. Наше вооружение состояло из восьми четырехдюймовых скорострельных орудий, два из которых располагались на баке, четыре в средней части судна и два на корме — вперемежку с таким же количеством пулеметов Гочкиса. Еще три «максима»[15] были установлены на уровне нижней сети заграждения. Их кожухи с водяным охлаждением перед началом забавы обслуга наполнила из вполне невинных ведер. Со стороны это походило на попытку напоить измученных жаждой дьяволов.СМЕРТОНОСНАЯ ЧЕРТОВЩИНА
Мы отыскали подходящую скалу — самую оконечность известнякового мыса, населенную разве что чайками, у подножия которой кипела кремовая пена прибоя. В качестве мишени она была признана вполне подходящей: по ней можно было видеть эффективность наших залпов, а заодно потренировать наводчиков бить в уровень ватерлинии чужого судна. Затем на сцене появились сияющие латунью снаряженные кордитом[16] патроны и четырехдюймовые снаряды — каждый весом в двадцать пять фунтов. Были проверены ленты «максимов», и вся эта смертоносная чертовщина ожила, нацеливаясь на ничего не подозревающих чаек. Прозвучала команда «Внимание!» — и на корабле воцарился тот штиль, который бывает во время Настоящего Дела. С верхнего мостика я мог слышать сквозь пульс судовых машин, как звенят ножны кортика лейтенанта, командующего огнем (вот зачем, спрашивается, человеку, которому необходима полная свобода действий, вешать в такую минуту на пояс это совершенно бесполезное оружие?) Затем — негромкий звон открывшегося казенника четырехдюймовки, крахмальный хруст вертикально скользящего затвора «гочкиса» и нетерпеливый стрекот — что-то вроде швейной машинки. Это «максим» проверяет свою готовность. Штурман, стоя на платформе над моей головой, озвучил расстояние до скалы: — Две тысячи семьсот ярдов, сэр! — Две тысячи семьсот ярдов! — пронеслось от орудия к орудию. — Десять узлов поправки вправо... Батарея правого борта... Командиры орудий вцепились в рукоятки наводки и уперли лбы в прорезиненные налобники прицелов, длинные тонкие дула за щитками зашевелились, меняя направление. — Пристрелочный из трехфунтовой! Хлопок у кордита выше тоном и куда внезапнее, чем у черного пороха, который сгорает медленнее. Послышался пронзительный ахающий вопль — примерно таким бывает начало женской истерики — и небольшой снаряд понесся к цели; облачко грязного дыма на поверхности известкового обрыва вспугнуло чаек. Насколько я мог видеть, ни один из стволов четырехдюймовок не окутался даже намеком на дымок. Пока из казенника не вылетела использованная гильза, я даже не знал, которая из дьявольской четверки пушек сказала свое слово.КОГДА НАЧНЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО
— Две тысячи четыреста, — загремел голос сверху, и четырехдюймовая скорострельная пушка правого борта открыла бал. И снова не было дыма; и снова запела горячая гильза — но в этот раз орудие издало не вскрик, а полноценный скорбный рев. И снова несколько секунд ожидания (какими они будут, думал я, когда начнется Настоящее Дело?), и опять бледная звезда разрыва на мишени. Крейсер слегка вздрогнул, словно его ущипнули. Прежде чем сработало следующее орудие, из казенника первой пушки извлекли пустой цилиндр патрона и, по мановению руки, которой я не мог видеть, заменили его новым снарядом. Затвор захлопнулся. Даже винтовку Мартини-Генри[17] трудно было бы перезарядить быстрее. — Две тысячи триста! — крикнул штурман, и мы всерьез взялись за работу; высокие вскрики трехфунтовки и низкий рев главного калибра сплелись в поистине инфернальную фугу, взбесившиеся «максимы» без всякого почтения вмешались в эту мелодию своим кряканьем и стрекотом. Скалу рассекали, разрывали и расшвыривали во все стороны, огромные обломки породы рушились в море. — Две тысячи сто! — Хороший выстрел. О, еще один! Как раз в ватерлинию... Это трехфунтовка морской пехоты. Отлично!.. Ага! А вот это паршиво, хуже некуда... Недолет! Чей это был выстрел? Снаряд разорвался вдали от цели, и у командира орудия вежливо поинтересовались, действительно ли он уверен, что правительство предоставило нам трехфунтовые снаряды только с тем, чтобы глушить макрель и треску. Так мы и продолжали, пока большие пушки не исчерпали свою норму, а у «максимов» не закончился их бесовский запал. На этом учебные стрельбы завершились. Серая скала стала белой, а у барбетов каждого орудия сияли латунью еще не остывшие стреляные гильзы.ОРОШЕНИЕ СМЕРТЬЮ С ПОМОЩЬЮ САДОВОГО ШЛАНГА
И лишь после этого до меня начал доходить ужас происходящего. То, чему я стал свидетелем, было всего лишь обычным методом Адмиралтейства избавляться от устаревших боеприпасов, но выглядело это как настоящее орошение смертью с помощью садового шланга, а не рядовой учебной стрельбой. А что же будет, когда заработают все орудия, когда кожухи водяного охлаждения пулеметов окутаются паром, когда трехфунтовые заряды будут подаваться на палубу по дюжине за раз и расходоваться по двадцать штук в минуту; когда единственным ограничением для нашей четырехфунтовой батареи станет скорость перезарядки? Что будет, когда начнется Настоящее Дело? И улыбающиеся беззаботные лица моряков ответили мне одним довольным аккордом: «Ад! Разверзнутся врата преисподней!» В эпоху парусов у морских сражений был свой этикет. Ни один из линейных кораблей, выстроившихся в боевой порядок, не стал бы стрелять по легкому фрегату, разве что тот уж очень назойливо пытался ему помешать. В этом случае линейный корабль попросту сдувал фрегат с поверхности моря. Но каким будет этикет современной войны? Предположим, крейсер встретится с бронированным линкором, у которого половина машин вышла из строя и который ползет на скорости в восемь узлов. Станет ли крейсер атаковать охромевшее судно, заставлять его тратить боеприпасы? Для того, чьи борта не толще чайного подноса, атака будет рискованной, но, учитывая обстоятельства, может оказаться прибыльной. Решится ли небольшой корабль на стремительную ночную атаку в манере эсминца? В начале войны корабли могут делать что угодно, но в конце позволяют себе ровно ту степень свободы , относительную безопасность которой показал опыт длительного противостояния с противником. И невозможно предсказать, что может, а чего не сможет сделать другая сторона во время шторма: военно-морской флот не любит плохой погоды — низко сидящие суда с блиндированными бортами неэффективны в бурном море, а остроносые броненосцы с их высокими надстройками и боевыми марсами боятся перевернуться. Поэтому мы должны молиться о плохой погоде, о бурном море и высоких волнах, о ветре, который пронизывает насквозь, о сковывающем холоде, о мелких затяжных дождях, которые ослепляют, выстуживают, лишают боевого духа. Зато нашим матросам они нипочем.ТЕ, КТО РИСКУЕТ
Сегодня возможности хорошего корабля практически неограниченны, если им управляют те, кто хорошо знает, как это делается, а команда состоит из тех, кто готов рисковать. Как и в армии, в военно-морском флоте действует неписанный закон. Звучит он так: «Ты не должен подвергать риску собственность налогоплательщиков, за которую отвечаешь, иначе тебя публично разжалуют; но если ты не готов пойти на все мыслимые риски и даже далее — ты будешь разжалован в душах своих собратьев. Ты потеряешь репутацию и любовь команды и уже никогда их не вернешь». Британский младший офицер, следует отдать ему должное, ловко маневрирует между этих двух огней. Благодаря службе на эсминцах, с которой он начинает свою карьеру, он обретает проницательность и изворотливость. На эсминцах служит преимущественно молодежь — на их тесных палубах нет места для людей среднего возраста, и там она учится управлять двумя сотнями футов окованной сталью смерти, способной покрыть милю за две минуты, развернуться и набрать крейсерскую скорость быстрее, чем тот, кто отдал приказ, оторвется от переговорной трубы. На этих кораблях они рискуют столкнуться с самыми страшными капризами моря и часто идут на эксперименты такого рода, что о них лучше умолчать. Их мало что удивляет, когда с эсминца они перемещаются, к примеру, на легкий крейсер. Им доводилось бывать на волосок от рокового столкновения и проползать через мели почти вплотную ко дну; они изведали самые долгие шторма в Канале, и сделали это не потому, что не сумели найти тихую гавань, а потому, что стремились узнать, каково это на самом деле. И такое погружение в морскую службу буквально сроднило их с командой.ДОСТАТОЧНО, ЧТОБ ПРОТРЕЗВИТЬ УЛИССА
Подобный старт закаляет, остужает горячие головы и учит толково распоряжаться ресурсами. Это осознаешь, слушая разговоры молодых офицеров между собой. Опыт в военно-морском деле приходит рано, и к тому времени, как мальчики дослуживаются до звания младшего лейтенанта, они уже, как правило, повидали достаточно, чтобы протрезвить самого Улисса. Но отрезвляться они не желают. Не было зафиксировано ни одного случая депрессии у младших лейтенантов. Чтобы призвать гардемарина к порядку, требуется порой влияние младшего механика, врача и судового казначея, но и этого чаще всего недостаточно, чтобы усмирить одного младшего лейтенанта. Он жизнерадостно следует своим путем, беспристрастно и красноречиво критикуя старших по возрасту и званию; он многогранен, непостоянен и неудержим. Но когда он стоит на мостике в полночь и рассуждает о том, как держать подобающую дистанцию от болтающегося в двухстах ярдах позади чужого стального тарана на скорости в десять узлов — вот тогда младший лейтенант изрядно потеет, пока не привыкнет. Давайте предположим, что он идет третьим в колонне из четырех кораблей, время близится к полуночи, а наш лейтенант на вахте с восьми. До сих пор мы идеально держали дистанцию: мы даже посмеивались над соседней колонной, идущей в миле от нас по правому борту, — те дважды или трижды теряли строй. Через двадцать минут его ждут свобода, чашка горячего какао, трубка и благословенная койка. Младший лейтенант наблюдает за ходовыми огнями переднего судна, поскольку при смене этих огней он должен быстро скорректировать свою скорость хода. Но идущий впереди крейсер использует самый дешевый уголь, а ветер приносит не менее двух миллионов его пылинок в минуту — и прямо в глаза вахтенному офицеру. Он держит дистанцию абсолютно правильно, в чем готов поклясться. Старшина-рулевой у штурвала выдвигает вперед мощное плечо. До этого момента он вообще не подавал признаков жизни. Каблуки младшего лейтенанта нетерпеливо притопывают по палубе, его губу приближаются к переговорной трубе машинного отделения, и в то же время он готов отдать команду рулевому, на случай... на случай, если внезапно понадобится увести нос своего судна в сторону, потому что с судном, идущим впереди, что-то явно не так. Оно сбилось с курса и потеряло свое место в колонне, забрав влево от головного корабля. Лейтенант протирает левый глаз, запорошенный копотью, и что-то произносит...И НАЧИНАЕТСЯ ВЕСЕЛЬЕ
И начинается веселье! Головной корабль сбросил обороты машины — скажем, с десяти узлов до девяти с половиной, но вовремя не сменил огни, показывающие скорость движения колонны. Наш крейсер уходит вправо от переднего судна, быстро и почти бесшумно. И теперь все должны во все глаза следить за скоростью и курсом, пока лидер исправляет свою ошибку. То, что недавно было строгой колонной военных кораблей, внезапно превращается в балаган на воде — ценой в три четверти миллиона фунтов стерлингов, массой в десять тысяч тонн, с восемью сотнями обитателей. Переднее судно уходит влево, заднее — о, ужас! — вот-вот поравняется с нами. И, слава Всевышнему, ни один из капитанов не решил проснуться в этот час. Младший лейтенант командует снизить обороты до восьмидесяти пяти, но машины — это всего лишь машины, они не могут повиноваться немедленно. В штурманской рубке лейтенант-штурман почти лежит на столе, сдвинув фуражку на лоб, чтобы защититься от света лампы, погруженный в изучение карты. Слышно, как вахтенный офицер на мостике переговаривается с рулевым. Ветер доносит до нас запах флотского табака. Машины медленно убавляют обороты, медленно потому, что стоит кораблю сбавить ход ниже известного предела, как он перестанет слушаться руля, и, что еще хуже, вполне может проснуться капитан. Младший лейтенант осознает это с предельной ясностью, но импульс прежних десять узлов хода несет нас вперед, и двигаемся мы быстрее, чем нам хотелось бы. И вновь нетерпеливые каблуки младшего лейтенанта выбивают чечетку по стальной палубе.КОГДА ЖЕ ОНИ ЗАМЕДЛЯТСЯ?
Неужели там, в машинном отделении, они так никогда и не убавят ход? Стрелка на шкале перед рулевым перемещается на крохотную долю дуги — и все наши головы дружно поворачиваются влево. Тот, кто стоит на мостике, чувствует себя все более одиноким, а веретенообразный корпус судна под ним становится все более непослушным. Переднее судно медленно отваливает еще левее, а мы продолжаем держать безопасную дистанцию, одновременно уходя вправо. Колонна из бесформенного скопления судов постепенно превращается в ступенчатую диагональ. Тот, кто следует за нами, плавно занимает нужное место. Только теперь, при двух оборотах в минуту, младший лейтенант, убедившись, что наш собрат возвращается на место, исправив свою ошибку, может позволить себе вытереть пот с разгоряченного лба и вознести благодарственную молитву за то, что капитан так и не проснулся, и со всей этой путаницей удалось разобраться до конца вахты. Однако если ходовые огни оказываются в неловких и неумелых руках (нашими занимались толковые парни, могу поклясться), то они, без сомнения, становятся орудием дьявола. Равно как и сам флот, и все суда, да и море вместе с теми побережьями, которые его окружают. И вот оглашается приговор! Наш лидер, конечно, не мог отсемафорить впрямую тем, кто находился в хвосте колонны, но сигнал должен был неукоснительно продублирован всеми — от ведущего корабля до последнего. Поэтому мы, как вы понимаете, ознакомились с ним, так сказать, «по диагонали». Прожектор на мостике лидера, подмигивая короткими и длинными вспышками, как пьяный, устроил нам выволочку — и весьма серьезную. Правда, электрические громы и молнии пали на голову крейсера второго класса, следовавшего перед нами, и нам оставалось только возблагодарить Господа за то, что существуют подобные громоотводы. Близился конец вахты; наш лейтенант безмолвно вопросил у звезд и глубин: «Кто не продал бы ферму и не ушел бы в море?», а затем спустился с мостика в превосходном расположении духа и тремя минутами позже погрузился в крепкий сон под мурлыканье корабельного котенка у левого уха. Но капитан, как выяснилось, все это время бодрствовал. Изменения скорости и звука работы машин разбудили его, и он лежал, наблюдая за потолочным каютным компасом у себя над головой, готовый в любое мгновенье связаться с мостиком через переговорную трубу. Его правый глаз косил в открытый иллюминатор, а правая нога на всякий случай была спущена с койки. Но лейтенант должен научиться действовать самостоятельно и уверенно, как учился этому сам капитан четверть века назад. Не следовало ему знать, что за ним пристально наблюдают. На следующее утро капитан якобы случайно обмолвился о том, что «множество кораблей порой сбивается с курса». — Как тот крейсер, что шел в колонне впереди нас, — почтительно ответил младший лейтенант. — Да, когда я был младшим лейтенантом, это тоже был передний, — последовал невозмутимый ответ. — Знаю я этих передних... Позже, в кают-компании, где младший лейтенант пространно повествовал об успехе своих ночных маневров, кто-то полюбопытствовал: часто ли ему случается идти против ветра с самим «хозяином»?КАК МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛУЧАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ
И это лишь один из способов, с помощью которых флотская молодежь получает знания. На большом эсминце, говорили мне, младший лейтенант почти ничем не отличается от гардемаринов, которых тем не менее презирает. Он живет в кают-компании для младших офицеров, он посещает судовую школу, его посылают с заданиями, и если он в порядке, ему позволяют следить за дисциплиной, пока остальные драят палубу. Но на крейсере третьего класса он становится вахтенным офицером, украшением кают-компании и наслаждается своим положением, как я и попытался это отобразить.ГЛАВА 3
Кстати, о сигналах — и продолжая с того момента, на котором я остановился, — во время учебных стрельб нам их поступало более чем достаточно. Мы завершили стрельбы первыми из крейсеров и направились к точке сбора из Фастнета. Но если бы командиры прислушались к пассажиру — тот упрашивал их спустить шлюпку, чтобы как следует рассмотреть расколотую в щебень скалу, — то избавили бы себя от немалых печалей. Но были ревностны и усердны, как мистер Простодушный, и устремились к Фастнету. Море было затянуты дымкой, и сквозь нее доносились некие глухие стоны, словно исходящие из бездны морской. Это должно было бы предостеречь нас, но мы не вняли. Эсминцы — те самые, которых мы не обнаружили в заливе Бантри, — рассеялись по окрестным водам для собственных учений. Тогда-то я и припомнил, что двенадцатидюймовое орудие стреляет снарядом весом в восемьсот фунтов, а дальнобойность у него свыше десяти миль. А мы направлялись к точке сбора, окруженные со всех сторон глухим рычанием этих невидимых чудовищ, в итоге выскочили прямо на флагман, который развлекался тем, что пускал торпеды! Любой другой большой корабль проблемы не представлял бы, но судьба направила нас прямиком к флагману. В густом от дыма воздухе запахло катастрофой, и, разумеется, ни один из нас ничуть не обрадовался, увидев язвительный сигнал: «Куда это вы направляетесь?» Мы ответили, что следуем в точку, где, согласно приказу флагмана, должны ожидать подхода остальных крейсеров. После чего сбавили ход и отошли на почтительную дистанцию, а флагман, в свою очередь, хранил грозное молчание.НАША ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА
Без всякой задней мысли мы отошли на пару миль в подветренную сторону, и это стало нашей фатальной ошибкой, хоть мы и не сводили взгляда с мостика флагмана. Наконец мы увидели сигнал, но не весь, а лишь его часть, как обычно бывает, когда один сигнальщик стоит с наветренной стороны, а второй — с подветренной. Мы вывесили соответствующие флажки, означающие: мы видели сигнал, но не сумели его принять, а затем на всех парах двинулись к флагману. Вообще-то, первой частью сигнала был приказ приблизиться, а вторая часть выражала желание пообщаться с нами посредством ручных флажков. Лица наших сигнальщиков тут же выразили глубокую скорбь, а их печальные стоны ветер далеко разносил над водой. Тут-то и выяснилось, что флагман уже довольно долго пытался привлечь наше внимание, и ему категорически не понравилось наше пренебрежение к его усилиям. В военно-морском флоте оправданий подобному нет, и мы приготовились покорно принять выволочку — то есть прекратили отвечать флажками и замерли навытяжку в ожидании. Сказать по правде, мы были страшно довольны удачными стрельбами, и этот инцидент был для нас словно ушат ледяной воды. Однако у всего на свете есть причина. Нам было предложено передать на борт флагмана имена вахтенного офицера (тут же начались лихорадочные поиски самого смелого и отчаянного) и сигнальщика (сигнальщик окончательно погрузился в пучину отчаяния) — тех, что несли утреннюю вахту в пятницу. Никто из нас понятия не имел, в чем состав их преступления, хуже того — мы не имели права спросить об этом. Правда, позже выяснилось, что все дело было в чьей-то ошибке. Мы доложили необходимую информацию (флагман узнал бы и гораздо больше, если бы своевременно задал вопросы), и я убрался с палубы вместе с остальными, чтобы потолкаться там, где эксперты-оптимисты с полубака пророчили пятничному сигнальщику, какого рода казнь и понижение в должности ожидают его на берегу.МЫ ПРОИГРАЛИ ИГРУ
— Мы проиграли, — сказал один из команды. — Кто первым пришел, того первым в расход. Это мы уже проходили. Я вынужден был согласиться — уж больно мрачная уверенность сквозила в этих словах. А затем наш флагман снялся с позиции, унося с собой шесть десятков своих сигнальщиков, четыре линии флажков и мрачный семафор. Нет, не зря были написаны строки: «Каждый день к нам приходит корабль. Каждый корабль приносит нам вести. Хорошо ему, не ведающему страха, глядеть в море, пребывая в уверенности, что принесенное кораблем слово будет услышано».[18] Вскоре на горизонте начали появляться крейсера под предводительством «Пауэрфула» — все, кроме одного, и «Пауэрфул» желал знать, куда запропастился этот одиночка. Как оказалось, точка сбора, координаты которой нам передал «Пауэрфул», могла быть истолкована двояко. Все знали, в чем тут ошибка, и, за единственным исключением, все оказались в том месте, которое лидер на самом деле имел в виду. Но, разумеется, не нашлось ни единого корабля, который осмелился бы выразить упрек «Пауэрфулу», помимо его собрата — «Террибла». Тот вежливо просигналил в ответ на запрос лидера: «Полагаю, что искомый крейсер находится в точке сбора, о котором вы сообщили». На это «Пауэрфул» лаконично ответил: «Если сигнал вызывает сомнения, командиры судов обязаны ответить: «Не понято!» Тогда «Террибл» еще вежливее ответил: «Ваш сигнал понят», что в действительности означало: «Дружище, вы совершили ошибку и прекрасно это осознаете». Мы, мелкие корабли, только хихикали, наблюдая за беседой двух бронированных монстров. Ошибка, однако, еще долго тревожила совесть «Пауэрфула», поскольку позже вечером, когда мы уже направлялись домой, он разбудил нас и начал общаться с помощью проблескового огня с мачты, пространно рассуждая о том, что при очевидной неправильности сигналов кораблям следует поступать единообразно, и этот образ действий должен быть отображен в морском уставе.ЗАГРУЖЕННОСТЬ КАНАЛА ПОРАЗИТЕЛЬНА
Но это уже не имело никакого значения. Пропавший крейсер нашелся. И теперь он рвался вперед, дымя одной трубой и хлопая парусиной на корме, что придавало ему вид разгоряченного торопыги. А оказавшись в Канале, мы, крейсера, дружно отправились в Портленд, минуя Волф-Рок и островки Силли, а заодно поражаясь многочисленности судов в этих водах — навстречу попадались то джерсийский кэч с грузом картофеля, то хорошо оснащенное океанское торговое судно, приписанное к одному из портов Южной Африки, то норвежцы, то голландцы, то немцы, то французы. И это не считая белоснежных, сияющих латунью прогулочных яхт, норовивших вклиниться в промежутки между ними! Всего несколько минут мы держали строй. А потом кто-то заметил, что «Пауэрфул», уступая дорогу паруснику[19], загораживает своим могучим корпусом половину горизонта. И вот уже крейсер второго класса нарушает строй по правому борту — со всеми своими клотиками, скоростью, орудиями и броней, а тусклые огоньки рыболовного баркаса медленно проползают мимо. Затем пришла и наша очередь уступить путь. Таков был поход королевского флота. Не жмурки у мыса Лизард, не мрачная игра броненосцев в догонялки у острова Нидлс — но божественно ясная ночь и неспешный марш сюзерена морей.НАШЕ ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ
И все это принадлежало мне (так же, как и вам, читатели); все это было моим по праву рождения. Это мне принадлежали мощь и скорость судов — и не только здесь и сейчас, но и по всему миру; я владел сердцами, разумом и жизнями тренированных экипажей. Мир едва ли представлял себе пределы этой силы и мощи. И в эту минуту я держал на ладони эту силу, способную по единому приказу расширить границы моих владений, обратить далекие земли мне на пользу, добыть для меня сокровища и славу. Но меня (и несколько миллионов моих соотечественников и товарищей) удерживало от этого врожденное чувство чести, ведь мы были благородны, сдержанны и полны чувства собственного достоинства. И я стоял на палубе, поражаясь собственной умеренности, подсчитывая свои владения и самым греховным образом всем этим гордясь. Запахи, которые ветер приносил с суши, тоже принадлежали мне, а сам ветер рассказывал о том, в чем ни один из нас никогда не признался бы иностранцу. Не слишком широкий и довольно мелководный пролив Ла-Манш, он же Английский Канал, тоже принадлежал мне каждой своей соленой каплей на протяжении последних восьмисот лет — ровно столько времени требуется, чтобы вырастить идеальный газон вокруг кафедрального собора. И разговоры под палубой тоже принадлежали мне, поскольку вели их свободные люди, такие же, как я, а многие и значительно лучше меня. Их высказывания отражали и мое отношение к миру, а общие взгляды на вещи позволяли нам понимать друг друга даже без слов.ТО, ЧТО МЫ ПРИНИМАЕМ КАК ДОЛЖНОЕ
У нас есть общая традиция, тысячелетняя традиция: принимать некоторые вещи как данность. Уоррент-офицер[20] произнесет пару слов — и группы моряков бесшумно отправляются заниматься тем или иным делом. Тот же тембр, тот же голос звучит из уст людей того же типа в комиссариатах Бирмы, в казармах Рангуна, под двойными тентами в Персидском заливе, на Гибралтарской скале — да где угодно еще, и я знаю, что этому голосу немедленно подчиняются. Иностранцам этого не понять, они просто не в состоянии это понять! Я обошел корабль, чтобы лишний раз убедиться — мои права как налогоплательщика по форме D соблюдены. Я видел, как спят мои люди в моих гамаках, даже не прикрывая лиц от яркого света моего электричества, слышал, как мои кочегары подшучивают друг над другом у моих угольных бункеров; я прошел мимо моего петти-офицера[21], бормотавшего выдержки из закона о бунтах во внимательное ухо своего подчиненного. Покончив с этим, он обратился ко мне: — Надеюсь, вам понравилось путешествие, сэр! Видите ли (я уже знал, как он собирается продолжать), мы еще не вполне встряхнулись. Но в течение следующих трех месяцев мы как раз придем в форму. Ни один корабль не добьется выдающихся результатов, пока ты его не покинешь. Вот тогда он покажется сияющим образцом настоящего корабля, сущим идеалом по сравнению с тем, на который тебя направят. Уж такова Британия. Мой морской пехотинец — тот самый драчливый стрелок из южноамериканских фавел — стоял на посту в тени кормовой надстройки и выглядел чучелом, автоматически отдающим честь всем, кто проходит мимо. Но я-то теперь знал его с другой стороны. — Завтра на берег, верно, сэр? Ну, нас тут всего двадцать парней, но если вам когда-нибудь захочется увидеть очень много морской пехоты за раз, вам стоит, полагаю, обратиться к... — И он дал мне адрес одного местечка, где я смогу найти кучу морских пехотинцев. И говорил он так, словно девятнадцать его товарищей, находившихся на борту крейсера, ничего не стоили. По крайней мере, иностранец обязательно пришел бы к такому выводу.«УЮТНАЯ КОФЕМОЛКА»
Вся офицерская кают-компания наперебой пыталась объяснить мне, почему их «кофемолку» ни в коем случае не следует воспринимать в качестве образцового судна нашего военно-морского флота. Был ли крейсер хорош? О да, необычайно хорош. Мог ли служить образцом? О да, мог, и все же он не был ровней некоторым другим судам. Какой-то там крейсер третьего класса, всего лишь слегка подросший миноносец, крохотный и неважно защищенный! — Эх, бывали дела на моем предыдущем корабле! — начал было капитан. Сказано было неосторожно, поскольку я, в силу давнего знакомства, помнил этот последний корабль, и еще помнил, как в первую же ночь на его борту, на длинной зыби бухты Саймон, капитан призывал в свидетели небо, землю и Адмиралтейство, утверждая, что его машинное отделение — хлам, матросы — хитрые мерзавцы, и хуже этого экипажа он отродясь не видывал. Зато сейчас он рассказывал о своем корабле так, словно тот был вдвое больше броненосца «Маджестик» и вдвое быстроходнее крейсера «Пауэрфул». Мы, моряки, умеем ввести слушателя в заблуждение. — Приезжайте взглянуть на нас в следующем году, когда мы немного встряхнемся, — подвела итог кают-компания. — Тогда мы вам больше понравимся. Последнее было просто нереально, но приглашение я принял с удовольствием. Через несколько дней наш крейсер должен был отправиться для переоборудования на одну из верфей, и, насколько я смог понять, если он выйдет оттуда без списка улучшений и изменений длиной с грот-мачту, виновен в том будет кто угодно, но не капитан, не офицеры и гардемарины. Так бывает с каждым новым кораблем. Наши парни выводят его в море, проверяют, на что он способен, а попутно выясняются и недостатки. И если посредством замены или переделки лееров, переборок, трап-балок, паропроводов, мостика, шлюпочных блоков или трюмных люков корабль можно улучшить, работниками верфи это будет донесено до Адмиралтейства и письменно, и устно. Впрочем, капитаны редко получают больше половины желаемого, а потому их списки содержат примерно в три раза больше необходимого.НЕИСПРАВИМЫЕ И НАХАЛЬНЫЕ
В ответ на эти дерзкие требования верфь из века в век отвечает крайней подозрительностью. ее неформальный ответ на представляемые списки возможных усовершенствований звучал бы примерно так: «Все вы неисправимые и нахальные воры. Ступайте прочь». На это корабль, ссылаясь на необходимость своего благополучия и благосостояния вплоть до списания с флота, отвечает столь же неофициально: «Ах, это вы о каком-то другом судне. Там действительно сущее гнездо пиратов, но мы-то отличные парни. Мы — самый добросовестный корабль, который вы когда-либо видели, а вы — лучшая верфь в королевстве. Вы распоряжаетесь всем на свете, через вас проходят все наши заказы. И мы постараемся вас ничуть не побеспокоить. Просто отправьте нам все необходимое, а остальное мы сделаем сами». И вот заказ прибывает в сопровождении какого-нибудь мелкого чиновника, известного своей тупостью. Его заговаривают до смерти, обирают до нитки и отправляют на берег изучать на досуге данные в письменном виде гарантии. После чего старший лейтенант разгуливает по палубе с улыбкой Чеширского кота, а плотник, от которого осталось одно название, потому что он крайне редко имеет дело с деревом, механик по вооружению и старший механик машинного отделения сияют от радости. Станки в мастерской жужжат и урчат, зато чиновник получает на орехи, потому что большая часть его груза предназначалась другому кораблю, который всем этим крайне недоволен.УКРАДЕННАЯ КРАСКА
Чуть позже, но в тот же день, обманутый корабль отправляет к сообразительной пташке, перебежавшей ему дорогу, шлюпку и интересуется, не слышали ли там о неких дубовых блоках, новой решетке для трапа, корабельной латуни и нескольких бочонках белой краски. — Разве это ваши? — говорит старший лейтенант. — А мы-то думали, что наши. — Вы ошиблись. Они наши. Так где же все это? — Ужасно сожалею, но... А почему бы вам не подняться и не выпить с нами по стаканчику. Они поднимаются — как раз вовремя, чтобы обнаружить, латунные паропроводы уже смонтированными, дубовые блоки уже установленными на шлюпбалки, а решетку трапа уже обретшей свое законное место. А запах свежей краски, долетающий с носа, однозначно свидетельствует, что беспокоиться о местонахождении заветных бочонков больше не стоит. Тут-то старшего лейтенанта (вполне заслуженно!) называют пиратом, а он, невинный агнец, отвечает на это, что сбился с пути истины по вине тупого чиновника, сопровождавшего груз на борт. Нет, невозможно описать словами глубину раскаяния старшего лейтенанта. Но, в конце концов, вы же знаете, какие ослы работают там, на этой верфи! В ход идут мягкие увещевания, джин и настойки, и это срабатывает — гости возвращаются обратно в шлюпку. Ничего удивительного — старший лейтенант изучал дипломатический этикет при дворах царей Западной Африки. Затем они возвращаются на свой корабль — такими же молодыми и глупыми, но заметно повеселевшими и разгоряченными, хотя встреча их ждет довольно прохладная. Их капитан прямо заявляет, что на борту у него не осталось ни одного вменяемого человека, и советует всему экипажу проваливать в монастырь. Затем, спохватившись, он велит младшим офицерам прямо с утра отловить этого проклятого чиновника, а уж с капитаном пиратов он, так и быть, берется потолковать сам. Так и происходит: оба капитана братски встречаются на нейтральной территории, направляясь на шлюпках на обед к флагману. — Ты, чертов старый пират! Куда ты девал мою краску? — ревет ограбленный. — Я, сар? Нет, сар, это не я. Это мой брат Мануэль, сар! Краска кончилась, сар... Сапсем-сапсем кончилась, сар. Нету больша, — доносится из другой шлюпки. Старшины опускают головы, пряча улыбки. Таков один из обычаев нашего военно-морского флота (см. Примечание 1). Шустрая пташка приобретает репутацию, способную потопить угольную баржу, и тем не менее еще раз проделывает тот же трюк в Гонконге или Бомбее.СЧАСТЛИВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
В этом, и далеко не только в этом мои друзья признавались мне в те блаженные две недели, в течение которых мне посчастливилось наблюдать за их трудом. Я слышал, без всяких купюр, что юнга думает о полученном взыскании и о человеке, который на него донес; как плотник отзывается о «приятеле» с верфи, какие чувства сигнальщик питает к адмиралу, что говорит кочегар о командовании, которое платит ему сущие гроши. В темноте ночей я слышал на полубаке фрагменты греческой трагедии, и это были такие фрагменты, что до конца жизни я буду жалеть о невозможности поделиться ими с публикой. Помимо того, я прослушал всевозможные лекции на самые животрепещущие темы, приправленные морской солью, и совершенно неправдоподобные рассказы о беседах с вышестоящими, слегка отредактированные знакомым морским пехотинцем. Учебные пожарные, аварийные и боевые тревоги и прочие вещи в том же роде обретают совершенно новое значение, как только вам хоть однажды растолкуют, в чем тут суть. Точно также, если артиллерист, умеющий управляться со своими сложными механизмами, любовно объяснит вам принцип их действия, вы по-новому посмотрите на стрельбы, и это понимание останется с вами до конца ваших дней.МОРЯКИ ЖИВУТ КОРАБЛЯМИ
Когда в следующий раз вы увидите матроса на берегу, вы уже не будете глазеть на него просто так. Вы уже видели его в естественной среде. Вы знаете, что он ест, как изъясняется, где и как он спит. Он больше не безликая единица, а такой же человек, как и вы, только в чем-то, как я уже говорил, лучше. Военно-морской офицер в твидовом костюме где-нибудь, к примеру, у теннисных кортов ведет себя очень скромно и старается держаться в тени — как священник в мирской одежде. Но вы видели его у алтаря! Вместе с лейтенантом-штурманом вы стояли на мостике, вы знаете, как он читает звездное небо, какпользуется мореходными инструментами и дальномерами; старший лейтенант просветил вас, что на него возложены обязанности «старшей горничной» (см. Примечание 1а), младшие лейтенанты поведали вам кое-что о теории и практике ведения орудийного огня, о скорострельности пушек, о том, как становятся на якорь, как выбирают якорную цепь и что бывает, если она запутается. Поэтому, когда вы в следующий раз увидите, пусть даже издалека, один из крейсеров ее величества, ваше сердце рванется к нему. Что поделаешь — моряки живут кораблями.ГЛАВА 4
Годом позже, в конце сентября тысяча восемьсот девяносто восьмого, старшина капитанской шлюпки (см. Примечание 2) — как всегда, скрупулезный, собранный и безупречный — встретил возвращавшегося на борт гостя в Девонпорте[22]. На этот раз мой крейсер был не в составе флотилии, а направлялся по срочному и весьма конфиденциальному делу. За пару дней до этого сбившийся с курса угольщик отчего-то принял его нос за удобный насест и провел на нем пару минут в окрестностях Милфорд-Хэйвен, согнув на тринадцать дюймов к правому борту. Угольщик при первой же возможности отбуксировали к берегу, и адмирал сказал нам (я узнал об этом от старшины, когда ночью мы ехали в Норс-Корнер по улицам заполненного синими кителями Девонпорта): «Вы можете завернуть в Плимут с таким состоянием носа?» — «Господи, конечно же!» — ответили мы другими словами, но с тем же смыслом. «Очень хорошо, — ответил адмирал. — Вот и валяйте» И мы отправились со средней скоростью в шестнадцать узлов при встречном волнении, с задранным защитным настилом на носу («Мы его использовали, когда швартовались к «Трешеру», сэр»), и даже несколько часов гнали на восемнадцати, чтобы посмотреть, как среагирует на подобное переборка. Плотник и его напарник («Да, те же, что и в прошлом году, сэр») сидели и наблюдали за ее поведением, но ничего не случилось. А затем мы получили приказ возвращаться и присоединиться к флоту у Бантри.ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Стоило подняться на борт, и прошедшие двенадцать месяцев можно было скатать в трубку, как уже не нужную карту. «Уютная кофемолка» приняла меня как брата, а удача улыбнулась мне еще и в том, что все остались на своих местах, те же лица встречали меня в маленькой кают-компании, и мы немедленно принялись болтать, как соскучившиеся друг без друга дети. Видел ли я новые трапы на носу и корме, те самые, что нам удалось выцарапать у верфи? Лучшие механизмы — новые механизмы. Кроме того, мы немного поработали над дополнительной палубой под носовым мостиком, и теперь у сигнальщика есть где стоять (насколько я помнил, в прошлом году это было проблемой). И слышал ли я о новом угольном рекорде для крейсера третьего класса? Почти пятьдесят тонн в час, что в четыре раза больше, чем у эсминца! Слышал ли я о ветерке, что дул в порту Фуншала[23]; о негласных маневрах близ Менорки[24], о том, что старший лейтенант добыл краску, о недавних учебных стрельбах, на которых мишени разнесли вдребезги, об инфлюэнце, поразившей нашу паровую систему, и еще сотню других, не менее важных новостей? Годовой отчет Флота Канала невозможно уложить в два часа, но меня посвятили в большую часть свершений, прежде чем я рухнул на привычную койку в тот радостный вечер. Выходили мы в полдень следующего дня, никакие сигналы нас не ограничивали. Одно дело — отчаливать из Плимута на лайнере, и совсем другое — выбираться на крейсере из Девонпорта, лавируя между буями и учтиво уступая дорогу парусной регате, а затем маневрировать между грязно-коричневыми парусами местного рыболовного флота. Погода была божественная — штиль, безоблачное небо, спокойное море, — и мостик пришел к единогласному выводу, что лучшего дня для выхода в море и желать невозможно.НАШИ БЛАГОРОДИЯ
Берег Корнуолла проскользил мимо нас огромными серо-голубыми тенями за полосой морской синевы, тут и там вскипающей парусами. Однако мой взгляд был прикован исключительно к палубе и нашим благородиям, присутствующим на ней. С прошлого года на борту появилось немалое количество мелких новшеств. Корабль действительно «встряхнулся» и пришел в норму, как бывает с новым домом, как только владелец окончательно решит, как расставить мебель. Старший лейтенант, как обычно, объяснил мне, что крейсеру еще далеко до идеальной чистоты, что двадцать тонн угля из необходимых четырехсот только недавно погрузили, вся палуба была покрыта пылью, и привести ее в порядок меньше чем за две недели не представляется возможным. — Нам предписали жечь уэльский уголь № 2. А это не уголь — придорожный мусор и пыль. Все дело в забастовке в Уэльсе. Видите эту сажу? Мы недавно точно такой же закоптили весь флот и всю Гибралтарскую скалу. Чем не свинарник? С точки зрения любого сухопутного человека корабль был просто возмутительно чист, но любого старшего лейтенанта впечатлить гораздо сложнее. Наш, например, использовал задержку в Девонпорте, чтобы как следует вычистить крейсер снаружи; а сухая погода в Бантри позволила обстоятельно выкрасить судно внутри. Борт он покидал лишь ненадолго, и только ради того, чтобы обойти крейсер на шлюпке и осмотреть его как следует с разных сторон. И только после этого успокоился — почти на целую половину дня.ОЖИВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС К УЧЕБНЫМ СТРЕЛЬБАМ
Напротив Фалмута мы решили, что в море достаточно свободного места, чтобы попрактиковаться в стрельбе, и начали работать с расстояния две тысячи шестьсот ярдов по маленькой треугольной холщовой мишени — довольно сильно поврежденной предыдущими стрельбами. В этом году трехфунтовые орудия использовали снаряды с черным порохом, и мы, стоя под ветром, окутались пороховым дымом. Но, несмотря на это, все снаряды легли в крохотную цель. Один осколочный взорвался прямо над мишенью, и море словно приперчили с небес мелко рубленным железом. Выглядело это как если бы Божья рука с кружевной манжетой высунулась из облаков (такие часто рисовали в старинных голландских книгах) и высыпали пригоршню камешков в пруд. Чем больше видишь стрельб из крупнокалиберных орудий, тем меньше они тебе нравятся; однако большая яхта из Королевской яхтенной эскадры явно считала иначе — поэтому и поспешила к нам на всех парусах с любопытством мальчишки, увидевшего фейерверк за оградой соседей. — Похоже, они там сочли нашу мишень брошенным грузом, — послышалось с мостика. — И пытаются его спасти. Примерно через минуту эта посудина окажется на линии огня. — Нет, не окажется. «Максим» правого борта на цель, дистанция тринадцать сотен ярдов. Маленький демон зачастил своей отвратительной скороговоркой, столь не похожей на рев и уханье более крупных орудий, и буквально вспенил мишень, как коктейль в шейкере. Тут-то наша новая аристократическая знакомая развернулась и с поразительной скоростью удалилась в наветренную сторону. Позже я наслушался разных занимательных историй о том, как экскурсионные пароходы, капитанам которых удавалось разнюхать, что где-то проводятся учебные стрельбы, умудрялись встать на якорь между военным кораблем и мишенями, потому что пассажиры платили по шиллингу с носа за то, чтобы полюбоваться на веселье. — Правда, им и в голову не приходило, — продолжал мой информатор, — что, если кто-нибудь пострадает, именно меня одновременно повесят, утопят и четвертуют. Один из них встал на якорь как раз за островом, где были установлены макеты береговой батареи противника, — экспериментальные стрельбы из всех шестидюймовок, а вдобавок и всеми «максимами». И слышали бы вы, как он возмущался, когда мы велели ему убираться!..* * *
Из мощных атлантических береговых волн — густо-синих, словно сапфир, — устремлялся ввысь двузубый пик крохотного островка Фастнет-Рок. Мы шли достаточно близко, чтобы рассмотреть сланцевые обрывы, основание башни маяка, установленного на скале, и сам маяк. Брызги волн, разбивавшихся у подножья скалы, взмывали на тридцать футов. Таков Фастнет при хорошей погоде, и увидеть его таким удается не чаще, чем полисмена во фраке. Об этой скале — ее считают самой южной точкой Ирландии — моряки вспоминают только тогда, когда приходится в шторм искать путеводный проблеск ее маяка.БОЛЬШИЕ АТЛАНТИЧЕСКИЕ ВАЛЫ
Ирландское побережье без устали принимает на себя могучие удары больших атлантических валов. Они спотыкаются и теряют высоту на отмелях, недовольно вскидывают белые брови, а затем теряют самообладание, превращаясь в длинные пенные волны. — Это Берехейвен, — прозвучало с мостика, вахтенный указал на едва различимый проем в изрезанной береговой линии. — Там мы встретимся с флотом. Вы не читали «Двух властителей Дунбоя»? Через пару минут откроется замок Дунбой, он тут буквально за углом. — Девять с половиной! — пропел лотовый, вполголоса обругав длинный шток якоря, торчавший на манер кошачьих усов как раз у него под рукой. Мы оказались между двух скалистых пляжей, измочаленных всеми штормами Атлантики: черные глыбы гранита поросли золотарником, а в тех местах, где длинные валы теряли свою мощь, в берилловых бухточках кипели водовороты. За пляжами виднелась зеленая равнина, покрытая заплатками полей, испещренная белыми коттеджами, а за ней — пустынные пурпурные холмы. — А! «Эррогант» уже точно здесь. Видите его дым?СИЛЬНЕЙШИЙ ФЛОТ МИРА
Чудовищный плюмаж тяжелого черного дыма вздымался в небо. Мы обошли бухту и очутились совсем рядом с флотом. Нас поджидали восемь броненосцев, на неискушенный взгляд совершенно неотличимых друг от друга, а рядом — четыре больших крейсера. На тот момент они не маневрировали и не патрулировали — просто тренировались в своих многочисленных умениях и талантах. Морская пехота высыпала на корму, и мы сигналом горна и всеми подобающими ритуалами приветствовали флот, проходя мимо крейсеров и ожидая приказа адмирала, который позволил бы нам встать на якорь. — Он приказывает нам самим выбрать место где-нибудь под его крылом, — крикнул офицер собравшимся на полубаке, в то время как старшина-сигнальщик с ястребиным носом не сводил глаз с нашего флагмана. — А разве не где-то здесь лежит небольшая мель? — произнес чей-то спокойный голос. Штурман подвел нас к мели, чтобы не особенно возиться с якорными цепями, но тут выяснилось, что от наших швартовых механизмов мало проку. — Мы говорили им про наши якоря еще на верфи, — заметил вахтенный. — Говорили предельно ясно, а нам отвечали: «Весьма благодарны за предоставленную информацию, мы внесем рекомендованные вами изменения при постройке следующего корабля вашего класса». Вот это, я понимаю, расторопность! — А тот корабль всегда ведет себя подобным образом? — спросил я. Из трех труб высокого и куцего крейсера в чистое небо поднимались такие клубы, которые могли посрамить любую манчестерскую фабрику. — О нет, просто им выдали такой же дрянной уголь, как и нам. Это наш дружок — крейсер нового поколения, такой же, как и «Фьюриос». Их еще называют таранными крейсерами. Как по мне, так они больше похожи на дикобразов. Вид у обоих судов был яростный и ощетиненный, что странно не сочеталось с обычной внешней сдержанностью боевых судов. Бронепалубный «Блейк», длинный и низкий, казался рядом с ними чересчур вежливым и скромным, но я был уверен, что именно он вышел бы победителем из схватки, если б они в нее вступили. Но их капитаны, конечно же, считали иначе.НА ПОБЕРЕЖЬЕ ИРЛАНДИИ
Вся Ирландия была мне в новинку, и я отправился на берег — познакомиться с белыми домиками на улицах Каслтауна, подышать торфяным дымом и отыскать Дэна Мерфи, владельца двухколесного кабриолета и давнего друга нашей офицерской кают-компании. Мы с штурманом опросили едва ли не половину мужского населения округа Корк — остальными занимался О'Салливан, — но сумели наконец отыскать Дэна: старого, ворчливого, с яростным взглядом и неистощимым красноречием. Словом, истинного кельта. — Встречу ли я вас завтра в Мил-Ков в половине десятого? Встречу. Вот вам моя рука и мое слово. Серьезно ли я? А не я ли уже многие годы знаю весь флот, от адмирала до юнги? В указанный час он появился в компании костлявой лошаденки и куканов с форелью, добытой «другими джентльменами» в озере Гленберг, куда мы желали сегодня попасть, проехав четырнадцать миль по холмам. Был безоблачный день с резким ветром — скорее, подходящий не для ловли форели, а для того, чтобы наслаждаться жизнью. Поскольку общий возраст двух моих спутников-офицеров не достигал и сорока пяти лет, мы выглядели вполне респектабельно, пока не покинули Каслтаун. А потом мы пели, дурачились, высовывались из экипажа под самыми невозможными углами, клялись в вечной верности босоногим барышням, встречавшимся на нашем пути и остававшимся позади прежде, чем могли бы ответить взаимностью. Словом, вели мы себя ничуть не лучше и не хуже любых младших офицеров, вырвавшихся на свободу. А вокруг простирались сине-серые холмы, ярко-зеленые поля, ограды из дикого камня, черные торфяные болота, испещренные островками вереска и утесника между пивного цвета трясинами. Отличный остров — его многочисленные бухты глубоко вдавались в сушу, связывая весь запад Ирландии с Атлантикой, и не требовалось особого воображения, чтобы понять, какую страну будут вечно искать ее дети, изгнанные из своего рая, — страну маленьких домов и чудесных зеленых тропинок, где никто не будет трудиться до изнурения и больше необходимого.[25]ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОЛНЦА И ВЕТРА
И наконец мы добрались до чернильно-черного озера, со всех сторон окруженного скалистыми холмами, — безлюдного, таинственного, покрытого мелкими злыми волнами, накатывающими на берега с поразительным шумом. Рыбалка не увенчалась особым успехом, в особенности после того, как младший лейтенант попытался рухнуть в воду; но чистая физиологическая радость этого чудесного дня, полного солнца и ветра, навеки запечатлелась в нашей памяти. Все вокруг принадлежало только нам — испещренный трещинами бок скалы Лакави, вид на длинное озеро, растворяющееся в наступающих сумерках, запахи новой страны, пронизывающий ветер, доносящий откуда-то таинственные голоса. Никто не умеет так легко признавать неудачи, как ирландцы. Мы ушли с десятком мелких рыбешек, но, по меткому выражению мистера Корнелиуса Кроули, чувствовали себя так, словно выудили дюжину десятифунтовых рыбин.ГЛАВА 5
Вернувшись домой, продутые насквозь чистейшим воздухом, усталые от долгой поездки и беспричинного смеха, мы отправились обедать с двумя капитанами крейсеров на борт одного из «морских таранов». Все трое командиров сдружились еще во времена учебы на «Британии»[26] (единообразие в обучении и обеспечивает военно-морскому флоту столь прочную солидарность), и я зачарованно слушал, как одно воспоминание перетекает в другое, как нити рассказов образуют странный узор, а судьбы китайских мандаринов, чернокожих западноафриканских вождей, греческих архимандритов, турецких пашей, калабрийских графов, чилийских авантюристов и прочих странных представителей рода человеческого невообразимо переплетаются между собой. — Но одинокая жизнь — это одинокая жизнь, — внезапно заявил один из собравшихся за столом. — Я командую кораблями с восьмидесятых годов и... в общем, сами видите. Как мы могли не видеть? Между кормовой каютой — прибежищем капитана — и остальным миром (за крайне редкими исключениями) пролегает глубокий и широкий пролив, преодолеть который могут только вахтенные, сигнальщики и те из подчиненных, кто является с докладом. Осторожный стук, легкий шаг, изъявление почтения и — «доклад окончен, сэр»». Затем тишина, и одиночество снова воцаряется за белой переборкой и красными шторами. Герман Мелвил превосходно описал все это в «Белом бушлате», но никакая проза не сравнится с тем, что видишь своими глазами. Порой разговоры становились серьезными, выдубленные штормами лица хмурились, начиналось обсуждение того, как корабли будут «работать в строю». Каждый излагал свое мнение, перемежая его беззлобными насмешками над легче вооруженным или хуже бронированным соседом, но общий вывод (который я не стану здесь приводить) почти всегда был единогласным. В руках этих капитанов была сосредоточена поистине грозная сила, и никто, кроме адмирала, командовавшего флотом, не мог указывать им, как заниматься своим делом. Они совершенствовали свои корабли, создавали и разрушали карьеры людей. И тем не менее именно здесь, в военно-морском флоте, вы можете услышать самые свободные и нелицеприятные характеристики королевской службы, самые гневные и язвительные отзывы о вышестоящих и самые комические рассказы о делах, которые где угодно вне флота считались бы подвигами.СЛУЖБА ЮМОРИСТОВ
Здесь все настолько серьезно и важно, что это просто невозможно воспринимать с мрачной серьезностью. Каждый род войск просто вынужден быть юмористом и сатириком несмотря ни на что; и к тому времени, когда офицеры флота становятся капитанами, чувство юмора впитывается в плоть и кровь даже самых тяжеловесных и неподатливых. Капитан отлично помнит, какую песню курсанты сочинили о своем лейтенанте, каких взглядов придерживался он сам, будучи лейтенантом, и что, уже будучи командиром той или иной службы, он думал о своем капитане. Если же он об этом забудет, ошалев от одиночества или угорев от приступа лихорадки, то храни господь его судно, когда оно вернется на базу с кипой материалов для военного суда и наполовину обезумевшим экипажем. Взять хотя бы методы морской атаки. Даже сидя на койке в окружении семейных фотографий, с жестяной ванной за занавеской и запасом тростей для прогулок по берегу, закрепленных в специальных зажимах, порой можно услышать весьма любопытные разговоры флотского молодняка. Они искренне обеспокоены перспективой вероятной войны, поскольку именно им доверено мощное оружие, и о войне они рассуждают небрежно, хоть и довольно часто. Мы (я выражаю мнение всего нашего крейсера) искренне верим, что крейсеру надлежит стрелять много и часто (см. Примечание 3). Но то, что следует за этим утверждением, как правило, оказывается полной чепухой — всего лишь досужей болтовней между двумя затяжками, но подоплека таких разговоров все же не лишена интереса. — Лучше всего, — заявляет некий авторитет двадцати одного года от роду, — спрятаться в боевой рубке. Там ты получаешь контузию и теряешь сознание, а когда приходишь в себя, все остальные уже убиты. Бросаешься мстить за товарищей, как пишут в газетах, и выходишь из боя единственным победителем. Очнешься через месяц в госпитале, твоя девушка вытрет тебе пот со лба и расскажет, как ты в одиночку уничтожил подчистую весь вражеский флот. — Торчать в боевой рубке! Еще чего! — возражает ему некто лет двадцати трех. — Эти ваши носовые орудия никуда не годятся, а верхний мостик рухнет на голову через пару-тройку минут. — Не вижу, чем у вас, на середине, лучше. Над вашими головами трубы, вентиляторы и прочие палубные устройства, — слышится в ответ, — и даже без шлюпок у нас слишком много дерева. — Как по мне, корма вовсе не плоха, — подает голос двадцатичетырехлетний, чье место, согласно боевому расписанию, именно на корме. — Светло, просторно и с боеприпасами управляться удобней, чем у вас на носу. — И что толку? — отвечает тот, кто командует носовыми орудиями. — У вас под ногами уйма снарядов. Вспомните «Уайтхед», который лишился носа от попадания всего одной торпеды. Вы просто взлетите на воздух. — Как и вы. Середину мигом снесет в сторону. Если б они убрали оттуда торпедные аппараты, мы могли бы поставить еще несколько четырехдюймовок. Представь, какие горы зарядов к ним можно разместить в торпедном погребе!ПУШКИ И ТОРПЕДЫ
Нас благословили двумя палубными торпедными аппаратами, которые весили около десяти тонн и превратились для нас в сущее наказание господне. Тот класс судов, к которому мы принадлежали, был, так сказать, «компромиссным», и проектировщики щедро оснастили его всем понемногу. Но общественное мнение (если не считать главного артиллериста) единогласно осуждало эти опасные и вредные механизмы. — Для таких крейсеров, как наш, бесполезны любые торпеды, кроме подводных. Еще пара четырехдюймовок принесла бы куда больше пользы. Торпеды для нас — все равно что ружья для охоты на уток. Вы видели тот последний снаряд, который разорвался над целью? Я сам его наводил, — двадцатитрехлетний лейтенант обвел взглядом присутствующих в ожидании аплодисментов, но его тут же высмеяли. — Просто повезло, — отмахнулся двадцатиоднолетний. — А мой разорвался сразу за целью. При прямом попадании это был бы конец. Снаряд влетел бы точно в люк машинного отделения — и конец всем вражеским машинам. — Сам Мэхэн[27] утверждает, что бортовые орудия лучше всего подходят нашим низко сидящим судам, потому что большая часть выстрелов ошибочна по высоте. И конечно, когда разворачиваешься бортом к противнику, снаряд тебя не зацепит и не станет прыгать по палубе, как бывает при лобовом попадании. — О, я как раз хотел сказать, что мой выстрел был бы лобовым, это само собой разумеется... — поспешно заявляет «двадцать один год», опасаясь, что его перебьют.«УПРАВЛЕНИЕ» ВО ВРЕМЯ ШТОРМА
— Не-ет, — медитативно тянут «двадцать четыре года». — Что нам действительно необходимо, если когда-нибудь начнется Настоящее Дело, так это плохая погода. Чем хуже, тем лучше. Старые добрые шторма — обычные и привычные. Вот тогда мы и сможем пойти на таран там, где нас никто не ожидает. Лично я верю в тараны. (Эта вера, к слову, поразительно распространена на флоте). — Ты хочешь сказать, что стал бы таранить чайный поднос вроде нашего? Что ж, я рад, что ты не наш шкипер, — вмешался я. — О, этот пошел бы на таран при первой возможности. Но, конечно, не стал бы таранить кого-то нашего размера — такое судно дешевле и проще расстрелять, но вот, к примеру... (он назвал корабль, который не ходит под нашим флагом). Если таранить его куда угодно, он станет беспомощным, как перевернутая на спину черепаха. А стоит он миллион с четвертью. Вопрос только в деньгах. — И что, по вашему, произойдет потом? — О, в этом наша сильная сторона! Что произошло, когда тот проклятый угольщик вынесло течением на нас около Милфорда? Нам потребовалось всего лишь поднять давление пара, верно? У нас в носу настоящие соты из переборок и помещений. Можно срезать до двенадцати футов нашего носа, и мы все равно не потонем, — с энтузиазмом заключил эксперт. — Но это слишком рискованно, — пожал плечами «двадцать один год». — Корабль, о котором ты упомянул, бронирован сверху, хотя у него и довольно слабое подбрюшье. Если ударить его парой снарядов под спонсоны, то, скорей всего, он тут же пойдет на дно под тяжестью собственных орудий. Но для этого тебе понадобится девятидюймовка. — Таранить, только таранить! Подстеречь его, когда в шторм он выйдет из гавани, а его экипаж на неделю свалится от морской болезни! — Неплохо бы. Вот только он никогда не выходит из гавани. Поскольку там не считают, что мы живем в прошлом. А если уж и они не считают, то и мы не должны оглядываться назад. Наше дело разведка — днем бункероваться топливом, ночью идти полным ходом. Но все равно стоило бы убрать с палубы эти идиотские торпедные трубы. — А я хотел бы практиковаться в стрельбе каждую неделю, — вмешивается еще один. — И с нормой учебных боеприпасов раза в четыре больше нынешней. Я бы поизносил наши стволы, но дело того стоит... Так и тянулись разговоры, не особенно меняясь от корабля к кораблю. Некоторые всей душой ратовали за торпеды, но мы, будучи крейсером, благоволили к артиллерии, и только лейтенант, назначенный старшим торпедистом, бился за них всякий раз, как спускался в кают-компанию. — Превосходное оружие! — восклицал он, когда серебристый дьявол вылетал из трубы и уносился вдаль. — А я... просто криворукий... Торпеда отклонялась влево и отравляла воздух запахом чеснока. Светящийся патрон Холмса выдавал ее еще за пятьдесят ярдов от цели. — Ну, что я тебе говорил? — вопрошал кто-то вполголоса. — Да мы бы уже раз десять могли бы выстрелить из четырехдюймовки, пока ты колдовал над своим кривым бумерангом! — Если ты будешь насмехаться над торпедами, рано или поздно тебя повесят! — Я бы не насмехался, будь они подводными. А с нашими палубными ни в жизнь не угадать, как они себя поведут. Эти штуки слишком зарываются при падении. Наводчик горевал недолго: прихватив тросы, кошки, запалы и несколько пироксилиновых шашек, он удалялся в составе десятка шлюпок с других кораблей в устье залива — практиковаться в тралении и уничтожении поставленных «противником» мин. Этот процесс не стоит описывать на наших страницах, как нет необходимости сообщать публике координаты заминированных участков и время, которое требуется для разминирования. В итоге несколько рыбьих косяков получали сотрясение мозга. — Отличный вышел спектакль! — объявлял он по возвращении. — Славно позабавились. Вы видели наш дым? Лично я видел, как один из мысов на выходе из залива Бантри снесли чуть ли не до основания, но вникать в подробности не стал.ВОЕННЫЕ ЛЮДИ И КОРАБЛИ
На флоте многое может впечатлить и многое способно ужаснуть. Но наиболее впечатляющим зрелищем я бы назвал молниеносную подготовку к высадке морской пехоты. По одной-единственной команде наш легкий крейсер вскипает, словно муравейник. Повсюду звучит слитный топот босых ног по металлу, приглушенный лязг орудия, которое разбирается из стоек, скрипят блоки и тали, открываются и закрываются стальные двери. Внезапно палубы пустеют: «Максимы» исчезают из гнезд в бортах, десантные катера уже в пути — набирают скорость, двигаясь по направлению к флагману. Затем они собираются вокруг него, осматриваются и возвращаются. И это не просто суденышки с сидящими в них людьми. Эти катера полностью оснащены: на больших установлены палубные пушки, на тех, что поменьше, — пулеметы с солидным запасом патронов и сменных стволов, здесь же медицинские и матросские сундучки и сотни всевозможных вещей, необходимых для автономных боевых действий. Эти катера можно сразу же использовать для патрулирования побережья или для высадки десанта, их ничто не привязывает к большим судам. Каждая боевая единица. укомплектована и самодостаточна. Десять минут спустя они уже возвращаются. «Максимы» занимают прежние места, винтовки отправляются в оружейные комнаты, провизия и вода — в трюм. Обычная рутина учений заканчивается.ДЕСАНТНЫЕ ГРУППЫ
Следующим (см. Примечание 4) поступает приказ подготовить, перевезти, высадить на сушу со всей амуницией и вооружением три тысячи членов экипажей с двадцатью одной полевой пушкой, и все это в течение трех часов. Шесть тысяч человек остаются на кораблях для артиллерийского прикрытия десанта в случае необходимости. Иногда программа меняется: к высадке готовится всего тысяча. Они грузятся в восемь совершенно одинаковых паровых баркасов, способных развивать до пятнадцати узлов. Такой баркас есть на каждом крупном корабле. А дальше — маневры по желанию командования. Синхронные перемещения отработаны командами баркасов не хуже, чем их большими «родителями». Каждый из них может буксировать полдюжины катеров и не терять ход, даже приняв на борт четыре фута воды. В качестве развлечения можно выгрузить на берег двадцать одну полевую пушку и доставить к подножиям холмов. Или устроить пехотинцам маленький ад — выдвинуть орудия и тут же вернуть назад. Наблюдать за высадкой и возвращением десантных групп никогда не надоедает: стремительный полет суденышек, мгновенное развертывание на пляжах, поток синего и красного[28], выплескивающийся через борта. затем смешанные сине-красные вереницы устремляются вглубь суши, петляя между зарослями вереска, прибрежными валунами и дюнами. Длительная практика идеально скрывает настоящее искусство. Все это происходит без всякой помпы, отнюдь не живописно, почти беззвучно и вызывает на судах не больше комментариев, чем легкое усиление ветра или волнения. И только тогда, когда вы прочитаете некоторые книги, описывающие подобные операции, узнаете имя, звание и должностные обязанности каждого моряка на борту, ознакомитесь с инструкциями по выходу из нештатных ситуаций — вы сумеете понять, как вертятся шестеренки, приводящие к такому с виду упорядоченному и непринужденному результату.ВЫШЕСТОЯЩИЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Можно сколько угодно препятствовать работе этого часового механизма, но уцелевшие зубчатки и шестеренки продолжат выполнять свою задачу и доведут дело до конца. И я совершенно уверен, что если по какой-то случайности на флоте вдруг исчезнут все до единого кадровые офицеры, уорент- и петти-офицеры заменят их, причем с не меньшей изобретательностью и эффективностью. Общество склонно считать всех, на чьем рукаве нет золотого шеврона, обычными матросами. Но те, у кого за плечами двадцать пять лет морского опыта — хладнокровные, уверенные, рассудительные, как и положено уорент-офицерам, — куда лучше тех, которых вы порой встречаете на берегу во время увольнений. Их слово — действительно закон. Они знают своих людей даже лучше офицеров, если подобное только возможно, и в критических ситуациях могут выжать из своих подчиненных максимум. Только послушайте, как такой моряк читает проповедь юнцу, который еще не успел осознать, что флот — его мать, отец и единственная тетушка; пройдите под его началом на катере, прислушайтесь к нему в мастерской, в носовых помещениях, в часы между учебными стрельбами или на рострах, когда он инвентаризирует шлюпки. И вы поймете, что он действительно высоко стоящий во флотской иерархии и ответственный человек. — Да, думаю, все это недурно, — заметил один из них, когда я зааплодировал, восхищаясь маневром, который он не удостоил даже взглядом. — Но представьте, чего мы могли бы достичь, если бы эта команда притерлась и сработалась еще три года назад! Сейчас мы, в своем роде, учебная команда. А как только вернемся в Плимут, у нас отнимут сотню лучших людей и отправят их на Средиземноморье, а нам придется опять набирать столько новичков! Средиземноморская эскадра умыкает самых лучших и самых тренированных, но уних нет наших возможностей для продолжения тренировок. — Зато их получают те, кого вы набираете здесь, верно? — Да, но только тогда есть шанс отшлифовать как следует работу команды, когда она остается с тобой на все время службы. — «P. Q. 2»! — внезапно прервал наш разговор сигнальщик. Этот общеизвестный на флоте код означает: «Грузитесь в лодки так быстро, как сможете, и отходите от судна». Не прошло и секунды, а матросы уже прыгали на бортовые сети, а уже с них дельфинами сыпались за борт. — Вот вам и демонстрация! — фыркнул уоррент-офицер. — Вы только взгляните, как этот молодчик ползет на свое судно! (Мне-то казалось, что тот буквально летит). Наша первая шлюпка должна отойти через пятнадцать секунд, а прошло не менее тридцати, прежде чем последний матрос забрался в нее. А вот экипаж «Эрроганта»... При этих словах его лицо потемнело. Возможно ли, что этот курносый и горбатый крейсер умудрился?.. — Спокойно, мы заметно их опережаем, — вмешался лейтенант. — Хм! А должны опережать безусловно, — возразил уоррент-офицер. — Их люди едва не обскакали нас. Мы, конечно, любим «Эррогант», но не позволим ему победить там, где победа должна достаться нам!ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ СТОИТ РАССКАЗАТЬ
В следующий раз нам повезло меньше. А история, которую стоит здесь рассказать, показывает, как каждый офицер зависит от своих подчиненных и насколько флот не приемлет оправданий. На досуге и, главным образом, по ночам, адмирал, чтобы не чувствовать себя уж совсем одиноко, иной раз созывает по одной шлюпке с каждого корабля к своему трапу. При этом используется кодовый сигнал «T. V. K.», буквально означающий: «По катеру к флагману с каждого борта; крейсерам третьего класса отправить вельботы». Наш старший лейтенант, которому непросто урвать часок для сна, по опыту знал, что такое вполне может случиться, и по его распоряжению команда вельбота обычно спала в одном углу кубрика — так, чтобы по первому приказу сорваться с места, словно стадо, на которое напала туча оводов. Но в команде катера втрое больше людей, и в тесных помещениях крейсера их непросто разместить рядом. Добавьте к этому ретивого сигнальщика и слова «По катеру к флагману с каждого борта». В спешке сигнальщик пропускает часть сигнала с уточнением о вельботах, и больше того — не докладывает вахтенному офицеру, что это был код «T. V. K.», что мгновенно прояснило бы ситуацию. После того, как людей выдергивают из гамаков по всему кораблю, и тяжелый катер отваливает, флагман изъявляет желание выяснить, отчего это мы на несколько минут отстает от норматива. Для крейсера, гордящегося точностью и выучкой экипажа, это унизительная взбучка, на которую нечего ответить. Остается кусать локти и бешено ругаться. Мы могли бы оправдаться тем, что неверно истолковали сигнал, но в нашем случае это ничему бы не помогло. Поэтому мы промолчали, а на следующее утро казнили сигнальщика. Его непосредственный начальник, старшина с ястребиным носом, связал его и швырнул к ногам палача, заявив: «Он должен был знать, сэр, он должен был знать, что делал». Затем несчастного ошпарили кипятком, соскоблили щетину, освежевали, разделали и разжаловали. По завершении этих процедур он отправился на полубак и выслушал все, что о нем думает нижняя палуба, посетил капитанский мостик, где некоторое время болтался на нок-рее, и уж это окончательно и бесповоротно отучило его ошибаться. Команда вельбота (см. Примечание 4) услышала эту историю только на следующее утро, когда вернулась под парусом и без офицера на корме. Все это, конечно, крайне досадно, но, надеюсь, теперь вы убедились, с какой легкостью можно угодить в выгребную яму?ГЛАВА 6
Вечером следующего дня я был приглашен отобедать на флагмане. Но дух военно-морской солидарности настолько заразителен, что туда я отправился в наихудшем из возможных расположении духа. Надо сказать, что адмирала при исполнении обязанностей трудно воспринимать как обычного человека. В его власти заставить вас вручную выбирать якорь, если вдруг ему покажется, что вы недостаточно усердны; он может приказать прервать бункеровку углем и затребовать матросов и катера к флагману; он может заставить вас заниматься одним и тем же делом — до тошноты и головокружения, и он же может возвысить вас до небес одним-единственным сигналом: «Отличная работа, такой-то, похвальное исполнение». Появляясь на горизонте, адмирал полностью заслоняет его собой. Отделенный от вас шестью милями морской зыби, он может внезапно ощутить желание поговорить с вами, и если ваш лучший сигнальщик не поднесет вовремя свой лучший бинокль к самому зоркому глазу, и адмирал будет вынужден повторить сообщение, вам придется выслушать его с гораздо более короткой дистанции.ИЗОЛЯЦИЯ АДМИРАЛА
Одиночество капитана — это шумное общество по сравнению с тотальной изоляцией адмирала. Он поднимается на кормовой мостик, и ему подчиняются десять миллионов фунтов стерлингов, воплощенных в железе и стали. Никто не может остановить адмирала или попытаться ему возразить. Редко кто осмелится даже подумать об этом. Никто не воспринимает священника как самого святого Петра; но никто не может смотреть на адмирала, не проводя соответствующей аналогии с апостолом Моря. Такой властью были облечены и Нельсон[29], и остальные наши навархи[30]. И адмирал, командующий Флотом Канала, к которому я направлялся, также был человеком из плоти и крови, того же ранга, той же породы и той же степени ответственности. Сейчас у нас мир. Но что, если завтра война? Что он будет делать? Как станет мыслить и действовать? Что он думает об этом сейчас? Так или иначе, но он поднимется на мостик вместе со своим флаг-офицером[31], и его корабли будут готовы к бою. А потом?..То был странный обед для одного-единственного гостя — с букетами в хрустале и негромкими разговорами, с оркестром, игравшим на палубе, с огнями флота, подмигивавшими по всей гавани. Присутствовали флаг-капитан — командир флагманского линкора, командиры и лейтенанты других кораблей, все было вежливо и изысканно, но между мной и столовым прибором то и дело вставало видение прошлогодних учений — броненосец в полной боевой готовности, голый и мрачный, как матрос, плывущий с зажатым в зубах ножом, — мокрый от дождя стальной корпус, глухо гудящий под ударами волн.
ОБЕД В КАЮТ-КОМПАНИИ МЛАДШИХ ОФИЦЕРОВ
— Ну вот, теперь, когда вы там причастились, сказал мне «двадцать один год», пришла для вас пора пообедать и в кают-компании младших офицеров. Я покажу вам самую вышколенную кают-компанию флота. Вернее, мы вам покажем. Поскольку на нашем крейсере имелась лишь общая кают-компания, мы — «двадцать один год» и я — отправились на огромный линкор, в точности такой, как у адмирала. Но на этот раз капитаны, начальники служб и лейтенанты остались невидимыми, и если появлялись, то лишь где-то в отдалении. Нам пришлось иметь дело с теми, чей ранг был не выше младшего лейтенанта, и на борту нас приветствовали с огромным радушием. Внизу мы обнаружили кают-компанию для младших офицеров (в два раза большую, чем наша), разительно не похожую на те, которые описывал Марриет, но, полагаю, сохранившую тот же флотский дух. Из двадцати с лишним присутствовавших минимум дюжина были мичманами[32], а потому, как пояснил «двадцать один год», «не считались». Спускаясь пообедать после вахты, мичманы общались между собой энергичным полушепотом. Старший из младших лейтенантов — лет, наверно, девятнадцати от роду, отвечал за дисциплину в кают-компании, которую я всячески расхвалил, и ему требовались немалые усилия, чтобы призвать к порядку и тишине кучу мальчишек от шестнадцати до восемнадцати, набитых врожденной и приобретенной чертовщиной. Однако он справлялся, действую в согласии с флотскими обычаями и этикетом кают-компаний, которые ничуть не изменились со времен парусов.ГАРДЕМАРИНЫ
Именно здесь юный Горацио Нельсон учился подчиняться приказам. Укротили его еще на «Британии», но кают-компания для младших офицеров завершила, так сказать, «отделочные работы». Для любого адмирала гардемарины — все равно что для Всевышнего созданные им тараканы. Для капитана судна гардемарин — примерно то же, что для директора школы Хэрроу младенец в детской коляске. Для первого помощника гардемарины — что-то вроде игроков третьего состава для главного тренера крикетного клуба, а вот для младшего лейтенанта они словно горячие головни в камине, и обращается он с ними соответственно. В результате гардемарин с безопасного расстояния высокомерно поглядывает на адмирала, излучает нахальное превосходство над капитаном — и тоже на безопасном удалении; сочиняет о первом помощнике скабрезные куплеты — с вдвойне безопасного расстояния; но неукоснительно подчиняется младшему лейтенанту. На протяжении семи лет, считая учебу на «Британии», гардемарин одевается у своего сундучка и спит в гамаке, и при этом узнает себя и своих товарищей так предельно близко и полно, как это возможно только на флоте. В его службе нет понятия «оправдание». Он имеет право лишь выполнить приказ — и не немедленно, а гораздо, гораздо быстрее. Именно в эти годы происходит отсев тех, кто ошибся насчет своего призвания. Слабые духом отправляются домой, где проклинают флот до конца своих дней. Праведники остаются и учатся красть латунные дельные вещи для своих шлюпок, тайком курить на боевых постах (табак под запретом до того, как им исполнится восемнадцать), попадать во всяческие передряги и выбираться из них с неизменной ловкостью и блеском, а заодно узнавать больше, чем сообщают им наставники, подслушивая разговоры уоррент-офицеров и внимательно наблюдая за ошибками старших. Затем, получив офицерское звание, они начинают делиться знаниями с последующим поколением с помощью ножен от кортиков.ДЕМОКРАТИЯ И ДЕСПОТИЗМ
Если бы Марриет не ограничивался парусами и рангоутом, какую картину кают-компании он мог бы нам написать! Ведь там слились воедино демократия и деспотизм — крайняя левизна и непоколебимые основания старой традиции. По отдельности каждый из мичманов в зависимом положении, вместе же они сила, и поэтому критикуют все, что попадает в их поле зрения: от флотских маневров до воротничка инструктора. Язвительна, беспощадна, неукротима младшая кают-компания, но она соблюдает дисциплину. Глядите-ка — младший лейтенант (как тут не вспомнить О'Брайена и исцеление Питера от морской болезни?[33]), раздосадованный шумом, воткнул вилку в то, что может считаться потолочной балкой, и к тому времени, как она перестала дрожать, гардемаринов уже и след простыл — разлетелись, как вспугнутые летучие мыши. — Мы так поступаем всегда, когда считаем, что разговор выходит за рамки, — сообщил наш гостеприимный хозяин. — Но двигаться они умеют и быстрее. — Заставь их слегка потренироваться, — посоветовал «двадцать один год», который еще три года назад тоже был гардемарином. — Потому, как сдается мне, ты начинаешь терять хватку. Что ты делаешь, если они... — и он описал предполагаемую ситуацию. — О, тогда я... — Младший лейтенант подробно изложил последовательность своих действий, добавив: — Не желаешь ли полюбоваться? Запишите на мой счет, что в тот вечер я спас чьего-то отпрыска от расправы на потеху всей остальной кают-компании. Но у гардемаринов есть свое убежище — это классная комната, где, как я уверен, они не раз оказывались на грани гибели. Впрочем, их останки выглядели вполне живыми и здоровыми, ибо когда мы отправились на большой концерт нафлагмане, я краем глаза заметил группу хохочущей молодежи, которая комическими жестами пародировала оркестр. Я не имел удовольствия поговорить с ними и потому спросил у «двадцати одного года», как может выглядеть «оборонительная тактика» гардемаринов. Он красочно объяснил мне, что в сравнении с разозлившимися младшими обитателями кают-компании разворошенное осиное гнездо выглядит очень симпатичным. Он и сам принимал участие в таких «революциях». — Нас, конечно, серьезно наказывали, — жизнерадостно заключил он. — Но после этого оставляли в покое. Но как вам эта дисциплинированная кают-компания? Жаль, что вы не видели их в море во время шторма! Гардемаринов (тут он использовал слово «салаги») ставят к каждому клюзу — открывать их между волнами. И если внутрь попадает вода, ему с ней и разбираться. У меня за плечами лет пять подобной работы... Ну а теперь нам с вами лучше отправиться на концерт.МУЖСКОЕ ШОУ «ДЯДЮШКИ ГЕНРИ»
Пронзительный голос поинтересовался: — Ты собираешься сегодня посетить вечернее шоу нашего дядюшки Генри? — Похоже, что придется. Я не хочу, чтобы он подумал, будто я решил его покинуть. К тому же пусть полюбуется на расторопного и ловкого офицера. Это его приободрит. Я подошел ближе и обнаружил двух мальчишек, с отсутствующим видом изучавших палубные доски. Не исключаю, что «дядюшкой Генри» они называют между собой адмирала, но неужели парочка гардемаринов осмелилась бы на такое?.. Я удалился так быстро, словно палуба готова была вспыхнуть под ногами, чтобы не задеть своим смехом этих «ловких и расторопных». А теперь представьте себе квартердек[34] шириной в семьдесят пять и длиной в в сто двадцать футов, снабженный тентом, украшенный флагами и тройными рядами бело-пурпурных гирлянд. В одном его конце расположились музыканты оркестра флота, а все остальное, от кормы до белоснежного барбета, — водоворот, мундиров всех мыслимых рангов: капитаны с аксельбантами и без аксельбантов, начальники служб, офицеры морской пехоты в синих парадных кителях с глобусами на лацканах, механики, казначеи, клерки и все прочие живой ковер синего, золотого, красного и черного. Над нами возвышались дула сорокашеститонных орудий, а на самом верху, на барбете башни, задрапированном флагами и коврами, восседал адмирал. Это было поразительное шоу в исполнении всего флота, и по неизвестной причине меня все время разбирал смех. Здесь можно было встретить тех, с кем последний раз виделся на другом конце света — в Гаспе, на Бермудах, в Ванкувере, Йокогаме, Инверкаргилле или Бомбее — странников и рейнджеров на службе ее величества. А потом мы танцевали, поскольку это еще один из обычаев флота: дать возможность тому, кто трудился весь день, словно толпа рабов на плантации, при первой возможности потанцевать. Именно поэтому военные моряки так хорошо танцуют. — Эта штука учит нас чертовски ловко держаться на ногах, — заметил «двадцать один год», вытирая пот в паузе между вальсами. — Не желаете принять участие? Немного поупражняться никогда не помешает. — Нет уж, — ответил я. — Тем более что я опасаюсь за наших «дам». — Они у нас довольно выносливые, — задумчиво ответил «двадцать один год», в то время как некий судовой казначей резво развернулся на носках его ботинок. Как им удавалось после целого дня изнурительной работы сохранить в себе силы для танцев, было выше моего понимания. Они танцевали, как и положено, — с пятки на носок, без отдыха, на протяжении нескольких часов, просто ради удовольствия от физических упражнений. А ведь в танцах участвовала не только флотская молодежь. Наконец, тяжело дыша, мы погрузились в шлюпки и уже с воды наблюдали, как позади нас озаренный огнями мужской бал постепенно блекнет, мигает и, наконец, гаснет. Флагман вернулся к привычному распорядку. Завтра он поведет нас в Бостон для состязаний на скорость.УЭЛЬСКИЙ УГОЛЬ № 2
— Разве это не возмутительно? Разве это не форменное безобразие? — раздраженно проговорил вахтенный офицер, указывая на грязные столбы дыма, поднимавшиеся над каждой из корабельных труб. — Флот Канала ее величества, с вашего позволения, идет полным ходом, сжигая в топках конский навоз! Зрелище и вправду было прискорбное. Мы только что снялись с якоря, но нас уже можно было разглядеть за тридцать миль — позади тянулся дымный шлейф, полный несгоревшей пыли, кусочков пустой породы и мусора. Старший лейтенант уныло взглянул на гору шлака, громоздившуюся у коечных сеток, и благословил Уэльс в соответствующих выражениях. Старший механик ограничился меланхолическим замечанием: «Никогда не знаешь, с чем повезет на флоте», натянул самую старую робу и вскоре потерял всякое сходство с добрым христианином. И тут судьба нанесла ему еще один удар, поскольку за миг до того, как его топки достигли красного накала, крейсеру было приказано выбирать якорь вручную, что задержало нас на час, а его драгоценные топки и котлы забились копотью. «Уэльский номер два» требует особого внимания.ТРУБОЧИСТЫ В НЕСПОКОЙНОМ МОРЕ
Однако в сравнении с нами «Эррогант» являл собой еще более примечательное зрелище. Он дымил, как химический завод на полной мощности, когда мы вышли из Бантри и направились на юг к Силли[35]. За нами следовал «Блейк» (см. Примечание 6), прекрасный корабль, легко скользивший по зыби, которая уже начинала нам досаждать, но при этом болтавшийся вправо-влево, пока мы не спросили: «Что вы пытаетесь сделать?» Ответ последовал незамедлительно: «Увернуться от вашего дыма». Впрочем, и сам «Блейк» извергал тяжелые клубы своего собственного, и таранные крейсера тоже трудились, не покладая топок, норовя нас ослепить и отравить, а линкоры сместились в подветренную сторону, дымя, как исполинские груды мокрого хвороста. Раздражение вызывало не столько позорное качество топлива, сколько мысль о том, что в империи, обязанной своим существованием военно-морскому флоту, не нашлось силы, способной обеспечить этот флот достойным углем. На севере страны шла забастовка шахтеров, и пока углекопы и владельцы шахт препирались на суше, корабли ее величества в бурном море мало-помалу превращались в трубочистов. Задержки, беспорядок, тяжелая дополнительная работа для кочегаров, не говоря уже о механиках, которые и без того загружены до отказа, в мирное время всего лишь неприятны. Но во время войны они могут быть смертельно опасны.ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПОЛНОГО ХОДА
И, словно всего сказанного выше было недостаточно, волнение, которое на линкорах было отмечено в судовых журналах как «легкое» (да простить им это Господь!), начало расти, и вскоре наш правый винт все чаще и чаще стал выскакивать на воздух. Мы гнали и гнали, истерически вибрируя корпусом по всей длине борта, но море сочло, что именно эти четыре часа полного хода лучше всего подходят для того, чтоб слегка приподнять нас на ладони и полюбоваться, как мы сопротивляемся. С шести до десяти часов пополудни один из наших винтов большую часть времени провел на воздухе, но старший механик — угольная пыль и масло намертво въелись в его кожу — сообщил, что его служба чувствует себя прекрасно. Впрочем, его можно было бы счесть белокрылым ангелом по сравнению с помощником механика, который работал в котельном отделении вместе с недавно набранными кочегарами-ирландцами. В машинном отделении крейсера я побывал только раз, но ни за что не спущусь туда снова, пока у меня не появится возможность прихватить с собой тех, кто его проектировал, и запереть там часа на четыре при полном ходе судна. Отсек этот, мягко говоря, тесен и сильно перегружен. Стальной кожух, который должен был защищать людей от громадного зубчатого маховика на валу, растерял от вибрации свои болты и осел вниз, как щиток на колесо велосипеда. Правда, это велосипедное колесо тоже было сделано из стали и делало сто девяносто оборотов в минуту. И постоянно устраивало фейерверки из раскаленных стальных искр, красивые, но совершенно неуместные. Только общими усилиями кожух удалось оттащить в сторону, а потом свалить вниз, под главный вал, открыв смазчикам путь к упорному подшипнику главного вала, который слегка постукивал. И при этом работа главной машины не замедлилась ни на один оборот.ВОЕННО-МОРСКОЙ ИНЖЕНЕР
— Она у нас норовистая штучка, — сказал главный механик. — Спускайтесь, посмотрите. Я отказался в приличествующих выражениях. Однажды, когда я буду знать больше, я напишу о машинных и котельных отделениях: о манерах и обычаях военно-морских инженеров и их старшин-машинистов. Это поистине поразительная порода тихих, довольно бледных людей, в чьих руках сосредоточена сила и мощь корабля. — Только представьте, с чем им приходится иметь дело! — как-то сказал мне «двадцать один год» с великолепной правдивостью, свойственной юным. — Их, конечно, тренируют, и всякое такое, но вы представьте, каково это — делать свое дело, когда в загривок тебе сопит восьмидюймовая труба паропровода, за спиной жужжит динамо-машина, а прямо напротив твоего живота вертится вся эта проклятая машинерия! И тут им на голову сваливаемся мы и вопим, что они не дают достаточно оборотов. Будь я проклят, но в машинном отделении работают бесконечно терпеливые люди! Если вы в этом сомневаетесь — спуститесь по скользким стальным трапам в синеватую, пахнущую медью дымку, окружающую разогнавшиеся до предела механизмы, в тесные пещеры под броневой палубой; протиснитесь мимо засаленных опорных плит и встаньте спиной к длинной переборке, которая отделяет людей от бешено вращающихся сдвоенных паровых двигателей. Стоя под низкими опорными колоннами, дождитесь того момента, когда рев и вибрация проникнут в каждую клеточку вашего тела, пока колени не ослабеют, а в голове не начнется пульсирующий грохот. Почувствуйте, как под ногами поднимается и проседает пол, и беспорядочные рывки винта, выскочившего из водной среды. Попытайтесь при этом верно прочитать показания пляшущих стрелок манометров или расслышать сквозь адский грохот команду с мостика. Проберитесь в котельное отделение — пригибайтесь пониже, иначе обожжете ухо о стенку котла! — и узнайте, что такое разреженный, почти лишенный кислорода воздух. Загляните в ослепительную белизну открытой топки; зайдите в угольный бункер и посмотрите, как подают уголь, поработайте минут пять ломом и «дьяволом» для очистки колосников от шлака, а потом подумайте, каково приходится кочегарам, которые трудятся здесь час за часом, изо дня в день.ЕГО ЕЖЕЧАСНЫЙ РИСК
Джентльмен с маленькой бархатной вставкой между золотых нашивок на рукаве делает свое незаметное дело в окружении всего перечисленного выше. Если что-то идет не так, если он прозевает ошибку подчиненного, его не станут отчитывать на палубе перед адмиралом. Счет будет выписан прямо здесь, под двумя дюймами стальной палубы, и сделает это сила, с которой он не сумел совладать. С него живьем сдерут кожу, покалечат, ослепят, сварят заживо. Таков его ежечасный риск. Долг перемещает его с одного корабля на другой — от хорошо собранных и отлаженных машин к машинам с длинным послужным списком всякой чертовщины, к лживым машинам, неспособным справляться со своей работой, к самозванцам с загадочными слабостями и причудами, к новым и еще непроверенным механизмам, недавно прибывшим с завода, к котлам, которые не желают давать пар, к редукционным клапанам, не умеющим понижать давление, к вспомогательным механизмам для дистилляции или освещения, которые зачастую создают проблемы куда серьезнее, чем те, которые они призваны решать. Ему приходится то и дело менять методы и приемы, проникать в самую душу каждого механизма, подгонять, заставлять, убеждать, сдерживать, рисковать и бросать вызов — в меру необходимости. За ним стоят его честь и репутация, честь корабля и корабельных деспотов, а оправданий на флоте, как уже много раз было сказано, не существует. Если он не сможет справиться с одной из своих бесчисленных задач, он перережет всего один нерв корабельной жизни. Если же не справится со всеми, корабль умрет —— станет пленником волн, подарком для врага. И насколько я знаю этих джентльменов, они бесконечно терпеливы, изобретательны и неторопливы. Одно дело — прежние дни, когда моряки упорно цеплялись за свои палки, веревки и куски холста, но новое поколение флота, взращенное в эпоху пара, знает, что они — главный вал всей системы.ЧРЕЗВЫЧАЙНО ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Наш младший механик занимается машинами с самого их появления. Его обязанность — сделать так, чтобы любое требование с мостика выполнялось в течение пяти секунд. К этому идеалу стремятся и он, и его старший механик —черный потный демон во время вахты и тихий студент, изучающий инженерные дисциплины в часы редкого и краткого досуга. — И потом они оба приходят в кают-компанию, — добавляет «двадцать один год», а вы уже знаете, в каком аду они до этого отработали свою вахту, но они никогда ни на кого не рычат и ни к чему не цепляются. Чрезвычайно хорошие люди, клянусь вам! — Согласен, — ответил я. — И если не возражаете, я именно так и напишу обо всем военно-морском флоте.ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание 1 Окраска и полировка
Корабль, который попытался бы принарядиться исходя только из выделенной ему по ведомости краски, через три месяца будет выглядеть столь же непрезентабельно, как батарея или полк, содержащие офицерскую столовую или оркестр в рамках исключительно военного обеспечения. А потому, помимо всего того, чего можно добиться стратегией и дальновидностью, офицерам приходится запускать руку в собственный карман для приобретения множества мелочей (весьма недешевых), которые способны придать их кораблю щегольской лоск. Это знание буквально вбили в меня, пока я восхищался геральдическим щитом на носу и орнаментом из завитков на бортах тяжелого крейсера. — Да, — сказал мне один мой приятель, — требуется как минимум пятьдесят книжек (речь шла о сусальном золоте), чтобы поддерживать все это в приличном виде. — Ничего подобного — семьдесят, — возразил второй. — Ты-то откуда знаешь? — Ну, кому-то же приходится все это заново золотить, а верфь не выдаст семьдесят книжек за просто так, — прозвучал многозначительный ответ. Если бы существовал какой-то способ точного подсчета, налогоплательщик немало бы удивился суммам, которые личный состав армии и флота тратит за привилегию находиться на службе ее величества. У обоих ведомств наверняка найдется немало любопытных и пикантных историй на эту тему.Примечание 1а
Поскольку комфорт экипажа и эффективность корабля, не говоря уже о спокойствии капитанского духа, зависят от первого лейтенанта, капитан, как правило, крайне придирчив в выборе главного помощника. Приведу только несколько обязанностей первого лейтенанта. Он должен исполнять обязанность своего рода фильтра между экипажем и капитаном: задерживать необязательное и доводить до сведения все необходимое. Иначе говоря — осуществлять тонкую и беспощадную редактуру. Он должен заниматься организацией на борту всего и вся, а заодно упорядочивать обязанности каждой матросской и офицерской души на следующий день, неделю или месяц. Он должен обзавестись колодой своеобразных карт — по одной на каждого члена экипажа, регулярно погружаться в глубокие размышления, а затем перетасовывать их так, чтобы это наилучшим образом отвечало интересам службы. В то же время он не должен позволять собственному раздражению влиять на взаимоотношения с кают-компанией, официальным лидером которой он является, и всегда ощущать разницу между подчиненными в служебные часы и джентльменами, коротающими часы досуга во всевозможных препирательствах. Помимо всего, он должен уметь добиваться от людей максимума, но не давлением авторитета, поскольку это рано или поздно приведет к взрыву, а на основе их искренней симпатии к его персоне. Кают-компания молода, полна юношеского строптивого задора и находится в постоянном близком общении с самой собой. Как вы думаете, сколько ума, такта, опыта и знания психологии требуется для ее усмирения? Сверх того, первый лейтенант обязан той парой глаз, которую люди его положения обычно имеют на затылке, бдительно следить, чтобы ни один уоррент-офицер или петти-офицер, ни один корабельный капрал или профос не использовали своих полномочий и влияния против младших по чину. И вдобавок, ему приходится заботиться о том, чтобы ни один из офицеров, движимых вполне понятным желанием обрести популярность, не подрывал тем или иным способом дисциплину на нижней палубе. Старший лейтенант должен прочитывать мысли капитана за семнадцать и две трети секунды до того, как капитан откроет рот, потому что именно это время требуется ему для того, чтобы мысленно расписать все этапы выполнения грядущего приказа. Он должен быть человеком сверхпрочных моральных устоев и нерушимой чести, но при этом обязан разбираться в подоплеке и тонкостях всех матросских хитростей и уловок, с которыми сталкивается по двадцать раз на дню. В отсутствие капитана он принимает и сопровождает по кораблю гостей, а поскольку гостями в гавани могут оказаться кто угодно, от членов королевской семьи до последних голодранцев, его манеры должны быть готовы к адаптации в самом широком смысле слова. И наконец, в кризисных ситуациях, когда людям остро необходим пример, он первым прыгает в водную бездну, лезет в самое пекло, ступает по самой скользкой поверхности и смиренно пережидает скверные времена, не теряя при этом ни хладнокровия, ни остроты взгляда, необходимых в его положении.А кое-кто еще удивляется, когда военно-морской офицер вдруг демонстрирует отменное знание дипломатии!
Примечание 2 Старшины шлюпок
Старшина капитанского катера — очень важная персона. Как правило, капитан знаком с ним уже давно, лет десять или пятнадцать, и старшина с непоколебимой уверенностью следует за карьерой своего капитана, пока не достигает вершины на должности старшины адмиральского катера. В сравнении с таким положением на флоте титул герцога не стоит и трех пенни. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к такой должности, это умнейший человек на корабле, а постоянные тренировки со временем превращают его в образец такта и рассудительности. Команда каждой шлюпки живет собственной жизнью в маленьком мире, который образуется всякий раз, когда катер или вельбот отходит от борта своего корабля; но я убежден, что командный дух всего сильнее проявляется в капитанской шлюпке. Однажды мы вышли рыбачить на целый день, а на обратном пути ветер заставил нас возвращаться на веслах. Целых семь миль мы выгребали против течения, огибая острые скалы в бахроме прибоя. Море было неспокойным, свинцово-серым, и лишь в тех местах, где скапливались косяки, сквозь воду фосфоресцировали светлые рыбьи бока. Это трехчасовое путешествие оживляли лишь хриплый рев и грохот прибоя у скал и ответное шуршание волн, откатывающихся с пляжей. Я наблюдал, как неутомимый человеческий механизм вспахивает тяжелые волны, как восемь пар плеч поднимаются и опускаются под первыми звездами и пеленой прозрачного тумана, и все мои мускулы ныли от сочувствия к этим парням. Трижды им предлагали отдохнуть, потому что шел уже десятый час их гребли, а в шлюпке лежали балластом шестьсот фунтов пойманной нами трески, и трижды они отвечали: «О, мы еще долго можем в таком же духе, сэр!» В бурном море они не сбивались с ритма и темпа, а когда мы достигли спокойной воды под защитой корабельных корпусов, они устроили спурт на финише, словно возвращались от стоявшего в полумиле от нас флагмана. Я поинтересовался у их старшины, как добиваются подобной спаянности. — О, к этому привыкаешь, — сказал он. — К тому же сегодня не было ничего особенного. Иногда нас по пояс заливает водой, шлюпка встает на дыбы и опускается, как молот, — вот тогда-то и учатся грести по-настоящему. — Понимаю... Но почему никто из команды не пропустил ни гребка в той мешанине течений у маяка, когда мы зачерпнули волну бортом? — Ну, — с той же усмешкой ответил старшина, — если бы кто-то это сделал... Тогда бы он больше не был в команде капитанского катера. Пропускать гребок можно где угодно, но только не здесь. А вы ведь ни разу не видели нас под парусом! Ради чистого удовольствия я посетил катер, который как раз принял вызов от другой капитанской команды «прогуляться под парусом по бухте». Управление снастями здесь было простым до удивления: к каждой снасти, хоть с чем-нибудь связанной, был приставлен отдельный матрос, а при необходимости все они единодушно превращались в самый тренированный балласт-противовес, действующий по мановению руки своего старшины.Примечание 3 Артиллерийское искусство
Многие любят потолковать о недостаточной вооруженности наших кораблей. Так это и выглядит на бумаге, где оружием считается только корабельная пушка, торчащая над бортом. Но никто не видит ни той группы людей — от трех до девяти человек, — которые приводят ее в движение, ни запасенных для нее боеприпасов, ни груд стреляных гильз и оболочек дополнительных зарядов, которые остаются рядом с орудием. Все это требует места, и чем больше места вы можете предоставить орудийной обслуге, тем меньше у пушки шансов устроить катастрофу себе и соседям. Наши люди не любят работать в толпе. Они предпочитают, как и мы на берегу, самостоятельно заниматься своим делом. Вид раненого, который корчится на палубе во время перезарядки батареи, не добавит точности стрельбе, а помимо того, санитары и их помощники, эвакуируя раненого в подпалубные помещения, будут мешать орудийному расчету. На открытых палубах при достаточных промежутках между выстрелами раненого легко убрать с работы; но если будет повреждено само орудие, запас прочности не позволит ему откатиться назад, и у расчета останется место, куда отступить. Я говорю сейчас о легкой артиллерии, защищенной бронированными щитами. Но знание того, что всего одно удачное попадание противника может сбить в стальной ком целую батарею близко расположенных орудий, нисколько не добавляет радости. Вот почему наши палубные пушки немногочисленны, но чрезвычайно эффективны. В свою очередь, наши люди, конечно же, знают, где именно располагаются орудия на борту противника. Пара-тройка попаданий в «гнездо» таких пушек, снарядные элеваторы и груды готовых к бою снарядов причинят куда больший моральный и физический ущерб, чем установка на судне еще пары-тройки пушек для якобы равномерного их распределения вдоль бортов.Примечание 4 Омдурман
Вы должны осознать, что флагман является не только оперативным центром флота, но и своего рода агентством «Рейтер»; и что между приказами и выволочками нас питают крохотными дозами информации о том, что происходит на суше. В одно прекрасное утро старшина-сигнальщик явился в капитанскую каюту с обычной скоростью, но с необычным цветом лица и непривычно блестящим взглядом. — Сигнал с флагмана, сэр, — отрапортовал он и зачитал сводку: — Омдурман[36] пал, убитых столько-то, раненых столько-то. — Благодарю, — ответил капитан. — Сообщите команде. После этих слов я отправился взглянуть, как будет воспринята эта новость. В то утро все были заняты покраской палубных надстроек, и работа шла под аккомпанемент приглушенных голосов — как обычно и бывает под надзором командования. Новость просочилась на нижнюю палубу и в котельную: шум голосов усилился где-то на полтона. Я остановился неподалеку от тех, кто работал кистями. Один из них, глубоко погружая свое орудие в белую краску, начал: — Что ж, ха! Уж это французов наверняка проймет. Я почти слышу их кашель, а вы? Второй, протягивая руку за самой короткой и растрепанной кистью, ответил: — Альф, поделился бы ты своей хартумской кистью! После продолжительной паузы, отступив на шаг, чтобы полюбоваться на изумительно широкие и ровные мазки суданской кисти, он прищурил один глаз: — Что ж, мы давно этого ждали. Самое время, не так ли? Тут и помощник боцмана, сочетая в себе официальную суровость и человеческое смирение, рявкнул: — Вы над чем там гогочете? А ну-ка, соблюдать тишину! Вот так мы и восприняли новости о небольшой заварушке в Омдурмане.Примечание 5 Гребные шлюпки
Наш вельбот уходил на рассвете и возвращался к закату. Целью этих походов были якобы тренировки в гребле, а на деле — благородное стремление унизить экипажи других вельботов во время состязаний. Вам следует знать, что к гонкам на катерах и других шлюпках моряки относятся примерно так же, как на суше воспринимают конские бега. Проводятся они довольно просто. Когда ваша гребная команда достаточно подготовлена, вы проходите под носом корабля, которому собираетесь бросить вызов, и поднимаете весло. Если вы уверены в себе и у вас за плечами длинный список побед, вызов обязательно будет принят. Затем начинается собственно состязание. Дружелюбный баркас отбуксирует вас и ваших соперников на несколько миль вглубь бухты, а возвращаетесь вы, изо всех отпущенных вам сил наваливаясь на весла, навстречу хриплому реву экипажей, собравшихся на полубаках. Этот глубокий, рокочущий прибой голосов проникает в самую душу. Однажды настанет день, когда флот будет так же приветствовать возвращающегося из боя собрата, буксирующего за кормой законный приз — расстрелянную и закупоренную чужую железную шкатулку, на палубе которой засохло то, что на ней было пролито, а с бортов каскадами плещет багровая вода. Я наблюдал подобную картину одним кроваво-красным вечером, когда корпуса кораблей казались угольно-черными на оливковой глади воды, а желтые мачты в последних лучах заходящего солнца окрасились в цвет парного мяса. Несколько катеров пронеслись мимо нас, и еще долго после их исчезновения было слышно, как им аплодируют с палуб далеких линкоров. Было уже слишком темно, чтобы различить, кто там собрался, и поэтому казалось, что ожившие корабли сами радуются чьей-то победе.Примечание 6 Красота военных кораблей
Не верьте тому, что вам рассказывают об уродстве и грязи эпохи пара и угля, не присоединяйтесь к сонму оплакивающих времена парусов. Своя красота есть и в солнце, и в луне, но только совсем иная, а мы должны быть благодарны за обе. В наши дни военные корабли фотографируют в профиль — и выходят суровые угловатые силуэты, ничуть не располагающие к себе; но видели бы вы тот же корабль идущим на всех парах при высокой волне! Таранный нос величаво изогнут и устремлен вверх. Ни носовая фигура, ни накладные скулы, ни резьба бушприта не отвлекают внимания от его очертаний и прекрасных изгибов там, где нос перетекает в грудь корабля. На мгновение таран зависает над морем, а затем медленно и беззвучно, как булатный клинок, разрезает волну до тех пор, пока пораженное море не начинает валить клубами пены через якорные клюзы. Корабль грациозно преодолевает вал — и только тогда можно видеть, как появляются на поверхности один изгиб его корпуса за другим, вспенивая и одновременно разглаживая беспокойную воду. А когда он оказывается в долине между валами, создавая острым носом собственную волну, взгляду остается от него ровно столько, чтобы желать снова увидеть судно целиком. В гавани неподвижная ватерлиния, твердая, как воротничок только что сшитого по мерке кителя, скрывает это видение; но когда корабль исполняет Главный Танец Моря, он отличается от своих собственных фотографий, которые вы можете приобрести в Портсмуте за какой-нибудь шиллинг, как дама в мешковатом макинтоше от той же леди на блистательном балу. Чуть покачиваясь на ходу, пьянея от радости движения, идеально подходящий для своего дела, каждой линией радующийся свободе, военный корабль являет собой истинное чудо грации и красоты. Гладкие борта напоминают об отполированной морем гальке, они изогнуты и вылеплены так, что море готово с любовью принять их в себя. Суда других военных флотов врезаются в волны квадратными носами, нависают над ними бортами, давят на них тройными орудийными башнями; они буквально вбивают и вколачивают себя в морскую стихию, чьей души совершенно не понимают. Но нашему боевому кораблю — чистому, собранному, красивому — море оказывает всемерную поддержку. Давно миновали те дни, когда мы стремились нагромоздить на плавучую основу баронские замки, утюги и вавилонские башни. Новый флот предлагает морю не больше, чем разумная и воспитанная женщина с унаследованными от десяти поколений предков изысканными манерами предлагает обществу. А в морской стихии лишь провинциальные, агрессивные, неотесанные, угловатые, полные нелепых идей попадают в беду и теряют все, что имели. Иными словами, боевому кораблю, созданному для того, чтобы действовать в любых обстоятельствах, излишества непростительны.РАССКАЗЫ

КОРАБЛЬ, КОТОРЫЙ ОБРЕЛ СЕБЯ
Это был его первый выход в море, но, будучи всего лишь грузовым пароходом порожним водоизмещением в две с половиной тысячи тонн, он уже считался лучшим в своем классе, поскольку стал своего рода вершиной сорока лет экспериментов и усовершенствований корпусов кораблей и их механизмов. Достаточно сказать, что проектировщики и владелец полагали его ни в чем не хуже «Лукании». Построить какую-нибудь плавучую гостиницу, которая будет приносить доход, не так уж трудно: вложите побольше денег в отделку и назначьте умопомрачительные цены за ванные комнаты, апартаменты класса «люкс» и тому подобное. Но в наши дни жестокой конкуренции и низких тарифов каждый квадратный дюйм грузового парохода должен отвечать следующим критериям: дешевизне, максимальной вместительности и определенной (по возможности, высокой) крейсерской скорости. И этот корабль имел двести сорок футов в длину и тридцать два фута в ширину, причем компоновка и схема размещения грузов были таковы, что при желании он мог перевозить крупный рогатый скот на главной палубе, и овец — на нижней; но главным его достоинством все-таки считались трюмы, поражавшие воображение вместительностью. Его владельцы — весьма известная шотландская компания — привели своего красавца с севера, где он был спущен на воду, окрещен и оснащен всем необходимым, в Ливерпуль, а там он встал под погрузку, чтобы отправиться в Нью-Йорк; и дочь владельца, мисс Фрейзер, в волнении расхаживала взад и вперед по чистым палубам, восхищаясь покраской, блеском надраенных медных частей, замерших в ожидании лебедок и, в особенности, крепким прямым форштевнем, о который она сама разбила бутылку шампанского, дав пароходу имя «Димбула». Стоял восхитительный сентябрьский денек, и судно во всей своей притягательной новизне — оно было выкрашено в свинцовый цвет с ярко-алой дымовой трубой — выглядело просто великолепно. На флагштоке «Димбулы» развевался вымпел пароходства, и она время от времени отвечала свистком на дружеские приветствия коллег по ремеслу, которые, видя перед собой новичка, желали ему успеха в ближних и дальних водах. — Вот теперь, — восторженно обратилась мисс Фрейзер к капитану, — он стал настоящим кораблем, не так ли? Кажется, только вчера отец отдал приказ о его постройке, а сейчас... сейчас... ну разве он не красавец? Девушка очень гордилась отцовской фирмой и рассуждала так, словно была старшим партнером, которому принадлежал контрольный пакет акций. — О да, он совсем не плох, — аккуратно подбирая слова, отозвался шкипер. — Но должен сказать, что для того, чтобы получить хороший корабль, мало дать ему имя. По сути своей, мисс Фрейзер, если вы понимаете, о чем я говорю, он пока что остается набором стоек, заклепок и пластин, которым придали форму корабля. Ему еще только предстоит обрести себя. — Но отец говорил, что он прекрасно оснащен и укомплектован! — Так оно и есть, — со смешком согласился шкипер. — Но с кораблями всегда так, мисс Фрейзер. Он — здесь, перед нами, собран воедино, вот только части его еще не притерлись друг к другу и не научились работать вместе. У них просто не было такой возможности. — Машины работают безукоризненно. Даже я это слышу. — Верно. Но корабль — это нечто большее, чем машины. Видите ли, каждая его часть должна ожить и научиться работать вместе со своей соседкой — понравиться ей и притереться, как мы говорим. С технической точки зрения, разумеется. — И как же вы намерены этого добиться? — осведомилась девушка. — Пока что мы можем лишь проложить курс и выйти в море; но если погода вдруг окажется неблагоприятной — а в таком рейсе это вполне вероятно, — остальное он усвоит сам, без посторонней помощи, и выучит наизусть! Вы сами увидите, мисс Фрейзер, что корабль — это не просто замкнутый объем. Он являет собой сложную конструкцию, подвергающуюся действию различных конфликтующих напряжений, с переплетением соединительных тканей, которые должны поддаваться или сопротивляться в строгом соответствии с его собственным представлением об упругости... В этот момент к ним приблизился мистер Бьюкенен, старший механик, и шкипер обратился к нему: — Я как раз говорил мисс Фрейзер о том, что наша «Димбула» должна пройти обкатку и притирку, и что для этого нет ничего лучше доброго шторма. Как ваши машины, Бак? — Нормально — на первый взгляд, разумеется. Но пока ни о какой слаженности говорить не приходится. — Он повернулся к девушке. — Можете поверить мне на слово, мисс Фрейзер, а позже, быть может, поймете и сами: из того, что симпатичная девушка совершила над кораблем обряд крещения, дав ему имя, вовсе не следует, что он стал таковым для людей, составляющих его экипаж. — Именно об этом я и говорил, мистер Бьюкенен, — перебил шкипер. — Вы так углубились в метафизику, что я не успеваю следить за ходом ваших рассуждений, — со смехом заявила мисс Фрейзер. — С чего бы это? Вы истинная шотландка, и я знавал отца вашей матушки — он был родом из Дамфриса, — так что вы имеете такое же полное и законное право на метафизику, как и на «Димбулу», — возразил старший механик. — М-да... В общем, нам пора в море, чтобы заработать для мисс Фрейзер ее дивиденды. Быть может, вы соблаговолите заглянуть ко мне в каюту на чашку чая? — предложил шкипер. — Сегодняшнюю ночь мы проведем в доке, а на обратном пути в Глазго думайте только о том, как мы загрузим его и отправимся в путь — и все ради вашего благополучия. В течение нескольких следующих дней экипаж разместил на «Димбуле» четыре тысячи тонн груза и вывел ее в море из гавани Ливерпуля. И едва оказавшись на открытой воде, она, само собой, заговорила. Вот попробуйте в следующий раз, когда окажетесь на пароходе, прижаться ухом к стенке своей каюты: со всех сторон до вашего слуха донесутся тысячи негромких голосов, взволнованных и перебивающих друг друга, шепчущих и чихающих, булькающих, всхлипывающих и вскрикивающих — совсем как телефонная трубка в грозу. Деревянные корабли скрипят, кряхтят и стонут, а железные вздрагивают и звучат сотнями своих соединений, ребер и заклепок. Конструкция «Димбулы» была очень надежной, судно получилось крепким, и на каждой его части красовалось буквенное либо цифровое обозначение; точно в таком же порядке каждая из этих частей подверглась ковке, литью, прокатке либо штамповке человеческими руками, прожив в реве и грохоте судостроительной верфи несколько долгих месяцев. Таким образом, у каждого фрагмента и узла появился свой собственный голос — полностью соответствующий количеству вложенного в него труда. Чугун, как правило, немногословен, зато листы мягкой малоуглеродистой и сварочной стали, а равно шпангоуты и балки, подвергшиеся изгибу, сварке и клепке, болтают без умолку. Разумеется, их разговоры и вполовину не так осмысленны, как наши с вами, поскольку все они, сами того не сознавая, связаны друг с другом в полной темноте, не позволяющей разглядеть ни того, что происходит рядом, ни того, что случится в следующий миг. Как только «Димбула» оставила позади побережье Ирландии, в ее прямой нос лениво ударили угрюмые, цвета стали, волны Атлантики, забросав пеной паровой кабестан, используемый для поднятия якоря. сам кабестан и машина, приводившая его в движение, блистали свежей красной и зеленой красками; правда, окунаться в соленую воду с головой не нравится никому. — Не смей так больше делать, — прошипел кабестан сквозь зубья своих шестерней. — Эй! А куда подевалась эта ведьма? Но тут новая волна с коротким смешком и хлюпаньем сутуло перевалилась через борт. — Там, откуда я пришла, нас еще много, — сообщила следующая, захлестнув кабестан, который был надежно привинчен к стальной пластине на палубном бимсе. — Ты что, не можешь сидеть спокойно? — полюбопытствовали бимсы. — Что с тобой происходит? то ты вдруг начинаешь весить в два раза больше, чем должен, а потом опять все приходит в норму! — Я не виноват, — принялся оправдываться кабестан. — Там, снаружи, беснуется какое-то дикое зеленое животное, которое то и дело наваливается на меня и лупит по голове. — Расскажи об этом рабочим-судостроителям! Ты находился в одном и том же положении несколько месяцев, но никогда еще так не ерзал. Если ты не будешь осторожен, мы запросто можем задохнуться от перенапряжения! — Раз уж мы заговорили о напряжении, — вмешался в перебранку чей-то низкий, хриплый и неприятный голос, — то нам хотелось бы знать, отдаете ли вы, парни, — речь, ясное дело, о палубных бимсах, — себе отчет в том, что ваши колени весьма уродливо приклепаны к нашей конструкции — нашей, прошу обратить внимание! — Кто бы это мог быть? — озадачились палубные бимсы. — О, да никто конкретно, — последовал ответ. — Мы — всего лишь стрингеры левого и правого бортов верхней палубы. И если вы намерены и в дальнейшем вздыматься и крениться таким возмутительным образом, то нам, хоть и против воли, но придется принять кое-какие меры. Стрингеры корабля были ничем иным, как длинными стальными балками, тянущимися от носа к корме. Они удерживали на месте стальные рамы (на деревянных судах их именуют ребрами шпангоутов), а также помогали поддерживать концы палубных бимсов, проложенных от одного борта к другому. Из-за своей непомерной длины стрингеры всегда и неизменно считали себя главными. — Вы примете меры? Да неужели? — послышался гулкий грохот, эхом прокатившийся по всему кораблю. — Думается, что у вас ничего не выйдет! Это отозвались рамы — а их было несколько десятков, расположенных на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга и приклепанных к стрингерам в четырех местах. А тысячи и тысячи маленьких заклепок, связывавших вместе все это многотонное хозяйство, прошептали: — Так и есть! Так и есть! Перестаньте трястись и стойте смирно! Держитесь, братья и сестры! Держитесь! Горячая клепка! А это еще что такое? У заклепок не было зубов, поэтому они и не могли застучать ими от страха; но они все-таки постарались восполнить этот недостаток, когда по корпусу «Димбулы» от носа до кормы прокатилась волна сильной вибрации, и она вздрогнула и забилась в судорогах, словно крыса в зубах терьера. Необычный угол наклона — корабль как раз карабкался на волну — вознес огромный сотрясающийся гребной винт почти к самой поверхности, где он завертелся в неком подобии содовой — то есть в смешанных в равной пропорции морской воде и воздухе, и куда быстрее, чем того требовали приличия. Когда же корабль снова провалился вниз, машины — а они имели тройное расширении и по три цилиндра в ряд — фыркнули всеми своими поршнями: — Эй ты , приятель — да-да, тот, что снаружи, — это что, шутка такая? Если да, то она не удалась. Как прикажешь нам исполнять свою работу, если ты то и дело выходишь из себя? — И вовсе я не вышел из себя, да и не разошелся, — сообщил гребной винт, сипло проворачиваясь на конце гребного вала. — Если б такое случилось, от вас остался бы один металлолом. Просто море вырвалось из-под меня, и мне не за что было уцепиться. Только и всего! — Только и всего, говоришь? — возмутился упорный подшипник, чьей задачей была передача толкающего усилия винта. Ведь если бы гребному винту не за что было держаться, он бы просто вполз в машинное отделение, а корабль потерял бы ход. — Я понимаю, что делаю свою работу глубоко внизу, где меня никто не видит, но предупреждаю: я требую справедливости. Я требую всего лишь справедливости! Почему ты не можешь толкать нас ровно и мощно, вместо того чтобы жужжать, подобно детскому волчку, и заставлять меня греться под упорным воротником? У блока упорных подшипников таких воротников было аж шесть штук, и он вовсе не желал, чтобы они перегревались. Все подшипники, которые поддерживали пятьдесят футов гребного вала, проходящего к корме, зашептали: — Справедливость, мы требуем справедливости!.. — Я могу дать вам только то, что получаю сам, — отозвался гребной винт. — Смотрите! Сейчас опять начнется! Он с ревом высунулся из воды, когда «Димбула» клюнула носом, проваливаясь между валами, и паровые машины надрывно завыли и замолотили «чух-чух-чух», потому что их уже ничто не сдерживало. — Я являюсь самым благородным воплощением человеческого гения — так говорит мистер Бьюкенен! — пронзительно выкрикнул цилиндр высокого давления. — Это же сущая нелепость! — Поршень резко пошел кверху и поперхнулся, поскольку половина пара под ним была смешана с грязной водой. — Помогите! Смазчик! Механик! Помогите, я задыхаюсь! — прохрипел он. — Если я откажу, кто же будет толкать корабль вперед? — Тише! Прошу вас, тише! — прошептал Пар, которому, разумеется, уже неоднократно доводилось выходить в море. Свободное от работы время он предпочитал проводить на берегу, в облаке, сточной канаве, цветочном горшке или грозовой туче — словом, везде, где требовалась вода. — Это всего лишь первое переполнение котла и машины, или перелив, как его еще называют. Так будет происходить на протяжении всей ночи— давление будет то нарастать, то падать. Не скажу, что это особенно приятно, но, учитывая обстоятельства, ничего иного ожидать не приходится. — Да при чем здесь обстоятельства? Я должен делать свою работу — на чистом и сухом пару. К черту обстоятельства! — взревел цилиндр. — Обстоятельства как раз и дадут нам хорошенько проветриться. Я уже много раз бывал в Северной Атлантике — к утру нам придется несладко. — Как это ни прискорбно, но и сейчас ни о каком спокойствии говорить не приходится, — заявили рамы особой прочности (их еще называют рамными шпангоутами), находящиеся в машинном отделении. — Наблюдается тяга, направленная вертикально вверх, которой мы не понимаем, а также искривление, отрицательно влияющее на наши кронштейны и ромбовидные накладки, вследствие чего образуется нечто вроде растяжения на запад-северо-запад, которое нас серьезно беспокоит. Мы сочли нужным упомянуть об этом, потому что стоим кучу денег, и уверены, что владельцу не понравится столь фривольное с нами обращение! — Боюсь, что в настоящий момент владелец ничего с этим поделать не сможет, — заявил Пар, ныряя в конденсатор. — Пока погода не улучшится, вам так или иначе придется справляться самим. — Оставим в покое погоду, — прозвучал снизу чей-то гулкий бас, — но этот злосчастный груз буквально надрывает мне душу. Я — шпунтовый пояс, и я по крайней мере в два раза толще остальных, так что знаю, о чем говорю. Шпунтовый пояс — это самый нижний лист обшивки корабельного днища, и у «Димбулы» он был сработан из мягкой малоуглеродистой стали толщиной в три четверти дюйма. — Море толкает меня вверх так, как я никогда от него не ожидал, — ворчливо продолжал пояс, — а груз тянет вниз и, разрываясь между ними, я просто не знаю, что мне делать. — Если сомневаешься, оставь все, как есть, и ничего не делай, — зарокотал Пар, закипая в бойлерах. — Вам хорошо говорить, а здесь внизу темно и страшно; откуда мне знать, выполняют ли свои обязанности остальные листы обшивки? А фальшборт наверху, как мне говорили, имеет всего-то пять шестнадцатых дюйма толщины — это же просто неслыханно! — Согласен с вами, — прогудел огромный рамный шпангоут, расположенный у главного грузового люка. Он был толще и массивнее остальных, а кроме того, изгибался посередине в форме арки, чтобы поддержать палубу в том месте, где палубные бимсы мешали бы движению груза вверх и вниз. — Я работаю совершенно без всякой поддержки, и мне кажется, что я единственный обеспечиваю прочность всей конструкции корабля. А это — огромная ответственность, уверяю вас. Полагаю, стоимость груза превышает сто пятьдесят тысяч фунтов. Не забывайте об этом! — И каждый фунт зависит от моих личных усилий. — Это подал голос кингстон, непосредственно сообщающийся с морем за бортом и расположенный неподалеку от шпунтового пояса. — Мне приятно думать, что я ношу имя принца Гайда и снабжен лучшими резиновыми прокладками из Бразилии. В мою конструкцию заложены пять патентов — я говорю об этом без излишней гордости, — пять уникальных патентов, причем каждый последующий лучше предыдущего. В данный момент я перекрыт вполне надежно. Но стоит мне приоткрыться, как всех вас поглотит пучина. И это бесспорно! С патентованными изделиями всегда так — они выбирают самые длинные слова из всех возможных. Это фокус, которому они обучаются у изобретателей. — Вот так новость! — заявила большая центробежная трюмная помпа. — Мне почему-то казалось, что ты нужен для мытья палуб и того, что на них находится. Во всяком случае, сама я неоднократно использовала тебя именно для этих целей. Точную цифру не помню, но она измеряется тысячами галлонов, которые я гарантированно выдаю в час. И уверяю вас, мои недовольные друзья-жалобщики, что опасности нет ни малейшей. Я способна откачать всю воду, которая сумеет пробраться сюда... Но, клянусь своей наивысшей производительностью, вот это так крен! Море уже разыгралось не на шутку. С запада — оттуда, где в зеленом небе виднелся рваный просвет, со всех сторон обложенный тяжелыми серыми тучами, надвигался сильный шторм. Порывистый пронизывающий ветер пробирал до костей, срывая хлопья пены с макушек тяжелых волн. — Знаете, как это называется? — протелефонировала фок-мачта вниз по своим проволочным оттяжкам. — Отсюда, сверху, мне все видно без прикрас. Против нас составлен настоящий организованный заговор. Я в этом уверена, потому что все до единой волны целятся нам прямо в нос. В этом комплоте замешано целое море — и ветер тоже. Какой ужас! — Что здесь ужасного? — лениво осведомилась очередная волна, в сотый, наверное, раз погребая под собой кабестан. — Заговор с твоей стороны, вот что, — пробулькал кабестан, беря пример с фок-мачты. — Пузырьки и морская пена сговорились! — Прошу прощения! В Мексиканском заливе образовалась область пониженного атмосферного давления... — Волна прыгнула за борт; но ее приятельницы подхватили у нее эстафету, передавая ее друг другу. — Которая продвинулась... — Очередная волна окатила брызгами зеленой воды дымовую трубу. — До самого мыса Гаттерас... — Еще одна затопила мостик. — А теперь она движется в открытое... открытое... открытое море! — Третья волна накатила в три приема, сорвав со шлюпбалок спасательную шлюпку, и та, перевернувшись днищем кверху, сгинула в бездонной впадине, пока целый водопад пенными струями рушился на балки и блоки. — Вот и вся недолга! — прошипела взбеленившаяся вода, с клокотанием устремляясь в шпигаты. — В наших намерениях нет ничего враждебного. Мы всего лишь метеорологические последствия. — А хуже не будет? — опасливо поинтересовался носовой якорь, прикованный цепью к палубе. Ему приходилось выныривать из-под очередной волны каждые две минуты и переводить дыхание. — Не знаю, а потому ничего определенного сказать не могу. К полуночи может усилиться ветер. Уж-жасно благодарна всем присутствующим! До встречи! Чрезвычайно вежливая волна еще немного прокатилась вперед и растворилась в водовороте у миделя, где меж двух высоких фальшбортов находилась колодезная палуба. Один из листов фальшборта, снабженный петлями и открывающийся наружу, распахнулся с отчетливым звонким лязгом и выпустил обратно в море массу воды. — Совершенно очевидно, что именно для этого я и предназначен! — заявил лист, захлопываясь и содрогаясь от гордости. — О нет, друг мой, только не это!.. — Над ним как раз нависла следующая волна, пытавшаяся взобраться на палубу, но поскольку лист обшивки открываться не пожелал, вода, признав поражение, с фырканьем отступила. — Неплохо для пяти шестнадцатых дюйма, — заметил лист обшивки фальшборта. — Теперь понятно, чем мне предстоит заниматься всю ночь. С этими словами он начал открываться и закрываться в такт движению корабля — в полном соответствии со своим предназначением. — Мы тоже не бездельничаем, — хором застонали все шпангоуты, когда «Димбула» принялась карабкаться на волну, завалилась на бок на ее плоской вершине и сорвалась в пропасть между валами, содрогаясь от напряжения. Но тут другая огромная волна подставила ей ладонь точно посередине корпуса, и нос и корма корабля повисли в воздухе, полностью лишившись опоры. Еще один игривый вал подпер ей нос, четвертый подставил плечо под корму, а вода из-под нее отхлынула — и только ради того, чтобы посмотреть, как это понравится судну. Теперь оно держалось всего на двух опорах, а вес груза и машин обрушился на стальной киль и скуловые стрингеры, которые аж застонали от натуги. — Полегче! Эй, там, полегче! — взревел шпунтовый пояс. — Мне нужна честная игра хотя бы на одну восьмую дюйма! Слышите меня, заклепки? — Полегче! Ослабьте нажим! — наперебой закричали скуловые стрингеры. — Не прижимайте нас так плотно к рамам! — Ослабьте зажим! — закряхтели палубные бимсы, когда «Димбула» опасно накренилась. Мы уже сбили все колени о стрингеры и не можем даже пошевелиться. Ослабьте зажим, маленькие глупые зануды! В следующий миг две идущие навстречу друг другу волны ударили в нос с обеих сторон и с ревом откатились в пене брызг. — Полегче! — завопила форпиковая таранная переборка. — Мне так и хочется смяться, но я зажата со всех сторон. Полегче, вы, маленькие грязные кованные опилки! Мне нечем дышать! Все сотни стальных листов, приклепанные к шпангоутам и составляющие наружную обшивку любого корабля, хором подхватили этот клич, поскольку каждому листу хотелось немного подвинуться, чему мешали заклепки. — Мы тут ни при чем! Мы ничего не можем поделать! — забормотали заклепки в ответ. — Нас поставили сюда, чтобы мы держали вас, что мы и намерены делать; а вы только и делаете, что дергаете нас в разные стороны. Если бы вы сказали, что собираетесь делать дальше, мы могли бы обсудить наши действия. — Если ощущения меня не обманывают, — заявила обшивка верхней палубы, а она была толщиной в целых четыре дюйма, — то каждая железка во мне дергается и тянет в разные стороны. Хотела бы я знать, какой в этом смысл? Друзья мои, давайте дружно приналяжем в каком-нибудь одном направлении. — Можешь налегать куда тебе заблагорассудится, — проревела дымовая труба, — только на меня не рассчитывай. Чтобы сохранить равновесие, мне нужны все четырнадцать проволочных тросов, тянущих в противоположные стороны. Разве не так? — Мы верим тебе, подружка! — пропели трубштаги сквозь стиснутые зубы, со звоном вибрируя под порывами ветра от макушки трубы до самой палубы. — Вздор! Мы все должны тянуть в одну сторону, — повторила палуба. — В продольном направлении. — Очень хорошо, — отозвались стрингеры, — в таком случае, перестань раздаваться в разные стороны, когда на тебя обрушивается вода. Достаточно вытянуться во всю длину — от носа к корме, а по краям можешь изогнуться вовнутрь, как поступаем все мы. — Нет... никаких изгибов на концах! Только легкое искривление от одного борта к другому, с надежной опорой на каждое колено и маленькие приваренные кронштейны, — возразили палубные бимсы. — Чепуха! — возопили стальные пиллерсы из глубокого и темного трюма. — Что вы там мелете насчет изгибов? Стоять следует ровно и прочно, как и надлежит хорошей круглой колонне, держащей на себе многие тонны веса, — вот так! Смотрите! Огромная волна обрушилась на верхнюю палубу, и пиллерсы напряглись и застыли, сопротивляясь чудовищной нагрузке. — Напрягаться по вертикали не так уж и плохо, — заявили рамы, протянувшиеся от одного борта до другого. — Но вы также должны расширяться и в стороны. Расширение — закон жизни, детки. Ну же, давайте! В стороны! — А ну-ка, возвращайтесь обратно! — гневно огрызнулись палубные бимсы, когда море снова швырнуло корабль вверх и шпангоуты попытались раскрыться. — Возвращайтесь на место, безмозглые железки! — Жесткость! Прочность! Устойчивость! — пыхтели паровые машины. — Абсолютная и безусловная — жесткость, устойчивость и прочность! — Видите! — дружным хором захныкали заклепки. — Среди вас не найдется и пары частей, готовых действовать заодно, а вы еще пытаетесь обвинять нас! А ведь мы только и знаем, как пройти лист насквозь и вцепиться в него зубами с обеих сторон, чтобы он не мог пошевелиться. — Во всяком случае, я хожу из стороны в сторону примерно на дюйм, — с торжеством сообщил шпунтовый пояс. Он не погрешил против истины, и все днище корабля ощутило это на себе. — В таком случае, от нас нет никакого толку, — всхлипнули заклепки днища. — Нам было приказано — ясно и недвусмысленно — никогда не сдвигаться и не растягиваться; а сейчас мы разойдемся, и море ворвется в трюмы, и мы все вместе отправимся на дно! Сначала нас обвиняют во всевозможных грехах, а теперь мы не можем даже утешиться сознанием того, что хорошо делали свою работу. — Не рассказывайте никому о том, что я сейчас вам скажу, — шепотом попытался утешить их Пар, — но, между нами говоря, это должно было случиться рано или поздно. Вы должны были уступить самую чуточку, и вы это сделали. А теперь не поддавайтесь и стойте на своем, как раньше. — И какой в этом смысл? — запричитали несколько сотен заклепок. — Мы сдались, мы уступили. И чем скорее мы признаемся, что не можем удержать корабль как одно целое и что наши маленькие головки вот-вот отлетят, тем лучше будет для всех. Ни одна каленая заклепка не способна выдержать подобного напряжения! — Никто и никогда не рассчитывал, что кто-либо из вас выдержит его в одиночку. Разделите напряжение между собой, — посоветовал Пар. — Пусть мою нагрузку возьмут на себя остальные. Лично я собираюсь выскочить, — сообщила заклепка в одном из передних листов обшивки. — Если ты сдашься и сделаешь это, за тобой последуют остальные, — прошипел Пар. — На корабле нет ничего более заразительного, чем заклепки, выскакивающие из пазов одна за другой. Знавал я одного приятеля, похожего на тебя, — правда, он был на одну восьмую дюйма толще. Так вот, он стоял на пароходе водоизмещением всего-навсего в тысячу двести тонн, и теперь, оглядываясь назад, мне даже кажется, что он располагался в точности в том же месте, что и ты. Он выскочил во время волнения на море, причем оно было куда меньше, чем сейчас, напугав всех своих друзей на стыковой планке, и те последовали за ним, а листы обшивки стали открываться один за другим, словно печные дверцы, и мне пришлось прятаться в ближайшую полосу тумана, когда корабль пошел на дно. — Но это просто позорно и бесчестно! — возмутилась заклепка. — Значит, он превосходил меня толщиной, а тоннаж того судна был вполовину меньше нашего? Жалкий маленький колышек! Мне стыдно за свое семейство, сэр. — И заклепка понадежнее устроилась на своем месте, а Пар едва слышно хмыкнул. — Видишь ли, — продолжал он самым серьезным тоном, — каждая заклепка, особенно в твоем положении, является неотъемлемой частью корабля. Пар не стал упоминать о том, что эти же самые слова он говорил каждой железке на корабле. Незачем им знать лишнее. Все это время «Димбула» карабкалась с волны на волну и обрушивалась вниз, стойко переносила удары могучих валов, сжимавших ее, словно тисками, раскачивалась и вращалась, а иногда просто ложилась на борт, словно готовясь умереть, а потом подпрыгивала, как ужаленная, и вертела носом во все стороны, стряхивая с себя морскую пену. Ураган бушевал вовсю. Вокруг царила кромешная тьма, видны были только пенные гребни волн, и в довершение ко всему, хлынул такой проливной дождь, что невозможно было разглядеть что-либо на расстоянии вытянутой руки. Для металлических конструкций внизу это особой роли на играло, зато фок-мачта встревожилась не на шутку.
— Ну, теперь нам точно конец, — обреченно заявила она. — Заговор против нас оказался чересчур силен. Нам ничего не остается, кроме как... — Уррра! Бррра! Бррру! — заревел Пар в противотуманную сирену, да так, что палубы задрожали мелкой дрожью. — Эй, там, внизу, не бойтесь! Просто я решил сказать пару слов на тот случай, если кто-нибудь окажется поблизости. — Ты хочешь сказать, что, кроме нас, в такую погоду в море есть еще кто-то? — поперхнувшись дымом, осведомилась труба. — Разумеется. Таких, как мы, много, — ответил Пар, прочищая глотку. — Ррра! Бррра! Ррру! Здесь немножко ветрено; и, Великие Котлы, какой же сильный ливень! — Мы тонем, — мрачно сообщили шпигаты. Всю ночь они только и делали, что выпускали воду с палубы, но теперь сплошная завеса ливня показалась им концом света. — Все нормально! Через час-другой станет полегче. Сначала ветер, а потом дождь. Уже совсем скоро мы поплывем дальше. Грррах! Дрррах! Дрррп! Мне кажется, что море начинает успокаиваться. Если я не ошибаюсь, скоро вы узнаете, что такое бортовая качка. До сих пор мы испытывали одну килевую — с носа на корму. Кстати, ребятки, а не стало ли вам малость полегче держаться на своих местах? Нет, вокруг по-прежнему стоял стон и скрип, но уже не такой громкий, как раньше; а когда корабль вздрагивал, то не грубо и жестко, как падающая на пол кочерга, а мягко и уверенно, как правильно сбалансированная клюшка для гольфа. — Мы сделали поразительное открытие, — один за другим вдруг заявили стрингеры. — Открытие, которое полностью меняет ситуацию. Впервые в истории кораблестроения мы обнаружили, что внутреннее сжатие палубных бимсов и наружное растяжение шпангоутов позволяет нам крепче стоять на своих местах, выдерживая при этом напряжение, равного которому, пожалуй, не зафиксировано в анналах мореплавания. Чтобы скрыть смешок, Пар поспешно задудел в противотуманную сирену. А оборвав рев, негромко произнес: — Какие же вы, стрингеры, оказывается, выдающиеся мыслители... — Мы тоже, — начали палубные бимсы, — первооткрыватели и, в своем роде, гении. Мы пришли к выводу, что поддержка трюмных пиллерсов помогала нам в самом прямом смысле. Оказывается, мы можем опереться на них, когда море сверху обрушивает на нас всю свою водную массу! Тут «Димбула» провалилась во впадину между валами и почти легла на борт. Выпрямиться она сумела лишь в самом низу, причем с тяжким стоном и вздохом. — В этом случае — известно ли тебе об этом, Пар? — листовая обшивка на носу и, особенно, на корме, да плюс еще перегородки на самом дне, под нами, помогают нам сопротивляться любому усилию на разрыв. Шпангоуты изрекли эти прописные истины тем взволнованным и благоговейным тоном, каким говорят люди, только что узнавшие нечто совершенно для себя новое. — Я — всего лишь бедный бесплотный туман, — заявил Пар, — но и мне приходится выдерживать большое давление. Все это на свой лад интересно. Расскажите нам обо всем поподробнее, ребята, — вы ведь такие сильные! — Понаблюдай за нами и сам все увидишь, — с важностью ответила обшивка носовой оконечности. — Готовься! Сзади! К нам идут отец и мать всех волн! Держитесь, заклепки!.. Гигантская волна догнала корабль и с ревом обрушилась на палубу, но сквозь вой ветра и шум воды Пар расслышал и негромкие тревожные возгласы металлических конструкций, которым пришлось напрячь все силы: — Эй, полегче, полегче! А теперь держитесь! Держитесь! Так, чуток подались назад! Держитесь! Еще осади назад! Теперь толкайте крест-накрест! Не забывайте о напряжении на концах! Ухватились и держим! Держим, кому говорю?!! Пусть вода схлынет — все, пошла!.. Волна откатилась в темноту, крича: «Совсем неплохо для первого раза!» — а насквозь промокший и зарывшийся в воду корабль встряхнулся, подрагивая в такт паровым машинам. Все три цилиндра «Димбулы» покрывал белый налет соли, попавшей в машинное отделение с водой через главный люк; укутанные в парусину паропроводы окутались белым инеем, и даже блестящие медные и хромированные части потускнели, испещренные солевыми точками. Но цилиндры уже научились выжимать максимум из пара, наполовину смешанного с водой, и поэтому жизнерадостно стучали, не обращая внимания на неудобства. — Как дела у самого благородного изобретения человечества? — поинтересовался Пар, туманной дымкой кружа по машинному отделению. — В этом мире, полном скорби и печали, ничто не дается просто так, — отозвались цилиндры, словно отработали уже несколько веков, — но мы держим семьдесят пять фунтов на дюйм. Однако в последний час мы делаем всего два узла с четвертью! Довольно унизительно для машины мощностью в восемьсот лошадиных сил, ты не находишь? — Что ж, во всяком случае, это лучше, чем дрейфовать кормой вперед. Теперь вы выглядите уже не такими — как бы это выразиться? — неподатливыми, как в самом начале. — Если бы тебя так же долбили, как нас сегодня ночью, ты бы тоже растерял всю неподатливость... датливость... ивость. Теорети... ретти... ретти... чески, разумеется, жесткость — как раз то, что надо. А вот с пррррактичес... пррак... ской точки зрения, необходим баланс между податливостью и неуступчивостью. Мы убедились в этом на собственном опыте, работая по бортам по пять минут поочередно... чередно... редно. Как там погода? — Буря успокаивается, — сообщил им Пар. — Хорошее дело, — заметил цилиндр высокого давления. — Ну-ка, ребятки, давайте немножко разгоним эту посудину. Нам добавили пара еще на пять фунтов, — и он затянул первые строчки из «Обратился молодой Обадия к старому Обадии», каковой мотивчик, как вы сами наверняка могли заметить, является чрезвычайно популярным у паровых машин, не рассчитанных на высокие скорости. Океанские лайнеры с двумя винтами предпочитают «Турецкий марш» или увертюры к «Бронзовой лошади» и «Дочери мадам Анго», но если что-нибудь идет не так, они переключаются на «Похоронный марш марионетки» Шарля Гуно в разнообразных вариациях. — Когда-нибудь и вы освоите собственную мелодию, — сказал им Пар и в последний раз приложился к гудку противотуманной сирены. На следующий день небо прояснилось, и море немного успокоилось, зато началась такая качка, что «Димбула» попеременно ложилась то на один борт, то на другой, пока у каждого кусочка железа в ее корпусе не начала кружиться голова. К счастью, морская болезнь началась не у всех одновременно: в противном случае, корабль бы развалился, как намокшая картонная коробка. Занимаясь своим делом, Пар то и дело тревожно посвистывал: именно во время такой вот утомительной бортовой качки, приходящей на смену урагану и шквалам, и происходит большинство аварий и несчастных случаев на море, потому что все думают, что худшее уже позади, и расслабляются. Посему он ораторствовал и болтал без умолку до тех пор, пока балки и рамы, опоры, стрингеры и прочие узлы и детали не научились объединяться между собой и опираться друг на друга, с честью выдерживая новое испытание. Чтобы попрактиковаться в этом как следует, у них была масса времени, поскольку в море они провели шестнадцать дней, и лишь когда до гавани Нью-Йорка оставалась какая-нибудь сотня миль, погода переменилась. Подобрав своего лоцмана, «Димбула» вошла в порт, сплошь покрытая солью и свежей бурой ржавчиной Ее дымовая труба стала темно-серой сверху донизу, две шлюпки смыло за борт, три медных кожуха вентилятора походили на шляпы нетрезвых гуляк после жаркой схватки с полицией, посередине мостика образовалась вмятина, а рубка, в которой размещалась рулевая паровая машина, была покрыта сетью трещин, словно ее изрубили топором. Счет за мелкий ремонт в машинном отделении получился почти таким же длинным, как гребной вал, деревянная крышка носового люка, когда ее подняли, развалилась на части, а паровой кабестан перекосился на своем основании. Тем не менее, по словам шкипера, «повреждения оказались минимальными». — И еще она пообтерлась и потеряла неуклюжесть, — сказал он мистеру Бьюкенену. — Несмотря на свое водоизмещение, руля она слушалась легко, словно гоночная яхта. Помните тот последний шквал у Большой Ньюфаундлендской банки? Я просто горжусь ею, Бак! — Она и впрямь хороша, — согласился старший механик, глядя на неопрятные и взъерошенные палубы. — Постороннему и предвзятому наблюдателю может показаться, что мы потерпели кораблекрушение, — но мы-то с вами знаем правду. Вполне естественно, что все узлы и механизмы «Димбулы» преисполнились гордости, а фок-мачта и передняя таранная переборка, создания напористые и пробивные, стали умолять Пар оповестить весь Нью-Йоркский порт об их прибытии. — Расскажи о нас этим большим кораблям, — твердили они. — А то они воспринимают нас как нечто само собой разумеющееся и недостойное внимания. Утро выдалось великолепное — ясное, тихое и безоблачное, и в едином строю, с оркестрами на палубах, под басовитые гудки буксиров и взмахи дамских платочков, их приветствовали «Мажестик», «Париж», «Турень», «Сербия», «Кайзер Вильгельм II» и «Веркендам», величественно направлявшиеся к выходу из гавани. Когда же «Димбула» переложила штурвал, уступая дорогу роскошным круизным лайнерам, Пар (который полагал себя всезнайкой и потому не стеснялся лишний раз прихвастнуть и порезвиться) прокричал: — О да! О да! О да! Принцы, герцоги и бароны морей и океанов! Настоящим спешу уведомить вас, что мы — «Димбула», пятнадцать суток и девять часов тому назад вышедшие из Ливерпуля, — впервые в своей карьере пересекли Атлантику с четырьмя тысячами тонн груза! Мы не потерпели фиаско и не пошли ко дну. И вот мы здесь. Ур-ра! Мы в полном порядке. Но нам пришлось пережить испытания, невиданные прежде в истории мореплавания! Волны обрушивались на наши палубы одна за другой, сметая все на своем пути! Мы выдержали килевую и бортовую качку! Мы уже думали, что погибаем! Ура! Ура! Но этого не случилось. Мы хотим дать вам знать, что пришли в Нью-Йорк через всю Атлантику, преодолев самые неблагоприятные погодные условия, какие только можно представить; отныне мы — «Димбула»! Мы — рр... гха... ррр! Красавцы-лайнеры стройной чередой проходили мимо, уверенные и невозмутимые, как времена года. «Димбула» слышала, как «Мажестик» хмыкнул: «Хм!», «Париж» фыркнул: «Однако!», «Турень» кокетливо свистнула в паровой гудок: «Oui», «Сербия» коротко буркнула: «Привет!», а «Кайзер» и «Веркендам» на немецко-голландский манер гаркнули: «Ура!» — и на этом все кончилось. — Я сделал все, что мог, — торжественно сообщил Пар, — но не думаю, что мы произвели на них такое уж большое впечатление. А вы как полагаете? — Это отвратительно, — заявила обшивка носовой оконечности. — Они-то должны были понять, через что нам довелось пройти. На всем белом свете не найти другого корабля, на долю которого выпали бы такие испытания, какие достались нам, не так ли? — Ну, я бы не преувеличивал, — заявил Пар, — поскольку мне довелось поработать еще на нескольких судах, проводя их за шесть дней через ненастье, ничуть не меньшее, чем то, что противостояло нам на протяжении двух недель; и у некоторых из них водоизмещение, если не ошибаюсь, превышало десять тысяч тонн. Например, я видел, как «Мажестик» зарывался в волну так, что из пены торчал только кончик его дымовой трубы, а еще я помогал «Аризоне» — кажется, это была именно она, — уклониться от айсберга, который она встретила однажды темной ночью. А еще помню, как мне пришлось спасаться бегством из машинного отделения «Парижа», потому что вода в нем поднялась до уровня в тридцать футов. Не стану отрицать, разумеется... — Пар оборвал себя на полуслове, потому что на траверзе показался буксир, на борту которого столпились политики всех мастей и духовой оркестр, провожавшие сенатора от штата Нью-Йорк в Европу, который шел встречным курсом, направляясь в Хобокен. Внезапно на «Димбуле» от форштевня до кончика лопастей винтов, словно по мановению волшебной палочки, воцарилась полная тишина. И вдруг чей-то голос медленно и невнятно произнес, как если бы владелец его только что очнулся от сна: — Кажется, я выставил себя круглым дураком... Пар сразу понял, что произошло: когда корабль обретает себя, все разговоры его отдельных частей и механизмов моментально прекращаются, сливаясь в один голос, который и есть голос души корабля. — А ты кто такой, а? — со смешком осведомился Пар. — Я — «Димбула», разумеется. И никогда не был никем иным — ну разве что только круглым дураком! Буксир, который каким-то чудом сумел увернуться от них, выскочил из-под самого носа парохода; а его оркестр, гремя барабанами и литаврами, шумно разразился популярным, но несколько непристойным шлягером:
И во времена старого Рамзеса — ты согласна?
И во времена старого Рамзеса — ты согласна?
И во времена старого Рамзеса,
И доныне история остается неизменной,
Ты согласна — ты согласна — ты согласна?..
МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ
Провиант и прочие припасы дороги и очень плохого качества, а условия даже для мелкого ремонта отсутствуют.«Предупреждение мореплавателям»
Национальная принадлежность этого судна была прописана в судовых документах как британская, но вы бы не отыскали названия компании, которой оно принадлежало, в списках нашего торгового флота. Это был винтовой грузовой пароход, ничем не отличающийся от любого другого трампового судна[37]: водоизмещением в девятьсот тонн, с обшитым железом корпусом и парусным вооружением шхуны. Но каждый пароход, как и человек, имеет свои склонности и характер. Некоторые, например, за соответствующее вознаграждение готовы держать как можно круче к ветру — и в нашем грешном мире таким людям и кораблям непременно находится соответствующее применение. С того момента, как «Аглая» впервые вышла в Клайд — новенькая, сверкающая и невинная, с пеной дешевого шампанского, еще не смытой с форштевня, — судьба в лице ее владельца, который одновременно приходился ей капитаном, решила: отныне она будет иметь дело исключительно с оказавшимися в безвыходном положении коронованными особами, спасающимися бегством президентами, нечистыми на руку финансистами, женщинами, которым требуется решительная перемена обстановки и климата, и прочими нарушителями закона. За время своей бурной карьеры ей не раз случалось побывать в Адмиралтейском суде, где данные под присягой показания ее шкипера вызывали жгучую зависть у коллег по цеху. Моряк не станет лгать перед лицом морской стихии — ураган не введешь в заблуждение; но, как убедились судейские чиновники, он компенсирует эту упущенную возможность, едва ступив на сушу и предусмотрительно держа в обеих руках разноречивые документы и письменные свидетельства. «Аглая» сыграла заметную роль в спасательной операции на реке Макино. Тогда она оступилась впервые, там же узнала, что значит сменить название, сохранив все остальное, и пересечь океан из конца в конец. Под именем «Путеводной звезды» ее с нетерпением ждали в одном южноамериканском порту, правда, из-за сущего пустяка — когда она на полном ходу вошла в гавань, ей подвернулись на пути угольная баржа и единственный военный корабль маленького, но гордого государства, который как раз собирался бункероваться. Без объяснения причин она бросилась наутек в открытое море, не обращая внимания на то, что батареи трех фортов целых полчаса палили ей вслед. В качестве «Джулии Макгрегор» она оказалась замешана в некой темной истории, сняв со спасательного плота нескольких джентльменов, которым полагалось бы оставаться в Нумеа, но которые предпочли рассориться с властями в другом уголке земного шара. Под именем «Шахиншах» ее задержал в открытом море с грузом военного снаряжения крейсер одной беспокойной державы, состоящей в натянутых отношениях со своими соседями. В тот раз ее едва не потопили, но ее изрешеченный корпус предоставил возможность недурно подзаработать адвокатам обеих стран. Однако уже спустя несколько месяцев она возродилась под именем «Мартин Хант», с корпусом, выкрашенным в серо-стальной цвет, с темно-оранжевой дымовой трубой и бледно-голубыми шлюпками, и ввязалась в контрабандную торговлю в Одессе, пока ей не предложили (да так, что от этого предложения невозможно было отказаться) держаться как можно дальше от портов Черного моря. На ее долю выпали бесчисленные экономические и политические кризисы и неурядицы. То невозможно было днем с огнем отыскать никаких грузов, равно как и платы за их транспортировку, то члены профсоюза моряков забрасывали гаечными ключами и гайками дипломированных капитанов, то стивидоры с помощью нехитрых махинаций осуществляли разгрузку так, что груз буквально испарялся на пристани. Но «Аглая», под какими бы именами она не значилась, продолжала заходить в порты, неизменно деловитая, настороженная и неприметная. Ее капитан не жаловался на трудности, а экипаж подписывал новые трудовые контракты так же охотно, как боцманы на трансатлантических лайнерах. В случае необходимости она легко меняла название, но хорошо оплачиваемый экипаж не изменял ей никогда; и большая часть доходов, полученных от тайных рейсов, щедрой рукой расходовалась на нужды машинного отделения. «Аглая» никогда не беспокоила страховщиков и очень редко останавливалась поболтать с сигнальными постами, поскольку, как правило, была занята неотложными делами приватного свойства. Но всему на свете приходит конец. Пришел он и торговым операциям «Аглаи», все еще носившей имя «Мартин Хант», да и ей самой. В Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии и Полинезии воцарился мир. Державы вели себя друг с другом более-менее честно; банки рассчитывались с вкладчиками вовремя; бесценные бриллианты благополучно попадали в руки владельцев; республики переводили дух, вполне довольные своими диктаторами; дипломаты не усматривали никого, чье поведение беспокоило их хотя бы в малой степени; монархи жили с законными женами. Складывалось впечатление, что весь мир принарядился в свой лучший воскресный наряд; и дела «Мартина Ханта» шли все хуже и хуже. И когда это благочестивое спокойствие похоронило под собой «Мартина Ханта» вместе с его стальным корпусом, оранжевой дымовой трубой и всем прочим, в другом полушарии внезапно возник китобойный пароход под названием «Галиотис» — черный и ржавый, с трубой цвета гуано, разнокалиберными шлюпками и огромной печью для вытапливания ворвани на передней палубе. Не могло быть сомнений в том, что его плавание было успешным — «Галиотис» заходил в несколько малоизвестных портов, и дым от вытапливаемого китового жира повсюду осквернял воздух ни в чем не повинных побережий. Вскоре этот китобой снова вышел в море со скоростью среднего лондонского кэба и направился в одно теплое голубое внутреннее море, которое по сей день остается одним из самых охраняемых мест в Мировом океане. Там корабль на некоторое время задержался, и крупные звезды с бархатного неба следили за тем, как он играет «в свои соседи» среди островов, где киты отродясь не водились. При этом он самым кошмарным образом отравлял райский воздух, а издаваемый им смрад явно не имел к китам ни малейшего отношения. Но однажды вечером у острова Пайанг-Ватаи его подстерегла беда. Корабль бросился наутек, а его экипаж тем временем начал отпускать обидчивые замечания, сопровождаемые оскорбительными жестами, в адрес приземистой канонерской лодки, устроившей эту погоню и пачкавшей голубое небо черным дымом далеко позади. Возможности каждого судна в этих водах были известны морякам с «Галиотиса» вплоть до числа оборотов двигателя, тем не менее они старательно избегали подобных встреч. Британский пароход с чистой совестью, как правило, не стремится удрать от военного корабля иностранной державы, а если тот рискнет остановить и обыскать подданного британской короны, это будет считаться нарушением неписанного этикета. Но капитан «Галиотиса» не решился проверить справедливость этого утверждения на практике, а вплоть до наступления ночи держал скорость на отметке в одиннадцать узлов. И только одну вещь он все-таки упустил из виду. Держава, содержавшая военно-морской патруль из двух судов, курсировавший в этих водах, недавно перевела сюда третье судно, обладавшее скоростью хода в четырнадцать узлов и чистым днищем. Именно поэтому на рассвете «Галиотис», шедший на всех парах с оста на вест, оказался в положении, при котором невозможно было не заметить четырех сигнальных флагов в полутора милях позади, сочетание которых означало: «Приказываю лечь в дрейф, иначе не отвечаю за последствия». У «Галиотиса» был шанс, и он решил им воспользоваться. Рассчитывая на свою более мелкую осадку, он решил повернуть на норд и пройти над знакомой отмелью. Но снаряд, угодивший в каюту старшего механика, имел в диаметре около пяти дюймов и нес учебный, а не боевой заряд. Он был выпущен прямо по курсу «Галиотиса», поэтому сбил с переборки портрет супруги старшего механика — а она была очень красивой женщиной, вдребезги разнес умывальник, вылетел в проход, ведущий в машинное отделение, и, пробив решетку, врезался в станину передней машины. Там он разлетелся на части, аккуратно срезав два болта, которые удерживали главный шатун, ведущий к переднему коленвалу. То, что последовало за этим событием, достойно более подробного описания. Передняя машина полностью вышла из строя. Освобожденный шток ее поршня, который теперь уже ничто не сдерживало, яростно рванулся вверх, сорвав большую часть гаек с крышки головки блока цилиндров. Затем, движимый давлением перегретого пара, он снова опустился, и лапа отсоединившегося шатуна, бесполезная, как стопа человека после растяжения лодыжки, отлетела вправо и со страшной силой врезалась в чугунную несущую опору передней машины со стороны штирборта, переломив ее примерно в шести дюймах над основанием и выгнув верхнюю часть наружу так, что она вошла на три дюйма в борт судна. После этого шатун заклинило. Тем временем задняя машина, оставшаяся неповрежденной, продолжала работать и во время следующего оборота приподняла коленчатый вал передней машины таким образом, что он окончательно разрушил уже застопоренный шатун, согнув его под немыслимым углом, а вместе с ним и крейцкопф — массивный ползун, скользящий по направляющим вверх и вниз. Ползун отлетел в сторону, врезавшись в направляющие, а заодно окончательно добил и без того уже поврежденную опору правого борта и расколошматил опорную колонну левого борта. Теперь, когда в обеих машинах двигаться было больше нечему, они заклинились с жуткой икотой, подбросившей «Галиотис» на добрый фут над поверхностью воды. Тем временем механики и кочегары, открыв все паровыпускные клапаны, какие только сумели найти в суматохе, выскочили на палубу, ошпаренные, но живые и, как ни странно, спокойные. Снизу доносились дьявольские звуки — шипение, клацанье, скрежет и звук; впрочем, продолжались они не более минуты. Машина, так сказать, под влиянием обстоятельств непреодолимой силы приспосабливалась сразу к сотне внезапно изменившихся условий. Старший механик мистер Уордроп, поставив одну ногу на верхнюю решетку машинного отделения, склонил голову к плечу, прислушался и жалобно застонал. Невозможно остановить машины, дающие двенадцать узлов, за три секунды, не разрушив их. «Галиотис» все еще скользил вперед, окутанный облаками пара, издавая при этом пронзительное ржание, словно раненая лошадь. Но делать было нечего. Пятидюймовый снаряд с уменьшенным зарядом перевернул ситуацию с ног на голову, утвердив окончательный порядок вещей. Когда ваш трюм, все три отсека, под завязку забит раковинами моллюсков-жемчужниц; когда вы обчистили четыре жемчужные банки, расположенные в разных концах Аманальского моря, буквально вырвав сердце у правительственной монополии, да так, что пять лет каторжных работ не в силах возместить причиненный вами ущерб, — остается только улыбаться и с достоинством принять удар судьбы. Однако капитан «Галиотиса», следя за тем, как от военного корабля отваливает катер, вдруг вспомнил, что его обстреляли в открытом море, то есть в нейтральных водах, да еще под живописно развевающимся на флагштоке британским флагом — и решил утешиться хотя бы этим соображением. — Где, — осведомился флегматичный лейтенант, поднимаясь на борт, — где эти чертовы жемчужницы? Они находились здесь, и скрыть это было невозможно. Никакие письменные объяснения не помогли бы им избавиться от смрада разложившихся моллюсков, водолазных костюмов и люков, усыпанных пустыми раковинами. Они были здесь, причем на сумму в семьдесят тысяч фунтов; и каждый из этих фунтов был добыт противозаконным путем. Военный корабль пребывал в явном раздражении; он сжег массу угля, едва не надорвал свою машину, но хуже всего — его офицеры и команда вымотались и изнемогали от напряжения и усталости. Каждого члена экипажа «Галиотиса» арестовывали по нескольку раз по мере того, как на его палубу поднимались все новые офицеры; в конце концов, субъект в чине, примерно равном мичману, сообщил им, что они должны считать себя военнопленными, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и поместил их под арест. — Это недружественный и поспешный шаг, — учтиво возразил шкипер. — Было бы лучше, если бы вы просто взяли бы нас на буксир... — Молчать! Вы арестованы! — последовал ответ. — Хотел бы я знать, как, дьявол меня побери, мы можем сбежать? Мы же совершенно беспомощны. Вы должны отбуксировать нас куда-нибудь, а заодно и объясниться, с чего это вам вздумалось обстреливать нас в нейтральных водах. Мистер Уордроп, мы ведь совершенно беспомощны, не так ли? — Я бы сказал — уничтожены, — поправил старший механик своего капитана. — Если начнется бортовая качка, передний цилиндр оторвется и пробьет нам днище. Обе опорные колонны перебиты в нескольких местах. Словом, машина в руинах. Военный совет, безжалостно колотя кортиками в ножнах по ногам, отправился лично убедиться в правдивости слов мистера Уордропа. Он, правда, предупредил их, что спускаться в машинное отделение опасно для жизни, и офицеры удовлетворились осмотром с безопасного расстояния, благо клубы пара уже начали рассеиваться. «Галиотис» покачивался на длинной зыби, и колонна правого борта негромко поскрипывала, как человек, скрежещущий зубами оттого, что ему угрожают ножом. Передний цилиндр держался на той непонятной силе, которую называют «сопротивлением материалов». — Видите, что творится! — сказал мистер Уордроп, поспешно уводя их прочь. — Теперь эти машины не продашь даже на металлолом. — Мы возьмем вас на буксир, — последовал ответ. — А потом конфискуем все подчистую. На военном корабле имел наличие некомплект команды, и потому там не сочли возможным отправить абордажную партию на борт «Галиотиса», ограничившись одним-единственным младшим лейтенантом, которого капитан моментально напоил, поскольку ему не хотелось уж слишком облегчать врагу буксировку, да и с носовой части его судна свисал слишком короткий трос. Буксировка началась со средней скоростью в четыре узла. «Галиотис» оказался неповоротлив и тяжел, поэтому у лейтенанта-артиллериста, от большого ума всадившего в судно браконьеров пятидюймовый снаряд, было время поразмыслить о последствиях собственной поспешности. А вот мистеру Уордропу передохнуть было некогда. Он взял в оборот всю команду,чтобы деревянными брусьями и блоками приподнять с днища и выставить на распорки блоки цилиндров. Работа была рискованной, однако моряки были готовы на что угодно, лишь бы не пойти ко дну, болтаясь на конце буксирного троса. Если бы передний блок цилиндров сорвался с крепления, то неизбежно пробил бы дно и отправился в пучину морскую, утащив с собой и «Галиотис». — Куда мы направляемся, и как долго они собираются нас буксировать? — поинтересовался механик у шкипера. — Бог его знает! А этот лейтенант мертвецки пьян, от него ни слова не добиться. Вы полагаете, что сможете что-то сделать? — Шанс есть, но крохотный, — ответил мистер Уордроп шепотом, хотя поблизости не было никого, кто мог бы их подслушать. — Если в человеческих силах починить машину, мы ее починим. А при наличии некоторого времени и терпения мы сможем поднять пары. Да, пожалуй, сможем. У шкипера просветлело лицо и загорелись глаза. — Вы хотите сказать, — начал он, — что наша старушка еще не так плоха? — Ни в коем случае, — отозвался мистер Уордроп. — На то, чтобы отремонтировать ее по-настоящему, уйдет не меньше трех тысяч фунтов, и это не считая повреждений корпуса. Сейчас она похожа на человека, который скатился по лестнице на пять пролетов вниз. Сказать прямо сейчас, как обстоят дела, решительно невозможно; но одно я знаю точно — ей нужны новые внутренности. Видели бы вы те конденсаторные трубки и паропроводы, что ведут ко вспомогательному движку на палубе! И если они нас конфискуют, то чинить судно не станут, а попросту продадут все, что еще можно украсть. — Они стреляли в нас. Им еще предстоит ответить за это. — Наша репутация не так хороша, чтобы требовать объяснений. Удовлетворимся тем, что имеем, и не станем гневить судьбу. Вы же не хотите, чтобы в столь неподходящий момент консулы припомнили нам и «Путеводную звезду», и «Шахиншах», и «Аглаю». На протяжении последних десяти лет мы вели себя ничем не лучше пиратов. Зато сейчас, благодаря провидению, мы ничем не хуже воров. Нам есть за что благодарить небеса — даже если наша посудина больше никогда не выйдет в море. — В таком случае, вам и карты в руки, — сказал шкипер. — Если есть хотя бы микроскопический шанс... — Ну уж им-то я точно не оставлю ни единого, — отозвался мистер Уордроп. — Выбросьте за корму плавучий якорь и не позволяйте им буксировать нас слишком быстро. Нам нужно время. Шкипер никогда не вмешивался в дела машинного отделения, и мистер Уордроп, настоящий художник своего дела, спустился под палубу и принялся за работу. Фоном ему при этом служили закопченные и промасленные стены машинного отделения, а материалами для создаваемого им шедевра — металлические части паровой машины, помноженные на силу и решительность, а также круглые деревянные катки, тесаные брусья и канаты. А военный корабль, между тем, неутомимо, угрюмо и яростно тащил их на буксире. «Галиотис», следовавший за ним, негромко гудел, словно улей перед вылетом роя. Дополнительными круглыми стойками экипаж заблокировал пространство вокруг передней машины, так что она сама стала похожа на статую в деревянных лесах. Глаз стороннего наблюдателя, если бы таковой вдруг оказался внутри, постоянно натыкался бы на перекрещивающиеся столбы опор. Кроме того, этот сторонний наблюдатель моментально лишился бы душевного равновесия, узрев, что глубоко утопленные болты опор были небрежно обмотаны разлохмаченными концами тросов, отчего возникало впечатление полной и абсолютной ненадежности. Затем мистер Уордроп извлек агрегат из задней машины, которая, как мы помним, не пострадала во время аварии, и тяжелой кувалдой сокрушил выпускной клапан цилиндра. В отдаленных портах найти запасной клапан чрезвычайно трудно, если только, подобно мистеру Уордропу, вы не возите с собой запасной. Одновременно его люди отвинтили гайки двух огромных анкерных болтов, которыми машины крепились к литому основанию. Паровая машина, резко и неожиданно остановленная на полном ходу, могла запросто сорвать гайку анкерного болта, так что подобное происшествие выглядело вполне естественным. Пройдя по галерее, механик отвернул болты и гайки муфты, соединяющей валы, и разбросал их по полу вместе с прочим ненужным хламом. Болты головки блока цилиндров второй машины он попросту срезал — все шесть, — чтобы она походила на свою соседку, а в трюмные помпы и нагнетательные насосы набил ветоши. Затем он собрал целую охапку железок — гайки и золотниковые штоки, все аккуратно смазанные, — и удалился с ними под настил машинного отделения, где с тяжким вздохом, поскольку был человеком весьма корпулентным, прополз из одного люка междудонного пространства в другой и спрятал свою ношу в относительно сухом потаенном местечке. Любой механик, особенно в недружественном порту, имел полное право хранить запасные части там, где ему заблагорассудится; а лапа одной из опор блока цилиндров наглухо перекрыла вход в каптерку, даже если бы он не был заблокирован самим механиком неприметными стальными клиньями. В довершение ко всему Уордроп отсоединил вторую машину, тщательно смазанные поршень и шатун положил туда, где никому не пришло бы в голову их искать, снял три из восьми вкладышей опорных подшипников и спрятал их там, где смог бы найти только сам, вручную наполнил котлы водой, заклинил раздвижные двери угольных бункеров — и только после этих праведных трудов позволил себе отдохнуть. Теперь машинное отделение походило на заброшенное кладбище, и даже пылинки золы, плясавшие в столбе солнечных лучей, проникавшем из светового люка наверху, не могли усугубить тягостное впечатление. Затем старший механик пригласил капитана взглянуть на дело рук своих. — Вам когда-нибудь приходилось видеть столь впечатляющие руины? — с гордостью поинтересовался он. — Мне и самому страшно туда заходить. Ну, как, по-вашему, что они теперь сделают с нами? — Поживем — увидим, — ответил шкипер. — Ждать осталось недолго, и особенно радужных надежд я не питаю. В этом он не ошибся. Беззаботные деньки буксировки закончились даже слишком быстро, хотя «Галиотис» скрытно тащил за собой плавучий якорь — наполненный водой небольшой треугольный парус, и вскоре двадцать семь пленников оказались в тюрьме, полной свирепых насекомых. Канонерка отбуксировала их в ближайший порт, а не в административный центр колонии, и при виде грязной маленькой гавани с потрепанными китайскими джонками, теснившимися у причала, единственным буксиром и сараем шлюпочной мастерской, которой заведовал философ-малаец, мистер Уордроа лишь тяжко вздохнул и покачал головой. — Я все сделал правильно, — сказал он. — Здесь водятся лишь грабители потерпевших крушение судов да воры всех мастей. Мы на самом краю вселенной. Как, по-вашему, в Англии хотя бы догадываются об этом? — Судя по всему, нет, — отозвался шкипер. Их согнали на берег и под охраной внушительного эскорта предали суду в соответствии с местными обычаями. Итак, налицо был краденный жемчуг, браконьеры и невзрачный, но весьма горячего нрава губернатор колонии, перед креслом которого выстроили пленников. Губернатор коротко проконсультировался с приближенными, и события начали развиваться с поразительной быстротой, поскольку он не желал оставлять экипаж в селении, а канонерка ушла по своим делам куда-то вдоль побережья. Одним мановением руки — письменными распоряжениями здесь, очевидно, пренебрегали — он отправил их в местную каталажку, расположенную в какой-то неведомой глуши. Рука закона, так сказать, убрала преступников с его глаз и из памяти людской. Моряков выстроили в колонну и погнали в чащу, и вскоре джунгли поглотили всех, кто еще совсем недавно был экипажем «Галиотиса». А в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии и Полинезии в это время продолжал царить безмятежный и прочный мир.
* * *
Как ни странно, но на выручку им пришел один-единственный орудийный выстрел. Местным властям следовало бы помалкивать об инциденте; но когда несколько тысяч иностранцев сходят с ума от радости потому, что в открытом море было обстреляно судно под британским флагом, новости распространяются быстро. А когда, в довершение ко всему, выяснилось, что экипажу, обвиненному в воровстве и контрабанде жемчуга, отказали в общении с консулом, поскольку такового попросту не нашлось в радиусе нескольких сотен миль, даже самые дружественные державы получили право задавать неприятные вопросы. Что касается благородных и великодушных сердец британской публики, то они заходились от волнения по поводу выступления некой печально известной скаковой лошади, но в них не нашлось места для сочувствия инциденту, случившемуся в столь отдаленных краях. Тем не менее глубоко в недрах монстра, именуемого государственным аппаратом, все-таки отыскался механизм, осуществляющий надзор за иностранными делами. Этот механизм пришел в движение, и кто оказался потрясен и шокирован сильнее всех? Конечно же, держава, позволившая себе захватить «Галиотиса»! Она объяснила, что колониальные губернаторы и военные суды, находящиеся в дальнем плавании, плохо поддаются контролю и управлению, и обещала примерно наказать в назидание другим как губернатора, так и командира канонерки. Что же до пленного экипажа, насильно завербованного на военную службу в тропическом климате, то было дано обещание вернуть его как можно скорее и даже извиниться в случае необходимости. Но время для извинений было безнадежно упущено. Когда одна нация приносят извинения другой, миллионы граждан, которых это ни в коей мере не касается, приходят в такое неописуемое возбуждение, что оно способно привести в растерянность даже квалифицированного специалиста. Было выдвинуто требование немедленно разыскать и освободить экипаж, если он еще жив — вот уже восемь месяцев о нем нет ни слуху, ни духу, — и в этом случае забыть о происшествии. А маленький губернатор маленького порта был весьма доволен собой. Двадцать семь белых, образовавшие особый отряд, казались ему неплохим подспорьем в нескончаемой войне с туземцами, которую он вел, — перестрелки в джунглях и осады фортов продолжались долгие годы в гористой, покрытой джунглями местности в сотне миль от побережья. Война эта досталась ему в наследство, она тянулась с незапамятных времен и успела изрядно утомить всех официальных лиц колонии. Губернатор полагал, что честно послужил своей стране; а если бы кто-нибудь еще и купил несчастный «Галиотис», стоявший на якоре в бухте под террасой его резиденции, он был бы совершенно счастлив. Окинув взором очаровательные посеребренные лампы, позаимствованные из кают «Галиотиса», губернатор принялся прикидывать, что еще из судового имущества можно обратить в свою пользу. К несчастью, его соотечественники в этом влажном и жарком климате быстро размякали душой и теряли хватку. Заглянув в мертвое машинное отделение, они лишь сокрушенно качали головами. Даже канонерка отказалась отбуксировать проржавевшего китобоя дальше вдоль побережья — туда, где, как свято верил губернатор, его можно отремонтировать. — Сам корабль не представлял ценности, и сбыть его с рук не было ни малейшей возможности, зато ковры из его кают, бесспорно, были превосходны, а его супруге пришлись по вкусу корабельные зеркала. Но уже тремя часами позже вокруг губернатора, словно шрапнель, начали взрываться угрожающие каблограммы, поскольку именно он, даже не подозревая об этом, оказался жертвой, угодившей между молотом и наковальней. Ибо, как гласит Библия, «...никто не должен брать в залог ни верхнего, ни нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу». При этом собственные чувства и побуждения губернатора ни в малейшей степени не волновали его начальство. Каблограммы буквально вопили, что он самым злостным образом превысил свои полномочия и даже не счел необходимым доложить вышестоящей инстанции о том, какой прискорбный инцидент имел место на вверенной ему территории. Следовательно (прочитав эти строки, как подкошенный рухнул в свой гамак), ему надлежит немедленно вернуть экипаж «Галиотиса». То есть, не теряя ни минуты, послать гонца за несчастными пленниками, а в случае неудачи самому взгромоздить свою милость на пони и доставить их обратно. Оказывается, в его полномочия не входило право заставлять контрабандистов участвовать в какой-либо войне, и потому-то теперь ему предстоит ответить за самоуправство. На следующее утро каблограммы желали знать, удалось ли губернатору отыскать экипаж «Галиотиса». Его следовало немедленно найти, освободить, накормить и поставить на довольствие — и сделать это он должен лично! — до тех пор, пока не представится возможность отправить всех до единого в ближайший английский порт на военном корабле. Если вы достаточно долго грозите всеми казнями египетскими человеку, находящемуся от вас за тридевять земель, он в конце концов может проникнуться возложенной на него ответственностью. Губернатор послал-таки в горы за своими пленниками, которые теперь превратились в его солдат; и еще никогда ни один территориальный полк не горел столь пылким желанием сократить свой численный состав. Даже под страхом смерти невозможно было заставить этих безумцев облачиться в униформу, полагавшуюся им по службе. Они наотрез отказывались сражаться, разве что со своими соотечественниками, и по этой причине полк так и не отправился на войну, а остался в гарнизонном форте, обнесенном частоколом. Осенняя компания закончилась полным фиаско. Зато в джунглях возрадовались страшные косматые враги, вооруженные духовыми трубками и отравленными стрелами. Пятеро членов экипажа погибли от болезней, и сейчас на губернаторской террасе выстроились двадцать два моряка, чьи ноги были обезображены шрамами от укусов сухопутных пиявок и паразитов. Кое-кто из них еще щеголял лохмотьями, некогда именовавшимися брюками; на остальных красовались набедренные повязки из веселенького ситца; но на террасе резиденции они чувствовали себя прекрасно и естественно, а при появлении губернатора возликовали. Поистине, когда вы лишились семидесяти тысяч фунтов, потеряли весь заработок, судно и одежду, а после этого провели восемь месяцев в рабстве там, где не существует такого понятия, как цивилизация, вы начинаете ценить подлинную независимость и становитесь самым счастливым существом на свете — человеком естественным, таким, каким его создала природа. Губернатор объявил экипажу, что они поступили дурно, а моряки в ответ попросили их накормить. Однако, увидев, с каким аппетитом они едят, чиновник вспомнил, что патрульные канонерки, охраняющие жемчужные отмели, ожидаются не раньше, чем через два месяца, и испустил тяжкий вздох. А тем временем моряки разлеглись на его террасе, заявив, что отныне считают себя пансионерами его благодеяний и щедрости. Седобородый мужчина, толстый и лысый, на котором из одежды была только желто-зеленая набедренная повязка, завидев стоящий в гавани «Галиотис», испустил радостный вопль. Остальные столпились у балюстрады, пинками расшвыряв в разные стороны плетеные кресла. Они тыкали пальцами, жестикулировали и яростно спорили, не обращая ни малейшего внимания на представителя власти. Территориальный полк, якобы конвоировавший пленников, в полном составе расположился в губернаторском саду, а сам губернатор уединился в своем гамаке — отдать богу душу в лежачем положении ничуть не хуже, чем стоя, — а его жена и дочери жалобно запричитали в покоях, занавешенных жалюзи и драпировками. — Он уже продан? — полюбопытствовал седобородый, указывая на «Галиотис». Это и был мистер Уордроп. — Нет, — ответил губернатор, сокрушенно качая головой. — Плохо дело. Никто не хочет покупать. — Зато моими лампами не побрезговали, — задумчиво протянул капитан, у которого от брюк сохранилась одна почти целая штанина. Он окинул террасу внимательным взором — и губернатор окончательно пал духом. На самом виду стояли легкие раскладные стулья из капитанской каюты и письменный стол оттуда же. — Разумеется, они обобрали нашу старушку до нитки, — заметил мистер Уордроп. — Этого следовало ожидать. Надо подняться на борт и провести инвентаризацию. Смотри! — Он повернулся к губернатору и широким жестом развел руки, охватывая всю гавань: — Мы... теперь... живем... там. Это понятно? Губернатор заискивающе и с явным облегчением улыбнулся. — Он доволен, — заметил кто-то из членов экипажа. — Ничего удивительного.
Дружной толпой моряки спустились на пристань, не обращая внимания на территориальный полк, который плелся позади, гремя амуницией, и погрузились на первую попавшуюся посудину — ею оказался губернаторский катер. А потом они скрылись за фальшбортом «Галиотиса», и губернатор стал горячо молиться, чтобы они нашли себе какое-нибудь занятие на судне. Первым делом мистер Уордроп отправился в машинное отделение; и пока остальные восторженно похлопывали палубы и обнимали мачты, снизу донесся его голос, возблагодаривший господа за то, что все осталось на своих местах. Сломанные паровые машины так и стояли нетронутыми; ничья рука не посягала на его тайники; стальные клинья, удерживавшие дверь каптерки, приржавели к порожку, а самое главное — никто не покусился на сто шестьдесят тонн первоклассного австралийского угля в бункерах. — Ничего не понимаю, — бормотал мистер Уордроп. — Любой малаец запросто найдет применение меди. Они должны были срезать все трубы на судне. А ведь в гавань заходят еще и китайские джонки. Очевидно, здесь вмешалось само провидение! — Пожалуй, вы правы, — отозвался сверху шкипер. — Здесь побывал всего один вор, зато все мои вещи он вынес подчистую. Тут шкипер приврал для красного словца, потому что за обшивкой в его каюте, куда можно было добраться только с помощью стамески, хранилась некая сумма денег, которая не привлекла ничьего внимания — небольшой запасец на черный день. Там лежали исключительно старые добрые золотые соверены, имеющие хождение по всему миру, и насчитывалось их там не меньше сотни. — Они оставили машины в покое. Слава Всевышнему — повторил мистер Уордроп. — Зато унесли все остальное — взгляните! «Галиотис», за исключением машинного отделения, был тщательно и планомерно выпотрошен от носа до кормы и от киля до клотика. Несчастный лже-китобой лишился стеклянной и фарфоровой посуды, столовых приборов, матрасов, ковров и ковриков из всех кают, стульев, шлюпок и латунных вентиляционных раструбов. Мародеры также не побрезговали парусами и стальными растяжками, за исключением тех, что обеспечивали устойчивость мачт. — Надо полагать, губернатор продал все это, — заметил капитан. — А остальное, как я полагаю, перекочевало к нему в резиденцию. Вся фурнитура, какую только можно было отвинтить или оторвать, исчезла. Ходовые фонари, тиковые решетки, раздвижные рамы ходовой рубки, капитанский комод вместе с набором карт, лоций и штурманским столом, фотографии, светильники и зеркала, двери кают, резиновые коврики перед ними, ручки люков, пробковые кранцы, точильный камень плотника и его же ящик с инструментами, швабры, резиновые валики и скребки для чистки палубы, все оборудование камбуза, флаги и шкаф для сигнальных флагов, часы и хронометры, передний компас, судовой колокол и фигурный кронштейн для его крепления также числились в списке пропаж. На досках палубы остались глубокие царапины в тех местах, где по ним волочили грузовые стрелы. Должно быть, одна из них свалилась во время транспортировки, потому что леерное ограждение фальшборта было смято и вдавлено, а листы бортовой обшивки оборваны. — Это губернатор, — заметил капитан. — Он продавал судно по частям, так сказать, в рассрочку. — Надо бы вооружиться гаечными ключами и лопатами и поубивать их всех, — послышались крики матросов. — Или, еще лучше, утопить губернатора, а его женщин оставить себе! — Тогда нас просто расстреляет его полк — то есть наш собственный полк, если кто запамятовал. Кстати, а что там творится на берегу? Они что, решили встать там лагерем? — Мы отрезаны от суши, только и всего. Можете сами сходить и поинтересоваться, что у них на уме, — ответил мистер Уордроп. — У вас ведь есть брюки. Губернатор, будучи существом бесхитростным, тем не менее проявил себя превосходным стратегом. Он не желал, чтобы экипаж «Галиотиса» опять сошел на берег, хоть поодиночке, хоть всем скопом, и додумался превратить пароход в плавучую тюрьму. Им придется подождать — объяснил он с пристани капитану, который попытался причалить туда на баркасе, — до тех пор, пока не вернется канонерская лодка. А если кто-нибудь из них осмелится ступить на сушу, то туземный полк откроет огонь, а сам он не постесняется использовать оба орудия, которые имелись на вооружении городской стражи. Провиант им будут доставлять ежедневно на лодке в сопровождении вооруженной охраны. Капитану, голому по пояс, да еще и сидевшему на веслах, оставалось лишь скрипеть зубами в бессильной ярости; а губернатор разошелся не на шутку, отыгрываясь за разнос, полученный им свыше, и высказал все, что думает о моральных устоях как самого капитана, так и его команды. Баркас вернулся на «Галиотис», и когда шкипер поднялся на борт, все увидели, что на скулах у него перекатываются желваки, а ноздри побелели от ярости. — Так я и знал, — возвестил мистер Уордроп. — И приличной провизии они нам наверняка не дадут. Нам придется перейти на бананы вместо завтрака, обеда и ужина, а на фруктовой диете много не наработаешь. Увы, но это так. Тут капитан не выдержал и послал мистера Уордропа подальше за совершенно неуместные рассуждения, а команда принялась клясть друг друга, «Галиотис», затею с контрабандой жемчуга и вообще все, что только приходило им в голову. Вконец умаявшись, они умолкли, но еще долго сидели на палубе, бросая по сторонам яростные взгляды. На зеленые воды гавани, на заросли пальм вдали, на белые домики над единственной местной дорогой, на бухту каната, лежавшую у стены лодочной мастерской, на флегматичную туземную солдатню, равнодушно рассевшуюся вокруг двух пушчонок на причале, и, наконец, на голубую линию горизонта. Мистер Уордроп тем временем о чем-то сосредоточенно размышлял, чертя давно не стриженным ногтем какие-то схемы на досках палубы. — Я ничего не обещаю, — сказал он, наконец. — Но у нас есть корабль, а у него есть мы. Его слова были встречены презрительным смехом. Мистер Уордроп недовольно нахмурился, сведя брови на переносице. Он еще не забыл те дни, когда носил брюки и был старшим механиком «Галиотиса». — Гарланд, Маккизи, Нобл, Ноутон, Финк, О'Хара, Трамбулл! — Здесь, сэр! — Инстинкт заставил матросов машинного отделения мгновенно откликнуться. — Все вниз! Матросы, как один, поднялись и отправились в машинное отделение. — Капитан, я позволю себе побеспокоить вас, если мне в помощь понадобятся люди. Мы извлечем спрятанные мной запасные части, разберем ненужные подпорки и попробуем подлатать нашу старушку. Мои люди живо вспомнят, что находятся на «Галиотисе» — и под моей командой. Он отправился вниз, а остальным оставалось лишь проводить его взглядами. Они были привычны к происшествиям на море, но ничего подобного с ними еще не случалось. Никто из тех, кто своими глазами видел машинное отделение, не верил, что может найтись сила, способная сдвинуть судно с места его последней стоянки, — если, конечно, эта сила не заменит полностью судовые машины на новые. Тайные запасы машинного отделения были извлечены на свет божий, и лицо мистера Уордропа, раскрасневшееся от духоты и долгого ползания на животе в протухшей трюмной воде, осветилось радостью. Комплект запасных частей на «Галиотисе» отличался редким изобилием, и двадцать два человека, вооружившись домкратами, дифференциальными блоками, талями, клещами, кузнечным горном и прочим, могли, не мигая, взглянуть в глаза судьбе, которую в здешних местах именовали на арабский манер — «кисмет». Машинной команде было приказано заменить анкерные болты и крепления опорных подшипников, а также вернуть на место вкладыши блока опорных подшипников. Когда с этим было покончено, и матросы расселись вокруг мертвых агрегатов, мистер Уордроп прочитал им лекцию о способах ремонта паровых машин двойного расширения без помощи заводских мастерских. Застрявший в направляющих крейцкопф пьяно ухмылялся им, не предлагая, впрочем, никакой помощи. Наконец они взялись за концы канатов, обмотанных вокруг подкосов, а в это время по машинному отделению эхом раскатывался могучий глас мистера Уордропа, подбадривавшего свою команду, пока световой люк наверху не накрыла стремительная тень тропической ночи... На следующее утро начались восстановительные работы. Было совершенно очевидно, что лапа главного шатуна врезалась в основание опорной колонны штирборта и застряла в таком положении, расколов колонну пополам и выгнув ее в сторону наружной обшивки. На первый взгляд, да и на второй тоже, затея представлялась совершенно безнадежной, поскольку шатун и опора буквально сплавились друг с другом. Но тут провидение опять улыбнулось им, решив сократить предстоящие недели тяжелого и неблагодарного труда. Второй механик — субъект скорее отчаянный, нежели изобретательный — ударил наобум зубилом по литому чугуну колонны, и из-под заклиненной лапы шатуна вдруг полетели ошметки серого металла, и шатун медленно отъехал в сторону, вызвав громоподобный гул в поддоне картера. Направляющие пластины по-прежнему оставались намертво заклиненными, но первый шаг был сделан. Остаток дня они приводили в порядок небольшой вспомогательный двигатель, который располагался прямо перед люком передней машины. Просмоленная парусина, которой он был накрыт, естественно, отсутствовала, поскольку была украдена, и восемь месяцев, проведенных под открытым небом, отнюдь не улучшили состояния его узлов. Более того, последняя судорога «Галиотиса» приподняла его на анкерных болтах, после чего весьма неаккуратно опустила обратно, нарушив соединения паропроводов. — Эх, будь у нас хоть одна грузовая стрела! — вздохнул мистер Уордроп. — Крышку головки блока цилиндров можно, конечно, снять вручную, если очень постараться; но вот извлечь шатун из поршня без пара решительно невозможно. Что ж, если ничего другого не остается, значит, утром у нас будет пар. Она у нас зашипит, как ошпаренная! На следующее утро тем, кто оказался на берегу, почудилось, будто палуба «Галиотиса» задымилась, и весь корабль окутался облаком тумана. Экипаж пытался подать пар из котла по разорванным паропроводам в передний вспомогательный двигатель; а там, где пакля не могла остановить утечку, они обматывали трещины своими набедренными повязками, ругаясь от боли в обожженных ладонях и не стесняясь собственной наготы. Наконец двигатель заработал — благодаря невероятным усилиям и постоянному подбрасыванию угля в топку — и проработал достаточно долго, чтобы завести стальной строп, скрученный из растяжек дымовой трубы и фок-мачты, в машинное отделение и зацепить им крышку блока цилиндров передней машины. Ее удалось приподнять, а потом и вытащить через световой люк на палубу, и все это время множество рук помогало ненадежной паровой лебедке. Затем наступил решительный момент — предстояло добраться до поршневой группы и заклинившегося штока поршня. Матросы вытащили две шпильки из уплотнительного кольца поршня, ввернули в него два прочных рым-болта[38], чтобы использовать их наподобие ручек, сложили вдвое стальной трос, а затем принялись колотить импровизированным тараном по торцу штока поршня, выглядывавшему из цилиндра, пока вспомогательный двигатель силился подтолкнуть вверх сам поршень. После четырех часов упорной и яростной работы шток неожиданно освободился, а поршень рывком скользнул вверх, сбив с ног одного или двух человек в машинном отделении. Но когда мистер Уордроп объявил, что поршень не треснул и не раскололся, его слова были встречены радостными воплями людей, на мгновение забывших о своих ушибах и ранах. Вспомогательный двигатель был спешно остановлен, и надругательство над его паропроводами прекратилось. Что до всего остального, то экипажу ежедневно привозили на лодке провиант. Капитану пришлось еще раз унизиться перед губернатором, вследствие чего «заключенные» на «Галиотисе» получили разрешение закупать питьевую воду у малайца из шлюпочного сарая. Вода была затхлой, но малаец готов был поставлять ее в любых количествах, лишь бы ему платили звонкой монетой. Теперь, когда храповики коленчатого вала передней машины торчали в стороны, освободившись от нагрузки, матросы принялись расклинивать подпорками сам блок цилиндров, на что у них ушло почти три дня — жарких и душных, когда взмокшие ладони скользили, а едкий пот заливал глаза. Но когда последний клин был вбит на место, опорные колонны уже не несли на себе ни унции веса, и мистер Уордроп обшарил весь корабль в поисках котловой стали в три четверти дюйма толщиной. Найти удалось совсем немного, но эти находки были на вес золота. И вот однажды ранним утром весь экипаж, обнаженный и исхудавший, ценой колоссальных усилий более-менее вернул на место опорную колонну правого борта, которая, как мы помним, была переломлена пополам. По завершении этого адского труда мистер Уордроп обнаружил, что его люди уснули прямо там, где стояли — так сказать, на рабочих местах. Тогда он предоставил им день отдыха, одарив отеческой улыбкой, а сам принялся наносить отметки мелом вокруг трещин. Когда же матросы пробудились, их ждала еще более тяжелая работа: каждую трещину следовало укрепить разогретой пластиной котловой стали толщиной в три четверти дюйма, причем сверлить отверстия под крепеж предстояло вручную. И все это время им приходилось довольствоваться одними бананами, лишь изредка перемежая их кашицей из саго. То были дни, когда взрослые мужчины теряли сознание над ручными дрелями и кузнечными мехами и оставались валяться там, где их настиг обморок. В сторону их оттаскивали только тогда, когда они начинали мешать товарищам. И так, заплата за заплатой, они, наконец, укрепили всю опорную колонну правого борта, но едва им стало казаться, что мучения близятся к концу, мистер Уордроп объявил, что все эти латки ни за что не удержат работающую машину. В лучшем случае, они примут на себя вес направляющих, но дедвейт цилиндров должны принять на себя вертикальные подпорки. А посему всей команде предстоит отправиться на нос, и там напильниками и слесарными пилами срезать фишбалки[39] большого станового якоря, концы которых достигали в диаметре трех дюймов. Матросы попытались забросать Уордропа горячими угольями и угрожали убить его, некоторые разрыдались — от истощения они теперь готовы были заливаться слезами по малейшему поводу, — но механик в ответ принялся тыкать в них раскаленными железными прутьями и погнал на носовую палубу. Назад они вернулись с отпиленными фишбалками, но после этого проспали шестнадцать часов кряду. А еще через трое суток две распорки были водружены на предназначенные для них места: одним концом они были прикреплены к подошве опорной колонны штирборта, а другим — поддерживали блок цилиндров. Но оставалась еще конденсаторная колонна левого борта, которую, хоть она и была повреждена не так сильно, как ее напарница, пришлось укреплять в четырех местах заплатами из котловой стали. Увы, ей тоже потребовались подпорки. Для этой цели пришлось снять вертикальные стойки мостика и, вкалывая как проклятые, матросы установили их на место и только после этого обнаружили, что круглые железные прутья необходимо расплющить сверху донизу, чтобы через них проходили рычаги воздушного насоса. Эта ошибка была целиком и полностью на совести мистера Уордропа, и он со слезами на глазах повинился перед своими людьми, попросив у них прощения, после чего дал команду отвинтить распорки и расплющить их кувалдой, предварительно раскалив в кузнечном горне. Зато теперь увечная машина была надежно закреплена снизу, и матросы убрали деревянные брусья из-под блока цилиндров, установив их вместо металлических опор под ни в чем не повинным капитанским мостиком, то и дело благодаря Всевышнего за то, что хотя бы полдня можно поработать с мягким и податливым деревом. Что и говорить — восемь месяцев, проведенных в забытой богом глуши, среди кровососущих насекомых и тридцатиградусной влажной жары, плохо отразились на их нервах. Но самую тяжелую работу они приберегли напоследок, как мальчишки в школе оттягивают до последнего заучивание латинских склонений. И какими бы измотанными они не выглядели, мистер Уордроп не мог дать им передышку. Шток поршня и главный шатун следовало выпрямить, хотя сделать это можно было только на судоверфи, располагающей необходимым оборудованием. Но они взялись за это безнадежное дело, ободряемые пометками мелом на переборке машинного отделения, которые показывали, сколько работы сделано и сколько на это потрачено времени. Минуло пятнадцать суток — пятнадцать суток непрерывного убийственного труда, — и впереди замаячил отблеск надежды. Смешно, но никто из них так до конца и не понял, как им удалось выпрямить эти штоки. И неудивительно — экипаж «Галиотиса» помнил эту неделю так же смутно, как больной лихорадкой с трудом припоминает бредовые видения минувшей ночи. Повсюду пылали какие-то огни; весь корабль словно превратился в одну огромную печь, а молотки и кувалды гремели без умолку. Хотя, сказать по чести, вряд ли там могло гореть больше одного кузнечного горна — мистер Уордроп совершенно отчетливо помнил, что выпрямление происходило только под его присмотром. Помнили они и то, как на протяжении многих лет посторонние голоса отдавали им приказы, которые они выполняли, в то время как их мысли и души странствовали в иных мирах и далях. Им казалось, будто много дней и ночей подряд они только и делали, что медленно двигали взад и вперед тяжелый брус в ослепительно-белом пламени, которое стало неотъемлемой частью их корабля. Они помнили невыносимый грохот, эхом отдающийся в раскалывающейся от боли голове и отражающийся от стен котельной; помнили, как работали молотами люди, спавшие с открытыми глазами, а когда их смена заканчивалась, они непроизвольно чертили в воздухе прямые линии, вздрагивали во сне и просыпались с криком: «Он выпрямился?» И наконец — они не знали, день это был или ночь, — мистер Уордроп вдруг начал неуклюже приплясывать, вытирая слезы с глаз; и они тоже сплясали нечто невообразимое, а потом повалились на палубу, и их руки и ноги во сне продолжали подергиваться. Проснувшись, они узнали, что штоки действительно выпрямлены, и целых два дня матросы только и делали, что валялись на палубе, объедаясь фруктами. Только мистер Уордроп время от времени спускался вниз, чтобы любовно погладить штоки, и они слышали, как он напевает духовные гимны. Но вскоре легкое помешательство старшего механика миновало, и под конец третьего дня безделья он вычертил мелом на палубе схему, обозначив узлы и механизмы буквами алфавита. А затем объявил: хотя шток поршня более или менее выпрямлен, крейцкопф — та самая штуковина, что боком врезалась в направляющие и застряла в них, — сильно искривился, расколов при этом нижний конец штока. Посему он намерен выковать хомут и надеть его на шейку штока там, где тот соединяется с крейцкопфом, а концы хомута развести в стороны буквой V, закрепив их болтами на крейцкопфе. Для этого им придется использовать последние обрезки котловой стали. Итак, горн запылал вновь, и матросы снова и снова обжигали руки, уже не чувствуя при этом боли. Получившееся соединение вряд ли можно было назвать красивым, зато выглядело оно вполне прочным — по крайней мере, ничуть не хуже других узлов. На этом самый тяжкий труд завершился. Оставалось соединить валы обеих машин да запастись водой и провизией. Капитан и четверо матросов стали наведываться к малайцу, главным образом, по ночам, и, не торгуясь, закупали у него саго и вяленую рыбу. Остальные трудились на борту, собирая с помощью лебедки сам поршень, его шток, устанавливая крышки блока цилиндров, крейцкопф и болты. И хотя крышка головки блока цилиндров пропускала пар, а шатун походил на растаявшую и оплывшую рождественскую свечу, которую, вдобавок, попытались выровнять вручную у горящего камина, но, как выразился мистер Уордроп: «Зато он ни за что не цепляется». Как только последний болт стал на свое место, матросы, толкаясь и бранясь, выстроились в очередь, чтобы впрячься в ручной механизм с червячным приводом, с помощью которого некоторые типы паровых машин можно провернуть в отсутствие пара. Они едва не сорвали зубья шестерни, но даже слепой увидел бы, что валы раз-другой провернулись. Правда, не так легко и маслянисто, как полагается всякому исправному двигателю, и не без скрипа, но все-таки пришли в движение, давая понять, что по-прежнему повинуются человеку. После этого мистер Уордроп отправил своих рабов в самые недра машинного отделения и котельного, а сам последовал за ними с сигнальным фонарем в руках. Котлы оказались в порядке, хотя не помешало бы слегка убрать накипь и почистить зольники. Но старший механик твердо помнил: от добра добра не ищут, а к тому же боялся случайно наткнуться на очередную неполадку. — Думаю, что чем меньше мы теперь о ней знаем, — заявил он, имея в виду судовую машину, — тем лучше для всех нас! Поскольку из одежды во время этой прочувствованной речи на нем были лишь седая борода да всклокоченные волосы, матросы ему поверили. Они не стали расспрашивать его, что именно ему померещилось, а принялись надраивать и смазывать все, что подворачивалось под руку, до бриллиантового блеска. — Пару галлонов краски успокоили бы мою душу, — печально заметил мистер Уордроп. — Я-то знаю, что половина конденсаторных трубок текут, да и вал гребного винта перекосился, причем одному богу известно, насколько, и нам нужен новый воздушный насос, и пар для главных машин течет отовсюду, как сквозь решето, словом, куда ни глянь — всюду я вижу проблемы.Но краска — это как одежда для мужчины, а наша почти вся обратилась в прах. Однако шкипер откопал где-то полузасохшую краску омерзительного грязно-зеленого цвета, которую когда-то использовали для шлюпок, и мистер Уордроп принялся щедрой рукой покрывать ею узлы и механизмы, дабы придать им хоть каплю самоуважения. Чувство собственного достоинства мало-помалу возвращалось и к нему, поскольку он теперь постоянно носил набедренную повязку, тогда как экипаж, выполняя его приказания, отнюдь не разделял этих чувств. Проделанная работа вполне удовлетворяла мистера Уордропа, и он уже готов был удовольствоваться возвращением в Сингапур, чтобы оттуда, позабыв о мести, совершить бросок домой и там продемонстрировать свои свершения собратьям по ремеслу. Но остальные моряки, включая капитана, были настроены иначе. Они еще не вернули себе самоуважения. — Было бы неплохо сделать для начала пробный выход в море, но, как говорится, не до жиру, быть бы живу. И если машины удалось провернуть вручную, то существует вероятность — повторяю, всего лишь вероятность! — что они продержатся, когда мы подадим в цилиндры пар. — Сколько времени вам понадобится, чтобы поднять пары? — осведомился капитан. — Бог его знает! Четыре часа, или сутки, или даже несколько дней. Если мне удастся поднять давление до шестидесяти фунтов, я буду доволен. — Прошу вас проверить все еще раз. Мы не можем позволить себе оконфузиться, если пройдем каких-то полмили, а машина опять сломается. — Мои тело и душа пребывают в состоянии вечной поломки, от носа до кормы! Но до Сингапура, думаю, мы сумеем добраться. — Во всяком случае не раньше, чем мы доберемся до Пайанг-Ватаи, где нам надо вернуть должок, — прозвучал ответ, причем голос капитана не располагал к возражениям. — В конце концов, это мой корабль, и у меня было восемь месяцев, чтобы хорошенько все обдумать. Никто не видел, как снимался с якоря «Галиотис», хотя многие это слышали. Он покинул бухту в два часа ночи, обрезав швартовы, но экипажу не доставил никакого удовольствия стук паровых машин, громовым эхом раскатившийся над водой и достигший окрестных холмов. Прислушиваясь к новым звукам, мистер Уордроп смахнул набежавшую слезу. — Она заикается — и плачет от боли, — простонал он. —Это похоже на голос спятившего маньяка... Если у машины и была душа, во что свято верили ее хозяева, то он был совершенно прав. Из машинного отделения доносились жалобные вскрики и непонятный лязг, всхлипы и взрывы истерического хохота, сменявшиеся периодами пугающего затишья, в котором натренированное ухо силилось различить верную ноту; мучительная разноголосица звучала там, где должен был раздаваться только ровный и мощный бас. По гребному валу пробегали судороги, а сбивчивый трепет винта подсказывал, что он нуждается в срочной балансировке. — Ну, что скажете? Как наша старушка себя ведет? — осведомился капитан. — Она движется, но... просто надрывает мне сердце. Чем скорее мы окажемся в Пайанг-Ватаи, тем лучше. Она спятила, и мы разбудим весь город. — Она хотя бы не взорвется? — Да какое мне до этого дело? Она тяжело больна. Вы только послушайте! Да, ничто ни обо что не бьется и не задевает, и подшипники еще не перегрелись, но... Неужели вы не слышите? — Лишь бы она добралась туда, куда мне надо, — ответил шкипер. — И не забывайте о том, что это — мой корабль. И вот «Галиотис» двинулся вперед, волоча за собой целые заросли водорослей. Со старчески немощных двух узлов он постепенно разогнался до триумфальных четырех. При попытке еще увеличить скорость начиналась опасная вибрация распорок, а машинное отделение наполнялось паром. Утро застало бывшего китобоя в открытом море, земли уже не было видно, а форштевень бодро резал волну. Но внутренности его стонали и жаловались, а вскоре, словно привлеченный непонятным шумом, вдали на пурпурных волнах показался быстрый темный проа[40], похожий на хищную птицу и столь же любопытный. В конце концов малайское суденышко пристроилось у самого борта — с явным намерением выяснить, не окажется ли «Галиотис» легкой добычей. Случалось, что корабли, даже принадлежащие белым людям, терпели крушение в этих водах, и честные малайцы и яванцы порой способствовали им в этом — весьмасвоеобразным способом, разумеется. Но на этом корабле не было ни дам, ни хорошо одетых офицеров. С его палубы в проа осиным роем хлынули белые мужчины — нагие и неописуемо свирепые. Одни были вооружены раскаленными прутьями, другие — тяжелыми кувалдами, и не успели любопытствующие малайцы опомниться, как проа оказался в их власти, а его законные владельцы барахтались в воде с обоих бортов. Еще через полчаса груз проа, состоявший из саго и сушеных трепангов, а также плохонький компас, оказались на борту «Галиотиса». Вслед за грузом последовала пара парусов с семидесятифутовыми реями и гиками, которые матросы вскоре приспособили к голым мачтам своего парохода, а сам туземный парусник был взят на буксир. Как только паруса были подняты, они тут же наполнились ветром, и пустой китобой побежал гораздо шустрее. Прибавка в скорости составила почти три узла, а о чем еще можно было мечтать? Но если раньше «Галиотис» выглядел просто ободранным и заброшенным, то теперь он буквально внушал ужас. Вообразите респектабельную приходящую прислугу в объятиях балетного танцора, выделывающего пьяные па посреди мостовой, и вы получите отдаленное представление о том, как выглядел этот грузовой корабль с колодезной палубой и бывшей оснасткой шхуны, надрывно карабкающийся на волну и проваливающийся в бездну со стонами и всхлипами. Тем не менее плавание под паром и парусами продолжалось, а экипаж горящими глазами вглядывался в океанскую даль — безутешный, небритый, немытый и одетый вне рамок каких бы то ни было приличий. На исходе третьей недели плавания на горизонте показался остров Пайанг-Ватаи. В здешней гавани находилась база морского патруля, охранявшего жемчужные отмели. Вернувшиеся из дозора канонерские лодки отстаивались тут с неделю, прежде чем вновь выйти на маршрут патрулирования. Сам по себе Пайанг-Ватаи был практически необитаем; там имелись лишь родник с пресной водой, несколько пальм да бухта, в которой можно было укрыться и переждать юго-восточный муссон. Взорам матросов открылся коралловый берег с наваленной у самой воды горой сверкающего угля, готового к погрузке, пустующие хижины для отдыха моряков да голый флагшток. На следующий день «Галиотис» исчез, словно его никогда и не бывало, — а у входа в гавань под теплым дождиком покачивался на волне лишь одинокий проа, чей экипаж голодными глазами следил за только что возникшим на горизонте дымком канонерской лодки... А через несколько месяцев в одной из английских газет появилась короткая заметка: будто бы канонерка одной иностранной державы пропорола днище и мгновенно затонула в устье некоей гавани в Южных морях, на полном ходу налетев на остов неизвестно кем затопленного судна.
ДЖАДСОН И ИМПЕРИЯ
Глориана! Дон примется нас атаковать,Как сможет с желудком своим совладать.Только прежде, чем с нами сражаться,Он к нам должен суметь подобраться.Галеонов Испании долго ль нам ждать?Добсон
Одно из множеств достоинств демократии состоит в ее почти сверхчеловеческом умении создавать проблемы с соседями — и в результате обнаруживать свою гордость основательно потрепанной. Подлинная демократия испытывает сильнейшее презрение к странам, где правят короли, королевы или императоры, и почти никто не знает — а задумывается и того меньше — о внутренних делах этих стран. Причиной тому служат ее собственные честь, гордость и достоинство, они же демократические Король, Дама и Валет. Вот почему рано или поздно межгосударственные противоречия заканчиваются тем, что самые обычные люди начинают выкрикивать на улицах лозунги и оскорбления в адрес противника, о котором ничего не ведают, а на море, чтобы оправдать отсутствие упомянутых выше гордости и достоинства, предпринимаются некие поспешные действия. В итоге может вспыхнуть, а может и не вспыхнуть война, но шансов на прочный мир все равно становится гораздо меньше. Преимущество жизни в цивилизованной стране под управлением монарха заключается в том, что все короли, королевы и императоры Старого Света связаны кровным родством или браками — то есть, в сущности, являются одной большой семьей. И те из них, кто мудрее и опытнее, знают: многие действия или высказывания, которые на первый взгляд кажутся преднамеренными оскорблениями, в действительности могут быть вызваны всего лишь несварением желудка у мужчин или периодическим недомоганием у женщин; следовательно, и реагировать на них надо соответственно — объясняясь с глазу на глаз в приватной обстановке. Все эти народные манифестации, возглавляемые королем и двором, как правило, означают лишь то, что некоторые члены европейского семейства на минутку отбились от рук. Знаете, когда лошадь начинает брыкаться в толкучке у ворот, всадник не спешивается, а просто выставляет позади себя раскрытую ладонь, и остальные всадники расступаются или отворачивают в сторону. В точности так и с владыками.В былые дни они лечили собственные нервные срывы и припадки народного гнева огнем и мечом, но теперь, когда огонь стал слишком дальнобойным и убийственным, а кровопролития массовыми, они прибегают к совсем другим вещам.
Давным-давно жила некая небольшая Сила — почти разорившийся осколок некогда великой империи, и эта Сила рассердилась на Британию, известную всему миру как мальчик для битья. Потому-то она и начала вести себя самым скандальным образом. Это известно всем, но гораздо меньшему числу людей известно, что эта Сила все-таки сошлась с Британией в беспримерной битве и вышла из нее со славной победой. Все началось с людей. Их несчастья были крайне многочисленны, а личная обида всегда находит отдушину в публичном сквернословии. Их национальная гордость была жестоко уязвлена, и они размышляли о прежней славе, о тех днях, когда их флотилии первыми обогнули Мыс Бурь, а их газеты, подобно новым Камоэнсам[41], призывали вершить великие дела. И только гнусная, хитрая, изворотливая, лживая Британия мешала их колониальной экспансии. Тогда они решили: раз уж их монарх в союзнических отношениях с этой омерзительной страной, то народу следует презреть правителя, способствовать установлению республики и лично, как и положено свободным людям, взяться за расширение колониальных владений. Осознав это, народ принялся метать камни в британские посольства, плевать в английских леди, резать пьяных матросов нашего флота в своих портах, лупить их веслами и устраивать крайне неприятные для туристов инциденты при таможенном досмотре. А заодно угрожать жуткой казнью всем больным чахоткой англичанам, проживающим на Мадейре. А в это время младшие офицеры их армии распивали фруктовые ликеры и устраивали леденящие душу заговоры против своего монарха — и все это ради установления республики. Современная история всех южноамериканских стран наглядно демонстрирует, что жителям Южной Европы просто противопоказано быть республиканцами. Уж слишком быстро их демократия превращается в военную диктатуру, а ставить людей к стенке и расстреливать за инакомыслие можно гораздо реже и экономнее — чем, собственно, и занимается нормальная конституционная монархия. К тому же выступления Силы в исполнении ее народа были крайне неубедительны. Они напоминали лягающуюся в толпе лошадь, а всадник, похоже, объяснял происходящее лишь тем, что не в силах удержать животное. Народ вовсю наслаждался великолепием войны без ее рисков, а британские туристы в своих скитаниях частенько бывали до того пьяны, что флегматично возвращались в Англию и рассказывали репортерам «Таймс» о том, что полицейские службы в иностранных городах и портах порой бывают недостаточно эффективными.
Таково было положение вещей в те времена к северу от экватора. К югу ситуация была более напряженной, потому что там интересы различных Сил столкнулись вплотную. Англия не имела возможности сдать позиции, поскольку с тылу ее подталкивали жаждущее приключений молодое поколение и действия всевозможных авантюристов, отнюдь не желавших ей добра. А против нее выступила некая иная Сила, которой не хватало людей и денег, закостеневшая в уверенности, что триста лет рабовладельческого строя и смешения с местными жителями дает ей неотчуждаемое право вечно владеть рабами и вечно плодить метисов. Там не строили дорог, их города рассыпались в прах, у них не было торговли, достойной даже одного рейса самого безрассудного из пароходов, их суверенитет, при хорошем раскладе, мог быть уничтожен одним лишь залпом с моря. Именно эти причины заставляли их бесноваться еще сильней, и то, что там говорили и писали о манерах и привычках англичан, заставило бы менее древнюю нацию схватиться за оружие и предъявить длинный кровавый счет за уязвленную гордость.
Именно тогда судьба послала в те края лейтенанта Харрисона Эдварда Джадсона, со временем получившего прозвище Чтоб-Меня-Джадсон, на двухвинтовой плоскодонной канонерке с низкими бортовыми надстройками и водоизмещением около двухсот семидесяти тонн[42]. Выглядела эта посудина точь-в-точь как утюг, в середину которого зачем-то воткнули мачту; над водой она поднималась на пять футов, а то и меньше, и была оснащена четырехдюймовой пушкой на носу, наводившейся поворотом судна. Что касается бортовой качки, то жить на ней было на порядок хуже, чем даже на миноносце. Когда Джадсон был назначен командовать этой штукой во время перехода в шесть или семь тысяч миль к югу, первой же фразой, которой он приветствовал свою посудину в доке, было: «Чтоб меня, эта стеньга хочет стать бушпритом!» Стеньга на канонерке была толщиной с шест, которым подпирают веревки для сушки белья, но этот утюг был первым судном, которое доверили Джадсону, и он не променял бы свою капитанскую должность даже на место первого помощника на «Энсоне» или Хау»[43]. Со всей возможной любовью и заботой он провел свою посудину до самого Мыса (а история про стеньгу следовала за ним), и так влюбился в это неуклюжее плавучее корыто, что адмирал, командовавший военно-морской базой, решил: жаль будет мучить на нем новых людей, и потому Джадсону было позволено продолжать безраздельное владение судном. Адмирал лишь однажды посетил канонерку — в бухте Саймон. В те дни она выглядела скверно даже для такой плоскодонной лохани, специально построенной для операций на крупных реках и защиты гаваней. Влага собиралась крупными каплями на обшивке между палуб, длинные волны у мыса швыряли ее, как рейдовую бочку, полубак представлял собой прямо-таки собачью конуру. Каюта самого Джадсона располагалась едва ли не ниже ватерлинии, ни один из намертво задраенных иллюминаторов невозможно было открыть, а компасы, располагавшиеся вблизи массивной станины четырехдюймовой пушки, вели себя самым диковинным образом. Но Чтоб-Меня-Джадсон был полон радостного энтузиазма. И даже сумел заразить своей страстью мистера Дэвиса, своего старшего механика в чине машинного техника второго класса. Помнивший свое первое судно, адмирал внимательно приглядывался к канонерке. Ее кранцы были украшены кипенно-белым плетеным линьком[44], пушка покрыта лаком куда лучшего качества, чем тот, что поставляло Адмиралтейство; дополнительные прицелы упакованы с такой же тщательностью, как и хронометры, блоки запасных лонжеронов сделаны из четырехдюймового бирманского тикового дерева и украшены резными драконьими головами — явный след приключений Чтоб-Меня-Джадсона в составе военно-морской бригады во время бирманской компании; становой якорь также был покрыт лаком, а не заурядной краской, и штурманских карт оказалось куда больше, чем полагалось. Адмирал был весьма доволен, поскольку любил капитанов, готовых тратить свое небольшое жалованье на вверенные им корабли. Джадсон глядел на него с надеждой. Он был всего лишь младшим штурманским лейтенантом, прослужившим на флоте менее восьми лет. И мог застрять в бухте Саймон на полгода, тогда как вести корабль в море было для него единственным счастьем. К тому же главной мечтой Джадсона было хоть немного оживить официальный серый тон бортов канонерки золотой полосой вдоль бортов, и, возможно, добавить немного орнамента на тупую, как у баржи, носовую часть. — Первое командование судном ни с чем не сравнится, верно? — спросил адмирал, словно читая его мысли. — Однако у вас, как я заметил, весьма неточные компасы. Неплохо бы вам привести их в порядок. — Это бесполезно, сэр, — отвечал Джадсон. — Наше орудие, этот массив стали, для них притягательней полюса. Но... в общем, мы научились справляться с большинством неточностей, внося поправки. — Не будете ли вы добры опустить ствол орудия на тридцать градусов! Ствол опустили. Он двигался с такой плавностью и легкостью, что адмирал только присвистнул. — Вам, должно быть, пришлось во время перехода в составе каравана постоянно держать конвойные суда в поле зрения? — Я видел их лишь дважды на пути между этой бухтой и островом Мадейра, сэр, — отчеканил Джадсон, густо покраснев, ибо стыдился некоторых своих навигационных промахов. — Мы... мы слегка разминулись, но впоследствии исправили этот недочет. Адмирал спустился по сходням на пирс, а флаг-капитан, сопровождавший адмирала, судя по всему, поведал об этой беседе другим командирам эскадры, базировавшейся в бухте Саймон. Поэтому шутки над «утюгом» еще много дней подряд сыпались со всех сторон. — Что вы можете из нее вытрясти, Джадсон? — однажды спросил лейтенант с «Мангуста», выкрашенной в белое новехонькой канонерки с таранным форштевнем и современными скорострельными орудиями, поднимаясь в один из жарких дней на верхнюю веранду местного Морского клуба. Веранда эта ценилась моряками за живописный вид на верфь. Только в этом клубе, где постоянно собирались капитаны, можно было услышать все сплетни Семи Морей. — Десять и четыре, — сказал Чтоб-Меня-Джадсон. — О! Это, наверняка, на ходовых испытаниях. А сейчас она у вас слишком низко сидит. И я уже не раз говорил вам, что эта стеньга в конце концов приведет к разбалансировке. — Оставьте в покое мой рангоут, — отрезал Джадсон, которого уже утомило бесконечное повторение бородатой шутки. — Ох, нет, вы только послушайте! Рангоут нашего Джадди! Кит, ты слышал про мачту этого утюга? Теперь о ней придется молчать, иначе командор Джадсон сильно расстроится. Кит был лейтенантом-торпедистом крейсера «Вортигерн» и презирал все мелкие суда. — Его рангоут... — неторопливо протянул он. — Ах да, ну конечно! Кстати, Джадди, говорят, в бухте видели стаю тунцов, и совсем недалеко от твоих винтов. Лучше возвращайся на борт, пока рыбы не растащили твою калошу на сувениры. — У меня не растащат. Потому что, хвала Господу, у меня на борту нет ни одного косорукого торпедиста. Кит на прошлой неделе так халтурно провел строповку[45] небольшого торпедного катера, который располагался на палубе «Вортигерна», что тот сломал кильблоки, на которые его устанавливали, и пробил днище. Теперь его ремонтировали на той самой верфи, которая была видна с террасы клуба. — Получи, Кит, и поделом!.. Ничего, Джадди, тебя еще на три года назначат старшим по обслуживанию верфи, и тогда ты покатаешь меня по гавани — если на море не будет волнения. Если, конечно, ты не струсишь, командор. Что скажешь? Ты и кок, и капитан, и гребец, и боцман — и все это на обломках судна[46]... Эй, а ну-ка положи на место кий, иначе я тебя арестую за оскорбление действием лейтенанта настоящего корабля!.. К этому моменту Джадсон уже загнал его в угол и заблокировал бильярдным кием. Вошедший на террасу флаг-капитан еще у дверей заметил потасовку. — Ох! Джадди, я извиняюсь... Убери эту... эту свою стеньгу от моего горла! Смотри — к нам явился гонец с шелковым шнурком[47]. Жаль, что я всего лишь лейтенант, а не адмиральский флаг-офицер. Ты только взгляни на его брюхо: эта должность явно идет на пользу его водоизмещению... Сперрил, я запрещаю тебе прикасаться ко мне! Я получил приказ отправляться на Занзибар. Возможно, я его сам и захвачу! — Джадсон, адмирал желает вас видеть! — сказал флаг-капитан, игнорируя насмешника с «Мангуста». — Я же сказал, что тебя назначат главным на дежурную шлюпку! Будешь получать свежий ростбиф на завтрак и три дюжины окуньков на льду. На льду, вообрази, Джадди! Чтоб-Меня-Джадсон и флаг-капитан вышли вместе. — Как ты думаешь, что адмиралу могло понадобиться от Джадсона? — спросил Кит, уже расположившийся у барной стойки. — Не знаю. Джадди чертовски славный парень. Жаль только, что этого парня ни за что не переманить к нам на «Мангуст». Лейтенант рухнул в кресло и следующий час посвятил чтению газет и почты. А оторвавшись от этого занятия, заметил проходившего внизу Чтоб-Меня-Джадсона и окликнул его. Глаза Джадсона сияли, выправка была идеальной, а шаг бодро пружинил. Кроме лейтенанта с «Мангуста», в клубе никого уже не было. Выслушав новости, сообщенные ему вполголоса, молодой человек сказал: — Пожалуй, Джадди, тебе предстоит изрядная заварушка. Тебе наверняка придется драться, но я не понимаю, о чем думал адмирал, посылая твою... твое... — Я получил приказ не вступать в бой ни при каких обстоятельствах, — возразил Джадсон. — Пойти, осмотреться на месте, вернуться и доложить? И все? Когда ты отчаливаешь? — Сегодня вечером, если успею. Надо еще кое-что проверить. Надо еще кое-что проверить. И должен сказать, что мне могут понадобиться помощники. — Все, кто есть на борту «Мангуста», в твоем распоряжении. Мой ялик как раз причаливает. Я знаю тамошний берег как собственные пять пальцев, а тебе понадобится вся информация, какую только можно добыть. Эх, если бы мы могли отправиться туда вместе!.. Еще около часа Джадсон провел в кормовой рубке «Мангуста», внимательно слушая, просматривая карту за картой и делая пометки. И битый час торчавший у двери матрос не слышал ничего, кроме реплик вроде этой: — Отсюда тебе придется взять вот сюда, если в море будет неспокойно... Это течение чертовски недооценивают, а оно в эту пору года поворачивает на запад, запомни. Их лодки никогда не забираются южнее вот этого рифа, видишь? Поэтому беспокоиться о них нечего... И так далее, и так далее, пока Джадсон, расположившись на ящике у трехфунтовой пушки, курил и сортировал информацию. На следующее утро канонерки в бухте Саймон уже не было, и лишь небольшая полоска дыма за мысом Хэнгклип свидетельствовала о том, что мистер Дэвис, старший механик, гонит ее на всех парах. У входа в резиденцию командующего эскадры некий давно ушедший на покой боцман, перевидавший на своем веку немало адмиралов, расположился с ведерком и кистями, чтобы заново покрыть зеленью два здоровенных пушечных ядра, лежавших на постаменте по обе стороны въездных ворот. Несмотря на свой преклонный возраст — а может, как раз благодаря ему, — старик смутно ощущал приближение каких-то больших событий. А канонерка, построенная, как уже ранее было сказано, исключительно для плавания по рекам и речным устьям, столкнулась с сильным течением у мыса Игольный, лихорадочно заработала обоими винтами и с грацией коровы, выбирающейся из болота, запрыгала по волнам. Это заставило мистера Дэвиса опасаться за целостность машин, а большую часть экипажа, укомплектованного местными чернокожими, — страдать от морской болезни. Судно шло вдоль пустынного, малоисследованного и опасного берега, мимо бухт, в которых не было мест для стоянки, мимо плоских уродливых скал, лежавших почти на одном уровне с морем, наблюдая при этом множество странных вещей, которые не имеют отношения к нашей истории, но тем не менее были тщательно занесены в судовой журнал Чтоб-Меня-Джадсоном.
Но вот, наконец, береговая линия изменилась: стала зеленой, низменной и крайне болотистой, то и дело попадались широкие реки, в устьях которых располагались небольшие острова, выдающиеся в море на три или четыре мили, и Чтоб-Меня-Джадсон стал держать еще ближе к берегу, помня то, что рассказывал ему лейтенант с «Мангуста». Затем он обнаружил реку, от которой несло гнилью и лихорадкой, забитую обильно разросшимися водными растениями, и с таким течением, от которого «утюг» начал охать и постанывать. — Здесь мы поворачиваем, — сказал Чтоб-Меня-Джадсон, и они, соответственно, повернули — к полному недоумению мистера Дэвиса по поводу происходящего, которое сопровождалось широкими улыбками чернокожей команды. Чтоб-Меня-Джадсон отправился на нос и стал медитировать, уставившись на грязно-кофейную воду. После шести часов хода по реке при средней скорости около пяти узлов его глаза вспыхнули от радости при виде деревянного белого буя, болтавшегося на буром фоне речной воды. Канонерка осторожно подобралась к нему, была спущена шлюпка, и матрос-лотовый замерил глубину со всех сторон от буя. Чтоб-Меня-Джадсон в это время курил и размышлял, склонив голову набок. — Около семи футов, верно? — спросил он. — Здесь должен находиться конец отмели. И всего четыре морских сажени от судоходного фарватера. Ну-ка, парни, поработайте топорами. Сдается мне, этот буй не вписывается в пейзаж. Чернокожие матросы за три минуты превратили деревянные бока буя в груду щепок, а якорная цепь утащила на дно его остатки. Чтоб-Меня-Джадсон осторожно провел канонерку над тем местом, где раньше был буй, а мистер Дэвис, наблюдая за этим, нервно грыз ногти. — Мы сможем идти против этого течения? — спросил Чтоб-Меня-Джадсон. Мистер Дэвис смог: дюйм за дюймом, но они все же продолжали ползти вверх по руслу, а Чтоб-Меня-Джадсон опять пристроился на носу, что-то высматривая на берегу, пока они медленно миновали отмель. Затем канонерка проползла еще немного, и наконец Чтоб-Меня-Джадсон выразил одобрение собственными действиями. Затем они еще полчаса шли вверх по течению, встав на якорь на мелководье у самого берега и принялись ждать, заведя дуплинем трос, держащий буйки. — Кажется, — почтительно заметил мистер Дэвис, — я только что слышал, если можно так выразиться, несколько одиночных выстрелов. В воздухе и вправду кое-что прозвучало. В том числе и некий глухой рокот. — Кажется, — наконец сказал Чтоб-Меня-Джадсон, — я слышу шум гребного винта. Готовьтесь отдать швартовы! Прошло еще минут десять, и звук паровой машины стал намного отчетливее. А затем из-за поворота реки вынырнула весьма ладно скроенная канонерка, выкрашенная белой краской, под сине-белым флагом, в центре которого алел круг. — Разобщить брашпиль! Освободить буйки! Малый назад! Отдать всю цепь! Заведенный дуплинем трос слетел в воду, и оба буйка заплясали, отмечая место, где были оставлены якорь и якорная цепь, а канонерка развернулась на середине реки, подняв английский военно-морской флаг на топе единственной мачты. — Выжми из машины все возможное. Эта красотка явилась за нами, — скомандовал Джадсон. — И вполне в состоянии нас потопить. — Это война... чтоб ее, чертова война! Они готовятся открыть огонь! — вскричал мистер Дэвис, выглядывая из люка машинного отделения. Белая канонерка без всякого предупреждения дала залп по «утюгу» разом из трех пушек, разнеся в щепки стволы деревьев на берегу. Чтоб-Меня-Джадсон встал рядом с рулевым, пока мистер Дэвис и речное течение помогали его судну набрать почти достойную уважения скорость. Погоня была азартной, но продлилась не больше пяти минут. Белая канонерка выстрелила снова, и мистер Дэвис в своем отсеке издал отчаянный вопль. — Что случилось? Попадание? — поинтересовался Чтоб-Меня-Джадсон. — Нет, это я так оценил ваш маневр. Прошу прощения, сэр. — Руль прямо! Взять полрумба вправо! Штурвал вращался под уверенной рукой, а тем временем Чтоб-Меня-Джадсон следил за тем, как отмеченные им на берегу ориентиры выстраиваются один за другим в линию, словно отряды, спешащие на помощь. Его канонерка вылетела на мелководье, замедлилась на секунду и двинулась дальше. — Все, проскочили. Ну а теперь, бандиты, — милости прошу! Белый преследователь, слишком разогнавшийся даже для стрельбы, мчался за плоскодонным «утюгом» на всех парах. Что и обернулось для него самым фатальным образом, потому что более высоко сидящий беглец преодолел место уничтоженного буя. — Вы что здесь делать? — загремел в мегафон с носа преследователя чей-то голос на ломаном английском. — Продолжаю движение! А вам советую покрепче держаться... Вот вы и попались! Раздались грохот и треск, нос белой канонерки врезался в отмель, коричневый маслянистый ил буквально вскипел под ее носом. А затем течение подхватило судно с правого борта и медленно и грациозно окончательно втолкнуло корабль на отмель. Там, под яростные вопли команды, белая канонерка накренилась под каким-то унизительным углом. — Ловко! Ох и ловко же сработано! — пропел мистер Дэвис, приплясывая на решетке машинного отделения под улыбки чернокожих кочегаров. «Утюг» снова двинулся против течения и прошел мимо поднятого к небу правого борта белого судна, с которого неслись завывания и проклятия на каком-то невероятном языке. Намертво засевшее на мели, оно было беззащитно и и беспомощно, как перевернутая на спину черепаха, но не имело даже ее панциря. А большая пушка на носу плоскодонного «утюга» теперь смотрела прямо в упор. Капитан бывших преследователей оказался не робкого десятка и ругался отчаянно, но Чтоб-Меня-Джадсон не обращал на это ни малейшего внимания. Перед ним стояла задача — вести свою канонерку вверх по реке. — Мы вернемся с целой флотилией, и вас не спасут ваши фокусы, — сообщил ему капитан в таких выражениях, которые не подлежат публикации. Тогда Чтоб-Меня-Джадсон, будучи не худшим лингвистом, ответил: — Оставайтесь там где сидите, иначе я проделаю вам такую дыру в днище, что от вас останется один штурвал. В ответ грянул смешанный разноязычный хор, но Чтоб-Меня-Джадсон через пару минут уже находился вне зоны слышимости, а мистер Дэвис, будучи немногословным от природы, признался одному из подчиненных, что считает лейтенанта Джадсона «самым выдающимся из офицеров флота, если можно так выразиться». Два часа кряду канонерка бешено загребала бурую воду, и то, что поначалу казалось далеким рокотом, стало вполне различимым гулом. — Неужели все-таки объявлена война? — спросил мистер Дэвис, и Чтоб-Меня-Джадсон рассмеялся. — Будь оно так, этот тип, чтоб ему провалиться, мог бы попортить наши драгоценные машины. Но война — объявленная или нет — здесь действительно идет. Следующий поворот русла реки принес им великолепный вид на небольшую, но весьма оживленную деревеньку. Хижины теснились вокруг выбеленного известкой глинобитного дома с неким намеком на претенциозность. Несколько десятков солдат в форме цвета седельной кожи были подняты по тревоге, офицеры в белых мундирах с криками метались туда-сюда вокруг человека, восседающего в паланкине, а на пологом холме, уходившем от берега на четыре-пять миль, по обе стороны грубого частокола кипело нечто вроде битвы. Какой-то смрад носился в воздухе и в конце концов достиг чувствительного носа мистера Дэвиса. Механик сплюнул за борт. — Я хочу навести наше орудие вон на тот дом, — сказал Чтоб-Меня-Джадсон, указывая на помпезное здание, над плоской крышей которого развевался все тот же сине-белый флаг. Два винта загребли воду, как курица гребет лапами пыль, прежде чем улечься и начать принимать солнечную ванну. Маленькая канонерка с усилием подалась влево, вправо, чуть попятилась, немного подвинулась, и наконец серый ствол уставился точно на указанную цель. Затем мистер Дэвис позволил свистку сказать то, что не позволено на службе ее величества. Солдаты из селения собрались группами и кучками, пальба на склоне прекратилась, и все, за исключением команды «утюга», принялись вопить во весь голос. Ветер донес даже нечто похожее на разговорный английский. — Похоже, наши парни попали в беду, — сказал мистер Дэвис. — И сдается мне, они уже пару недель ведут тут боевые действия. — Держи ровно, будь ты неладен! — рявкнул Чтоб-Меня-Джадсон, когда ствол пушки пополз в сторону от белого дома. Тут носовая обшивка зазвенела не хуже корабельного колокола, после чего что-то плюхнулось в воду; еще что-то прочертило борозду по доскам палубы в дюйме от левой ноги Чтоб-Меня-Джадсона. Солдаты в униформе седельного цвета стреляли как бог на душу положит, а человек в паланкине принялся размахивать своим сверкающим мечом. Ствол большого орудия чуть сдвинулся, нацеливаясь на глинобитную стену, окружавшую сад у дома, и десять фунтов пороха отправили в этом направлении сотню фунтов металла. Три или четыре ярда глиняного вала слегка подпрыгнули, как человек, внезапно получивший коленом пониже стены, и рухнули вперед, рассыпавшись на лету. Солдаты прекратили обстрел, а затем Джадсон увидел старую темнокожую женщину, которая взобралась на плоскую крышу дома. Некоторое время она провозилась там с веревками флага, обнаружила, что те запутались, после чего сняла собственную юбку, оказавшуюся бледно-кремового цвета, и отчаянно ею замахала. Человек в паланкине выудил из кармана белый носовой платок, и Чтоб-Меня-Джадсон ухмыльнулся. — А теперь отправим им подарочек вверх по холму. Разворачивайтесь, мистер Дэвис. И будь проклят тот, кто изобрел эти плавучие орудийные установки без горизонтальной наводки. Куда бы мне приложиться, чтобы не угробить никого из этих дьяволов? Склон холма уже усыпали фигурки людей, беспорядочным потоком возвращавшихся к речному берегу. За ними маршировал небольшой, но сплоченный отряд, выбравшийся из-за частокола. Присмотревшись, Чтоб-Меня-Джадсон заметил у них несколько пулеметов. — Чтоб мне лопнуть, да ведь это целая регулярная армия! Надо же!.. И чья она, хотел бы я знать? — пробормотал он, ожидая дальнейшего развития событий. Спускающиеся сверху сошлись в деревне и смешались с теми, кто в ней оставался, а затем, окружив паланкин, подняли его и зашагали к реке, пока их не догнал отряд со скорострельным оружием. Тогда первая толпа разделилась пополам, образовав коридор, чтобы пропустить регулярный отряд. — Бросайте эти проклятые штуки! — приказал предводитель отряда по-английски, и один за другим в мутную воду плюхнулись около десятка ручных пулеметов. Канонерка тем временем подошла к самому берегу. — Когда покончите с делами, — вежливо обратился к ним Джадсон, — окажите любезность — сообщите мне, что здесь происходит. Я капитан этого судна. — Мы пионеры[48] «Компании Генерального Развития», — сказал предводитель отряда. — Эти обормоты двенадцать часов подряд молотили по нашему лагерю, и нам пришлось избавить их от пулеметов. Поднялись на холм и забрали их; но оказалось, что они утащили замки от затворов. Рад вас видеть! — Кто-нибудь пострадал? — Убитых нет, но все мы мучаемся от жажды. — Вы в состоянии контролировать своих людей? Говоривший обернулся и с усмешкой оглядел свою команду. Их было семьдесят — пыльных, потных и взъерошенных. — Мы не станем громить эту помойку, если вы это имели в виду. Мой отряд состоит преимущественно из джентльменов, хоть по их виду этого и не скажешь. — Хорошо. Отправьте к нам на борт начальника этого поста, форта или селения, или как там оно называется, и займитесь тем, что сейчас необходимо вашим людям. — Ничего, кроме помещения под казарму, чтобы там расположиться. Эй ты, на носилках, — марш на канонерку! Отряд развернулся, протиснулся сквозь толпу туземных воинов, и отправился на поиски свободных хижин в селении. Маленький человек покинул паланкин и взобрался на борт, нервно улыбаясь. Одет он был в парадную форму с огромным количеством золотых галунов и болтающихся цепочек. На сапогах у него имелись громадные шпоры, хотя до ближайшей лошади было никак не меньше четырех сотен миль. — Дети мои, — сказал он, обращаясь к притихшим воинам, — сложите оружие. Большинство из них уже давно это сделало и теперь невозмутимо покуривало. — И пусть ничто, — добавил он на их родном языке, — не толкнет вас поднять руку на тех, кто искал вашей защиты! — Итак, — произнес Чтоб-Меня-Джадсон, от которого ускользнул смысл последней реплики, — не объясните ли вы мне, что, черт побери, означает вся эта чепуха? — Это была прискорбная необходимость, — ответил человечек. — Пути войны неисповедимы. Я губернатор, кроме того, на меня возложены обязанности начальника гарнизона. Примите мой скромный меч! — Спрячьте ваш скромный меч, сэр. Мне он ни к чему. Вы стреляли по нашему флагу. И здесь вы в течение недели обстреливали наших людей, а в меня палили из пушек, когда я поднимался сюда по реке. — Ох! Это, должно быть, «Гуадала». Они спутали вас с работорговцами. И как там «Гуадала»? — Принять военный корабль ее величества за корабль работорговцев?! Чтоб мне лопнуть, сэр, но у меня просто руки чешутся вздернуть вас на нок-рее! Ничего похожего на нок-рею на той ходуле, что торчала над каютой Джадсона, не было и в помине. Губернатор покосился на голую мачту и двусмысленно улыбнулся. — Это, пожалуй, будет довольно затруднительно, — заметил он. — А как думаете, капитан, эти люди из компании не сожгут мою столицу? Мои люди готовы обеспечивать их пивом в любых количествах. — Плевать мне на каких-то торгашей, я хочу услышать внятное объяснение. — Хм! — Губернатор пожевал пухлыми губами. — Видите ли, в Европе, в моей стране — народное восстание... — Его взгляд как бы без всякой цели скользнул по горизонту. — И какое это имеет отношение к... — Капитан, вы еще очень молоды, — перебил губернатор. — Волнения продолжаются. Но! — Тут он несколько раз ударил себя в грудь, да так, что эполеты зазвенели. — Я лоялист до самого мозга костей! — Продолжайте, — сказал Джадсон, мало-помалу теряя терпение. — Мне был передан приказ установить здесь таможенные посты и собирать пошлины с торговцев, которые непременно появятся. Это было вполне в рамках политических договоренностей между вашей и моей страной. Но на это мне не были отпущены средства. Ни единой каури[49]. Я искренне желаю поддержать любые коммерческие начинания, а знаете, почему? Потому что я лоялист, а в моей стране восстание, — да-да, говорю я вам. Республиканцы берут верх. Вы не верите? Только подумать: я не могу обустроить таможенные посты и платить жалованье должностным лицам, а народ моей страны убежден, что король правит спустя рукава и унижает достоинство нации. Гладстонит[50] — так, кажется, у вас говорят? — Да, так у нас говорят, — с улыбкой кивнул Джадсон. — А потому, думают они, мы, республиканцы, по-быстрому расхватаем горячие пирожки. Но я... все-таки я лоялист до кончиков ногтей. Капитан, когда-то я был атташе в Мексике. И я с уверенностью могу утверждать, что от республиканцев один вред. Эти люди зарвались. Они хотят... им нужны... только кредиты и векселя. — А это тут причем? — Да-да, и петушиные бои за городскими воротами, как в старину. Вы что-то платите — а взамен получаете возможность полюбоваться на кровопролитие. Так вам понятнее? — Точнее, на погоню за деньгами. Вы это имели в виду? Ну и шутник же вы, губернатор! — Я ведь лоялист. — Человечек улыбнулся уже не так скованно. — В результате, страна ничего не может сделать для устройства своих таможен. Но когда появились люди из Компании, а таможенных постов нет как нет, я не мог не начать петушиные бои. К тому же моя армия заявила, что у нас республика, и была готова меня расстрелять, если я не дам ей понюхать пороху и крови. О, армия, капитан, ужасна в своей ярости — особенно когда ей ни черта не платят. Мне-то это хорошо известно! — При этих словах он попытался положить руку Джадсону на плечо. — Я знаю, что мы с вами старые друзья — Бадахос, Алмейда, Фуэнтес-де-Оньоро[51] — с тех самых пор! И крохотная стычка по поводу платы за вход пойдет только на пользу моему королю. Укрепит под ним трон, верно? И вот, — он махнул рукой в сторону деревни, — я сказал своей армии: «Сражайтесь! Сражайтесь с людьми Компании, когда те явятся, но не слишком усердно, чтобы никто, боже сохрани, не погиб. А я опишу это в рапорте, который отправлю в метрополию». При всем при этом, вы же понимаете, капитан, мы остаемся добрыми друзьями! У нас была битва, но нет убитых, мой рапорт порадует народ моей страны, а моя армия не поставит меня к стенке. Я внятно объясняю? — Да, но остается «Гуадала». Она по нам стреляла. Это тоже часть вашей скромной игры, шутник? — «Гуадала»... Ах! Нет, не думаю. Ее капитан — большой дурак. Полагаю, сейчас она ушла к побережью, а там ваши канонерки быстро засунут ей весло куда следует. Я не ошибаюсь? — «Гуадала» застряла на мели. А теперь ждет, когда я ее оттуда сниму. — Кто-нибудь погиб? — Нет. Губернатор испустил вздох облегчения. — И здесь жертв тоже не было. А раз нигде нет жертв, можно считать, что ничего и не было. Капитан, поговорите с людьми Компании. Мне кажется, они все еще недовольны. — Естественно. — Им не хватает здравого смысла. Я полагал, что если пойду на уступки, то они кое-что поймут. Я оставлял возведенный ими частокол на всю ночь без надзора, но они все равно засели там и решили атаковать, вместо того чтобы отступить. Им невдомек, что мы в этих сражениях преследуем важные цели, иначе наш король лишится трона. Но теперь мы победили в великой битве, — он помахал в сторону берега, — и, кажется, вы тоже готовы согласиться с тем, что мы победили, капитан. Вы ведь тоже по-своему лоялист. И скажу вам по секрету — ваша королева в курсе дела. Разве она станет затевать драку со своими кузенами? Сами видите, все это... как будет по-английски? Ага — сделано на фабрике! — Что? — Ну, в общем, заранее подстроено. Никак не вспомню слово... — Сфабриковано? — О, да! Сфабриковано. Ведь никто не пострадал? Мы победили — вы проиграли. Неплохо? Чтоб-Меня-Джадсон, то и дело хмыкавший на протяжении всего этого монолога, наконец не выдержал и расхохотался. — И все же, губернатор, — проговорил он, закончив смеяться, — у меня есть о чем подумать, помимо ваших маленьких мятежей в далекой Европе. Ваши люди открыли огонь по нашему флагу. — Капитан, а если бы вы оказались на моем месте, как бы вы поступили? Мы оба храбрые сыновья гордых и могущественных держав... — Тут губернатор выпрямился во весь свой небольшой рост. — И наша честь — это честь нашего короля, — он обнажил голову, — и вашей королевы, — тут он почтительно поклонился. — И после этого, капитан, вам придется стереть с лица земли мою резиденцию, а я должен стать вашим пленником. — Что за вздор! — фыркнул Чтоб-Меня-Джадсон. — С какой стати мне палить по этому старому курятнику? — Тогда я приглашаю вас на обед. Мадейра все еще принадлежит нам, и в моих погребах — лучшие ее дары. Закончив, губернатор спустился по сходням на берег, а Чтоб-Меня-Джадсон отправился в каюту, чтобы досмеяться. Потом, немного отдышавшись, он отправил мистера Дэвиса за предводителем пионеров Компании, после чего обе враждующие стороны, уже и думать забывшие о войне, получили возможность созерцать с берега возмутительное зрелище: двое мужчин чуть ли не катались со смеху на квартердеке канонерки. — Хорошо, я отправлю своих людей построить ему чертову таможню, — наконец проговорил глава пионеров, все еще хватаясь за живот. — И мы проложим ему хоть одну пристойную дорогу. Этого губернатора стоило бы возвести в рыцарское достоинство. До чего же я рад, что мы не дрались с ними на открытой местности, мы ведь и в самом деле могли кого-нибудь убить. А он, значит, победил в великой битве, так? Ну тогда передайте ему наилучшие пожелания от павших героев и скажите, что я тоже приду на обед. У вас, случайно, не найдется фрака? Я уже полгода не видел ни одного. В тот вечер в деревне состоялось всеобщее пиршество, полное энтузиазма. Центр его располагался в резиденции губернатора, а уж оттуда веселье расходилось кругами по всем закоулкам. Мадера оказалась ровно такой, как обещал губернатор, и даже лучше, так что с ней могли соперничать лишь две-три бутылки элитного «Вандерхэма» из запасов Чтоб-Меня-Джадсона — а это был бренди десятилетней выдержки, настоянный на апельсиновой цедре и специях. И еще прежде, чем был допит кофе (за столом прислуживала та самая леди, что соорудила флаг из своей юбки), губернатор уже продал все свое губернаторство и соответствующие права — сперва Чтоб-Меня-Джадсону за оказанную его предками помощь в Пиренейской войне, а затем предводителю пионеров Компании в расчете на полезную дружбу с этим джентльменом. По окончании переговоров он на некоторое время удалился во внутренние покои резиденции и там составил исчерпывающее описание поражения британских войск, которое и зачитал Джадсону и его компаньону. При этом шляпа лихо съехала ему на брови. Джадсон предложил добавить к отчету потопление канонерки со всем экипажем, а предводитель пионеров предоставил список убитых и раненых из состава его отряда, не превышавший, впрочем, двух сотен имен. — Джентльмены, — наконец торжественно произнес губернатор, выглядывая из-под своей покосившейся шляпы, — этим рапортом будет спасен мир в Европе! Вы все достойны высших воинских наград, и если бы не «Гуадала»... — Великие небеса! — вскричал Чтоб-Меня-Джадсон, раскрасневшийся, но еще вполне дееспособный. — Я только сейчас вспомнил: я так и оставил эту посудину томиться на правом боку на отмели. Я просто обязан отправиться туда и утешить ее шкипера, иначе он окончательно посинеет от ярости. Губернатор, давайте спустимся вниз по реке и немного проветримся. Пикник, понимаете? — Йа-йа... Я все понимай. Хо! Пикник! Вы все мои пленники, но я добрый тюремщик. У нас будет пикник на реке, и мы прихватим девочек. Идемте же, пленники! — Я очень надеюсь, — заметил предводитель пионеров, взглянув с веранды на ревущее селение, — что мои парни не сожгут по неосторожности это скопище лачуг... Эй, кто там? Почетный караул его превосходительству, самому блистательному из ныне живущих губернаторов!.. На его призыв откликнулись человек тридцать. Выстроившись кособоким каре,они подхватили губернатора на руки и, покачиваясь и спотыкаясь, таким же неуверенным курсом двинулись к реке. Песня, которую они при этом ревели, в точности описывала происходящее: «Дружно взмахивай, качай, тело ниже опускай...» И тексту они следовали во всем, что не касалось строки с призывом: «Держи ровней от киля до кормы». Его превосходительство уснул на этих качелях и не проснулся даже тогда, когда самозванный хор уронил его на палубу канонерки. — Доброй ночи и шесть футов под килем, — на прощание сказал Джадсону предводитель пионеров. — Я бы дал вам свою карточку, если б она у меня имелась при себе, но я до того пьян, что не могу припомнить даже название собственного клуба. Ах, да — «Путешественники»! Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся в Лондоне. А сейчас я должен остаться здесь и присмотреть за своими парнями. Надеюсь, через некоторое время вы все-таки вернете губернатора, иначе нам не миновать политического кризиса. Счастливого пути!..
Канонерка отчалила в полной темноте и устремилась вниз по течению. Губернатор храпел на палубе, Джадсон встал к рулю, но как он вел судно и почему ни разу не врезался в берег по пути, позже ему так и не удалось вспомнить. Что касается мистера Дэвиса, тот не заметил ничего необычного в поведении капитана, ибо существует две степени опьянения, и Джадсон набрался лишь до степени офицерской кают-компании, а не полубака. Ночь становилась все холоднее, и в конце концов губернатор проснулся, выразив желание получить порцию виски с содовой. К тому времени как это желание было исполнено, канонерка едва не врезалась в застрявшую «Гуадалу», и его превосходительство отсалютовал невидимому во тьме флагу со всем патриотическим пылом. — Они нас не видят и ничего не слышат, — вскричал он. — Десять тысяч святых! Дрыхнут, пока я вместо них побеждаю в войнах! Ха! Он возмущенно прошагал к пушке, которая, что вполне естественно, была заряжена, дернул спусковой шнур и огласил непроглядную тьму грохотом выстрела и ревом снаряда. Тот, к счастью, разминулся с кормой «Гуадалы» и разорвался на берегу. — А теперь ваша очередь отсалютовать своему губернатору, — заявил он, заслышав панический топот множества ног по трапам и палубе застрявшего судна. — Это что еще за общая тревога? Я здесь, и со мной все мои пленники! Среди суматохи и нестройных воплей о пощаде его слов никто не расслышал. — Капитан! — наконец раздался угрюмый голос с мостика «Гуадалы». — Мы же сдались. Неужели у британцев принято расстреливать беспомощные корабли? — Они сдались! Пресвятая дева! Я своей рукой отрублю их пустые головы. Вас, негодяи, надо бы скормить лесным муравьям... а затем выпороть и утопить! Подайте мне трап! Это я, ваш губернатор! Вы никогда и никому не должны сдаваться! Джадсон, душа моя, распорядитесь, чтобы мне прислали койку... я что-то устал... Но с каким же удовольствием я казню этого капитана!.. — О! — вновь послышался голос из темноты. — Я, кажется, начинаю понимать. И с «Гуадалы» был сброшен шторм-трап. Губернатор кое-как вскарабкался по нему, а Джадсон поднялся следом. — Итак, насладимся казнью, — объявил губернатор, оказавшись на палубе. — Всех этих республиканцев следует расстрелять. Милый Джадсон, я ведь не пьян, но почему так подло выворачиваются из-под ног эти проклятые доски? Палуба севшего на мель судна, как уже упоминалось, накренилась под довольно чувствительным углом. Его превосходительство сел на нее, съехал на ягодицах к подветренному борту и снова крепко уснул. Капитан «Гуадалы» в ярости грыз усы и невнятно бормотал на родном языке. Наконец он обратился к Джадсону: — Эта земля — мать всяческим злодеям и мачеха всем честным людям. Вы видели этих ничтожеств, капитан? И так повсюду. Вы, надеюсь, прикончили парочку? — Ни единого, — честно признался Джадсон. — Какая жалость! Будь они мертвы, наша метрополия могла бы отправить нам подкрепление, но она тоже мертва, а я обесчещен и вынужден сидеть в этой грязи благодаря вашим подлым английским штучкам. — Как по мне, то палить без предупреждения по старой калоше вдвое меньшего размера, чем ваше судно — и это при том, что между нашими странами мир, — тоже своего рода подлость. — Если бы хоть один из наших снарядов угодил в ваш борт, вы со всем экипажем давно кормили бы рыб. Но я решил пожертвовать моим губернатором. Это привело бы... — К установлению республики? Значит, вы действительно собрались драться с собственным начальством? Скажу прямо: вы крайне опасны для вашего флота. И что же вы собираетесь делать теперь? — Оставаться здесь... или возвращаться на шлюпках. Какая разница? Эта пьяная обезьяна — он гневно указал во мрак, где мирно посапывал губернатор, — здесь. И мне придется вернуть ее обратно в логово. — Превосходно. Тогда завтра с утра, если к тому времени вы сможете оживить машины, я сниму вас с мели. — Капитан! Считаю своим долгом предупредить: как только я снова окажусь на ходу, то буду вынужден драться с вами! Мой долг... — Чушь! Мы позавтракаем вместе, а затем вы доставите губернатора в его резиденцию. Некоторое время капитан молчал, а затем произнес: — Давайте-ка выпьем. Будь что будет, и потом: мы ведь еще не забыли Пиренейский полуостров[52]. И признайте, капитан: влететь вот так на мель, как последняя землечерпалка, — удовольствие небольшое. — О, мы выдернем вас из ила прежде, чем вы успеете произнести слово «нож». Позаботьтесь о его превосходительстве. А я все-таки попробую немного поспать. Ночь прошла мирно, а затем началась работа по снятию «Гуадалы» с мели. С помощью собственных двигателей и рывков пыхтящей канонерки она наконец вырвалась из илистого плена и закачалась на глубокой воде. Однако мрачный зрачок четырехдюймовой пушки англичан при этом продолжал смотреть в точности в иллюминатор каюты ее капитана. Тем временем губернатора охватило раскаяние, принявшее форму жесточайшей головной боли. Он с горечью осознал, что, возможно, переоценил свои силы. Да и капитан «Гуадалы», несмотря на патриотические сантименты, отчетливо помнил, что между их странами не было объявлено никакой войны. Его начали раздражать постоянные напоминания губернатора о войне, серьезной войне, которая непременно увенчается свержением монархии и утверждением республики в их державе, а заодно и о его грядущем смещении с должности и близком знакомстве с расстрельной командой. — Мы восстановили свою честь, — доверительно заявил губернатор. — Наша армия умиротворена, рапорт, который вы отвезете домой, продемонстрирует вашу верность и храбрость. А этот мальчишка-англичанин, именующий себя капитаном... Ба! Он назовет это... Джадсон, душа моя, как бы вы назвали... все те дела, которые мы вместе с вами провернули? Джадсон пристально наблюдал, как последние футы буксировочного троса ложатся на барабан лебедки. — Как бы я их назвал? О, скорее всего — забавной шалостью... Теперь ваш корабль в порядке, капитан. Не пора ли нам отправиться на ланч? — Я же говорил вам, — обернулся к капитану «Гуадалы» губернатор, —для него это просто развлечение. — Матерь всех святых! Что же тогда для него серьезность? — отозвался капитан и добавил: — Мы будем готовы, сэр, когда вам угодно. Мы ведь поистине в безвыходном положении, — сокрушенно добавил он. — Ничего подобного, — возразил Джадсон, поглядывая на три или четыре царапины от пуль на бортах своей канонерки, и чувствуя, как в его мозгу зарождается гениальная идея. — Это ведь мы у вас в руках. Только взгляните, какие повреждения причинили нашему судну стрелки его превосходительства! — Сеньор капитан! — с сочувствием проговорил губернатор. — Это очень, очень прискорбно. Вы сами ранены, ваша палуба и борта покрыты пробоинами. Разве мы можем позволить себе быть жестокими к тому, кто пострадал в бою? — Тогда у меня есть просьба. Не могли бы вы выделить нам немного краски? Мне хотелось бы слегка подлатать мое корытце после... после боевых действий, — как бы в раздумье проговорил Джадсон, придерживая пальцем верхнюю губу, чтобы не расплыться в широкой ухмылке. — Наш склад в полном вашем распоряжении, — ответил капитан «Гуадалы». Должно быть, пара свинцовых клякс на серой краске борта канонерки произвела должный эффект. — Мистер Дэвис, — распорядился Джадсон, — будьте любезны, поднимитесь на борт «Гуадалы» и взгляните, чем они могут с нами поделиться — но только поделиться, не забывайте об этом. Сдается мне, что их краска для подводной части судна при некоторой доводке оттенка вполне подойдет для наших бортов и рубки. — О да, уж я взгляну, — сдерживая ярость, ответил мистер Дэвис. — Хотя и не понимаю, сэр, как это в вас одновременно уживаются все эти «будьте любезны» и «чтоб мне лопнуть», откровенно говоря. По всем морским законам эта лохань — наша добыча со всеми потрохами! К тому времени, когда капитан «Гуадалы» и губернатор явились на ланч, мистер Дэвис все еще отсутствовал. Меню, которое мог предложить Чтоб-Меня-Джадсон, было не столь уж разнообразно, зато блюда подавались буквально как дань побежденного милосердным победителям. Когда все уже слегка разогрелись, Джадсон, откупоривая очередную бутылку, небрежно пояснил, что не в его интересах докладывать начальству о случившемся как о серьезном инциденте. Ибо его экипажу пришлось столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы, а тут уж, как известно, ничего не попишешь. — И это при том, что мои палубы искорежены (четыре палубные доски пересекала глубокая царапина), а листы обшивки помяты (на трех листах все-таки удалось насчитать пять пулевых отметин), а сам я повстречался с таким мощным кораблем, как «Гуадала», и лишь счастливый случай спас меня от затопления... — Да-да, именно счастливый случай, капитан. Сигнальный буй сорвало течением, — подхватил капитан «Гуадалы». — Как вы говорите? Сорвало? Ну вот, а я совершенно не знаю фарватера на этой реке. И это прискорбно... Так к чему я веду? Когда я понял, что лишь счастливая случайность может спасти вверенное мне судно от гибели, мне ничего не оставалось, кроме отступления — если оно еще было возможно... Боюсь только, что мне все-таки не хватит угля для возвращения морем на базу. И это опять-таки прискорбно... — О, этого добра у нас предостаточно, — воскликнул губернатор, широко и щедро разводя руки. — Джадсон, душа моя, наш уголь — ваш уголь, и еще вам помогут с ремонтом — да-да, залечат все ваши боевые раны! И вы вернетесь героями. Флаг будет трепетать, барабаны греметь, солнце заиграет на штыках ваших матросов! Разве это не превосходно, капитан? — Как скажете, ваше превосходительство. Но люди Компании пока остаются в вашем селении. Что будет с ними? Губернатор на мгновение растерялся. Он лишь смутно припоминал, кто были те веселые парни, которые несли его ночью, то и дело подбрасывая к звездам. Джадсон тут же пояснил: — Его превосходительство приговорил их к исправительным работам в бараках, пакгаузах и, кажется, на постройке таможни. По завершении этих работ они, надеюсь, будут отпущены? — О да, милый Джадсон, это так же верно, как то, что я здесь представитель своего короля! Тут все выпили за здоровье соответствующих суверенов, а мистер Дэвис в это время наблюдал за тем, как матросы с «Гуадалы» заменяют поврежденные доски и удаляют отметины от пуль на обшивке. Когда все трое вновь поднялись наверх, Джадсон, окинув взглядом палубу, внезапно вскричал: — Черт побери! Похоже, этот идиот, мой механик, превысил данные ему полномочия! Безобразие! Но... вы должны позволить мне заплатить за его промах! Мистер Дэвис, который как раз в это время сидел, свесив босые ноги в воду, и прилаживал подвеску из тонких тросов на баке, внезапно сообразил, что его в чем-то обвиняют. Но, поскольку разговор шел на французском, только криво ухмыльнулся и продолжил работу. — Что случилось? — удивился губернатор. — Этот дубиноголовый решил, что, кроме краски, нам понадобится некоторое количество сусального золота, и прихватил его в вашей кладовой, хотя и не получал такого распоряжения. Нет, я обязан это исправить! И он гаркнул — уже по-английски: — Ну-ка, вылезайте оттуда, мистер Дэвис. Какого дьявола? О чем вы думали, когда нацелились на чужое сусальное золото? Чтоб меня... мы что, банда пиратов, которая потрошит левантийские фелуки?.. Да сделай же виноватую физиономию, ты, толстозадый, широкоштанный, бутылкопузый и косоглазый сын лудильщика!.. Клянусь спасением души, мне не сохранить порядок на собственном корабле, раз уж какой-то замызганный кочегар из котельной смеет позорить меня перед желторотыми авантюристами! Покиньте палубу, мистер Дэвис, и отправляйтесь в машинное отделение! Но первым делом верните сусальное золото. Марш на корму! Как только на мистера Дэвиса обрушился этот поток незаслуженных обид и оскорблений, верхняя часть его круглого лица показалась над бортом. Затем, по мере продолжения, оно дюйм за дюймом поднималось все выше, и на нем сменялись непонимание, изумление, ярость, уязвленная гордость... до тех пор, пока он не заметил, что левое веко его командира странно дергается. Тогда он мгновенно нырнул в люк машинного отделения, вытер лоб паклей и присел, чтобы осмыслить случившееся. — Я потрясен, — разводя руками, говорил тем временем Джадсон своим спутникам. — Но я вижу вашу готовность подарить мне этот ценный материал, и оттого чувствую себя в еще большем долгу перед вами. Но как мне искупить проступок этого олуха? Мистер Дэвис соображал не так уж быстро, но пару минут спустя он оставил свой лоб в покое, поднес паклю ко рту и вцепился в нее зубами, чтобы не расхохотаться во всеуслышание. А затем начал приплясывать на чугунных плитах машинного отделения — уже второй раз за это плавание. — Ловко! Ну до чего же ловко! — хихикал он. — Я служил со всякими шкиперами, но никогда еще не видал такого ловкача! А я-то думал, что новички ни на что не годятся, да еще не могут и пары слов связать! — Мистер Дэвис, вы можете вернуться к работе, — сурово обронил Джадсон, склоняясь над люком машинного отделения. — Эти господа были так добры, что вступились за вас. Так что постарайтесь оправдать их доверие. Привлеките к работе всех, кто сейчас не занят. Где вы нашли это золото? — Их кладовая — просто бродячий театр, сэр. А уж сусальное золото ни за что не пропустишь. И там его хватит позолотить от киля до клотика парочку линкоров, а я перетаскал к нам не меньше половины. — Тогда слушайте внимательно. Днем мы будем принимать на борт их уголь. К тому времени все должно быть закончено. — Ловко! Ох и ловко! — только и сказал мистер Дэвис, а затем отправился собирать подчиненных, чтобы воплотить в жизнь заветную мечту Джадсона, которую тот бог весть как давно таил в своем сердце.
«Мартин Фробишер», флагман эскадры, во времена своей юности считавшийся одним из самых грозных боевых кораблей, был построен еще в те дни, когда на паруса полагались, пожалуй, даже больше, чем на силу пара. С машинами, работающими полным ходом, и под парусами он мог развивать скорость в двадцать узлов, но в данную минуту, незадолго до полуночи, он неторопливо входил в устье все той же реки, напоминая в лучах полной луны величественную серебряную пирамиду. Старый адмирал, спохватившись, решил, что дал молодому лейтенанту Джадсону непосильное задание. Оттого и отправился вслед за его канонеркой, чтобы приглядеть за своим офицером, но до отплытия несколько задержался на берегу в связи с неотложными дипломатическими делами. «Фробишер» шел совершенно беззвучно, ветра в эту пору едва хватало, чтобы двигать его со скоростью нескольких узлов. А как только флагман нащупал судоходный фарватер и вокруг него сомкнулось безмолвие ночного леса, простиравшегося вдоль берегов реки, из всех звуков остались лишь вздохи ветерка да шепот волн под форштевнем. Полная луна поднималась над полосами тумана, и, глядя на нее, адмирал размышлял не столько о Джадсоне, сколько о материях гораздо более тонких и далеких. И, словно отвечая его настроению, над водной гладью внезапно зазвенели серебристые ноты, приглушенные расстоянием почти до шепота. То были звуки струн мандолины и голос, поющий о милой девушке Джулии — и о любви. Потом песня смолкла, и только поскрипывание такелажа в течение нескольких минут нарушало тишину на палубе большого корабля. Затем вновь вступила мандолина, и командир судна, стоявший с подветренной стороны квартердека, невольно улыбнулся, а вслед за ним точно так же заулыбался сигнальный мичман. Ни слова из песни не потерялось в тиши, а голос певца невозможно было не узнать — то был голос лейтенанта Джадсона.
На прошлой неделе на нашу аллею
Явился один господин.
Узрел мою миссус, раскланялся быстро
Откашлялся и говорил...
Добавлю только, что если моя история, она же история лейтенанта Джадсона, она же история мистера Дэвиса, неправдива, то вы ни за что не увидите в бухте Саймон двухвинтовую плоскодонную канонерку, построенную специально для операций на больших и малых реках, с водоизмещением около двухсот семидесяти тонн и осадкой в пять футов, которая, вопреки флотскому регламенту, несет на своих бортах золотой кант поверх серой уставной краски. Из этого также следует, что вы невольно поддались другой версии этой уже довольно потрепанной истории, которая, будучи заверена его превосходительством губернатором и доставлена на «Гуадале» в метрополию, удовлетворила амбиции одного великого и славного народа, а заодно спасла тамошнюю монархию от злобного деспотизма, именуемого «республикой».
УЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Посейдонов закон
...Когда первейший мореход спустил, не устрашен,
Свой первый плот на лоно вод, воскликнул Посейдон:
«Любому, кто стремит ладью чрез волны или гладь,
Незыблемый закон даю: не смей ловчить и лгать!
Прощает Зевс на суше всех, удерживая гром,
Коль жертвой искупают грех, склонясь пред алтарем;
А тут за жизнь ведут борьбу, здесь неподкупен вал,
Чтоб легкомысленно судьбу моряк не искушал.
Ужели набожная речь уймет прибой? Ужель
Законопатишь ею течь иль обезвредишь мель?
Стихии наказуют ложь ленивца-ловкача,
Ты снасти честно бережешь, а рубишь — так с плеча!
И чтобы ты осилить мог и ветр, и хлябь, и мрак,
Я, Посейдон, суровый бог, дарю тебе, моряк,
Орлиный взор, лихую стать — и силу. Ты в долгу —
Так помни: хочется солгать — солги на берегу!»
И все, что грозный молвил глас, мотал моряк на ус,
И после соблюдал наказ, как корабельный груз,
Но лишь покинет мореход галеру иль драккар,
Так в кабаках безбожно врет, не опасаясь кар.
А мир, дожив до наших дней, постиг в конце концов,
Что пар и винт куда сильней и ветра, и гребцов.
Подводный царь, грозивший встарь, подрастерял права,
Не изменился лишь моряк, лихая голова!
Не сдавшийся в годину бед ни шторму, ни врагу,
Он свой дубовый табурет придвинет к очагу,
И здесь, в уюте и тепле, он жадно пьет вино,
И лжет — поскольку на земле прилгнуть разрешено.[53]
* * *
В качестве художественной литературы или даже легкого развлекательного чтива книги, подобные той, что я сейчас держу в руках, не годятся. Речь в них идет о живучести, вооружении, циркуляции, оборудовании, машинах и механизмах кораблей британского военно-морского флота, к тому же они изобилуют схемами, разрезами и проекциями. Тевтоны, в точности как и мы, подходят к этим вопросам с языческой тщательностью, московиты ни в чем им не уступают, и лишь галлы, натуры вольнолюбивые и артистичные, порой нарушают все правила, дабы вволю потешить свое тщеславие нравами нынешних британских моряков. В этом, как мне представляется, неоценимую помощь им порой оказывают чрезмерно ретивые любители. В упомянутом опусе мне не попалось на глаза ничего такого, что свидетельствовало бы о дилетантизме автора, но однажды у меня в руках оказался труд некоего «М. де К.», основанный на беспристрастном описании одного из наших известных крейсеров. Автор, скрывший свое полное имя и ограничившийся инициалами, утверждает, что в нем содержится лишь изложение событий, имевших место в действительности, и ничего более. Действие развивается на протяжении всего двух дней; объем этого труда составляет двадцать семь страниц стандартного шрифта, не считая приложений, а что касается количества восклицательных знаков, то в этом он способен потягаться с любым из романов Дюма. Я прочитал его самым внимательным образом, начиная с восхитительного пролога — стыд и позор, что наш флот так и не сподобился отыскать в своих рядах офицера, способного сочинить хотя бы страницу лирической прозы, — до яркого, счастливого и пылкого финала. И по первому впечатлению почувствовал себя обманутым. Если вы занимаетесь коллекционированием произведений художественной литературы, надобно иметь в виду, что библиофил подчас целиком и полностью зависит от своего агента. Словом, я прочитал там, что этот самый «М. де К.» начал свою эпопею с того, что спрятался в одной из шлюпок крейсера ее величества «Архимандрит», пока тот стоял на рейде Фуншала. В интересах своей страны сей персонаж представился португальцем с Мадейры, спасающимся от воинской повинности. Его обнаружили в открытом море в восьмидесяти милях от берега и приставили помощником к коку. В этом нет ничего сверхъестественного и предосудительного, не так ли? Но уже на следующий день, благодаря своим недюжинным талантам и располагающим манерам, он был повышен до «внештатного вестового капитана» — причем эта должность, говоря его собственными словами, «была введена исключительно ради меня одного и предоставила в мое распоряжение беспрецедентные возможности, необычайно полезные для выполнения поставленной передо мной задачи, при выполнении которой одно некстати сказанное слово означало бы для меня окончательную и бесповоротную гибель». Начиная с этого момента, небо и земля не смогли бы поразить воображение «М. де К.» чудесами, более невероятными, чем те, свидетелем которых он стал. Разумеется, если я правильно перевел его измышления. В конце концов мне стало ясно, что этот самый «М. де К.» — или беспардонный лжец, каких еще не видывал свет, или же... Знакомых среди офицеров, матросов или морских пехотинцев из экипажа «Архимандрита» у меня не было, но инстинкт подсказывал мне, что я не ошибусь, если куплю билет третьего класса до Плимута. Необходимыми мне сведениями я разжился у старшего котельного машиниста, двух матросов-артиллеристов и разнорабочего с торпедной фабрики. Они оказались настолько любезны, что наставили меня на путь истинный и привели по захолустным улочкам Девонпорта в таверну, расположенную в пятидесяти ярдах от моря. Мы выпили с хозяином, рыжеволосым здоровяком по имени Том Уэсселз; а когда мои сопровождающие удалились, я спросил у него, не может ли он познакомить меня с каким-нибудь старшиной или уоррент-офицером с «Архимандрита». — С «Бедламита», должно быть, вы хотели сказать... ведь после его последнего походаони там все рехнулись чуть не поголовно! — Ничего удивительного, — миролюбиво отозвался я. — Покажите мне живой образчик, чтобы я мог убедиться в этом собственными глазами. — Великодушно прошу простить меня, разумеется, но... Для чего он вам понадобился? —— Я хочу напоить его. Да и вас заодно — если не возражаете. Причем я хочу это сделать здесь. — Звучит заманчиво. Попытаюсь сделать все, что смогу. С этими словами он направился к прибою, облизывавшему гранитные ступени по другую сторону улицы. От мальчишки, прислуживавшего в таверне, я узнал, что влиянием ее хозяин обладал не меньшим, чем иные адмиралы. Через несколько минут до меня донесся гул приближающейся толпы, который легко перекрывал голос мистера Уэсселза: — Он всего лишь хочет угостить вас за свой счет. Бьюсь об заклад, что он поставит всем вам выпивку. Ну вот — входите и взгляните на него. Он не кусается. Первым порог переступил квадратный малый с весьма необычными глазами, за которым последовали еще шестеро рослых и крепких военных моряков. Позади них топилась небольшая армия любителей выпить за чужой счет. — Он — единственный, кого я смог разыскать. Его перевели на «Послушник» шесть месяцев тому. Да и на него я наткнулся совершенно случайно, сиял мистер Уэсселз. — Я командую паровым катером. Вся наша кают-компания обретается нынче на берегу. На борт они вернутся не раньше утра, — сообщил мне квадратный моряк с замечательными глазами. — Вы с «Архимандрита»? — пожелал уточнить я. — В яблочко. Точнее, был с него, если уж говорить по правде. — Погодите минуточку. Я оттуда. — К столу протиснулся морской пехотинец в красном мундире с подозрительно блестящими глазами. — Ищете кого-нибудь с «Бедламита»? Мне... мне дали увольнительную по состоянию здоровья, ну я и поехал навестить родных в Льюисе и, сдается, чуток припозднился. Или нет? — Ты уже получил все, что тебе причитается, — заявил ему Том Уэсселз, когда морской пехотинец уселся по-турецки прямо на пол. — Здесь полно таких, у кого в глотке давно не было ни росинки, — раздался чей-то голос из-за двери. — Я беру этого с «Архимандрита», — сообщил я, — и морского пехотинца. Не могли бы вы поставить выпивку остальному экипажу катера, а через полчасика повторить, если мистер... если мистер... — Пайкрофт, — подсказал квадратный мужчина. — Эммануэль Пайкрофт, старшина второй статьи. — ...Если мистер Пайкрофт не возражает. — Он не возражает. Кругом марш! Голдинг, выставишь пикет у холма, и пусть остальные растянутся в цепь, чтобы заранее предупредить меня, когда Номер Первый[54] будет возвращаться после своих посиделок. Толпа рассеялась, а мы прошли в бар таверны, где было тихо и спокойно. Дорогу нам показывал красный морской пехотинец. — Что будете пить, мистер Пайкрофт? — осведомился я. — Только воду. Теплую воду с капелькой виски, ложечкой сахара и, пожалуй, долькой лимона. — А мне пиво, — заявил морской пехотинец. — Ничего другого я в рот не беру. — Слушай сюда, Гласс. Живо пей свое пиво и отправляйся на боковую. Скоро за тобой придет патруль, так что тебе следовало бы проспаться к тому времени. К какому корыту ты теперь приписан? — поинтересовался мистер Уэсселз. — К кораблю этого государства... вас устраивает? — неопределенно, но возвышенно отозвался морской пехотинец и смежил веки. — Вот это правильно, — одобрительно заметил мистер Пайкрофт. — Сейчас ему лучше бросить якорь прямо здесь. Итак — за наше здоровье Так что вам понадобилось от меня? — Я хочу прочитать вам кое-что. — Небось, опять какой-нибудь душеспасительный трактат? — пробормотал морской пехотинец, не открывая глаз. — Годится, послушаем. Я не против... Налейте мне еще пинту, мисс, душевно вас прошу! — Ему кажется, что он выпивает и во сне... вот ведь везучий ублюдок! — заметил мистер Пайкрофт. — Что ж, и я не возражаю — читайте, коли охота. Своих убеждений я не меняю. Пожалуй, могу заранее сообщить вам, что принадлежу к «Плимутскому братству». Он заранее скорчил мину сидельца в кресле дантиста. А я начал прямо с третьей страницы опуса «М. де К.». — «...Я уже стал задыхаться, поскольку спрятался под брезентовым чехлом шлюпки, как вдруг на палубе надстройки послышались чьи-то шаги, и тут я не выдержал и энергично откашлялся. К этому времени, по моим расчетам, корабль уже должен был отойти от берега на значительное расстояние. Несколько моряков вытащили меня из укрытия, перемежая свои действия ругательствами, вполне достойными этой жестокой и грубой нации. На их вопросы я назвался именем Антонио, сказав, что спасаюсь от призыва на действительную военную службу в португальской армии...» — Хо! — воскликнул мистер Пайкрофт, при этом выражение его лица претерпело разительные изменения. Немного помолчав, он задумчиво промолвил: — Нет, каков мошенник!.. А вам-то что за интерес в этом деле? — Это история Антонио — беглеца, который спрятался на паровом катере «Архимандрита». Полагаю, под его личиной скрывался французский шпион. Вам что-либо известно об этом? — А я уж было решил, что вы и в самом деле собираетесь уморить меня очередным трактатом. Но предчувствия меня не обманули. — Мистер Пайкрофт с умудренным видом покачал головой. — Значит, наш Старик[55] был прав — и Хоп тоже. Да и я, кстати. Эй, Гласс! — Он пнул морского пехотинца домой. — Оказывается, наш Антонио настрочил целую книгу! Да уж, шпионом он оказался всамделишним. Красный морпех слегка повернул голову в его сторону и, с пьяной тщательностью выговаривая слова, осведомился: — А он имеет какое-либо отношение к моей ужасной казни и смерти?.. Прошу прощения, но если я открою глаза, мне станет дурно. Этим я отличаюсь от прочих флотских. Гхм! — Что там насчет казни Гласса? — пожелал уточнить Пайкрофт. — Книга на французском, — пояснил я. — Тогда мне от нее не будет никакого толку. — Именно так. А теперь я хочу, чтобы вы рассказали мне, как все было на самом деле, а я сравню вашу историю с книгой. Угощайтесь сигарой!.. Итак, я уже знаю, что его действительно вытащили из катера. А вот все остальное, что с ним приключилось, представляется мне поистине невероятным. — Так оно и было, — выразительно подтвердил мистер Пайкрофт. — И теперь, оглядываясь назад, я и сам вижу, что дельце было весьма необычным. Но... что было, то было. Все случилось на «Архимандрите»... а этому кораблю можно доверять... Но Антонио! Нет, каков мошенник! — Не торопитесь, мистер Пайкрофт. И через несколько минут я узнал следующее: — Старик наш осерчал. Не стану отрицать, осерчал он здорово. Учитывая, что почтовые и пассажирские пакетботы заходят на Мадейру каждые двадцать минут, он никак не мог взять в толк, почему этому лопоухому португальцу втемяшилось в башку прятаться под брезентом катера на военном судне. Имейте ввиду, что повернуть обратно и высадить его на причал мы уже не могли. Ну, вытащили мы его за шиворот и поволокли к Номеру Первому. А тот возьми да и скажи: «Выкиньте его за борт. Причем немедленно, пока он не успел запачкать мои сверкающие палубы». Но наш Старик все-таки решил явить милосердие. «Отправьте его на камбуз, — распорядился он. — Сварите его живьем! Сдерите с него шкуру! Поджарьте его! Постригите его наголо! Обкорнайте ему его достоинство! Мы повесим его на острове Вознесения». В общем, единственным, кто оказался в выигрыше, стал Реталлик, наш добрый кок-католик, поскольку он один с трудом управлялся на камбузе. Ну, он ухватил бездельника за левое ухо и правую ногу и живенько пристроил его чистить картошку. И вот, этот самый Антонио, который сбежал от воинской повинности... — Обязанности, лупоглазый юнга! — поправил его морпех. При этом на лице у него не дрогнул ни один мускул, как у изваяния Будды. Помолчав, он жалобно добавил: — Пай не находит в этом ничего забавного. — Нет, именно что повинности, раз уж речь зашла о его незаконном пребывании на флоте ее величества. И вот тут-то старина Хоп, наш старшина-сигнальщик, затейник и балагур, обратил мое внимание на его руки. «Если пошевелить мозгами, — заявил Хоп, — то станет ясно, что эти руки отродясь не занимались честным трудом. И если ты скажешь мне, что эти руки принадлежат проклятому португальцу, который зарабатывает себе на жизнь тяжелым ремеслом, я не стану называть тебя лжецом, но скажу, что и ты, и Адмиралтейство сами не знаете, что несете». Хоп всегда изъяснялся изысканно, и шуточки у него были под стать — как и все остальное, кстати. И он решил присмотреть за этим малым. Надо отдать ему должное, он не стал брать кока на абордаж, а решил взять его измором и потому стал делиться своими подозрениями с пушкарями правого борта, да еще и насвистывать себе под нос. А наш кок, надобно заметить, терпеть не мог, когда на борту кто-нибудь насвистывает. «Что с твоими потрохами?» — наконец взъярился он, доставая солонину из бочки. «Не обращай на меня внимания, — ответил ему Хоп. — Я всего-лишь старый сигнальщик, из которого уже песок сыплется. Но, если уж говорить о том месиве, которое ты называешь жратвой, я очень надеюсь, что ты не станешь варить сапоги своего португальского приятеля вместе с той свининой, которую сейчас так брезгливо нюхаешь!» «Сапоги! Сапоги! Сапоги! — взвыл Реталик и заметался по палубе, как таракан под веником. — Сапоги на камбузе! Помощник кока, немедленно вышвырнуть за борт сапоги этого чертова аборигена, который вздумал прятаться в катере!» Не успел Хоп и глазом моргнуть, как сапоги полетели за борт, чего он и добивался, как вскоре выяснилось. «Какие славные у него копытца, у этого нашего беглеца, — сказал он мне. — Присмотрись повнимательнее, Пай. Ногти ровные и аккуратно подстриженные, мозоль-натоптыш на мизинце, что бывает, когда носишь слишком тесную обувь. Что скажешь, Пай?» «Беглый герцог, а? — говорю я ему. — И картошку он чистить не умеет. Он и ножа-то такого в руках не держал. Он же не кожуру с нее снимает, а буквально кромсает ее на куски». «Хотел бы я знать, что он на самом деле умеет? — протянул Хоп этак задумчиво, словно про себя. — Присмотрись к нему. И выправка у него какая-то иностранная. Непростой он малый, ох, непростой». Ну а когда дело дошло до команды «Койки вниз!», что по-нашему, по-морскому, означает «Спокойной ночи», я специально подобрался к Антонио поближе. Ему швырнули гамак и сказали, чтобы он подвесил его и ложился спать. Началась обычная суета, и я подвел его к кормовому проходу, за которым располагаются каюты офицеров. Но он управился и без меня. «Mong Jew!» — говорит он, оглядываясь по сторонам и принюхиваясь. И еще раз: «Mong Jew!»[56] — на чистейшем французском. А потом забрасывает свой гамак, крепит его, прыгает внутрь и сворачивается клубком. «Совсем недурно для португальского новобранца», — сказал я себе, оставил его в покое и пошел к Хопу. Еще через три минуты меня догоняет наш младший лейтенант. А раскипятился он из-за того, что будто бы я приказал Антонио подвесить гамак прямо на проходе. Разумеется, я вертелся как уж на сковороде и все отрицал. На флотской службе этому быстро учишься. Тем не менее, чтобы доставить мистеру Дукейну удовольствие, я спустился вниз — переместить Антонио. Вы, может, и не знаете, но существуют всего два способа выбраться из гамака, когда обрезают его растяжки. Вот Антонио как раз и воспользовался вторым способом и ловко соскользнул на обе ноги. Тут уж и я уразумел кое-что. Во-первых, ему уже доводилось спать в гамаке, а во-вторых, он вообще не спал. Тогда я упрекнул его за то, что он улегся прямо там, где его оставили, вместо того чтобы постоять в сторонке и подождать, пока ему укажут надлежащее место. В этом-то и заключается самая суть флотской дисциплины. В самый разгар моей воспитательной работы из своей каюты выставил свой бушприт старшина-артиллерист и велел нам обоим заткнуться, добавив парочку замечаний, которые дозволял ему унтер-офицерский чин. И вот, торопясь убраться оттуда подобру-поздорову и предоставив Антонио заново подвешивать свою чужеземную задницу в другом месте, я вдруг наступил босой ногой на какой-то небольшой предмет, валявшийся на палубе. Не останавливаясь, чтобы поднять его, и не сбавляя шага, я прижал его ступней и так дохромал до комингса люка. Там я быстро нагнулся, подхватил предмет правой рукой и отправился разыскивать Хопа. Это оказалась записная книжица карманного формата в сафьяновом переплете, сплошь исписанная несмываемым карандашом закорючками по-французски — со всеми этими ихними предлогами и частицами. Уж настолько-то я в языке лягушатников разбираюсь. Хоп принялся листать ее. До женитьбы он был близко знаком с одной француженкой-полукровкой — еще когда матросом первого класса ходил по реке Сайгон на канонерской лодке. Он хорошо понимал по-французски... правда, в основном, разговорную речь, а не письменную. «Пай, — сказал он мне, — ты — непревзойденный тактик! Сдается мне, с этим судовым журналом нашего друга-португальца дело нечисто. В общем, надо идти к капитану. Не сомневайся, он воздаст тебе по заслугам». «Ни за что, — ответил я ему. — Эммануэль Пайкрофт не из тех, кто ставит мины на пути капитана первого ранга ради сомнительных почестей. Обойдусь как-нибудь. Мне и здесь неплохо». «Что ж, делай как знаешь, — не стал спорить Хоп. — Но я все равно замолвлю за тебя словечко». «Заткнись, Хоп, — говорю я ему, — иначе я перестану считать тебя своим другом. У капитана свои обязанности, у меня — свои. Так что давай останемся при своих и не будем описывать ненужную циркуляцию». «К дьяволу циркуляцию!» — заявил Хоп. — Я намерен прямым курсом отправиться в уютную каюту нашего капитана». — И он туда действительно отправился. Мистер Пайкрофт подался вперед и отвесил морскому пехотинцу основательного леща. — Эй, Гласс! Это ведь ты стоял на часах, когда Хоп отправился к Старику — в первый раз, с моющейся книгой Антонио? Ну-ка, расскажи нам, что было дальше. Ты ведь уже протрезвел и даже не догадываешься, насколько! Морпех осторожно приподнял голову на несколько дюймов. Как и утверждал мистер Пайкрофт, он действительно выглядел трезвым — во всяком случае, по меркам легкой королевской морской пехоты. — Хоп влетел к нему, — проговорил он, — проговорил он, — как испуганная антилопа, держа под мышкой сигнальную грифельную доску. А Старик как раз собрался отужинать — причем весьма обильно, не то что мы с тобой, когда всю ночь и еще полдня у нас во рту и крошки не было. Кстати, раз уж речь зашла о еде... — Нет-нет, довольно! — вскричал Пайкрофт, отпуская ему очередного тумака. — Так что там насчет Хопа? Я, по правде говоря, испугался за ребра пехотинца — а вдруг они треснут? — но тот лишь икнул в ответ. — А, Хоп! У него все было записано на его грифельной доске — я так думаю — и он сунул ее прямо под нос Старику. «Закройте дверь, — говорит Хоп, — ради всего святого, закройте эту чертову дверь!» Это он про каюту. Затем, должно быть, Старик обронил что-то насчет кандалов. «Я надену их сам, сэр, прямо в вашем присутствии, — отвечает ему Хоп, — только выслушайте сначала мои молитвы... Ну или что-то в этом роде. Со мной, кстати, было то же самое, когда я обозвал нашего сержанта толстобрюхим, тупоголовым и вонючим козлом, которому давно пора на пенсию. А судьи написали в приговоре: «Использовал оскорбительную лексику», чем испортили весь эффект. — Хоп! Хоп! Хоп! Что было дальше с Хопом? — проревел Пайкрофт. — С Хопом? Да ничего особенного. Дверь была закрыта, и ничего больше не происходило до тех пор, пока Хоп не вышел из каюты Старика — задрав нос кверху и сияя, как новый шиллинг, или что-то в этом роде. Он был до невозможности горд собой. «Смотри, не лопни от самодовольства», — сказал я ему. Тут мистер Гласс вновь погрузился в полудрему. — Бог ты мой! Можно подумать, он выпил целую бочку, верно? Когда мы стояли на рейде Виго, Гласс играл роль Одноглазого Дика, хотя, разумеется, ребятам с нижней палубы пришлось не по нраву, что морпех изображает настоящего морского волка, если можно так выразиться. Его выручают только остроумие да находчивость. Как вы думаете, может, я продолжу свое повествование? После столь недвусмысленного намека я заказал ему еще выпивку, и мистер Пайкрофт возобновил рассказ. — Стратегия должна быть продумана заранее, а в тактике главное — ошеломить противника. Моя предусмотрительность обеспечила нам первоначальное преимущество в атаке, а Старику оставалось лишь рассыпать сюрпризы направо и налево. Господи Иисусе! И какие это были сюрпризы! Тем вечером он обедал в кают-компании, поскольку — я ведь говорил вам, что мы были поистине счастливым кораблем? — ему это типа нравилось, ну и офицеры тоже не возражали. Между прочим, на флоте такое нечасто встретишь. Они пили какую-то новую мадеру — жуткое пойло, после которого на следующее утро во рту будто эскадрон лошадей гарцевал. Ну, после возлияний они приказали официантам убираться с глаз долой, а часовому — отойти на пятнадцать шагов от кают-компании и не подслушивать. Затем они потребовали к себе старшего артиллериста, боцмана и плотника и предложили им выпить. Все это выяснилось много позже — ведь, как гласит пословица, разговоры в кают-компании становятся сплетнями на нижней палубе, — но, как оказалось, наш Номер Первый заявил, что в таком щекотливом деле нельзя доверять команде. Старик стал возражать, уверяя, что командует кораблем уже два года. И оказался прав. Ни в одном из флотов Европы и близко не было корабля, способного сравниться с «Архимандритом», когда мы брались за дело по-настоящему. Мы держали первенство в артиллерийских стрельбах, в гонках на гребных шлюпках и паровых катерах, в мастерстве судовождения. У нас были лучшие негры-запевалы, лучшая команда по футболу и крикету и даже лучший самодеятельный оркестр. А наш Номер Первый, видите ли, не доверял нам! Он считал, что через неделю крейсерпревратится в плавучий сумасшедший дом, и уж тогда всем офицерам флота вместе взятым не удастся вернуть на судно дисциплину. Они все еще спорили в кают-компании, когда с мостика доложили, что видят ходовые огни в трех румбах слева по курсу. Мы догнали посудину, осветили ее прожектором, и оказалось, что перед нами — какой-то безвестный угольщик, делавший семь узлов и державший курс, скорее всего, на полуостров Кейп-Код. И тогда капитан — о чем мы узнали в свое время, правда, много позже, — приказал свистать всех наверх. «Всем слушать меня внимательно, шутники, — сказал он. — Номер Первый утверждает, будто мы не в состоянии просветить этого любящего играть в прятки галльского лейтенантишку насчет царящих у нас на флоте традиций и порядка, не превратив наш корабль в сумасшедший дом. В этом он, безусловно, прав, особенно если мы не будем избегать крайностей, пока не достигнем острова Вознесения. Но, — продолжал он, — появление этого угольщика придало игре новый смысл. Мы можем на денек удариться во все тяжкие, дыбы поразить нашего друга — а иначе для чего придумана дисциплина? А потом мы благополучно передадим его на угольщик, где наверняка присутствует острая нехватка рабочих рук. Они будут рады и счастливы, — продолжал капитан, — да и Антонио не останется внакладе. Ставлю каждому дюжину лакричных конфет и бутылку местного вина, но взамен хочу получить крейсер с командой, которой могу доверять — пусть даже на один день. А пока не будете ли вы столь любезны, чтобы снизить скорость хода и держать надлежащую дистанцию между этим ниспосланным нам небом грузовым пароходиком до получения особых распоряжений?» Вот это я и называю тактикой. На следующий день маневры начались в полном соответствии с тем планом, который они разработали в кают-компании, где прозаседали чуть не до самого утра. Хоп шепотом сообщил мне, что Антонио держал ушки на макушке, исполняя на камбузе свои обязанности и оставаясь шпионом номер один, посему я на полном ходу направился на камбуз. Могу с уверенностью утверждать, что не имел ничего против него как француза, потому что эта нация мне симпатична, но только когда француз служит в своем чине и на своем флоте. А потом я справился о его здоровье у Реталлика. «Не задавай дурацких вопросов, — ответил кок, — посверкивая серебряными очочками. — Его повысили до второго внештатного вестового капитана, выдали соответствующую форму и потребовали соответствующего обращения. Если он будет исполнять новые обязанности так же, как чистил картошку, то я не завидую нашему Старику!» Когда наступил благоуханный рассвет, наш младший лейтенант, изобретательный и энергичный дьявол, вместе с пемзой, которой драят палубу, выдал каждому из нас в высшей степени странное распоряжение: дескать, после восьми склянок все приказы следует выполнять спустя рукава. «Регулярная работа, — добавил он, — должна выполняться в новом режиме, в соответствии с требованиями высшего руководства и текущей политики, а того, кто позволит себе выразить удивление или негодование по этому поводу, постигнет самая суровая кара». Тут нашему канониру передали под командование необыкновенно большой отряд матросов для наведения порядка на складе боеприпасов и в пороховом погребе, и он увел их с собой вместе со старшим артиллеристом. В общем, мы рьяно взялись за дело, усердствуя во всем, особенно после того, как увидели, что Старик поднялся на мостик при полном параде и кортике, доверившись нам, как братьям. Ну, мы тоже сменили форму одежды в соответствии с процедурой, изо всех сил стараясь сбить с толку беднягу Антонио. А потом ко мне заявился сержант нашей морской пехоты и принялся заламывать руки и стенать. Оказывается, он разговаривал с нашим младшим лейтенантом, и теперь выяснилось что у него, извиняюсь, поехала крыша. «Мне нужны гарантии, — заявил он, сжимая и разжимая кулаки в бессильном гневе. — Я едва не загнулся от солнечного удара, когда мы воевали с работорговцами в заливе Таджура-Бей, с тех пор мне приходится горстями глотать хинин и хлородин. И от пары стаканчиков коричневого шерри я не начинаю гонять чертей по палубе...» «Что у тебя стряслось?» — спрашиваю я его. «Я ведь не офицер, — отвечает он. — Мне не вернут шпагу по окончании военного трибунала. И все из-за маленьких слабостей, хотя на моей репутации нет ни единого пятнышка. Я — всего лишь простой сержант морской пехоты, не наживший больших денег, с восемнадцатью годами безупречной службы за плечами, но я не понимаю, почему, — при этом он все время размахивал руками, — почему я должен рисковать своей пенсией из-за какого-то младшего лейтенанта? Нет, ты только посмотри на них, — взывал он ко мне, — только посмотри! И это называется проверкой стрелкового оружия?!» А на корме действительно строились морские пехотинцы , но более непотребного зрелища я еще в жизни своей не видел. Большинство из них были в одних форменных рубахах. Нет, брюки они тоже надели, разумеется, но закатали их до колен, превратив в шорты. Трое или четверо прихватили с собой фуражки, а те, кто предпочел надеть каски, заправили ремешки за уши. Ах, да — у троих на ногах было всего по одному сапогу! Нет, я, конечно, знал, в чем заключалась наша тактика, но все равно изрядно удивился, когда эта команда бразильских барабанщиков остановилась под надстройкой на юте оттого, что им навстречу попался небольшой десантный отряд под командованием нашего штурмана с гамаком в руках. «Стоп машина! Полный назад! — заорал штурман. — Освободить место для гамака капитана!» Вестовой капитана — его звали Кокберн — держал гамак за один конец, а наш Антонио, только что получивший повышение по службе, а заодно и новую синюю форму, вцепился в другой. И вот они привязали гамак одной петлей к дулу скорострельной кормовой пушки, а другой — к леерной стойке. И тут на палубе появился наш Старик с сигарой в зубах и медленно и важно опустил свою корму на приготовленное для него лежбище. «Какое блаженство, мистер Дукейн, — говорит он нашему младшему лейтенанту, — не видеть рож этих чертовых адмиралов! Да и что такое адмирал, в конце концов? — продолжает он. — Всего лишь следующий после капитана чин, да еще и обладающий дурным нравом, мистер Дукейн. Итак, учения можно продолжать. О! Антонио, ну-ка, принеси сюда мою бутылочку...» Когда Антонио вернулся с бутылочкой содовой, щедро разбавленной виски, ему было приказано не спеша покачивать гамак, а морские пехотинцы продолжили свои мучения. Сержанта предусмотрительно избавили от участия в этом надругательстве, и он потешно подпрыгивал на верхней ступеньке трапа, вытягивая загорелую жилистую шею, чтобы получше разглядеть творящееся внизу безобразие, и цокая языком от восторга. Многие матросы торчали на шкафуте, таращась на эти так называемые учения с таким видом, словно перед ними выступал Королевский оркестр, исполняя знаменитую балладу «Солдаты в парке». Должен заметить, что подобные маневры на флоте — явление крайне необычное и чрезвычайно редкое. Спустя десять минут такой муштры вот этот самый Гласс — жаль, что он так надрался сегодня! — заявил, что с него хватит и что ему пора отправляться домой. Тогда мистер Дукейн, недолго думая, огрел его плашмя абордажной саблей по башке. Винтовка Гласса полетела на палубу, сопровождаемая соответствующими выражениями, и он наклонился, чтобы поднять ее за цевье. Но тут к нему подлетел Маклин — рейнджер из Госпорта — и прыгнул Глассу прямо на шею, отчего тот растянулся на палубе во весь рост. Тут наш Старик разыграл целое представление, изобразив, будто пробуждается от сладкой дремы. «Мистер Дукейн, — наконец вопросил он, — что за нелепая заминка?» — А Дукейн делает шаг вперед и, вытянувшись во фрунт, отвечает: «Всего лишь очередное покушение на убийство, сэр!» — «Только и всего? — лениво тянет наш Старик, пока Маклин поудобнее устраивается на загривке Гласса, а потом роняет через губу: «Уведите его! Ему известно, какое наказание его ожидает». — Ага! — пробормотал я, торопливо перелистывая страницы книжонки этого «М. де К.» — Полагаю, это и есть то самое «всем известное британское высокомерие перед лицом вызванного жестоким обращением мятежа». — Итак, — продолжал Пайкрофт, — брыкающегося и упирающегося Гласса увели с палубы и спустили по трапу прямо в ласковые руки сержанта. Тот погнал его вперед, как шелудивого пса, во всеуслышание грозясь заковать в кандалы за такое поведение. «У тебя ствол перегрелся, приятель! Смени воду в кожухе и сам остынь малость! — заявил ему очухавшийся Гласс и попытался выпрямиться, приняв самый воинственный вид. — Вся беда в том, что ты начисто лишен воображения!» «В самом деле? Зато у меня осталось немножко власти», ответил ему сержант и скорчил злобную физиономию. «Да неужели? — огрызнулся наш приятель. — Имей же совесть, в конце концов. Нынче вечером меня расстреляют перед строем, а ты будешь командовать расстрельной командой». Уж не знаю почему, но сержант взбеленился не на шутку. У него аж пена на губах выступила. Откровенно говоря, особым умом он не отличался, вернее, был туп, как пробка. Словом, он принял все за чистую монету. Ну что ж, тут, собственно... Словом, если вы хотите, чтобы я продолжил свой рассказ... Мы быстренько повторили процедуру, но на сей раз воды в стакане мистера Пайкрофта оказалось всего ничего. Морской пехотинец, лежа на полу, дышал глубоко и ровно, и мистер Пайкрофт удовлетворенно кивнул. — Пожалуй, я забыл упомянуть, что наш Номер Первый зорким глазом присматривал, чтобы в общем и целом ситуация развивалась в нужном направлении.Пока морпехи резвились на палубе, он задавал генеральную линию нашей циркуляции, ну а уж детали мы расписывали самостоятельно. Такова была наша тактическая линия, призванная одурачить Антонио и сбить его с толку. Скажем, корабельному плотнику Чипсу вдруг пришло в голову, что паровой катер надобно спустить с талей, чтобы провести ремонт и профилактику. Ну, он собрал свою похоронную команду, и они принялись его спускать. Вы никогда не видели, как паровой катер ставят на палубу, нет? Это не так-то просто, как может показаться, а если поглядеть со стороны, так и вообще обхохочешься. В результате правый борт оказался полностью заблокирован, и передвигаться с бака на ют приходилось чуть ли не гуськом по боковому мостику левого борта. Ну, дальше Чипс залезает в него и принимается вышвыривать на палубу всякую всячину. В этот самый момент на палубу поднимаются три чумазых субъекта из машинного отделения, которых мы называем «механиками», вместе с парочкой кочегаров и заявляют, что имеют приказ привести в порядок паровую машину катера. Они дружно лезут внутрь и выволакивают оттуда гирлянду елочных украшений из медных и латунных деталей. Тут судовому казначею приходит в голову выдать солонину бедным матросикам на ужин. При виде этого Реталлик, наш кок, едва не рехнулся от возмущения. Ну, что поделаешь, не привык он к таким вещам. Тут Номер Первый приказывает пяти или шести дюжим артиллеристам отправляться в кладовую к бочкам с солониной. Вам никогда не доводилось видеть, как солонину выковыривают из ее дубового вместилища? И вдруг старшему артиллеристу приходит в голову, что наступил тот самый день и час, когда его подчиненным, находящимся на срочной службе, следует поупражняться в стрельбе из «максимов». Ну, они, не будь дураки, дружно принялись палить в белый свет как в копеечку, и эффект превзошел всякие ожидания. Повсюду на палубе валялись потроха парового катера, в его корме копошились механики, грязные, как черти из преисподней, пулеметчики садили из своих «максимов» почем зря, устроившись среди бочек с солониной, а в довершении ко всему судовой кузнец раскочегарил свой горн и принялся ковать лошадиные подковы — во всяком случае, мне так показалось. В общем, теперь вы имеете представление, что творилось по правому борту. Единственным из унтеров, кто не принимал участия в представлении, был боцман. Недолго думая, он заявил, что запас досок и пиломатериалов Чипса, которым тот разжился во время нашей последней стоянки, следует перебрать и принайтовать заново. А «пиломатериалы» эти висели на балках за бортом — целый лес неразделанных стволов. «Отлично, — заявляет Номер Первый, — если вам так хочется, можете взять себе всю вторую вахту. — И добавляет: — Черт побери, пусть люди повеселятся от души!» Нашего боцмана звали Джарвис. Он тут же принялся выкликать всю вторую вахту по одному, называя их ласкательными и уважительными прозвищами, что вообще-то нашему флоту ну абсолютно несвойственно. В общем, они выгрузили весь строевой лес на палубу, а потом принялись перетаскивать бревна с места на место, как трудолюбивые муравьи. Но Джарвиса грызла ревность к Чипсу, и он отправился на правый борт — взглянуть, как там идут дела. «Так, мы проигрываем по всем статьям, — вернувшись, объявил он. — Чипс устроил там аврал, как на угольной барже, угодившей в десятибалльный шторм. Надо бы и нам принять кое-какие решительные меры». После этого он отправился к Номеру Первому и о чем-то пошептался с ним. Тот заручился позволением Старика и распорядился развернуть полный комплект вспомогательных триселей[57]. На этот счет имелся даже приказ Адмиралтейства: в том невероятном случае, если у крейсера выйдет из строя машина, рекомендовалось поднять на мачтах четыре триселя. Но мы были не лыком шиты, и брезента у нас было с избытком. Словом, мы извлекли его из всех потайных уголков, где он хранился с незапамятных времен, и через два часа тяжкой работы подняли на мачтах целых одиннадцать парусов всевозможных форм и размеров. Право слово, даже затрудняюсь сказать, как они назывались, но путаница тросов и концов, протянувшихся от парусов между катером, судовым горном, бочками с солониной, разобранными после стрельбы «максимами», пулеметчиками, боцманскими причиндалами и камбузом, придала палубе невообразимый и возвышенный вид. Другого слова не подберешь. Это было величественное зрелище! А Старик меж тем лениво покачивался в гамаке под бдительным присмотром верного Антонио, который то и дело таскал ему бутылочки с водой, разбавленной виски. В то утро их набралось целых восемь штук, и когда Антонио отлучался, чтобы принести капитану подзорную трубу, перчатки или снежно-белый носовой платок, Старик безжалостно выплескивал их содержимое в вентиляционный кожух. Зато Антонио, должно быть, узнал много нового о жажде, каковую испытывают моряки нашего флота. — Несомненно! — Угу. А не будете ли вы столь любезны, чтобы отыскать нужную страницу и вкратце просветить меня насчет избранной им тактики? — осведомился мистер Пайкрофт и сделал основательный глоток. — Мне бы хотелось знать, как это выглядело с его стороны палубы. — Как это выглядело? — переспросил я. — Вот: «Едва только земля скрылась из виду, подобно Аввакуму Вольтера...» — Полагаю, это один из их новых эсминцев, — вставил мистер Пайкрофт. — «...Каждый из матросов оказался мастером на все руки и действовал согласно собственному разумению. Шлюпки, выпотрошенные и жалкие, спускаются на палубу. Вот кто-то кричит: «Помогите же мне!» — одновременно размахивая орудием своего труда. Дюжина матросов бросается на помощь, но он принимается отгонять их, заливаясь злобным лаем, словно цепной пес. Выясняется, что он потерял молоток, и его яростный крик означает только это, не больше и не меньше. Восемь матросов отправляются на поиски инструмента, сшибаясь при этом с десятком других; кто-то сидит на корме катера, выдирая с мясом и разбрасывая по палубе его железные внутренности, отчаянно сопротивляющиеся его брутальным усилиям. И посреди всей этой суеты кто-то вдруг отрывается от возни с парусами, досками, болтами и угольной пылью, вопрошая: «Ради чего я все это делаю?» — М-да, здесь он проявил поразительную наивность. Хотя на самом деле увидел довольно много. — «...Тут они с ревом набросились на обшивку судна, и это зрелище трудно передать словами. В качестве камердинера капитана, которого я ловко накачивал спиртным с самого момента восхода солнца (узри меня, виночерпий Ганимед!), я ловко сную между ними, слушая и наблюдая. Они требуют распоряжений. Но отдавать их некому. Вот кто-то уселся на корму катера и заунывно тянет на одной ноте «Правь, Британия, морями!» — интересно, надолго ли его хватит?» — Это был я! Только пел я «Жизнь на океанских волнах», которую ненавижу сильнее, чем любую другую мелодию, поскольку под нее мне пришлось перетаскать на своем горбу чертову пропасть пушек. Да — Номер Первый как раз велел мне заткнуться хотя бы минут на десять, ведь у меня, можно сказать, вообще нет слуха... — «...А потом появились морские пехотинцы, полуодетые, тщетно искавшие посреди этого хаоса укромное местечко, откуда бы их не прогнали взашей. Капитан, изрядно нагрузившийся спиртным, свалился с гамака и пожелал, чтобы его люди открыли огонь из «максима». Они потребовали, чтобы он указал, из какого именно, но ему было уже все равно. Вкладыш затвора, без которого вести огонь невозможно, куда-то запропастился. Пулеметчики набросились на матроса, который как раз вскрывал бочку с солониной, крича, чтобы он отдал его, а тот, в свою очередь, отправил их к коку, моему вчерашнему начальнику...» — Да, с Реталликом едва не случился удар. Какой, однако, наблюдательный этот правдолюбец Антонио! — «...Вскоре вкладыш обнаружился в руках юнги, который оправдывался тем (и они не стали слишком уж сильно ругать его), что нашел его совершенно случайно...» Я прервался, чтобы заметить: — Боюсь, мой перевод не слишком точен, мистер Пайкрофт, но я старался как мог. — Чепуха, у вас вышло прекрасно... Вы запросто могли бы сойти за француза, верно вам говорю. Ну, значит, от меня вам больше ничего не нужно. Все остальное у вас уже есть в этой книге. — Да, но мне важна ваша точка зрения. Например, здесь есть один пассаж, который мне не вполне понятен. Слушайте: «О владениях, которыми Британия правит с молчаливого согласия и попустительства остальных держав, мой грозный капитан не знал ровным счетом ничего, а его штурман, если это вообще возможно, — еще меньше. От ужасных взаимных обвинений, ругани и безграничного хаоса на главной палубе я поднялся — как всегда, с виски и содовой в руках — на верхнюю палубу, где глазам моим предстало поистине абсурдное зрелище. Вообразите капитана, ссорящегося в открытом море со своим штурманом! Нервный срыв, вызванный чудовищным количеством поглощенного алкоголя, наполнил его рассудок неведомыми причудливыми опасностями. А поскольку воспаленный мозг командира судна был уже неспособен к здравым суждениям и наполнился дьявольскими фантомами, ему вдруг почудились Геспериды под килем и среди них — бесчисленные подводные рифы. Он вдруг принялся придумывать какие-то банки и песчаные отмели прямо посреди Атлантики!» — О чем здесь речь, мистер Пайкрофт? — А, кажется, припоминаю! Это было после ужина, когда наш штурман швырнул свою фуражку на палубу и принялся плясать на ней. Потом они устроили чаепитие на мостике. Ну и Старик не мог остаться в стороне, разумеется. Он ничего не говорит там о лотовых? — Вы имеете в виду вот это: «Оскорбленный до глубины души беспричинными подозрениями, штурман сорвал с себя знаки различия, швырнул их под ноги капитану и заплакал. За сим воспоследовало отвратительное, сентиментальное и щедро сдобренное слезами примирение. Но вскоре спор вспыхнул вновь, оба схватились за штурвал, сражаясь с тяжелым опьянением и вопя друг на друга. Очевидно, капитан намеревался отыскать судоходный фарватер к мысу Кейп-Код. В конце концов он поставил на носу матроса, приказав тому криком обозначать глубины — и вручил ему свинцовое грузило, смазанное нутряным салом». — Оно действительно было смазано нутряным салом? — Ну разумеется, он поставил двух лотовых! А потом заявил, что не знает, есть ли поблизости отмели или нет. Матрос Морган отправился на пост, вооружившись лотом, как и полагается, чтобы не испортить общую картину. Они опускали его добрых двадцать минут, да только никакого нутряного сала не было и в помине — только свечной жир, что вполне естественно. — «...Лот, смазанный нутряным салом, ушел на глубину в две тысячи метров. Положительно, британский флот превосходно оснащен...» — Что ж, все это прекрасно, мистер Пайкрофт. Не могли бы вы рассказать еще что-нибудь любопытное об этом случае? — Да там было много чего любопытного, с какой стороны ни возьми. А вот мне хотелось бы знать, что этот Антонио подумал о наших парусах? — Он всего лишь пишет: «После того как машины вышли из строя, офицер от безысходности затеял прискорбную и бессмысленную пародию на плавание под парусами...» — И добавляет: «Некоторые из них походили на носовые платки в белую и красную полоску». — Носовые платки! Это были самые настоящие лиселя[58]. Значит, этот бездельник — никакой не моряк. А мы ведь действительно провернули этот фокус. Фу! Я-то думал, что он разбирается в морском деле и понимает, что означает выкроить одиннадцать настоящих парусов из четырех триселей и нескольких полотняных навесов. Пожалуй, он и сам был пьян! — Не обращайте внимания на эти инсинуации, мистер Пайкрофт. А теперь мне хотелось бы услышать о стрельбе по мишеням и казни. — О! В тот день мы провели учебные стрельбы — специально для Антонио. Как я сообщил своему расчету — а я был канониром скорострельной пушки на левой скуле, хотя сейчас переквалифицировался в торпедиста, — мы должны были показать, как ловко умеем обращаться со своим орудием в реальном бою. И скажу без утайки — даже разрывы двадцатишестидюймовых снарядов у нас на борту не смогли бы произвести больших разрушений, чем те, что мы сами учинили на палубе. Это было нечто! В общем, к учебной стрельбе мы отнеслись спустя рукава. Ну, вы меня понимаете — с большой прохладцей, потому как команде было строго-настрого приказано ни в коем случае не рвать жилы. Обычно, или, говоря ученым языком, in puris naturalibus[59], мы такого себе никогда не позволяем, но ведь тогда условия не были обычными. Мы отчаянно импровизировали. А Антонио был занят: таскал бутылочки для капитана, а тот только переводил хорошее виски зазря, выливая его в вентилятор. По-моему, в каждой было не меньше чем на четыре пальца виски, не считая содовой, — стандарт офицерской кают-компании. И тогда я решил маленько покрасоваться, ну и выставил прицел на своей пушечке на пятнадцать сотен ярдов. Последовало эдакое славное извержение — чисто отрыжка, честное слово, — и снаряд нехотя пролетел, пожалуй, футов пятьдесят и зарылся в воды Атлантики. «Этот казенный порох, сэр!» — крикнул наш старший артиллерист на мостик и расхохотался с жутким сарказмом, а мы, естественно, присоединились к нему, чего никогда бы не позволили себе in puris naturalibus. Потом я, разумеется, сообразил, чем все утро занимался в пороховых погребах наш старший артиллерист. Он уменьшил заряд до минимума, если можно так выразиться. Но все равно мне стало немного не по себе от его недостойного и подчеркнуто пренебрежительного поведения. При каждом удобном случае наш старший артиллерист отпускал ядовитые замечания в адрес правительственных складов, и наш Старик аж подвывал от хохота. Хоп как раз стоял с ним на мостике, и потом он рассказывал мне — потому что он хороший френолог и разбирается в людях, — что лицо Антонио буквально сияло от радости. Хопу даже захотелось врезать ему как следует. Антонио ничего об этом не пишет? — О том, чтобы врезать — ни словечка, зато он много чего навалял о ваших учебных стрельбах, мистер Пайкрофт. Он суммировал все результаты в таблице, помещенной в одном из приложений, и заявил, что цифры говорят за себя красноречивее слов. — Что? И ни словечка о том, как шарахались и отпрыгивали комендоры? О том, как снаряды с уменьшенным зарядом не летели, а просто вываливались из стволов? — Почему же? Он составил несколько страниц примечаний, но там лишь повторяется все то, о чем вы уже говорили. Он утверждает, что такие вещи происходят регулярно, стоит одному из наших кораблей оказаться в открытом море. Вот что он пишет: «Из разговоров моего командира с подчиненными я узнал, что немалая часть денежных средств, уплаченных за эти якобы эффективные заряды, осела в его карманах. Факт сей получил подтверждение, когда один из офицеров на нижней палубе громко крикнул: «Надеюсь, сэр, вы хотя бы извлекли из этого выгоду! А то картина выглядит совсем удручающей». На столь вопиющее оскорбление, хотя и нанесенное из лучших побуждений, капитан отреагировал добродушной пьяной ухмылкой...» — Кстати, ваш стакан, как мне кажется, пуст, мистер Пайкрофт! — Возвращаясь к делам нашим скорбным, — продолжал Пайкрофт после некоторого перерыва, во время которого он обильно промочил пересохшее горло, — я могу точно сказать, что учебная стрельба заняла у нас часа два, после чего нам пришлось двинуться в погоню за угольщиком. Затем под присмотром младшего лейтенанта, этого дьявола, мы навели порядок на палубах и принялись дурачиться с реквизитом, убирая лиселя и прочие брезентовые тенты, которые велел поднять на мачтах наш Номер Первый. Старик, правда, позволил себе усомниться в правильности выбранной нами тактики — я собственными ушами слышал, как он сказал Номеру Первому: «Вы были правы. Неделя такого непотребства, и корабль превратится в публичный дом. Но, — проникновенно добавил он, — наши матросы проявили себя с лучшей стороны, не так ли?» «О, для них это был настоящий пикник, — ответил тот. — Но когда же мы, наконец, избавимся от этого бездельника, который перетаскал наверх все ваше виски, сэр?» «Вы позволяете себе неуважительно отзываться о виконте, — заявил в ответ наш Старик. — У себя дома он — голубая кровь, гордость Франции». «Поскорее бы, — подхватил Номер Первый. — Терпеть такое — выше моих сил. Чтобы прибраться после него, придется свистать наверх всю команду, включая кока». «Ничего, они не будут на вас в обиде, — сказал Старик. — Как только стемнеет, мы догоним угольщик и передадим ему на борт нашего друга». Но тут к капитану подошел этот надутый инд... словом, к нему подошел мичман Моршед и что-то негромко сказал ему на ухо. Старик встрепенулся. «Буду вам признателен, — сказал он, — если вы воспользуетесь для этой цели птицей, приобретенной нами для офицерской кают-компании. Я лично ставил клеймо на каждой курице, поэтому ошибки быть не может. И запомните, — добавил он, — если на палубу прольется хоть капля крови, я не приму никаких оправданий и прикажу их всех повесить». Мистер Моршед отправился по своим делам — и выглядел при этом необыкновенно довольным, что было ему несвойственно, прямо скажем. А морские пехотинцы устроили общий сбор в своей кают-компании. Вскоре стемнело, и на волнах заиграл какой-то маслянистый отсвет. Большего бардака, чем тот, что творился в это время на «Архимандрите», и придумать было невозможно. Палуба напоминала восточный базар и аукционный зал одновременно — ей-богу, мы выглядели почти как пассажирский пароход. Угольщик мы, правда, догнали, и держались от него на расстоянии четырех миль. Я заметил, что офицерская кают-компания, если можно так выразиться, совершила поворот «все вдруг» и погрузилась в меланхолию. На мачтах крейсера оставалась лишь пара сигнальных реев, и нам было приказано привести их в вертикальное положение. За все тринадцать лет, что я провел в Вест-Индии, такое мне довелось увидеть лишь однажды — когда от желтой лихорадки умер капитан первого ранга. Когда сигнальные реи наклонены и смотрят в разные стороны, словно пьяные, это значит, что на корабле объявлен траур. Вот так было и у нас. «И что означает эта карусель?» — спрашиваю я у Хопа. «Святые угодники! — отвечает он мне. — Ты что, готов смириться с тем, что морпехи каждое утро покушаются на жизнь лейтенантов во время тренировок? Да их за это надо расстрелять поутру на полубаке перед строем! Но и сейчас, в сумерках, тоже получится неплохо». — Да уж, — пробормотал я, перелистывая книжицу «М. де К.». — Тут он пишет: «Сумерки придавали всему происходящему мрачную, похоронную атмосферу... Это было варварское зрелище, неописуемо жестокое — поистине ужасающее! — и вместе с тем величественное». — Хо! Вот, значит, как к этому отнесся Антонио? Что ж, стало быть, он оказался способен хоть на какие-то чувства. Соответствующих приказов мы не получали, но почему-то начали передвигаться по кораблю чуть ли не на цыпочках, а разговаривали только шепотом. Постепенно повсюду воцарилась мертвая тишина, ну прямо как в лесу! И вдруг горнист заиграл траурный марш с верхнего мостика. Он исполнял его, чтобы заглушить кудахтанье казнимых кур... Вам не доводилось слышать, как горнист играет траурный марш? А потом засвистали боцманские дудки, созывая обе вахты на публичную казнь, и мы вывалились на палубу всей толпой, словно призраки. Один из наших — его звали Майки Харкурт — начал придуриваться и высунул язык, как повешенный, за что получил по шее и загремел вниз по трапу. Потом мы легли в дрейф, застопорив машину и покачиваясь на волнах. Вокруг было темно, реи торчали в разные стороны, а с верхнего мостика разносилась эта жизнерадостная мелодия. Мы выстроились на полубаке, оставив открытое пространство вокруг кабестана, где сидел наш парусный мастер и пришивал старые колосники к ветхому гамаку. Он и сам здорово походил на покойника, так что с нашим Майки снова случилась истерика, да и нам всем стало изрядно не по себе. Это уже превосходило все, на что мы были горазды, — а на «Архимандрите» горазды мы были на многое, уж поверьте. Затем на палубе появился судовой врач, зажег ту самую красную лампу, с которой возился у себя в каюте, проявляя фотографии, и со стуком водрузил ее на кабестан. при виде этого у нас прямо мороз по коже прошел! М-да, а потом вперед вышли двенадцать морпехов, конвоировавших вот этого самого Гласса, который тут у нас разлегся на полу. Глядя на него, вы бы ни за что не поверили, в каком безмолвном ужасе он пребывал. На нем была белая рубашка, которую он позаимствовал у Кокберна, и форменные брюки. Он был босиком и такой бледный, что это было заметно даже в вырезе рубашки. И вот он в сопровождении конвоя твердым шагом промаршировал к кабестану и вытянулся во фрунт. Старик, подкрепившись очередной бутылочкой виски — семнадцатой по счету, и эту он не стал выплескивать в вентиляционный люк, — поднялся на мостик и застыл, сам на себя не похожий, словно тень. Хоп, который стоял рядом, утверждает, что слышал, как у Антонио стучали зубы, причем чуть ли не барабанной дробью. «Когда будете готовы, сэр, просто уроните платок», — прошептал Номер Первый. «Боже милостивый! — Старик едва не подпрыгнул от неожиданности. — А? Что? Какое зрелище! Какое невероятное зрелище!» — И добрых пару минут он стоял как вкопанный, глядя на происходящее, и не мог наглядеться. А Гласс не проронил ни словечка. Он отвел руку младшего лейтенанта, в которой тот держал платок, чтобы завязать ему глаза, — уверенным и твердым движением. Не испытывай мы тех чувств, о которых я вам говорил, то, пожалуй, его поведение могло бы вызвать бурные аплодисменты. — Я не могу открыть глаза, иначе меня стошнит, — отчетливо выговаривая слова, сообщил вдруг из-под стола морской пехотинец. — Я, конечно, мертвецки пьян, и сам это знаю, но в тот момент никто не смог бы превзойти Эдварда Гласса, солдата морской пехоты ее величества. Я был перепуган едва не до смерти... А ты продолжай, Пай. Гласс тебя поддержит — как всегда и везде!..
— И тогда Старик уронил свой носовой платок, а расстрельный взвод дал залп. Гласс повалился лицом вперед, дергаясь и корчась с ужасающим правдоподобием, прямо на расстеленный перед ним гамак, к которому уже были привязаны колосники. Расстрельная команда шагнула вперед, скрыв от всех остальных тело казненного, которое парусный мастер уже зашивал в импровизированный саван. Когда же они подняли гамак с палубы, он был насквозь пропитан кровью! А ведь они зарезали всего одну курицу из запасов для офицерской кают-компании. Вот вы, например, знали, что у курицы столько кровищи? Я, честно говоря, и думать не думал. А Старик, как рассказывал мне впоследствии Хоп, остался на мостике, пораженный до глубины души. Расстрел произвел глубокое впечатление и на Номера Первого, хотя и куда меньшее, ведь в его обязанности входило подумать о своей ненаглядной палубе и о том, как избавиться от следов свежей крови. «Одну минуту, сэр! — сказал он, когда Старик повернулся, чтобы уйти. — Надо дождаться погребения, каковое, как мне доложили, состоится немедленно». «Нет уж, с меня довольно, — ответил капитан. — Давая общие указания насчет казни, я и вообразить не мог, что у меня на борту собрались столь даровитые исполнители. У меня до сих пор мурашки по коже бегают». Морские пехотинцы снесли тело вниз. Затем горнист снова исполнил траурный марш, и мы услышали всплеск, донесшийся из открытого порта носовой шестифунтовки, а потом зазвучала куда более бодрая мелодия. А тем временем вся нижняя палуба наперебой поздравляла Гласса, который принимал комплименты как должное. Он недурной актер, хоть и морпех. «А теперь, — сказал Старик, — пора избавиться от нашего Антонио. Насколько я понимаю, он сейчас мокрый, как мышь, от страха». Разумеется, все происходило куда быстрее, чем я об этом рассказываю. Мы догнали трамповый угольщик, разумеется, заранее сообщив Антонио о том счастливом исходе, который его ожидает, — и справились, готовы ли там принять безбилетного пассажира. «Вот как?» — удивились там и добавили, что будут весьма благодарны. Наша щедрость глубоко поразила их, и нам пришлось лечь в дрейф и дождаться, пока там спустят шлюпку. А затем Антонио, который был явно недоволен и удручен таким поворотом событий, вежливо предложили перейти на борт другого судна. Не думаю, что он горел желанием, и пришлось поручить Хопу растолковать ему ситуацию. Не успели мы оглянуться, как он уже мощным пинком вышвырнул Антонио вниз по трапу. По правде говоря, Хоп не отличался медлительностью, да и французы были ему симпатичны, но вот шанс дать пинка лейтенанту, пусть даже иностранного флота, выпадает исключительно редко. Не успела шлюпка с угольщика отчалить от «Архимандрита», как у нас на борту произошли разительные перемены. Старик обратился к команде с речью, словно Элфинстон и Брюс[60] после всеобщих выборов в Портсмуте, когда я был совсем еще мальчишкой. «Джентльмены, — сказал он, — я обращаюсь к вам именно так, поскольку вы проявили себя настоящими джентльменами: я благодарю вас от всего сердца. Статус и положение нашего недавнего товарища по кораблю — горячо оплакиваемого сослуживца, можно сказать, — продолжал он, — вынудили нас предпринять некоторые шаги, не предусмотренные уставом и флотским регламентом. И вы благородно пришли мне на помощь. И теперь, — заявил наш Старик, — вы совершенно несправедливо обзавелись репутацией самого разнузданного корабля в британском флоте. Свинарник покажется кое-кому королевским дворцом по сравнению с нашим крейсером. И теперь нам предстоит устранить последствия этой непристойной оргии, — закончил он. — За работу, криворукие и бестолковые амалекитяне![61] За работу, черти соленые!» — А что, разве у капитанов флота принято так обращаться к экипажу, мистер Пайкрофт? — осведомился я. — Я уже говорил вам, что передаю лишь самую суть его речи. Боцман быстренько перевел слова Старика для обитателей нижней палубы, если можно так выразиться, и те тотчас уразумели, что к чему, и взялись за дело. Нам потребовалась ровно половина ночи, чтобы привести корабль в божеский вид, и уже к восходу солнца он опять сверкал как новенький, а мы подвели итоги и возобновили службу. Я много размышлял об этом, представляя, как Антонио швыряет уголек в бункере этого трампа. Должно быть, он был сильно удивлен, не так ли? — Так и есть, мистер Пайкрофт, — ответил я. — Но теперь, раз уж мы коснулись этого, позвольте задать вам вопрос: разве и все вы не были удивлены, пусть даже совсем немного? — Для нас это стало приятным развлечением, которое внесло разнообразие в привычную рутину, — заявил мистер Пайкрофт. — И мы сочли это удивительно легким способом послужить своей стране. Но — тут Старик был прав — еще неделя подобных маневров, и дисциплина окончательно рухнула бы... А теперь не могли бы вы познакомить меня с тем, как Антонио описывает в своей книжонке расстрел Гласса? Я удовлетворял его любопытство чуть ли не десять минут. У меня, конечно, получилось лишь бледное подобие того красочного описания, которое накропал «М. де К.» — в нем явственно чувствовалась душа поэта, глаз моряка и сердце патриота своей страны. А его отчет о спуске с борта «бесславного судна, оскверненного кровопролитием» на «широкую грудь томно вздыхающего ночного океана» можно сравнить лишь с описанием «обесчещенного гамака, погружающегося в мрачные глубины, пока горнист на мостике исполняет мелодию, полную неописуемой жестокости». — Кстати, а что сыграл горнист после водного погребения Гласса? — поинтересовался Гласс. — О! Всего лишь «Строго конфиденциально». Это старая моряцкая песня. Мы пели ее во Фраттоне еще пятнадцать лет назад, — сонно пробормотал мистер Пайкрофт. Я помешал остатки сахара в своем стакане. Внезапно в таверну ввалились какие-то вооруженные люди, промокшие и раздраженные. За их спинами нервно улыбался Том Уэсселз. — Где этот скандально известный тип — Гласс? — рявкнул сержант патруля. — Здесь! — Морской пехотинец вскочил и вытянулся в струнку. — Но не обязательно принюхиваться ко мне, потому что я убийственно трезв. — Ого! А что это ты здесь поделывал? — Слушал трактаты. Можете сами убедиться! У меня сегодня выдался замечательный вечер. Отобедал в здешнем роге изобилия. Целая толпа бездельников с золотыми нашивками станет болтать, что я будто бы смылся в самоволку, но вы не верьте ни единому слову. Я заранее прощаю их. Это был исключительный вечер, не забывайте! — Потом он заискивающим тоном обратился ко мне: — Я слушал все, о чем вы говорили, хоть и с закрытыми глазами, но не упустил ни словечка. — Он презрительно ткнул большим пальцем в сторону мистера Пайкрофта. — Вот он — простой матрос. В этой истории он не видит ничего смешного. Вот это-то и прискорбно... С этими словами рядовой Гласс удалился, тяжело опираясь на руку одного из патрульных. Мистер Пайкрофт сосредоточенно нахмурился — достичь подобной задумчивости можно только после пяти стаканчиков виски с горячей водой. — В общем, я действительно не вижу в этой истории ничего смешного — за исключением отдельных мелочей. Особенно в том, что касается облегченных пушечных зарядов. А вам это кажется забавным? Что-то в его взгляде подсказало мне, что нынешняя ночь выдалась слишком щедрой на горячительные напитки, чтобы он мог вполне воспринять мои аргументы. — Пожалуй, да, мистер Пайкрофт, — ответил я. — история получилась великолепная, за что я и выражаю вам свою сердечную признательность.
КОННАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА
1911 год
«...Восьмого апреля достопочтенному сэру Р. Б. Холдейну, военному министру, в Палате общин был задан вопрос о деревянных лошадях, которых Военное министерство якобы использует для обучения рекрутов навыкам верховой езды. Лорд Рональдшоу поинтересовался у военного министра, поставляются ли деревянные лошади во все кавалерийские подразделения для обучения новобранцев. «Досточтимый милорд, — ответил мистер Холдейн, — несомненно намекает на деревянных лошадей на качалках, при испытаниях которых были получены весьма удовлетворительные результаты»... Механический жеребец представляет собой деревянную копию лошади с великолепным хвостом. Он выкрашен в коричневый цвет и установлен на качающихся полозьях. Новобранец прыгает в седло, натягивая поводья, пока инструктор по верховой езде раскачивает животное ногой взад и вперед. Деревянные лошади производятся в Вулвиче и стоят довольно дешево...»Из газеты «Дейли пейпер»
Указания, данные мною мистеру Легатту, моему шоферу, были выполнены в точности. После ежегодного технического обслуживания и ремонта он должен был доставить мой автомобиль из Ковентри через Лондон в доки Саутгемптона и там ожидать моего прибытия. В шесть утра моя машина, стоявшая рядом с бортом парохода на блестящих рельсах подъездных железнодорожных путей, выглядела просто превосходно. Не считая новой краски и лакировки, более всего меня удивили новенькие покрышки. — Но ведь я не заказывал покрышек, — сказал я, когда мы отъехали. — К тому же они не пневматические. — Арочные литые шины с тройным рифлением, — с гордостью сообщил Легатт. — И с ромбовидным рисунком. — В таком случае, произошла какая-то ошибка. — О нет, сэр. Они предоставлены вам бесплатно. Количество автомобилестроителей, бесплатно раздающих полные комплекты дорогущих покрышек, настолько ограничено, что я потребовал у Легатта объяснений. — Вряд ли я смогу дать их вам, сэр, — последовал ответ. — Вам лучше спросить об этом у Пайкрофта. Он сейчас как раз в увольнительной в Портсмуте и остановился у своего дядюшки. Тот провел над корпусом всю ночь. Готов биться об заклад, что даже под микроскопом вы не найдете на нем ни царапины. — В таком случае, мы едем домой по портсмутской дороге, — решил я. И мы покатили с той скоростью, какая дозволена до начала рабочего дня или до того момента, когда полиции надоедает сурово карать нарушителей. Но неподалеку от Портсмута дорогу нам преградил батальон регулярной армии на марше. — Только что закончились маневры, приуроченные к празднику Троицы, — пояснил Легатт. — Эти парни провели две недели в Даунсе.[62] Больше он не проронил ни слова до тех пор, пока мы не оказались на какой-то узкой улочке позади железнодорожного вокзала в Портсмуте, где он притормозил у бакалейной лавки. Дверь ее была открыта, а перед ней на трех корзинах из-под картофеля, поставленных одна на другую, восседал малорослый старикашка. У его ног горбилась чья-то спина, обтянутая синим мундиром. — И это называется — надраить до блеска? — возмущался старикашка поразительно тонким и пронзительным голосом. — Разве ты видишь в них своеотражение? Нет! Значит, давай, чисти дальше, иначе я тебя выпорю так, что ты неделю не сможешь сидеть! — Если вы перестанете тыкать меня носком в зубы, я постараюсь сделать все в лучшем виде, — смиренно прозвучал голос Пайкрофта. Мы посигналили клаксоном. Пайкрофт выпрямился, отложил в сторону сапожные щетки и приветствовал нас с величавым достоинством короля, дающего аудиенцию подданным. — Ты что, хочешь бросить меня здесь одного на целый день? — не унимался старикашка. Пайкрофт снял его с импровизированного трона, подтолкнул, и тот заковылял, прихрамывая, в заднюю комнату лавки. — Это все его мозоли, — пояснил Пайкрофт. — Кроме того, он еще не завтракал. — Я тоже, — вставил я. — Завтрак на двоих, дядюшка, — пропел вслед родственнику Пайкрофт. — Тогда ступай и купи его, — последовал ответ, — или можете разделить один сухой паек. Пайкрофт повернулся к Легатту, отдал ему маркетинговые указания, какие счел необходимыми, вручил пригоршню мелких монет и велел пошевеливаться. — У моего автомобиля появились четыре новые покрышки, — внушительно начал я. — Угу, — согласился Пайкрофт. — Появились и, должен заметить, — он похлопал машину по капоту, — что вы их честно заслужили. — Но я хочу знать, с чего бы вдруг... — продолжал я. — Вполне понятное желание. Вы ведь не заметили ничего необычного в газетах, верно? — Я только что сошел на берег, а газет не держал в руках уже несколько недель. — В таком случае, вы сможете оценить мой рассказ по достоинству. Тут на прилавок шлепнулся пакет с кофейными зернами. — Поджарь их! — донесся из недр лавки голос его дяди. Пайкрофт принес кофемолку и жаровню, а я убрал деревянные ставни и продал юной леди в папильотках два пучка зелени и один мятый апельсин. — Тошнотворное занятие на пустой желудок, вы не находите? — меланхолически заметил Пайкрофт. — Так что там насчет моих новых шин? — напомнил я. — Да ради бога! Но прежде всего главный вопрос. — Он вперил в меня пристальный взгляд. — Что вы проводите — военный трибунал или посмертное дознание? — Исключительно дознание, — успокоил его я. — В таком случае, — продолжал Пайкрофт, — нет ничего проще. В минувший четверг — ставни можете поставить вон за те корзины, — значит, в минувший четверг, когда пробило пять склянок предполуденной вахты, или, как выражаются штатские, в половине одиннадцатого утра, ваш мистер Легатт был застигнут на Вестминстерском мосту в тот момент, когда держал курс на Старую Кентскую дорогу. — Но Саутгемптон находится совсем в другой стороне, — перебил я его. — Тогда, очевидно, у его компаса слишком большая девиация[63]. Но как бы там ни было, мы обнаружили его именно на этой широте, когда вместе с Жюлем направлялись на вокзал Ватерлоо, чтобы воссоединиться со своими кораблями — или, точнее, эскадрами. Жюль, как и я, имел разрешение на временное отсутствие, то есть находился в законном отпуске со своего французского броненосного крейсера, что стоит на рейде в Портсмуте. Их там набралась целая компания честных и надежных унтер-офицеров, совершавших экскурсию по Лондону под предводительством судового капеллана. Жюль оторвался от своих и отправился в автономное плавание, когда я присоединился к нему вместе с несколькими шикарными дамами. Но прошу иметь в виду, что мистер Легатт от общения с дамами отказался, причем недвусмысленно. — Рад слышать, — заметил я. — Вполне вас понимаю. Он с самого начала повел себя как истый пуританин. «Я еду в Саутгемптон, — заявил он, когда мы стали его подкалывать, — и максимум, что могу себе позволить — так это отправиться туда через Портсмут. Но, — продолжал он, — памятуя о том, какие дьявольские приключения случаются со мной, когда мы с вами отправляемся в плавание вместе, мистер Пайкрофт, и учитывая снисходительное отношение ко мне моего нанимателя, я не считаю себя вправе брать на борт еще и такой балласт». Уверяю вас, он заботился исключительно о ваших интересах. — А девушки? — О, это я предоставил Жюлю. Лично я отдаю предпочтение моногамии. Так что мы загрузились в машину и развлекались чисто по-холостяцки. Но должен сказать вам, на тот случай, если он из скромности умолчал об этом, что забота мистера Легатта о ваших интересах простиралась так далеко, что он укрыл ваше авто циновками и джутовыми мешками, дабы не повредить свежую краску. Словом, машина была укутана с ног до головы, как итальянский младенец. — Да, он очень бережно относится к ней, — согласился я. — Как человек, не имеющий опыта воинской службы, он вел себя словно одержимый. Будь мы морпехами, наши подкованные каблуки довели бы его до апоплексического удара. Однако нам удалось успокоить его, и мы наконец-то двинулись в Портсмут. Мне нечасто доводится прибывать на корабль в шикарном авто, меховом пальто и в очках. Как и Жюлю, впрочем. — Жюль что-нибудь говорил? — поинтересовался я, беспорядочно вращая рукоять кофемолки. — Мне было искренне жаль бедолагу. Он совершенно не владел языком. Ему пришлось ограничиться лишь пожатиями плеч, вздохами да бесконечными: «Мой Бог!» Французы вообще крайне скудно оснащены выпускными клапанами. А потом наш мистер Легатт сел за руль и поехал. И как поехал! — Он пребывал в покладистом настроении? — Только не он, нет! Мы с самого начала отдавали себе отчет в важности его миссии. Так что у него была возможность лишь слегка смочить губы. После этого мы уснули; а теперь позавтракаем. Мы вошли в заднюю комнату, где все было уже готово и царил образцовый порядок. Желтая канарейка приветствовала нас пронзительной трелью. К копченой селедке дядюшка добавил жареные колбаски и гренки с маслом. Кофе, осаженный рыбьей кожей, стал для меня истинным откровением. Легатт, который, похоже, знал здесь все ходы и выходы, загнал автомобиль в крошечный задний дворик, где его сверкающий зад загородил нам вид из окон. Пока мы ели, он присматривал за лавкой. Пайкрофт передал ему его порцию через откидное оконце в двери задней комнаты. Дядюшка кликнул его после завтрака и приказал вымыть посуду, и мой шофер повиновался ему с такой прытью, с какой никогда не откликался на мои распоряжения. — Возвращаюсь к нашему дознанию... — Пайкрофт уже попыхивал только что раскуренной трубкой. — Сон мой прервался оттого, что винт перестал вращаться, а мистер Легатт стал изъясняться крайне неподобающим образом. — Я... я... — открыл было рот Легатт, держа в одной руке голубое клетчатое полотенце, а в другой — чашку. — Когда вы понадобитесь нам, мы пошлем за вами, мистер Легатт, — доброжелательно заявил Пайкрофт. — Сейчас ваша главная задача — прибраться на палубе. Снова возвращаясь к нашему дознанию, должен отметить, что вскоре я обнаружил, что мы стоим на пустынной дороге близ Портсдауна, окруженные кустами дрока, и какой-то бойскаут щекочет мне брюхо своей медной палочкой. «Считайте до десяти», — говорит он мне. «Да ладно тебе, Бой Джонс, — отвечаю я ему, — считай сам». После чего я перевалил его через фальшборт и отвесил с десяток шлепков по мягкому месту. Выражениям, к которым он прибег, лежа на животе и пытаясь укусить меня за ногу, позавидовал бы иной армейский унтер-офицер. Закончив экзекуцию, я вышвырнул его на обочину, что стало моей главной политической ошибкой. Мне следовало бы придушить его на месте, потому что он тут же начал сигналить — быстро и верно — в юго-западном направлении. А когда маленькие друзья Би-Пи[64] начинают подавать сигналы, жди беды. Запомните мои слова, авось пригодятся! Через три минуты нас остановили и взяли на абордаж скауты — они запрыгнули нам за спину, уселись на шею и свалились под ноги. Последним, что я услышал от вашего мистера Легатта, когда он был уже окончательно погребен под тяжестью навалившихся на него тел, — это хвала Господу за то, что он догадался закрыть новенькую покраску циновками. Настоящий герой! — Зато на ней не осталось ни царапины, — заявил Легатт, выплескивая кофейную гущу. — А Жюль? — поинтересовался я. — О, Жюль решил, что в стране началась социальная революция, о которой так много говорили, но ему помешал макинтош. — Это вы велели мне захватить макинтош, — прошептал мне на ухо Легатт. — Но когда я почти убедил эту мелкую шантрапу в том, что он — французский виконт, направляющийся с визитом к главнокомандующему в Портсмуте, Жюль попытался снять его. Разглядев под ним его униформу, какой-то начинающий Шерлок Холмс из патруля «Розовый глаз», которого приятели называли Эдди, дедуктивным методом вычислил, что я морочу им голову. Этот Эдди заявил, что я пытаюсь незаметно просочиться в Портсмут, так как продался врагу. Вскоре выяснилось, что у местных скаутов как раз началась военно-ролевая игра по оказанию противодействия оппозиционным силам, в которую включились все рода войск. Вдобавок, они так боялись, что захват машины не принесет им десять очков, что даже готовы были снять с нас скальпы. Спасло нас вмешательство судей — те тоже явились поглазеть на нас в одном исподнем — я имею в виду, в кожаных шортах. Хорошенькое было зрелище, нечего сказать! При этих словах мистер Пайкрофт зажмурился и кивнул сам себе. — Одним из этих судей, — внезапно объявил он, — оказался мистер Моршед — тот джентльмен, с которым вы уже свели знакомство и поимели свою выгоду, если не ошибаюсь. — Ага, выходит, флот тоже участвовал в этих игрищах? — спросил я, потому что мне уже доводилось слышать о диких выходках бойскаутов на портсмутской дороге, в которых принимали самое деятельное участие флот, сухопутные войска и весь остальной мир. — Да, флот тоже оказался замешан в этом деле. Как и я — правда, всего на несколько секунд. Наш мистер Моршед поначалу не узнал меня в меховом пальто, как не заметил и того, что я отчаянно подмигиваю ему из-под ваших автомобильных очков. Но когда этот Эдди поведал ему свою историю, я отдал честь, что в мехах сделать не так-то просто, и заявил, что везу срочную депешу с Севера. Тут мистер Моршед моментально врубился. «Ступайте, и да хранит вас Бог», — молвил он своим подопечным из детского дома Фраттона, все еще стоявшим навытяжку.Когда же они убрались, он негромко обратился ко мне: «Пайкрофт, во имя Гонконга, какого дьявола ты делаешь в этом сером сампане?» — Сампан? — удивился я. — Это на глаза ему попались защитные циновки вашего мистера Легатта. Автомобиль и впрямь напоминал сампан, особенно с кормы. При этих словах я, разумеется, бросился ему на грудь, насколько позволяют армейские приличия, и открыл ему душу, присовокупив, что автомобиль принадлежит вам... Вы же помните, что он жует губами, как кролик? Да, он был весьма доволен. «Его автомобиль! — забормотал он себе под нос, забавно шевеля губами. — Я кое-что ему должен за то, что он написал обо мне. Пожалуй, оставлю-ка я этот автомобиль себе». — Тут ваш мистер Легатт разразился некими воинственными замечаниями насчет того, что он является вашим личным шофером и что ваш автомобиль вверен его заботам. Мистер Моршед метнул на него предостерегающий взгляд. Этого оказалось достаточно. Или я не прав, мистер Легатт? — Я знал, что, если что-либо должно случиться, это случится обязательно, — ответствовал Легатт. — Так бывает всегда, когда вы находитесь на борту. — А Жюль? — пожелал узнать я. — Жюль, так сказать, предавался панике в задраенном отсеке из-за того, что не разумел ни словечка. Мне пришлось представить его как почетного сопровождающего, после чего он тоже был немедленно арестован. А потом мы присели на травку и закурили, пока Эдди с компанией от всей души мешали дорожному движению на портсмутской дороге. Но вскоре их начальство — все как один в коротких штанишках — сошлось на том, что очередные полевые учения преподали молодым людям ценные уроки, и стало подсчитывать очки, как на флотских учебных стрельбах. К каким выводам они пришли, я не слышал, но наш мистер Моршед обратился с прощальным словом к Эдди и его компании, заявив, что они должны были — методом дедукции — вычислить по некоторым признакам,— что я — друг, везущий важные депеши с Севера. Мы оставили их искать эти признаки в «Книге скаутов» и добрались на автомобиле до гостиницы мистера Моршеда в Портсмуте в шесть двадцать семь пополудни. На этом первая часть заканчивается. — Приступайте ко второй, — распорядился я. Дядюшка и Легатт закончили мытье посуды и теперь сидели и курили, а у огня сохла влажная тряпка. — В котором примерно часу, — обратился Пайкрофт к Легатту, —— наш мистер Моршед заговорил о дядюшках? —Когда мы вернулись в бар после того, как он переоделся в свой костюм крысолова, — ответил Легатт, имея в виду офицерский мундир. — Правильно. «Пай, — сказал он мне, — у тебя есть дядя?» — «Есть, — ответил я. — Дай бог ему здоровья!» — и одним глотком прикончил и свой шерри, и горькое пиво. — Вот это правильно, — строгим голосом отозвался упомянутый. — Если бы ты этого не сделал, я выпорол бы тебя как сидорову козу, Эммануэль. Я всю ночь караулил эту машину! Пайкрофт ласково улыбнулся. — Так и есть, дядюшка, ты славно о ней позаботился. Но, как я уже говорил, мистер Моршед заговорил о том, что и у него есть дядя, и при этом явно пал духом. «Я почему-то не люблю его, — пожаловался он. — Иногда мне хочется умертвить старого негодяя. Добровольцы, желающие прикончить моего дядю, шаг вперед!» Тогда я заставил Жюля выйти вместе со мной на требуемое расстояние. А вот ваш мистер Легатт сделал вид, будто происходящее его решительно не касается. — «Ты и так рекрут, — глядя на него, заявил наш мистер Моршед. — Я, в некотором смысле, многим обязан твоему покойному нанимателю. Словом, автомобиль реквизирован и всю ночь будет принимать участие в маневрах». — Но тут мистер Легатт, благородный, как и его наниматель, все-таки выступил вперед. Очевидно, Господь надоумил его, и, вместо того, чтобы возразить, он стал умолять мистера Моршеда пожалеть новую краску и лак. А надо вам знать, это было единственным слабым местом мистера Моршеда, ибо он служил лейтенантом на одном из этих новых эскадренных миноносцев. «Действительно, — изрек он после недолгих раздумий, — покраска имеет большое значение. Я даю вам час. Мы заключаем временное соглашение. Будьте готовы — с полными бункерами и под паром — нынче в девять вечера». Он перевел дух и продолжал: — Однако и этим мистер Легатт не пожелал удовлетвориться. Всеми вопросами пришлось заниматься мне. Мы загнали автомобиль вот в этот самый двор. — Пайкрофт кивнул в окно на сверкающую заднюю панель моей машины. — Мы сняли корпус со всеми ковриками и водворили его в сарай, а вместо него приладили голубую транспортную тележку моего дяди. Она малость выдавалась вперед, но после того, как я закрепил ее ремнями, стало очевидно, что она не оторвется. И вот на этом-то составном крейсере мы вернулись в гостиницу, откуда нас немедленно отправили в лавку игрушек, где мы приняли на борт одну деревянную лошадку, которая уже поджидала нас там. — Приняли на борт что? — пораженно вскричал я. — Одну серую в яблоках деревянную лошадку, имевшую четырнадцать ладоней в холке, с отстегивающимся хвостом, на зеленых полозьях-качалках, с парой жутких стеклянных глаз, ужасными зубами, оскаленными в хищной улыбке, и кроваво-красными ноздрями. Короче, она была похожа на колдовскую куклу «джу-джу» из тех, что я видел во время кампании в Бенине. Вы же понимаете, о чем я толкую? — Я прекрасно вас понимаю. И что же вы сказали по этому поводу? — поинтересовался я. — Я обратился только к Жюлю по-французски. Не знаю, понял ли он что-либо из того, что я говорил, но по его глазам мне стало ясно, что он готов принять участие в боевых действиях. Этот Жюль был голубоглазым малым пегой масти, любопытным и сообразительным.— А вот ваш мистер Легатт только стонал и жаловался! Легатт кивнул. — Это был кошмар, — подтвердил он и повторил: — Настоящий кошмар! — И вот мы опять вернулись в гостиницу, — продолжал Пайкрофт, — где плотно поужинали под руководством опытного и умелого в таких делах мистера Моршеда, после чего он выложил нам свой план. «Во-первых, — сообщил он, разворачивая карту велосипедных дорог, — мой дядя, который, к величайшему сожалению, является бригадным генералом, продал душу — в наличии которой я сомневаюсь — Дикки Брайдуну за шляпу с пером и пару золотых шпор...» — Одну минуточку, Пай, — перебил его я. — Кто такой Дикки Брайдун? — Обычно я не встреваю в перебранки и ссоры армейцев, но, как выяснилось, он был министром обороны и распорядился использовать механические игрушки для обучения верховой езде в британской кавалерии вместо настоящих живых лошадей. Вы разве не помните, как шумели газеты насчет того, что кавалерия не оценила по достоинству подобное нововведение? Но это еще полбеды! Самое главное заключалось в том, что наш дядя — в звании, как вы помните, бригадного генерала — написал заметку в какой-то заштатной газетенке, в которой в высшей степени похвально отозвался о механических чучелах Дикки Брайдуна, за что и получил повышение. А ведь это то же самое, как если бы безбожник-кочегар распевал во время работы в котельной псалмы, дабы ублажить набожного капитана и продвинуться по службе... Тут на нас вдруг снизошло озарение, и нам стало понятно, для чего выпускаются такие вот монстроподобные деревянные лошадки... Тем не менее действовать предстояло с большой осторожностью. Не говоря уже о том, что было темно хоть глаз выколи, небо затянули тучи, а наш бригадный генерал вместе со своей бригадой залег где-то в Южном Даунсе, где принимал участие в больших маневрах — знаете, «красные» против «синих» и прочая чепуха. А у нас в качестве руководства к действию были только склеенные вместе карты велосипедных маршрутов и причитания мистера Легатта. — Я просто подумал о том, что собой представляет Даунс после наступления темноты, — сердито парировал Легатт. — Об этом действительно стоило подумать, — согласился Пайкрофт. — Мы изучали карты до тех пор, пока у нас не помутилось в глазах, а потом решили просто двинуться вперед и продвигаться к дяде, положившись на удачу в темную ночь, а затем презентовать ему детскую лошадку... Итак, мы выступили в восемь пятьдесят семь пополудни... — Минуту! А что из сказанного к этому времени сумел понять Жюль? — осведомился я. — Достаточно, чтобы не заботиться о том, день на дворе или ночь. Он заявил нашему мистеру Моршеду, что последует за ним «sang frays», что в переводе, по-моему, означает «мертвым, пьяным или проклятым». Не считая скудности познаний в английском, упрекнуть Жюля было решительно не в чем. Но я вот что хочу сказать: когда мы уже забрались на заднее сиденье вашего автомобиля, лейтенант Моршед возьми да и скажи мне: «На вашем месте я бы не разбрасывался сигарными окурками, мистер Пайкрофт. Мы ведь сидим на фейерверках весом в пять фунтов каждый, и я боюсь, что эти петарды нас прикончат!» — Убедившись, что курить, свесившись за борт, не слишком удобно, я выбросил сигару; после чего ваш мистер Легатт, поупиравшись ровно столько, сколько это было возможно, выгнул спину дугой и тронулся с места. — И куда же он поехал, хотел бы я знать? — спросил я. — Прежде всего, на поиски любой из армий — «красной» или «синей», или обеих сразу. Ну а затем, разумеется, на поиски нашего дяди-бригадира. Не обнаружив его на дороге, мы принялись обшаривать окрестные заросли и за короткое время осмотрели обширные площади. Как божественно пахла ранняя сирень на первом же меловом холме Даунса — просто душа запела и рванулась ввысь! — А вот я был лишен удовольствия ощутить ее запах, — заявил мистер Легатт. — На Даунсе полно меловых ям и воронок, а мы ехали без фар, которые остались в сарае. — Зато у нас был фонарь от велосипеда, чтобы подсвечивать опять же велосипедную карту. Разве ты не заметил старушку у окна, за спиной у которой торчал мужчина в длинной ночной рубашке? А я-то думал, что мужские ночные рубашки уже вымерли как вид. — Говорю же вам, у меня совершенно не было времени вертеть головой, — повторил Легатт. — Это даже странно. Что же, в таком случае, заставило тебя заявить часовому у первого же полевого лагеря, на который мы наткнулись, что наша машина — фургон для доставки утренних выпусков «Дейли экспресс»? — С кем поведешься, от того и наберешься, — огрызнулся Легатт. — А кто сказал офицеру в купальне, что мы — наблюдатели от вышестоящего командования? — Что ж, он ведь сам спросил. Это случилось, когда мы обнаружили территориальный батальон, который неторопливо раздевался перед отбоем. Он располагался на левом фланге «синих», и они изрядно гоготали и зубоскалили при этом. Но в результате мы определились со своим местоположением относительно обеих армий. Правда, нам пришлось еще немного поблуждать, и только в одиннадцать ноль семь, двигаясь прямо по бездорожью уже минут двадцать, мы, наконец, вскарабкались на какие-то высоты и оказались метрах в шестистах над уровнем моря. Там мы остановились, чтобы затянуть потуже ремни своей колымаги, и тогда же учуяли, что на три графства вокруг разит седельной кожей и лошадьми. Мы оказались, если так можно выразиться, в самой их гуще. «Ага! — воскликнул мистер Моршед. — Мой кругозор, похоже, расширился. Что такое какой-то дядя, мистер Пайкрофт, в присутствии этих величественных созвездий? Всего лишь мелкое неудобство! Нелепо и смешно тратить деревянную лошадку на него одного. Мы должны сделать ее общедоступной. Но для начала нам придется заставить их поднять головы. Запускайте первую ракету, будьте любезны». — Я поджег зеленую трехфунтовую шутиху, которая взлетела на несколько тысяч метров и рассыпалась сверкающими звездами. «Повторите маневр на другом конце этой гряды, — распорядился мистер Моршед, — если только она не заканчивается очередным обрывом». Мы на всех парах понеслись по гряде, покрыв полторы мили на восток, а потом я разрешил Жюлю запустить розовую ракету, и он меня расцеловал. Для него это был единственный способ выразить свои чувства. Тысячи солдат вокруг нас задрали головы к небу. Мы услыхали, как запели горны, словно проснувшиеся петухи, а потом все это перекрыл самый впечатляющий звук, какой я только слышал в своей жизни, — звук целой армии, встающей по тревоге. Полагаю, они решили, что готовится ночная атака. Очень впечатляюще! А потом до нас донесся стук какой-то молотилки. «Ух, ты! Ну чисто дети, — заметил лейтенант Моршед. — Но не можем же мы ждать, пока они нарубят соломы для своих лошадей. Мы должны дать им понять, что это не шутки. Ну-ка, приободрите их еще одной ракетой, мистер Пайкрофт!» — «Едва ли это возможно, сэр, — ответил я ему, — потому что вон там включили прожектор» — и едва мы успели отползти в какую-то меловую промоину (где и прокололи первую шину), как луч на севере вспыхнул ослепительно ярко и принялся обшаривать гряду. Отличная работа, ничего не скажешь. — Это был не прокол. Просто камеру зажевала покрышка, потому что нас занесло, — вмешался Легатт. — Пока ваш мистер Легатт занимался ремонтом, с другой стороны, с юга, включился еще один поисковый прожектор, и оба они принялись подметать гряду с двух сторон. В их свете мы приметили, что к западу от нас склон поднимается, образуя возвышенность с плато на самом верху, на котором виднелось какое-то сооружение, похожее на небольшой форт. Моршед успел рассмотреть его до того, как прожектора погасли. «Вот она, ключевая позиция! — заявил он. — Мы должны занять ее, невзирая ни на что». «Мне нужно еще двадцать минут», — возразил наш мистер Легатт, ворочаясь в полной темноте и ругаясь, как пьяный еретик. А теперь обратите внимание, как быстро Моршед сменил тактику, подстраиваясь под изменившиеся обстоятельства. «Отлично! — заявил он. — Я останусь на корабле. А вы, мистер Пайкрофт и Жюль, чрезвычайно меня обяжете, если сумеете пробраться вдоль хребта на восток, прихватив с собой столько петард и шумовых ракет, сколько сможете унести. Внимательно прочитайте инструкции по применению на упаковке, мистер Пайкрофт, и запускайте ракеты по одной с полуминутным интервалом. Жюль будет осуществлять огневое прикрытие. Вы назначаетесь старшим. Помните, ваш девиз — смерть или тюрьма строгого режима в Солсбери! А скорее всего — и то и другое!» Ну вот, с таким напутствием и после недолгой беготни мы отвлекли их внимание на восток. Вам позволительно не знать этого, но шумовые ракеты по производимому ими звуку очень похожи на бомбы, которые когда-то швыряли анархисты. В ограниченном пространстве, например, в меловой промоине, они оглушают почище морской скорострельной пятидюймовой пушки. Надо только инструкцию по применению прочитать заранее. А в промежутках между неторопливыми, но точно выверенными выстрелами моих «корабельных орудий» Жюль, обнаруживший в темноте небольшое озерцо чуть ниже по склону, устроил то, что можно смело назвать огневой поддержкой. У него были здоровенные петарды, и он подрывал их с тупым, гулким грохотом, с каким взрываются холостые заряды. — Как ему это удалось? — поинтересовался я. — Бросьте подожженную петарду в воду и сами увидите, — ответствовал Пайкрофт. — Одним словом, мы импровизировали до сих пор, пока наши боеприпасы не подошли к концу, а вокруг стоял сплошной вой и треск разрывов. Солдатики могли, конечно, сомневаться насчет ракет, но уж нашу пальбу они проигнорировать не имели права. Обе стороны готовились перехватить инициативу. Я сказал Жюлю, что мы можем гордиться устроенным переполохом, как ни один моряк на свете, после чего мы с ним вернулись обратно по гребню к брошенной машине. А там наш мистер Маршед орал так, что его было слышно на пятьдесят миль вокруг, как если бы он обращался к своим скаутам, ученикам пятого класса, читая им хрестоматию. Когда мы подоспели, он как раз декламировал: «Слушайте все, у кого есть уши!.. Восстали все пастухи Стоунхенджа и смотрители королевского парка в Бьюли... Пламя костра на вершине Скиддо заставило подняться бедняков в Карлайле!..» Это поэтическое вдохновение дало мистеру Легатту время, необходимое для того, чтобы закончить ремонт и накачать шины. Я слышал, как капли пота срывались у него с кончика носа и шлепались на землю. — Вы ведь знаете, как это бывает, сэр? — повернулся ко мне бедняга Легатт. — Пока я прислушивался к тому, что происходит вокруг, мне пришло в голову, что заварить кашу оказалось куда легче, чем ее расхлебать, но наш предводитель не терзался подобными сомнениями. «Мистер Пайкрофт, — обратился он ко мне, — вы не могли не заметить, что перед нами находится одна раззадоренная и умелая армия, в то время как с тылу нас подпирает другое, не менее раззадоренное и столь же умелое войско. Что бы вы посоветовали в данной ситуации?» Любой другой на моем месте порекомендовал бы ему, пока есть возможность, прошмыгнуть между двумя этими армадами поперечным курсом и спастись бегством, но я ограничился тем, что сказал: «Лошадка-качалка все еще не использована, сэр». Он возложил руку мне на плечо и изрек: «Пай, в высших эшелонах власти найдется немало людей много хуже тебя. Да, они получат ее. И тем не менее — льдины сближаются!» Да, похоже, я не придал особого значения тому факту, что целых две армии, лишившиеся ночного сна и отдыха, уже полностью проснулись, если можно так выразиться, и спешили в жаркие объятия друг друга. На этом заканчивается вторая часть истории... Он принялся неторопливо набивать свою трубку. Дядюшка благополучно захрапел. Легатт прикурил очередную сигарету. — Затем мы сели в автомобиль и проследовали вдоль гребня в западном направлении, к тому самому миниатюрному форту, который нам столь любезно высветил поисковый прожектор. Но при ближайшем рассмотрении, когда ваш мистер Легатт налетел на его выступ, форт оказался кучей кормовой свеклы — прямоугольной грудой миллиона в три корнеплодов, предназначенных, как я полагаю, на корм овцам. Со всех сторон, за исключением той, с которой мы прибыли, земля довольно круто понижалась, а внизу виднелся большой военный лагерь, освещенный огнями костров, откуда долетали звуки команды. — «Я же говорил, что это ключевая позиция! — заметил лейтенант Моршед. — Персиммон, рысью — марш!» Мы истолковали эти слова как приказ распаковать деревянную лошадку, которую мы нарекли этим громким именем. — «Алле-оп!» — бесцеремонно воскликнул Жюль и хлопнул Персиммона по крупу. — «Тише! — приказал лейтенант. — Здесь вам королевский флот, а не какой-нибудь Ньюмаркет», — и мы, как нам и было велено, потащили Персиммона на вершину свекольной горы. Из-за неровностей почвы (не думаю, что у вашего мистера Легатта среди его инструментов нашелся бы спиртовой уровень) Персиммон не желал раскачиваться и, пока мы устанавливали его понадежнее, хвост лошадки отвязался и затрепетал на ветру, как вымпел. Наш лейтенант мигом воспользовался этим преимуществом. — «Убрать хвост, — приказал он. — Установить вместо него римскую свечу[65]. Реактивный движитель предпочтительнее». Мы произвели требуемую замену. А он тем временем пристроил несколько пиротехнических фонтанов с разноцветными огнями, на оболочке которых была напечатана инструкция по применению, на подходящем расстоянии от Персиммона. Затем последовала недолгая пауза, пока мы зарывались в кучу свеклы. А потом лейтенант поджег фитили, не забыв про римскую свечу, — и можете мне поверить: вокруг стало светло как днем. Персиммон засиял во всей своей первозданной красе, красный по бакборту, зеленый — по штирборту и с одним белым огнем на носу, как и полагается по правилам морского судоходства. Правда, он не столько раскачивался, сколько встряхивался всякий раз, как выпаливала римская свеча. Но в конце концов, как говорится, каждой бочке меда — своя ложка дегтя. Зато все остальное превзошло самые смелые ожидания. Полагаю, лучше всего Персиммон выглядел со штирборта или с зеленой стороны — словно макрель в аду. Тем не менее я буду последним, кто неодобрительно выскажется о том, как пламя с бакборта подсвечивало его зубы или какие кровавые отблески пылали в его левом глазу. — Вы смеялись? — осведомился я. — Как вам известно, сам я — не большой шутник. Да у нас и не было времени, чтобы насладиться зрелищем. Предполагалось, что разноцветные огни будут гореть минут десять, тогда как даже в худшем случае армия форсированным маршем пожалует сюда через две с половиной. Они разгадали наш намек, едва вступив в полосу света от, так сказать, нижних огней рампы. И пришли в чрезвычайное раздражение, в чем их трудно винить. Разумеется, если б мы дали себе труд подумать хорошенько, то сообразили бы, что, выставив подсвеченную деревянную лошадку напоказ перед армией, которая училась ездить на них верхом, мы поставили ее в весьма сложное положение — double entender[66], как выражаются французы, — это ведь то же самое, что помахать штуртросом перед семьей повешенного. Я точно знаю, что за такие plaisanterie[67] рулевой старшина командирской шлюпки «Архимандрита» наверняка убил бы злополучного шутника на месте. Но мы и подумать не могли, что эти лобстеры окажутся настолько чувствительными. И поэтому нам пришлось отступить. При этом мы едва успели увести своего предводителя. Склонив голову к плечу, он токовал, как глухарь, глядя на все, что тут творилось. Единственное, чего он не предусмотрел, — это пути к отступлению. Но ваш мистер Легатт, истинный герой, в последней стадии физического исступления взял на себя командование нашей фурой — или, точнее, арьергардом. Мы устремились вниз по склону рядом с ним, то и дело рискуя опрокинуться. Но эти технические подробности уже выше моего понимания... При этом он указал трубкой на Легатта, словно отсылая слушателей к специалисту. — Я заметил, что вниз с холма ведут две глубокие колеи, — сказал Легатт. — Как раз к этому времени солдаты перестали хохотать и кинулись наверх. — Выдвинулись прогулочным шагом, любезный, а не кинулись! — поправил его Пайкрофт. — На бег они перешли несколько позже. — Ну а я направил машину вниз по этим колеям. Наверно, именно тогда я слегка помял наш глушитель. А потом колеи вдруг резко свернули вправо — и наш экипаж врезался передком в навозную кучу, сэр. Клянусь, крен был градусов тридцать, не меньше. Думаю, это был скотный двор. Мы укрылись там и стали ждать, — закончил Легатт. — Но ненадолго, — продолжил Пайкрофт. — Огонь бил фонтанами на оставленной нами позиции, тем временем армия штурмовала ее всем скопом. А когда многочисленные отряды тренированных и обученных солдат одновременно прибывают в одну точку с противоположных направлений, причем каждый гневно выкрикивает: «За каким чертом вы это устроили?» — детонация, если так можно выразиться, практически неизбежна. И посторонняя помощь им уже не потребовалась. Даже если б мы появились перед ними с письменными показаниями, данные под присягой, где было бы черным по белому указано, что это сделали мы, они бы нам не поверили. Им нужно было общество друг друга — и они его получили. Вот какой эффект произвел Персиммон на их кастовое самосознание. Они горели желанием защитить честь мундира, поэтому события развивались с невероятной быстротой и интенсивностью. Сперва послышались непочтительные замечания в адрес Дикки Брайдуна и его механических лошадок, а потом кого-то ударили — и сильно, судя по звуку, — не дав ему поговорить. — Это был человек, который звал драгун Сорок пятого полка, — пояснил Легатт. — Но его прервали на слове «драгуны». — В самом деле? — мечтательно осведомился Пайкрофт. — Во всяком случае, он не мог бы сказать, что его не услышали. Они явились туда, как миленькие, и затеяли жаркий спор о том, должна ли пехота забрать Персеммона себе в качестве полкового любимца, или же кавалерии следует оставить его себе на племя. Но вскоре в ход пошла кормовая свекла. Наш предводитель заявил, что мы посеяли добрые семена и что они приносят обильные плоды. И действительно — ведь каждый из этих корнеплодов весил от четырех до семи фунтов! Словом, убедившись, что детки преодолели первоначальную застенчивость и начали играть в свои игры по-взрослому, мы выбрались из ямы и стали осторожненько спускаться вниз, в лагерь. По аути перед нами открылся чудесный вид на поле битвы, которая только-только разгоралась, потому что к обеим сторонам каждую минуту подходили свежие подкрепления. Здесь были представлены все рода войск, и каждую минуту раненые скатывались вниз по склону, давая нам понять, что получили свое. В общем, армия несколько отбилась от рук и вышла из повиновения, насколько я мог судить. Они перестали обращать внимание на строгие приказы своих офицеров «Разойтись по палаткам и приготовиться к отбою!», поскольку, как это ни прискорбно, те сами вступили в рукопашную во главе своих подразделений. — Как же ты узнал об этом? — поинтересовался я. — Просто лейтенант Моршед пожелал заглянуть в офицерскую столовую, чтобы поздороваться со своим дядюшкой и выпить за его здоровье, но там не оказалось ни души — весь личный состав отправился, так сказать, на передовую. Потом нам показалось, будто кто-то моется за палаткой, в которой помещалась столовая, но заглянув туда, мы обнаружили, что некий пожилой джентльмен пытается утопить какого-то юнца в бриджах в корыте, из которого поят лошадей. Он не просто топил его, а прижимал сверху велосипедом, и едва не довел свое черное дело до конца, но тут мы расстроили его планы. Джентльмен оказался весьма покладистым и, очевидно, недавно хорошо поужинал. «Не спрашивайте, кто я такой, — заявил он нам, когда мы попросили его назваться. — Об этом мне очень скоро сообщит моя супруга. Лучше спросите, кем я был. Я командовал ими в восьмидесятые годы, и, да простит меня Господь, — при этих словах он всхлипнул, — весь этот чертов вечер я втолковывал их полковнику, какие они бездари. Вы только послушайте!» Мы-то, даже не напрягая слуха, различали все подробности, ибо знали, что там творится, но как он сумел что-то разобрать в этой какофонии на холме, я просто не представляю. «Сегодня они прошли маршем тридцать миль, — вдруг завопил джентльмен, — а теперь там выпускают кишки моим кавалеристам! Но они не остановятся, пока не дойдут до ворот Дели! Да простит меня Господь за то, что я усомнился в них!» Парнишка в бриджах, приходя в себя на стуле, высказал пожелание, чтобы его угостили выпивкой. «Пусть он малость обсохнет, — заявил джентльмен в офицерской нижней рубашке. — Он — репортер, и наткнулся на меня в темноте на своем чертовом велосипеде, да еще и пожелал, чтобы я снабдил его подробностями о мятеже в армии. Мятеж в армии!.. Ты — жалкий пролетарский бумагомарака и предатель! — продолжал он, грозя пальцем юнцу, потому что был зол как сто чертей. — И я отучу тебя пачкать грязью то, чего ты не в силах понять! Если мой полк поднимет мятеж, я сочту за честь первым сообщить тебе об этом! Ты невежественная и на редкость отвратительная личность, ничем не лучше индийского мужчины-прачки из касты неприкасаемых! И если б не было грязного белья, которое ты соглашаешься стирать, ты бы помер с голоду! — Он умолк на секунду и закончил: — А я до конца своих дней буду сожалеть о том, что не утопил тебя...» В общем, мы где-то полчаса посидели с ними перед столовой и слегка выпили. Он бы точно пришиб несчастного репортера, если б не свидетели, поэтому мы сыграли роль своего рода буфера между ними. Мне тоже не нравится, когда пресса сует нос в армейские дела. Штатские из всего делают неверные выводы. Но только представьте себе: на поле сражения оказались никак не меньше семи тысяч человек, половина из которых была уязвлена в лучших чувствах, — и все из-за одного Персеммона! Если б я не видел этого собственными глазами, то ни за что бы не поверил. И при этом ни один не схватился за ремень с тяжелой бляхой — все ограничились исключительно натуральными продуктами — свеклой да собственными кулаками. В какой-то момент мне почудилось, что с Жюлем случится приступ, пока не выяснилось, что та же самая мысль пришла в голову и ему — но на французском языке, разумеется. По-моему, он выразился так: «Incroyable!»[68]. Семь тысяч человек, вооруженных семью тысячами ружей с примкнутыми штыками и ремнями, — и ни одного подлого удара от первой до последней секунды. Пожилой джентльмен тоже, кстати, обратил наше внимание на этот факт. Да он и в самом деле бросался в глаза. Нехватка боеприпасов стала главной причиной прекращения битвы. Тут в столовой появился бригад-майор — начальник штаба, чтобы вам было понятнее, — вытирая нос обеими манжетами, и сообщил, что малость нюхнул табачку. Похоже, ему здорово досталось от вышестоящего начальства за то, что он не справился со вверенной ему бригадой. Легок на помине, откуда ни возьмись, возник и дядя-бригадир. Он также шмыгал носом. Судя по всему, перепало и ему. А мы решили, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, отдать швартовы и сменить позицию. К тому времени офицеры уже загнали своих телят обратно в стойло. Солдатики радостно прощались друг с другом, счастливые и довольные, как корабельная обезьянка после того, как позабавилась с банкой краски. Лейтенант Моршед и Жюль по пути раскланивались на обе стороны, отвечая на те неслышимые бурные аплодисменты, которыми широкие солдатские массы наверняка приветствовали бы их, если б знали всю подноготную этой истории. С другой стороны, как справедливо заметил ваш мистер Легатт, они запросто могли прикончить нас на месте. Это было в районе пяти склянок ночной вахты — то есть в половине третьего ночи. Вечер удался, что и говорить. Тащиться в Портсмут в такое время смысла не было, поэтому мы свернули на первое попавшееся поле, бросили якорь и решили дождаться утра. Но вот ваш мистер Легатт... Все свободное от вахты время он провозился с покрышками. Оказывается, ваш автомобиль ехал на одних ободах, о чем и поведал нам, как только все это действо завершилось. И в этом кроется причина появления у вас четырех новеньких шин. Мистер Моршед однозначно заявил, что вы их заслужили. Или вы не согласны?.. Я протянул Пайкрофту руку, которую он стиснул так, что у меня захрустели кости. — Нет, Пай, — сказал я, чувствуя себя тронутым до глубины души. — Целиком и полностью согласен. Но что сталось с Жюлем? — После завтрака мы вернули его в лоно его собственной эскадры. Он просто сгорал от желания поведать кому-нибудь из соотечественников о том, что произошло у него на глазах. Ему дьявольски не хватало общения на родном языке. Не припомню, чтобы я к кому-либо еще испытывал такое сострадание. Перенесенные тяготы переполняли его душу, и у въезда в порт он не выдержал и расцеловал лейтенанта Моршеда и меня, а потом и вашего мистера Легатта. Уж это-то он заслужил! Пайкрофт окинул взглядом вымытые чашки на столе, после чего перевел взгляд на заднюю часть моего автомобиля, освещенную солнцем, которое еще не успело вскарабкаться повыше. — Пожалуй, еще рановато, чтобы выпить за его здоровье, — сообщил он. — Но это не изменит моего мнения о нем. Его дядюшка, обмякший на стуле, негромко всхрапнул; канарейка ответила ему пронзительной трелью. Пайкрофт поднял просохшее полотенце, накрыл им клетку, прижал палец к губам — и мы на цыпочках вышли в лавку, а Легатт тем временем вывел машину со двора и подогнал ее ко входу. — Я поищу заметки об этом деле в газетах, — сказал я, опускаясь на сиденье. — О, мы об этом позаботились! Газетчики так ничего и не пронюхали. Появилось только небольшое сообщение о том, что несколько территориальных батальонов позабавились с кормовой свеклой после завершения маневров. Налогоплательщики не знают и половины того, что могли бы получить за свои деньги. Прощайте! Мы двинулись в путь, но вскоре дорогу нам преградил полк, направлявшийся к вокзалу, чтобы погрузиться в поезд и отбыть в Лондон. — Прошу прощения, сэр, — обратился ко мне сержант, отвечавший за багаж, — не могли бы вы немного сдать назад, чтобы пропустить наши грузовые повозки? — Разумеется, — ответил я. — А нет ли у вас, случайно, детской лошадки в обозе? Лязг нашей задней передачи заглушил его ответ, —но я видел его глаза. Под одним из них красовался уже начавший желтеть синяк — примерно трехдневной давности.
МОРСКИЕ КОНСТЕБЛИ
Легенды 1915 года
Метрдотель ресторана отеля «Карвойтц»[69] чуть ли не бегом устремилсянавстречу Портсону и его гостям, как только те поднялись по ступеням из крытого атриума, где играл камерный оркестр. — Не имел чести видеть вас на протяжении целых... Словом, весьма давно, — начал он. — Ваша каблограмма доставила нам неописуемое удовольствие. Надеюсь, у господ все в порядке, не так ли? — В общем и целом — да. — Портсон пожал метрдотелю руку. — Да и вы, Анри, выглядите недурно. Наш столик готов? Анри кивнул в сторону розового кабинета, предназначенного для смешанных пар. Он занимал центральное место в главном обеденном зале, сверкающем электрическими огнями и позолотой. — Отлично, дружище! — отозвался Портсон. — Итак, Анри, мы целиком и полностью вверяем себя в ваши руки. Перед вами — суровые морские волки, хоть с первого взгляда этого и не скажешь, и вот уже несколько месяцев подряд мы питаемся не так, как подобает добрым христианам. Что вы на это скажете, друг мой? — Меню я составлял лично, — с серьезностью верховного жреца, готовящегося к священнодействию, отвечал метрдотель. Минуло уже более года с тех пор, как Портсон — биржевой маклер брокерской компании «Портсон, Пик и Энселл» — посоветовал Анри обратить внимание на акции дышавшей на ладан нефтяной компании «Ойл кампани», а та спустя короткое время вдруг показала невероятную прибыль. Метрдотель сумел расплатиться со всеми долгами и втайне весьма этим гордился. Пока он провожал почетных гостей в розовый кабинет, его внимание безуспешно пыталась привлечь бурными и недовольными возгласами пара, расположившаяся за столиком у самого входа, — один из стремительно разбогатевших в последнее время дельцов и иностранная актриска, чья слабенькая звездочка столь же стремительно взошла на кинематографическом небосклоне. Даже не взглянув в ту сторону, Анри собственноручно выключил несколько электрических ламп в причудливых абажурах и зажег в кабинете четыре бледно-розовых свечи. — Как в церкви! — пробормотал кто-то. — Прямо тебе свадебная церемония! — Весьма рад, что вам нравится. Недаром сказано — нет предела совершенству. С этими словами Анри неслышно удалился, и четверо мужчин направились к столу. У них были обветренные лица цвета обожженного кирпича — лица людей, проводящих немало времени на свежем воздухе и не отказывающих себе в удовольствиях и даже в некоторых излишествах. Старший из них — его звали Маддингем — был коренастым господином средних лет с коротко постриженными седыми волосами. При ходьбе он слегка прихрамывал, а в целом смахивал на тех персонажей, которые заседают в советах директоров каких-нибудь респектабельных компаний. Вслед за ним в кабинет вступил Тегг — часто помаргивающий, аккуратный и опрятный мужчина невысокого роста с волосами цвета песка, несомненный военный моряк, несмотря на несвойственную этому сословию мягкость манер, граничащую с робостью. Уинчмор, самый молодой из присутствующих, явно принадлежал к категории экзальтированных щеголей, которых перед войной развелось несметное множество; правда, глаза у него были запавшие, руки мозолистые, а под ногтями виднелась траурная кайма. Портсон, взявший на себя роль распорядителя, джентльмен с уютным домашним брюшком и вандейковской бородкой, буквально просиял, глядя, как дружно гости принялись за устриц. — Именно это я и имела в виду, — донесся звонкий и чистый голос голос актрисы-иностранки, которую Анри только что избавил от иллюзии, будто розовый кабинет достанется ей. — Они еще не готовы воевать. Может мне кто-нибудь сказать, кто они, эти неотесанные мужланы? Они уже вступили в британскую армию или еще нет? — Это ваша знакомая? — поинтересовался Маддингем. — Надо же — совсем запамятовал, как ее зовут, — ответил Портсон. — Одна из тех очаровательных штучек, импортированных нашими патриотами. Вроде бы она поет «Сыны империи, вперед!» в «Палемсеуме»[70]. Дамы бальзаковского возраста от нее в экстазе. — Это Сидни Леттер. Кстати, поговаривают, что поет она совсем недурно. — Тегг потянулся за уксусом. — Пожалуй, стоит послушать ее как-нибудь. — Еще бы! Ведь нам буквально некуда девать свободное время, — раздраженно фыркнул Маддингем. — Я, пожалуй, прикончу ваших устриц, Портсон, если вы больше не хотите... — Выше нос, папаша Маддингем! Все мы умрем рано или поздно! — повернулся к нему Уинчмор. Маддингем одарил его недобрым взглядом. — Взял бы я вас к себе к себе на недельку, мистер Уинчмор... — Никаких шансов, — парировал молодой человек. — Меня только что произвели в полные лейтенанты. Честное слово! Совесть уже не позволяла мне выходить на «Этельдреде» субалтерном[71]. Для этого у нее чересчур плоское днище. — Вы уже установили новый планшир? — вмешался в разговор Тегг. — Ни слова о делах! — запротестовал Портсон. — Сначала — суп с вязигой[72]. Правда, не знаю, что там у нас с выпивкой... — Сухое «Пол Роджер» урожая 1904 года, — с поклоном ответил подоспевший официант. — Славный малый этот Анри, — одобрительно проворчал Уинчмор. — Правда, — он подозрительно уставился на официанта, — мне не совсем нравится... Вы, собственно, кто по национальности, любезный? — Племянник Анри, месье, — с улыбкой отозвался официант и опустил руку в перчатке на стол. Та издала скрежещущий звук. — Бетизи-сюр-Уаз[73], — пояснил он. — Дядя подарил мне эту руку к Рождеству. Но она годится только для того, чтобы держать тарелку. — Вот как! Тогда прошу меня простить, — пожал плечами Уинчмор. — Месье совершенно прав. Но мой дядя очень осторожен, даже с нейтралами. — С этими словами официант принялся разливать шампанское. — Минуточку, — вскричал Маддингем. — Первый тост обязателен: за то, что мы получим, — и слава Богу и британскому флоту! — Аминь! — подхватили остальные, глядя на лейтенанта Тегга, представителя флота на море и Адмиралтейства — на берегу. — Следующий: будь прокляты все нейтралы![74] — входя в раж, продолжал Маддингем. — Аминь! Аминь! — отозвались гости, щедро воздавая должное ледяному шампанскому, прежде чем перейти к морскому языку а-ля Кольбер. Маддингем, меж тем, взялся изучать меню. — Куриная грудка, — провозгласил он вслух. — Филе в винном соусе, бургундское «Вудкок и Ричбург» урожая 1874 года, десерт «мельба» и гренки с яйцами, фаршированными луком, горчицей и ломтиками помидоров... Пожалуй, я и сам бы не предложил ничего лучше. Хотя, с другой стороны, — продолжал он, — можно было бы добавить жаркое из перепелов. — Ну, в таком случае бургундское было бы совершенно неуместно, — с подкупающей серьезностью заметил Тегг. — Вы несокрушимо правы, — согласился Маддингем. Актриса-иностранка, до которой доносились голоса сотрапезников, выразительно повела плечиками. — Эти люди неисправимы, — брезгливо заявила она, обращаясь к своему спутнику. — А я еще пела для них целых две недели! — Я предпочел во всем положиться на Анри, — продолжал Портсон. — Бог ты мой! — прошептала актриса, продолжая прислушиваться к их беседе. — Как это похоже на англичан! В этой стране привыкли во всем полагаться на таких вот Анри. — Кстати, — обратился Тегг к Уинчмору, как только с рыбой было покончено, — где вы все-таки установили свою однофунтовку?[75] — На миделе[76]. Носовая палуба «Этельдреды» не выдержала бы такой тяжести. Ее и так захлестывает волной. — Почему бы вам не взять другую посудину? — встрял в разговор Портсон. — Я знаю одного малого в Портсмуте, он как раз слег с пневмонией, и... — Нет уж, благодарю покорно. Я знаю «Этельдреду». В ней, конечно, нет ничего особенного, но в хорошем расположении духа она способна творить чудеса. Маддингем подался через стол. — Чудеса? Если на спокойной воде она даст больше одиннадцати узлов, — сказал он, — то я... я подарю вам свою «Хиларити». — На палубу этой вашей «Хиларити» я ступлю только мертвым, — с насмешливой признательностью отозвался Уинчмор. — Уж не хотите ли вы сказать, что решили промочить ей паруса, папаша? И где же это произошло? Остальные дружно рассмеялись. Маддингем побагровел, на виске туго запульсировала вена, а на скулах вздулись желваки. — Он конвоировал нейтралов — и весьма тактично, замечу, — с коротким смешком пояснил Тегг. Маддингем напомнил свой бокал и недовольно уставился на Тегга. — Да уж, — проворчал он, — черт бы побрал этих лордов Адмиралтейства. Таких болванов еще поискать... — Тише! Тише, папочка! — Уинчмор осуждающе покачал головой. — Так кого вы там конвоировали? Маддингем буквально выплюнул название корабля и в двух словах обрисовал некоторые детали его оснастки и конструкции. — Э-э, да это же мой старый знакомый! — вскричал Уинчмор. — Я наткнулся на него совсем недавно, он тащился вдоль побережья Шотландии, укрываясь, по его словам, от ненастной погоды и испытывая новую судовую машину — дизель. Это ведь он и есть, не так ли? — И Уинчмор упомянул некоторые характерные особенности оснастки судна. — Верно, — согласился Портсон. — Вы поднимались к нему на борт, Уинчмор? — Нет. Мы с «Этель» давеча попали в небольшой шторм и потеряли единственную шлюпку. Но он подал мне все надлежащие сигналы и был общителен, как леди с Променада...[77] Погодите, я возьму еще кусочек этого беарнского филе... Словом, меня привлек его запах, и я опекал его на протяжении пары дней. — Всего лишь два дня? Тогда вам не на что жаловаться! — с негодованием парировал Маддингем. — А разве я жалуюсь? Если он предпочитал держаться вплотную к берегу, меня это не касалось. В конце концов, я не член Лиги защиты нравственности. Мне было решительно все равно, к чему он там прижимается, лишь бы я мог держаться позади, чтобы позволить ему первым наскочить на мину. Я шел у него в кильватере, несмотря на то, что он затянул своим вонючим дымом все Северное море, рассчитывая, что это корыто вполне сойдет за наживку...[78] Нет, довольно бургундского, лучше еще бокал шампанского... — Но продолжайте же — пока вы не лишились дара речи. Так пригодился он в качестве наживки или нет? — пожелал выяснить Тегг. — Увы, нет. Как я уже говорил, он держался берега вплоть до темноты, а потом обогнул мыс Гиллара-Хед и направился прямиком в бухту, где едва не выбросился на берег. — Береговые огни были погашены, разумеется? — полюбопытствовал Маддингем. Уинчмор кивнул. — Но меня это ничуть не тревожило, потому что я держался у него за кормой. Как назло, в заливе шла рыбалка, и мы вломились в самую середину собравшихся там судов. Не успели мы толком понять, что тут происходит, как на нас навалился флотский паровой катер, и его мальчишка-капитан, наглый щенок, пожелал узнать, что я тут делаю. Я объяснил, а он обругал меня почем зря за то, что мы распугали всю рыбу, когда они только-только собрались позабавиться. А потом мы вдвоем (он забросил мне крюк на квартердек) стали дрейфовать в сторону парового траулера и нашего приятеля нейтрала, к которому присоединился еще и десятивесельный тендер. Словом, образовалась целая куча-мала. Насколько я понял, это младшие офицеры тамошнего гарнизона решили таким образом развеяться. Тогда «дядюшка Ньют»[79] перегнулся через поручни и рассказал им свою сказочку насчет погоды и проблем с машиной, но им до того не терпелось продолжить свои игры, что они не стали понимать шум и посоветовали ему убираться ко всем чертям. — Они не видели ничего подозрительного в районе Гиллара? — спросил Тегг. — Наплели мне с три короба насчет пасмурной погоды с плохой видимостью и попросили о помощи, но я не стал задерживаться. У них за банкой на гребной шлюпке были кучей навалены мины, в точности как ловушки для лобстеров, и я, заметив, как солдаты обращаются с ними, счел за благо убраться подальше. «Дядюшка Ньют» последовал моему примеру. Судя по всему, происходящее ему категорически не понравилось. А когда мы миновали мыс, раздалась пара выстрелов, и один снаряд упал вблизи от него... Эта утиная охота в темноте чертовски опасна, знаете ли... Ну, он тут же зажег все ходовые огни — на корме, на мачте и по бортам, так что до самого утра у меня не было никаких проблем. — А как же рапорт о том, что вам пришлось обрубить отпорный крюк[80] парового катера? — внезапно пожелал узнать Тегг. — Что? Вы хотите сказать, что этот сопливый щенок накатал на меня рапорт? Да он сам до мяса ободрал краску с борта бедняжки «Этель»! У меня бы язык не повернулся повторить все, что он нес. Мало того — он обозвал меня «чертовым любителем»!.. Ну да ладно, на войне как на войне. В общем, в тот раз мне не удалось порыбачить с ними. Я имел приказ следовать за «дядюшкой Ньютом». Ну я и последовал — а в результате на бедной «Этель» сухого места не осталось — начало штормить. Уинчмор снова наполнил свой бокал. — Ладно-ладно, не прибедняйтесь, — подбодрил его Портсон. — Выкладывайте, что было дальше. — А ничего не было, — скорбно заявил Уинчмор. — Я плелся на своей старушке «Этель», которой не помешала бы еще парочка паровых машин, а «дядюшка Ньют» пыхтел впереди, на полмили загаживая все вокруг вонючим дымом. В результате мне пришлось жевать хлеб с уорчестерским соусом[81]. Я частенько прибегаю к этому испытанному средству. Кроме того, мне очень хотелось вернуться и присоединиться к рыбалке. Перед самым наступлением темноты я заприметил «Корделию» — тот самый кеч из Саутгемптона, который старина Джаррот прошлым летом оборудовал дизельной машиной и переделал в прогулочную яхту. Она у него широкая, как корма посудомойки, но бортовая качка достала и ее: по крайней мере, когда я догнал ее, она ложилась на борт градусов на тридцать. Я спросил у Джаррота,не занят[82] ли он. Он ответил, что нет. Но на самом деле он был занят, да еще как. Когда море неспокойно, мы с ним, как парочка адмиралов Нельсонов. — Но ведь все Джарроты — квакеры[83], причем не в первом поколении. Что ему понадобилось на войне? — поинтересовался Маддингем. — Если на то пошло, — меланхолично заметил Портсон, — этот вопрос можно адресовать всем нам. — Джаррот превратил свою посудину в минный тральщик, — с чувством отозвался Уинчмор. — Квакеры решили, что обнаружение и обезвреживание мин — дело богоугодное, поскольку оно спасает множество жизней. Следовательно, — он выдержал многозначительную паузу, — в деле траления прибрежных вод полным-полно квакеров. Понимаете, о чем я? Благодаря своей праведности и непорочной чистоте все они попадают прямиком в рай: «Неси свои воды, Иордан!»[84] — Отвратительно! — нарочито громко проговорила актриса, натягивая перчатки. Уинчмор с нескрываемым восхищением уставился на нее. — Какая красотка! — изрек он. — Подумать только, Дэвид Джаррот стал минным тральщиком! — не унимался Маддингем. — Значит, вы передали нашего нейтрала ему, Уинчмор, не так ли? — Именно так. Моя патрульная вахта подошла к концу — я буквально валился с ног от недосыпа и растолковал Джарроту ситуацию в рупор, даже не сходя с мостика. А заодно передал ему все полученные мной указания — самые свежие, вы понимаете, о чем я. Я посоветовал ему не предпринимать ничего такого, что могло бы осложнить международные отношения, и действовать со всем присущим ему тактом. Но, понимаете, я сказал ему все это в качестве и. о. лейтенанта резерва британского флота. А ведь Джаррот в свои пятьдесят четыре — все еще только капитан-лейтенант! И конечно, я передал своего «дядюшку Ньюта» под его опеку, а сам вернулся — к-кажется, я смогу произнести это с ходу — к ры-бо-ло-вец... ик!.. кой вечеринке в заливе... Нет, пожалуй, мне надо вздремнуть. Через десять минут я должен снова быть на палубе. Это — мой первый цивильный ужин за девять недель, поэтому извиняться я не намерен... Отодвинув в сторону тарелку, он подпер подбородок ладонью и закрыл глаза. — Банк «Линднох и Джаррот» основан в 1793 году, — проворчал себе под нос Маддингем. — А я своими глазами видел, как старого Джаррота гоняли его шкипер и стюард, да так, что ему пришлось смыться на берег, чтобы выспаться. А теперь он тралит мины на своей «Корделии»! Но что сталось с тем его двухсоттонным корытом, построенным в Белфасте? — Судно называлось «Гонерил», — подсказал Портсон. — Он передал его флоту в октябре. Его переименовали в «Кулану». — В «Кулану», говорите? Всемогущий Боже! Я и понятия не имел! Где и как это случилось?[85] — В том же уголке старой Ирландии, который я охранял в минувшем месяце. На «Кулане» служил мой кузен; вместе с ним был один из юных Райкизов. Там обнаружилось целое минное поле, установленное между проходами для патрульных судов. — Боши продолжают свои грязные делишки,[86] — полушепотом заметил Маддингем. — Мне вы об этом можете не рассказывать, — парировал Портсон. — Впрочем, мы тоже в долгу не остаемся. — О чем это вы толкуете? — внезапно встрепенулся Тегг, который тоже начал поклевывать носом. — О «Кулане», — закуривая, ответил Портсон. — Да, жаль ее. Но... Чем закончилась эта история с вашим «Ньютом»? — На следующий день я принял его от Джаррота на траверзе Маргейта, — сказал Портсон. — Джаррот спешил вернуться к любимому занятию — тралению. — Что ж, на вкус и цвет товарищей нет, — философски заметил Маддингем. — Я лично всегда недолюбливал это дело. Но ведь вас специально отрядили присматривать за «Ньютом»? — Наравне со всеми остальными, — признал Портсон. — Я как раз пересекал Ла-Манш, когда получил соответствующий приказ, ну и последовал за ним. Джаррота весьма заинтересовал курс, которым тот шел вдоль побережья бухты Уош. Он зафиксировал его очень тщательно и заявил, что намерен выяснить, что означают все эти изгибы и повороты.[87] Он, часом, не нарвался на мину, Тегг? Тегг ненадолго задумался. — Вчера в шесть пополудни с «Корделией» все было в порядке, — наконец ответил он. — Рад слышать. Потому что я поступил в точности так же, как Уинчмор: просто пристроился в кильватер нашему приятелю. — Вы что-нибудь ему семафорили? — оживился Тегг. — Ни словечка. Он шел, не сбавляя хода. — Заметили что-нибудь странное? — не унимался Тегг. — Нет. Похоже, в Ла-Манше он никому не понадобился[88], потом я догнал его на мелководье и отпустил на изрядное расстояние — в точности выполнив ваши ценные указания. Тегг вновь кивнул и пробормотал какие-то невнятные извинения. — И где вы его подцепили снова, Маддингем? — продолжал Портсон. Маддингем фыркнул. — К северо-западу от того места, где вы его оставили. Он шел на всех парах к Северному проливу[89] и смердел, как взбесившийся таксомотор. Позавтракать мне было нечем; мой кок свалился с приступом морской болезни, а с ним и четверо остальных матросов. — Представляю себе эту встречу! Вы наверняка выпалили из пушки поперек его курса с требованием остановиться? — Ничего подобного. Во всяком случае, на сей раз. Я просто подал ему сигнал «лечь в дрейф». Я даже не успел подойти к борту, а он уже держал все бумаги наготове. Понимаете, — умоляюще проговорил Маддингем, — я ведь еще новичок в этом деле. Боюсь, я был с ним не так вежлив, как следовало бы. Но надо же считаться с тем, что мне не удалось позавтракать! — Он потом утверждал, что Маддингем подошел к нему, ругаясь как сапожник, — пояснил Тегг. — Наглая ложь! На самом деле все было не так. — Маддингем повернулся к Портсону. — Я поинтересовался у него, куда он направляется, а он ответил, что на Антигуа.[90] — Эй! Просыпайся, Уинчмор! Вы рискуете пропустить кое-что весьма любопытное. — Портсон локтем подтолкнул Уинчмора, который уже почти готов был сползти со стула. — Я в порядке! Я в полном порядке! И уже проснулся, — спросонок отозвался Уинчмор. — Я слышу каждое слово. Маддингем тем временем продолжал рассказ: — Я сказал ему, что этим курсом он никогда не попадет на Антигуа... — Антигуа, Антигуа! — Уинчмор протер глаза. — Жила-была юная невеста на Антигуа...[91] — Ш-ш! Тише! — разом зашипели Портсон и Тегг. — Почему? Эта история вполне ничего себе. Так вот, эта невеста сказала своему жениху: «Какая же ты свинья, малый!» — Да замолчите же вы! — проворчал Маддингем и продолжал: — В общем, он заявил мне, что ему пришлось отклониться от курса из-за плохой погоды и неполадок в машине, поскольку у него новый и еще необкатанный дизельный движок. Мне показалось, он был со мной вполне откровенен. — Как и со мной, — заметил Уинчмор. — В точности, как великосветская леди. Надеюсь, папаша вы тоже проявили себя истинным джентльменом? — Я поинтересовался, что у него в трюмах, и он удовлетворил мое любопытство.Там оказалось около пятидесяти тысяч галлонов топлива — якобы для его новой дизельной машины, плюс сколько-то тонн угля. Он заявил, что топлива ему как раз хватит, чтобы добраться до Антигуа, а уголь он взял для балласта, поскольку рассчитывает вернуться обратно с грузом копры и пальмового масла. Когда он покончил с объяснениями, я поинтересовался, не принимает ли он меня за круглого идиота. Он ответил: «Я еще не решил!» — и тогда я сказал, что ему придется проследовать со мной в ближайший порт, где мы и решим, что с ним делать дальше. Он заявил в ответ, что судовые документы у него в полном порядке, а полученные мной от начальства указания — обратите внимание! — заключаются главным образом в том, чтобы не осложнять международные отношения. Поскольку таких указаний я не получал, то взял на себя смелость возразить ему — исключительно вежливо, заметьте, о чем и дал показания на последующем дознании. Шкипер этот оказался невысоким человечком с седой бородкой и в шотландском берете с лентами на затылке. Во время всего разговора он усердно орудовал зубочисткой, ковыряя в зубах. И вдруг, вообразите, он мне говорит: «В последний раз, мистер Маддингем, мы встречались с вами на пути в Карлсбад. Мы ехали в одном купе, вы жаловались на высокое давление, а потом мы с вами бросили жребий, кому достанется верхняя полка. Не кажется ли вам, что человеку вашего возраста не к лицу пиратствовать таким вот образом?» Однако мне так и не удалось вспомнить его лицо — должно быть, один из случайных попутчиков. Я ответил на этот его выпад, что занимаюсь своим делом не ради забавы, а исполняю свой долг, и приказал ему следовать в порт. Тогда он говорит: «Предположим, я откажусь, что тогда?» — А я ему: «Тогда пущу вас ко дну!» Да-а, скажи мне кто-нибудь прошлым летом, когда я получил патент на офицерский чин вместе со своей «Хиларити», что уже этой весной я буду готов без колебаний... Бог ты мой! Это же чистое безумие, верно? — Еще бы, — согласился Портсон. — Зато забавно. — Не вижу здесь ничего забавного, но от этого не легче. Короче говоря, он не стал возражать. Правда, предупредил меня, что будет жаловаться на мое самоуправство и постарается, чтобы я был соответствующим образом наказан, а я, в свою очередь, предостерег его, чтобы он держался не далее как в двух кабельтовых от меня и не вздумал отклоняться от курса. — Отклоняться от чего? — сонно переспросил Уинчмор. — От курса! — рявкнул ему в ухо Маддингем. — И даже не думал пытаться удрать, так как при малейшем подозрении я всажу в него залп и потоплю к чертовой матери. Но при этом, повторяю, я был исключительно вежлив. Клянусь честью, Тегг! — Уж кто-кто, а я верю вам. Еще бы я не верил, — отозвался тот. — В общем, я отконвоировал его в порт — и там впервые столкнулся с нашим мистером Теггом. Оказывается, на берегу он олицетворяет собой само Адмиралтейство. Невысокий человечек согласно кивнул, по-прежнему часто мигая. — Адмиралтейство действительно имеет такую честь, — любезно сообщил он. Маддингем сердито развернулся к остальным. — Понимаете, я был страшно доволен собой и даже, в некотором смысле, гордился тем, что сделал. А как поступили они, а? Учинили надо мной военный трибунал... — Мы называем это дознанием, — вмешался Тегг. — Не вы сидели на скамье подсудимых. Меня, повторяю, отдали под трибунал, чтобы выяснить, сколько раз я обругал скверными словами бедного несчастного нейтрала, почему не клал ему в постель грелку на ночь и не укрывал одеяльцем до подбородка. Вот вы смеетесь, а со мной обращались, как с мелким карманником. Там были два тупоголовых штатских юриста и этот негодяй Тегг, прикидывающийся овечкой. Моего нейтрала защищал продувной адвокатишка, сделавший из меня посмешище. Он припомнил даже то, что нейтрал наболтал ему о моем давлении и поездке в Карлсбад. Вот что я получил, предложив свои услуги стране в этот трудный для нее час! И это в моем-то возрасте! Маддингем залпом осушил и снова наполнил свой бокал. — Да, мы заставили вас повертеться, — безмятежно согласился Тегг. — Таковы наши представления о честной игре, да будет вам известно. — Ладно, я бы вынес все, если бы не этот нейтрал. Мы обедали в одной и той же гостинице, пока шел трибунал, и у него хватило наглости подойти к моему столику и выразить мне сочувствие Он заявил мне, что я сражаюсь за его идеалы и поддержку демократии во всем мире, но при этом мне следует уважать международное право! — Вот мы его и уважаем, — заявил Тегг. — Бумаги у него были в полном порядке; и суд его оправдал. Мы должны были учитывать политические реалии. Я так и сказал Маддингему в гостинице, а... Маддингем перебил его и обратился к остальным: — Я так и не смог решить, как относиться к Теггу в ходе дознания, — пояснил он. — С виду он походил на настоящего моряка, а говорил, как проклятый грязный политикан. — Так оно и было, — парировал Тегг. — Мне было приказано рядиться в эту тогу, я так и поступил. Маддингем раздраженно провел короткопалой пятерней по своим стриженным седым волосам, поглядывая из-под волосатых бровей, словно оконфузившийся ребенок. Остальные, откинувшись на спинки стульев, дружно рассмеялись. — Полагаю, мне следовало бы самому догадаться и ожидать чего-то подобного, — запнувшись, проговорил он, — но я, наверно, слишком серьезно, отнесся к роли капитан-лейтенанта добровольческого резерва флота его величества во время войны. Будь это деловое предложение, я бы так не оплошал. — А мне все время казалось, будто вы подыгрываете мне и судьям, — признался Тегг. — Мне и в голову не могло прийти, что вы относитесь к этому серьезно. — Видите ли, я приучен всерьез относиться к закону. В свое время я дорого за это заплатил. — Мне очень жаль, — кивнул Тегг. — Нам пришлось отпустить этого промасленного бродягу — на то были свои причины, но, как я уже говорил, после оглашения приговора Маддингему было вменено в обязанность надлежащим образом проследить, чтобы тот действительно отправился на Антигуа. — Естественно, — согласился Портсон. — Ведь Антигуа был заявленным нейтралом пунктом назначения. А что сделал Маддингтон? Вместо его приятеля ответил Тегг, потупившись с притворной скромностью: — Маддингтон схватил меня за руку и крепко пожал. Потом заискивающе заглянул мне в глаза (могу поклясться!), порозовел и пробормотал: «Я согласен!» — словно жених у алтаря. Даже сейчас, вспоминая эту сцену, я начинаю волноваться. И потом я не видел его вплоть до того момента, как «Хиларити» выходила на буксире из гавани и Маддингем почем зря клял лоцмана. — Я очень спешил, — пояснил тот. —— Мне надо было первым выйти из устья реки, чтобы подстеречь нейтрала. С отливом я зашел в док к «Биллеру и Гроуву» (я ремонтируюсь у них уже много лет), а потом загнал «Хиларити» в узкую протоку позади их эллинга, так что «Ньют» не заметил меня, проходя мимо. Затем я выбрался из укрытия и последовал за ним через отмель. Он сразу же лег на курс норд-норд-вест. Я отпустил его подальше, пока берег не скрылся из виду, а потом догнал, дал залп поперек его курса и пристроился рядом с его бортом. Я недурно пообедал и поэтому не собирался выходить из себя. Я сказал ему: «Прошу прощения, но, насколько я понимаю, вы направляетесь на Антигуа?» — «Так и есть», — ответил шкипер и, поскольку он явно нервничал из-за того, что я едва не упирался в него бортом — а моя «Хиларити», надо вам знать, слушается руля, как миленькая, — я продолжил нашу беседу и спросил: «Могу я предположить, что в данный момент ваш курс ведет не на Антигуа?» К этому времени он уже вывесил за борт кранцы, а его матросы в один голос вопили, чтобы я не приближался. Но я перехватил руль «Хиларити» и снова стал их поддавливать. Тогда он сказал: «Я сейчас испытываю новое топливо, относительно которого у меня есть некоторые сомнения. Если оно нормально проявит себя, я возьму курс на Антигуа, но мне потребуется некоторое время, чтобы испробовать его и отрегулировать машины». — Я ответил: «Отлично. Дайте мне знать, если я смогу чем-нибудь вам помочь», — после чего отстал и позволил ему плыть куда заблагорассудится. Разве я поступил недостойно, Портсон? Портсон согласно кивнул. — Я знаю эти ваши штучки с «Хиларити», — отозвался он. — Даже при небольшом волнении нервы у меня от этого начинают звенеть, как натянутые струны. Как вам это удается, черт бы вас побрал? — Все дело в том, как переложить руль, — не без похвальбы отозвался Маддингем. — Когда она в настроении, то может пройти впритирку где угодно. Мне пришлось еще раз прибегнуть к этому трюку в тот вечер, чтобы восстановить моральное превосходство. Он не зажег ходовые огни, и я едва не налетел на него впотьмах. Целых три минуты он испытывал смертельный страх, зато я поквитался с ним за этот чертов трибунал. Но при этом я проявил абсолютную вежливость и даже рассыпался в извинениях. И даже не стал просить его зажечь ходовые огни. — А он? — осведомился Уинчмор. — А он вывесил их — все до единого, — ответил Маддингем. — И всю ночь держал курс на норд, а барометр падал, ветер усиливался, и все такое прочее. Бог ты мой, как же я его возненавидел! А на следующее утро случилось то, чего мы так долго ждали: с норд-норд-веста, со стороны Атлантики, пришел туман с дождем — как раз на траверзе Карсо-Хед. Нейтрал напоролся на шквал и впопыхах совершил поворот оверштаг. Мы были от него примерно в миле, но вокруг было ни зги не видать. А когда туман с дождем рассеялся, его уже нигде не было видно. Тогда я тоже повернул и пошел вслед за дождем. Через пять миль движения по ветру я догнал его — он на всех парах летел на зюйд и делал, я думаю, никак не меньше девяти узлов. «Хиларити» не нравится играть в догонялки, да еще при таком волнении. В общем, нам тоже начало захлестывать корму, однако к полудню мы оказались там, где и должны были быть — в двух кабельтовых позади нейтрала. Тогда он начал семафорить, но его флаги были нам не видны, поэтому пришлось обойти его и встать на траверзе, чтобы прочесть сообщение. Это, естественно, не улучшило ему настроение. Он отсемафорил, что вынужден отложить испытания топлива— и изменить курс из-за неблагоприятной погоды. Я ответил, что сожалею, но результаты его испытаний меня по-прежнему чрезвычайно интересуют. Затем я спустился вниз, поскольку всю ночь провел на ногах, а мое место на мостике занял лейтенант. Он, кстати, был вдовцом сорока с чем-то лет, звали его Шеррин. Он был директором школы для девочек в Уэстон-супер-Мэр с тех пор, как в 895 году оставил службу на флоте, и почему-то считал англичан потомками пропавших колен Израилевых.[92] — А как насчет немцев? — осведомился Портсон. — О, этих сбила с пути истинного Австрия, которая стала для них апокалиптическим Зверем. Но в остальном он был довольно нудным и предсказуемым парнем. В общем, во время своей вахты он приказал поднять топселя. При такой парусности «Хиларити» неважно слушается руля, поэтому мы просто старались не отставать от нашего приятеля. Когда я поднялся наверх после обеда, она уже покусывала его за пятки: сначала — с одного борта, потом — с другого. Дайте-ка подумать... ага — мы как раз находились где-то милях в тридцати к зюйд-зюйд-осту от острова Гаррис. Мы держали к зюйду так круто, как только могли. Ветер стих, но с зюйд-оста шла тяжелая поперечная зыбь. Я встал к рулю, чтобы обойти нейтрала с правого борта — так, чтобы он, уклоняясь, начал черпать воду левой скулой. Между тем, у меня адски разболелась поясница: пиратство — неподходящее занятие для человека моего возраста. Но и этому малому пришлось вдоволь нахлебаться соленой водички! Клянусь Богом, я заставил-таки его принять ванну! Он держался, сколько мог, после чего повернул и кинулся под защиту острова Гаррис. Мне пришлось снова идти за ним в кильватере, потому что эти места были мне совершенно незнакомы. Штурманские карты у нас были, но Шеррин не умел их читать, а я не мог бросить штурвал. Итак, мы шли буквально след в след, пока около полуночи «Ньют» не обогнул рифы на мелководье у острова Гаррис и не бросил якорь — где бы вы думали? — в бухте под защитой рифов Дабл-Рикс. Ветра там не было вовсе, зато гуляла крупная зыбь, да и места для маневра было маловато, так что становиться на якорь я не собирался. Кроме того, бухточка выглядела уж слишком подходящей для рандеву с субмариной. Но для начала я еще разок встал с ним борт о борт и поинтересовался, что у него стряслось. Он заявил, что у него якобы перегрелась форсунка двигателя. Я в дизелях не разбираюсь, поэтому мне пришлось поверить ему на слово. На всякий случай я сказал, что буду держаться поблизости, пока эта самая форсунка не остынет. И вот тогда-то он посоветовал мне убираться к дьяволу. — Если вы находились в темноте за двойной цепью рифов Дабл-Рикс, то вам и идти никуда не надо было, — заметил Портсон. — Именно так я и подумал. Я стоял на мостике, опасаясь лишний раз пошевелиться, чтобы не заорать от боли в пояснице. Мало того — мне приходилось все время ходить по кругу на трех акрах воды, словно цирковая лошадь, то и дело рискуя налететь на скалы. Абсолютно идиотская ситуация. Шеррин в этом со мной согласился и вдобавок заявил, что там, где мы находимся, — идеальное место, чтобы быть атакованными подводной лодкой. А раз так — лучше бы нам начать отражать эту атаку прямо сейчас. Как я уже сказал, отойти от штурвала я не мог, поэтому к орудию встал Шеррин — а заодно и к пулеметам. Затем он принялся палить в воду и по скалам, пока мы, как заведенные, мотались по кругу. Шум поднялся знатный, доложу я вам; а уж как разорались чайки, это надо было слышать. Клянусь честью! — А что было потом? — Я кружил и кружил на одном месте, а эта какофония все продолжалась и продолжалась. В какой-то момент я подрезал нейтралу корму, и уже решил, что зацепил его. Но нет — мы разминулись на каких-то пару дюймов. А потом я услышал, как грохочет его кабестан. Где-то через три минуты он поднял якорь и даже не дожидаясь, пока тот окажется в клюзе, бросился наутек, начисто забыв о своей якобы перегретой форсунке. Он прошел от нас в десяти футах (я ждал, чтобы снова пристроиться в кильватер за ним) и проорал в мегафон: «Вы думаете, что вами движет патриотизм? Ничего подобного! На самом деле у вас разлитие желчи, и вас просто сожрет ненависть!» Полагаю, мое общество ему изрядно наскучило. Мне пришлось подождать, пока мы миновали оконечность отмели у острова Гаррис, после чего я спустился вниз и проспал до девяти утра. Все это время «Ньют» держал курс к норду. Позавтракав и выкурив сигару, я поравнялся с ним и полюбопытствовал, куда он направляется сейчас. Он стоял на мостике, кутаясь в теплое одеяло и шарф и явно страдая от холода и жестокой простуды. Честно признаюсь: я не разобрал, что он прохрипел в ответ и, выждав несколько минут, пока он продолжал ругаться на чем свет стоит, снова приотстал. В девять утра он снова совершил поворот оверштаг и пошел на юг (к тому времени я уже вполне освоился в Северном проливе), а я последовал за ним. Волнение было не слишком сильным. Да, было прохладно, но поскольку он больше не жался к берегу, необходимости стоять на руле у меня не было. Большую часть ночи я провел внизу, предоставив Шеррину отдуваться за меня. А «дядюшка Ньют» продолжал свои игры весь следующий день, менял галсы в Северном проливе. Скука смертная, доложу я вам. Сдался он только в виду гавани Клуни-Харбор. Это случилось в пятницу утром. Он просемафорил флажками: «Имею поломку в машине. Переход в Антигуа отменяется», — после чего вошел в гавань и пришвартовался на верфи Брейди. Но вы, конечно же, знаете, что в Клуни нельзя починить даже двухвесельную плоскодонку! Я, разумеется, последовал за ним и ошвартовался невдалеке. После обеда я подумал, что следовало бы нанести визит вежливости. К тому же мне хотелось взглянуть на его машину. В дизелях я не разбираюсь, но Хислоп, мой механик, сказал, что они, скорее всего, ремонтировали свои двигатели исключительно кувалдой, поскольку корпуса были изрядно побиты. Кроме того, они предложили все свое топливо тамошнему агенту Адмиралтейства, и его как раз перекачивали на портовый буксир, когда я поднялся к нему на борт. Словом, я выполнил свой долг. Я как раз собирался вернуться к себе на «Хиларити», когда стюард сообщил, что «Ньют» желает меня видеть. Он лежал в своей каюте, хрипло дыша, закутанный по самую шею в одеяла, а глаза у него были красные, как у кролика, и вылезали из орбит. Первым делом он предложил мне выпить. Я, естественно, отклонил это предложение. Затем он сказал: «Мистер Маддингем, я окончательно обессилен». — Я ответил, мол, рад это слышать. Далее он заявил, что его свалил внезапный приступ сильнейшей пневмонии, и попросил перевезти его в Англию, чтобы показать врачу. Разумеется, я отказал, заявив, что об этом не может быть и речи, поскольку «Хиларити» — судно, находящееся на военной службе. Но он, похоже, был не в состоянии понимать очевидные вещи, и спросил, при чем здесь это? У меня сложилось впечатление, что война казалась ему забавной шуткой, и мне пришлось еще раз повторить свои доводы. Похоже, он очень боялся умереть (конечно, для мужчины— средних лет это не шутки!) и, приподнявшись на локте, обозвал меня убийцей. Я снова объяснил ему — с безукоризненной, заметьте, вежливостью, — что занимаюсь своим делом отнюдь не ради забавы. Я получил приказ проследить, чтобы он отправился в Антигуа, но теперь, когда он не собирается плыть туда, да еще и продал свое топливо английским властям, мне нет до него решительно никакого дела. Он ответил: «Но ведь теперь мне придет конец. В этой богом забытой дыре не найти приличного врача. Я полагал, что, если сдамся на милость победителя, вы поступите со мной гуманно». — Я возразил, что ни о какой сдаче вообще речи нет. Будь он ранен на поле боя, да еще и в состоянии войны с Великобританией, я, быть может, взял бы его на борт, но при этом ни на йоту не отклонился бы от предписанного мне курса, чтобы высадить его на сушу. Но ведь он оставался нейтралом — то есть вообще не участвовал в игре. Понимаете, к чему я клоню? Я приложил все силы, чтобы он уяснил мою точку зрения. А он принялся втолковывать мне, что довольно богат — владеет миллионом с четвертью, по его словам, — но его дела в беспорядке и ему необходимо изменить завещание. Я ответил, что сейчас в его положении очень много людей — и далеко не столь богатых. Тогда он поменял тактику и принялся взывать ко мне с позиций абстрактного гуманизма. «Если вы сейчас бросите меня здесь, мистер Маддингем, — прохрипел он, — то обречете меня на гибель. Причем столь же неизбежную, как если бы повесили меня собственноручно». — Как интересно, — пробормотал Портсон. — Мне и в голову не приходило взглянуть на вас с такой точки зрения, Маддингем... — Я и сам удивлен не меньше вашего, клянусь честью. Но вежливость — превыше всего, и я ответил: «Попытайтесь проявить благоразумие, сэр. Если бы вы избавились от своего топлива там, где намеревались, то обрекли бы на смерть многих людей, причем столь же неотвратимо, как если бы сами повесили их». — «Да, но ведь я этого не сделал, — возразил он. — И это свидетельствует в мою пользу». — «Это случилось отнюдь не по вашей воле, — заметил я. — У вас попросту не было иного выхода. Это война, сэр. Если вы согласитесь с этим, то поймете, что все остальное логическим образом вытекает из этого аргумента». — «Я и представить себе не мог, что вы относитесь к этому так серьезно, — заявил он мне. — Проявите хотя бы каплю милосердия. Ведь ваша сторона все равно одержит победу». — А я ответил ему: «Выслушайте меня внимательно! Я уже долго живу на белом свете, и не думаю, что моя совесть намного чище вашей, но здесь нет ничего личного — просто бизнес. Я ничего не могу для вас сделать». — Пожалуй, вы переусердствовали, — критически заметил Тегг. — А вот он понял, что я имею в виду, — ответил Маддингем, — и в тот момент для него это было самым главным. «В таком случае, я мертвец, мистер Маддингем», — сказал он. — «Это ваше личное дело, — ответил я. — Всего доброго». — И откланялся. — И? — после некоторого молчания вопросил Уинчмор. — Он умер. На следующее утро я заметил, что флаг на мачте нейтрала был приспущен. Последовало долгое молчание. В кабинет заглянул Анри и улыбнулся. Маддингем знаком позвал его к себе. —— Но почему же вы не помогли ему уладить личные дела? — осведомился Портсон. — Потому что я выступал не от себя лично, не в качестве частного лица. Я провел на мостике три ночи и, — Маддингем достал из жилетного кармашка часы, — в это же время завтра я буду снова стоять на нем, будь оно все проклято! Моя машина уже подана, Анри? — Да, сэр Фрэнсис. Мне очень жаль... Гости рассыпались в похвалах прекрасному ужину, а когда комплименты иссякли, Анри заявил, что по-прежнему считает себя их должником. Как и его племянник. — Вы едете со мной, Портсон? — поинтересовался Маддингем, с трудом выбираясь из-за стола. — Нет. Мне надо в Саутгемптон, увы! Моя машина уже ждет. — А я сначала на Юстон[93], а оттуда — на бережливый Север, — с содроганием проговорил Уинсмор. — Закажите мне такси, Анри! Тегг улыбнулся. — Мне полагалось бы сейчас крепко спать, но, если не возражаете, я бы доехал с вами до Грейвсенда, Маддингем. — С радостью. А теперь предлагаю выпить на прощание, — предложил Маддингем. — Ваше здоровье! Тост обычный, если никто не возражает: будь прокляты этинейтралы!БУНТ НА БОРТУ
То, что оставил от него злостный бронхит, прибыло, по совету врача, на остров Стефано — жемчужину субтропических морей, лежащую на той широте над экватором, где попугаям селиться не свойственно. И все же их там обнаружилось не менее трех, пронзительно вопящих в кедровых кронах. Он поинтересовался у юной леди, отлично знакомой с этим островом, как подобное возможно. — Двое из них наши, — ответила она. — Мы раньше держали их на веранде, но они улетели, свили себе гнездо и вырастили птенца. — И как выглядит маленький попугай? — О, совсем как иудейский младенец. И я полагаю, что скоро их станет больше, — юная леди многозначительно улыбнулась.* * *
Он наблюдал, как корабль его величества «Флореалия» входит в гавань. Корабль встал на якорь и отправил на берег командирскую шлюпку. На пристани бультерьер, де-факто являющийся старшим суперинтендантом полиции острова, втолковывал портовые правила главному псу со шхуны, прибывшей из Флориды с грузом древесины. Рядом стоял полисмен. Командирская шлюпка, высадив пассажира-инвалида, отчалила. Полисмен ясным голосом обратился к собаке: — Пойдем-ка, Полли! Красотка Полли! Полли-Полли-Полли! Идем! Команда шлюпки, похоже, заскрипела зубами, наблюдая за шествием полисмена и пса. Инвалид обменялся с полисменом парой слов и тоже захромал по главной улице к дальнему мелководному концу гавани, где чуть в стороне от главной дороги у мангровых зарослей и пуансеттий располагалась судоремонтная верфь. Небольшой щенок, помесь фокстерьера с дворнягой, лежал на песке, словно приходя в себя от недавнего потрясения, прямо на пути пары темнокожих вест-индцев, пытавшихся втащить на верфь сорокафутовый шлюп, который уже добрую сотню лет занимался каботажной торговлей, а теперь явно нуждался в новом баллере[94] для руля. — Дайте Лил отлежаться, — крикнул им мистер Рэндольф. — Разворачивайтесь лагом и перекиньте на причал сходни! Затем он поздоровался с гостем: — Доброе утро, мистер Хитли. Как ваш кашель? Климат вам подходит? Вот и славно. И Лил тоже легче. Ей помогает молоко. И вы не единственный ее поклонник. Уинтер Вирджил теперь приносит ей молоко. Он тоже должен скоро появиться. — Уинтер Вирджил! Какого дья... Кто он? — Его всю последнюю неделю не было. У него возникла небольшая проблемка. — Мистер Рэндольф добродушно рассмеялся. — Он бывший боцман военно-морского флота, где и прослужил всю жизнь. Еще когда я был мальчишкой, он вышел на пенсию и женился на ирландке — вдове из Корнуолла. Миссис Гэллап или Мьюэтт, если не ошибаюсь. А, нет, погодите! Точно — Мьюэтт. Это ее первым мужем был Гэллап. Он оставил ей пять акров доброй земли под луковые грядки, которые потом пожелал купить отель под поле для гольфа. Вот эти деньги, плюс те накопления, которые были у Вирджила, и позволили ему обзавестись домиком с садом неподалеку от верфи. И удержать его вдали от этого домика не проще, чем сухопутных крабов от утопленника, выброшенного прибоем. Я ожидаю его появления с минуты на минуту. Мистер Хитли расстегнул свое легкое пальто — солнце уже начало ощутимо припекать. За старым шлюпом виднелся алый гидроплан[95], сияющий новой оснасткой и сильно пахнущий свежей краской. — Новое приобретение мистера Рембрандта Касалиса, — пояснил мистер Рэндольф. — Он занимается переработкой сахара, и, по слухам, его компания стоит добрых пятнадцать миллионов. Но мореход он не из лучших. На прошлой неделе врезался бортом в верфь. Впрочем, это меня не волнует. Его компания в состоянии оплатить ремонт. А я должен вернуть гидроплан как раз сегодня утром... Эй! Куда? Вы же только пришли! Посидите немного в тени — Вирджил должен скоро вернуться с молоком для Лил. Отдохните, поболтайте с ним. А Лил пока составит вам компанию. Он прошлепал по воде к гидроплану, завел его, произведя оглушительный рев, и секунду спустя уже скрылся из виду. Застоявшаяся вода и мусор еще кружились у корней мангров, а звук взбесившегося мотора уже стих за входом в гавань. Мистер Хитли внимательно наблюдал за вест-индцами. Те установили сходни, спустили по ним проржавевший баллер и куда-то ушли. Лил спала, а по белому коралловому песку дороги, проходившей вдоль берега, тащилась процессия повозок и упряжек: прибыл очередной круизный пароход, и его пассажиров развозили по отелям. Затем с дороги во двор верфи вошел пожилой, строгий, тщательно выбритый мужчина в безупречном чесучовом костюме. В левой руке (на правой была повязка) он нес запечатанную бутылку стерилизованного молока. Лил тут же подбежала к нему, и он спросил, куда подевался ее хозяин. Мистер Хитли пояснил, после чего оба представились. Мистер Вирджил выудил откуда-то чистое блюдце, и тут обнаружил, что не в состоянии одной рукой налить в него молока. Мистер Хитли пришел на помощь. — Сама она стоила семьдесят пять центов, — заметил мистер Вирджил, наблюдая, как Лил лакает молоко. — Но в последние шесть недель обходится в четыре доллара в неделю. Впрочем, эта чертова собачонка принадлежит исключительно Рэндольфу. — Не любите собак? — спросил мистер Хитли. — В данный момент не люблю никаких домашних животных. Мистер Хитли взглянул на его туго перевязанную ладонь и кивнул. — Нет, это не собака, — перехватив его взгляд, пояснил мистер Вирджил. — Попугай. Военный врач с верфи сказал, что это больше похоже на работу стервятников. — Я мало что знаю о попугаях. — На флоте выучишься чему угодно... рано или поздно. Чтоб меня разорвало! — Мистер Рэндольф говорил мне, что вы изрядно послужили. — С юности до старости — целых сорок лет. Вышел на пенсию в тысяча девятьсот десятом — после того, как Джеки[96] спустил на воду свой дурацкий «Дредноут»[97]. Весь этот так называемый Новый флот изрядно испортился с тех времен. Я был юнгой, к примеру, в старом Черном флоте. Припоминаете: «Воин», «Минотавр», «Геркулес» и прочие. Служил на «Голодной Шестерке», если это вам о чем-то говорит... Вы уже уходите? Мистер Хитли вышел из-под навеса ангара. — Да нет. Я всего лишь собирался усадить свою... гм... немного посидеть вон там, — мистер Хитли развернулся к шлюпу, но помедлил — так, словно приглашал мистера Вирджила подняться на борт первым[98]. Старик проворно взбежал на палубу. Они устроились на корме у руля. Всю переднюю часть шлюпа занимал груз черного дерева, твердого, как скала. Мистер Вирджил скользнул взглядом из-под нахмуренных седых бровей по длинному лицу нового знакомца, как поисковый прожектор в поисках берега. — Турист? — неожиданно сурово спросил он. — Да, в каком-то смысле. В Саутгемптоне у меня моторная яхта. — Не доверяю им — и никогда не доверял. Вот с этим им не сравниться! Он указал на отбеленную солнцем растрескавшуюся мачту. Некоторое время они сидели молча, наслаждаясь солнечными лучами. Мистер Хитли сцепил пальцы на колене, чтобы помочь непослушной ноге согнуться, и прислонился к низкому фальшборту. От этого движения манжета его пальто поднялась вверх и открыла запястье с татуировкой. Мистер Вирджил вытащил из кармана трубку. Ветер принес издали запах разогретого кедра и цветущих гладиолусов. — А стоит только вспомнить, какая сейчас в Саутгемптоне вода! — наконец обронил мистер Вирджил. — Грязная... и какая же холодная! Над дальним краем гавани с криками вились три попугая. Мистер Вирджил погрозил им перевязанной рукой. — Как это случилось? — спросил мистер Хитли. — Помогал приятелю. Самый верный способ угодить в переделку. — Так как же? Если вы не против — расскажите. — Неожиданно в его голосе прорезались властные нотки. И снова мистер Вирджил внимательно оглядел сухощавую фигуру собеседника. — Все потому, — сказал он, — что на флоте дозволено держать животных. Линкоры и броненосцы возят с собой медведей, пока они не станут досаждать старшим офицерам. На тех судах, что поменьше, дозволены обезьяны и попугаи. Был у нас один малый на «Смелом», так тот держал хамелеонов в машинном отделении, пока их всех не передавило движущимися частями. Лучше всего все-таки попугаи. Люди хорошо платят за говорящих попугаев. — А кто их обучает? — Попугаи, как женщины, — все схватывают на лету, где надо и где не надо. Я слышал, что их привлекает какой-то особый тон голоса. А сейчас у нас целых два крейсера на постое — «Буллеан» и «Флореалия», и от обоих разит попугаями. У них там все виды зеленых — и еще те, серые с розовыми хвостами,которых мы раньше отлавливали на западном побережье Африки. Разрази меня гром!.. Когда я в последний раз был в Бенине на «Тезее» — кажется, это называлось «Бенинская экспедиция», — мы нашли те четыреста соверенов и четыре дюжины шампанского в «Королевском каноэ»... И никто поначалу не заметил тех денег!.. Но вернемся к попугаям. Есть тут у нас некий Моупси, на все руки мастер по части хозяйства. Недавно является он ко мне, зная заранее, что у моей миссис Вирджил имеется попугай. Мой дом рядом с верфью — после сорока лет службы на флоте мне по нраву жить поближе к морю. Но из-за этих же сорока лет ко мне частенько обращаются с просьбами взяться за разные деликатные задачи... — Вполне понятно, — сказал мистер Хитли, растягиваясь на палубе, чтобы прогреть бледный, как у ящерицы, живот. Манжета его легкого пальто задралась уже выше запястья. — И в тот вечер, о котором я говорю, этому Моупси понадобилась... гм... особая помощь. Приближалось время учебных стрельб на обоих кораблях, и всех попугаев эскадры требовалось переправить в такелажную мастерскую. Кроме того, требовался ответственный за попугаев, которому было назначено ежесуточное жалование за кормление и уход за птицами. По возвращении эскадры на рейд попугаи также должны были вернуться на места. Моупси показал мне приказы — отпечатанные на машинке, вообразите! — и заявил, что я подхожу по всем статьям на должность ответственного. Вот за это я и взялся. Всего-то дела — посидеть в такелажной мастерской пару дней... Господи боже, а ведь я еще помню времена, когда она была до отказа забита снастями... Ну кто из нынешних салаг в состоянии отличить лисель от половой тряпки, даже если распять его на мачте?.. — Но зачем они отправляли попугаев на берег перед учениями? — Дабы те не спятили от орудийного грохота и не получили контузии от сотрясения. Не только птицы этого не любят. Помнится, на старой «Пенелопе» — той, что с двойным рулем, — у нас был здоровенный бабуин, который не выносил стрельб даже черным порохом. На это время он забивался в гальюн и щелкал оттуда зубами на всех и вся. И это было немалой проблемой... потому что гальюн, сами понимаете... Мистер Хитли закашлялся. — Бронхит, — коротко пояснил он. — Докла... э-э... продолжайте, пожалуйста. — Мне были даны инструкции: быть готовым к приему попугаев к пяти склянкам. Думаю, на вашем пассажирском пароходе вам рассказывали, как на кораблях отмеряют время? — Это, кажется, было указано на обороте буклета со списком пассажиров, — смиренно кивнул мистер Хитли. Мистер Вирджил нетерпеливо вздохнул и двинулся дальше: — В такелажной уже ждал ларь с птичьим рационом. Я, как заведено, записал его в накладные расходы верфи. Не знал я тогда, во что это выльется... А что до самой мастерской, то надо вам знать, что состоит она в основном из больших окон, а вдоль стен там кучами свалены носилки, распорки и кранцы для парусников. Я переместил там кое-что, чтобы сделать полки для клеток. С какой стати мне ползать по палубе, кланяясь птицам? Да и разгибаться в моем возрасте приходится слишком долго... Бог ты мой! Разрази меня гром! Я ведь шесть лет провел на верхних реях — старшим марсовым на «Резистенсе»!..[99] Ну а пока я занимался делом, снаружи доносились звуки, будто во время высадки нашей морской пехоты на Крит — ох, сколько же лет назад это было? Они там маршировали по сходням, и каждый посильнее размахивал клеткой, чтобы его ошалевший попугай не орал. А когда они остановились и прекратили размахивать, птицы возопили все разом, и старшина, возглавлявший весь этот десант, сложил ладони рупором и прокричал мне в ухо: — Смотри в оба, папаша! Этот груз не из простых! Таким он и оказался. Я мог разве что пятиться и семафорить людям с «Буллеана», чтобы несли свои клетки к левому борту мастерской, а тем, что с «Флореалии», —— к правому. Так они и разместились: сорок три птицы с «Буллеана» и двадцать девять с «Флореалии», итого — семьдесят две. — Почему вы не сказали «почти сотня»? — спросил мистер Хитли. — Потому что сотни там не было. Затем эти десантные отряды прошествовали к дальней двери, вышли наружу и развернулись в две шеренги вдоль окон мастерской, чтобы попрощаться. Семьдесят две птицы в клетках и семьдесят два матроса с нижних палуб прилипли с противоположных сторон к стеклам, словно напутствуя друг друга. Та еще была пантомима, если не считать воплей попугаев! Старшине пришлось отбуксировать меня в бухту, чтобы мы могли перекинуться хоть словечком. Но сказал он немного: — Бог тебе в помощь, папаша! И увел всех матросов на суда. Сердца попугаев были разбиты. Что мне было делать? Ну а раз уж ничего не поделаешь, не стоит хотя бы выставлять себя на посмешище! Я и соваться не стал в мастерскую — просто бродил туда-сюда снаружи, ожидая, когда тайфун утихнет... Господи боже, разрази меня гром! Сколько на своем веку я перевидал тайфунов! Но, скажу вам по чести, «Снейк» перевернулся без всякого тайфуна. Это был минный крейсер, к тому же с перегруженным орудиями носом, и он так и не смог выбраться из шторма... Но вернемся к попугаям. В конце концов я вернулся в мастерскую и гаркнул «Цыц!» — так обычно делала миссис Вирджил. Они выделили группу прикрытия, которая продолжала вести огонь, но большинство развернулось и нацелилось клювами на меня. Сперва они оценивали меня — в точности как старшины и боцманы перед тем, как отдать команду. Ну и я тоже оценил их, чтобы прикинуть масштаб проблем и выделить заводил... Чтоб меня разорвало! Как часто я так делал! Болтуны меня не беспокоили. Большинство людей не способны не то что работать, но даже просто жить без воркотни и жалоб. Я хотел определить ядро бунтовщиков — тех, что помалкивают, но в них-то и главная беда. Зачем? Если кто-то знает свое дело, неважно, что это за дело, он должен знать и тех, за кем нужно присматривать. Вот, к примеру: я провел двадцать лет, командуя бузотерами, которые только и ждали случая меня разозлить, лжецы и придиры без конца пытались подловить меня и засудить по морскому праву, не говоря уж об обычном человеческом мусоре, который поливал меня против ветра. И тут они снова были передо мной — все, кого я отправлял, или кто отправлял меня получать наказание от капитанов; все они собрались здесь, превратившись в проклятых птиц, получивших флотскую выучку, и набравших словечек на нижней палубе. Мистер Вирджил сделал паузу, и мистер Хитли кивнул ему с пониманием и сочувствием. — Был там один серый с розовым хвостом — талисман с Западного Берега. Он спокойненько сидел на полу своей клетки. Будь он обычным матросом, я бы сразу взял его на заметку. Он смирно ждал, пока я его рассмотрю и отведу взгляд. А потом взял и назвал меня этим словом... прямо из живота, не шевеля клювом, как какой-нибудь паршивый чревовещатель. А у меня когда-то был на верхних реях один тип... на каком же из этих чертовых старых крейсеров? Нет-нет! На «Резистенсе» — у него же целых пять мачт... Так вот — был там один матрос с таким же талантом, за который ответ держали другие. Джемми Ридер его звали — шелудивый пес с грязным ртом... И тогда я ему сказал, попугаю то есть: «Якорь еще не выбрали, поэтому сделаем вид, что я тебя не слышал. Но я этого не забуду, Джемми». Чтоб меня разорвало! Ведь я не вспоминал Джемми Ридера целых тридцать лет! Был там еще один какаду с желтым клювом, который сквернословил, как проклятый. Он тоже напоминал мне кого-то, я не мог припомнить — кого, но видел, что и он способен устроить заварушку. Так или иначе, я выявил полдюжины будущих шутников и дюжину тех, кто последует за ними, если все пойдет по их плану. Остальные были обычными матросами, готовыми примкнуть к любой толпе, если в перспективе намечается веселье. Запомнить их не составило труда — раньше мне приходилось запоминать семь сотен человек по имени и званию, и это за неделю. Я никогда не позволял ни себе, ни другим тратить на это больше времени. Затем миссис Вирджил пришла позвать меня на ланч. Нам пришлось отойти от мастерской довольно далеко, чтоб спокойно поговорить. К тому же леди не годится слушать этих птиц. Но она быстро, как вспыхивает кордит, выпалила: — Покрывало для клетки нашей Полли тебя спасет! И я сказал: — «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка»[100]. отправь его ко мне сразу, как вернешься. Один из них точно заслужил это покрывало. И она прислала мне покрывало, а с ним мой наградной боцманский свисток, который вручили мне, когда я уходил с «Роли». Разрази меня гром! Вот это корабль! Десять узлов бейдевиндом, когда мы выходили из Саймонтауна, и это при одном нерабочем винте! — И зачем же вам понадобился свисток? После этого вопроса глаза мистера Вирджила снова впились в лицо мистера Хитли. — Уж если он срабатывал при возникновении проблем на нижних палубах, как я мог без него обойтись теперь?— Когда бешеный желтохохлый какаду снова стал поливать меня площадной бранью, я свистнул. Тот присел, буркнул что-то невнятное и заткнулся. Нет, не было у него того характера, как у Джемми. И это, к слову, помогло мне вспомнить человека, которым он был в прежней жизни: третьего номера в расчете шестифунтовой пушки — а других тогда и не было — на старом «Полифеме», который таранил боны в Берехейвене... Сколько же лет назад это было? Массивный такой тип с вечно сальной челкой, падающей на лоб, вот только имени его никак не припомню... Имелись в клетках дубликаты и других моих старых знакомых, но Джемми и пташка, которую я так и назвал — Полифем —— были хуже всех. Со временем все зеленые болтуны и крикуны малость попритихли — только квохтали и постанывали, как куры в жаркий день, а я прикорнул у открытой двери — там, где эллинг для лодок, и задремал. И тогда Джемми выдал такое, чего я не слыхивал с незапамятных времен: «Бачковой, за хлебом!» В нынешнем флоте матросов кормят французскими булками; но раньше, когда юнга слышал подобное, он срывался с места подавать все, что было на камбузе, или получал крепкую взбучку. А мне как раз снилось, что я юнга на старом бриге «Сквиррел» и почему-то замешкался. В общем, я успел добежать до середины мастерской и только там окончательно проснулся, а вся эта свора давай надо мной потешаться — и Джемми первый! Но что-то крылось за этим гамом, подсказало мне чутье; и пока я приходил в себя, на глаза мне попался ларь с попугайской едой. Семь склянок дневной вахты! — осенило меня. Так вот чего они хотели и, согласно регламенту, имели полное право на пополнение в кормушках. У птиц еще оставался корм в кормушках, но они знали свои права, а Джемми унизил меня, сделав бачковым в этом их птичнике! — И что же вы сделали? — Ничего. То была проверка, которую устроила мне нижняя палуба. Вопрос заключался в том, как мне к ним относиться: как к птицам или как к морякам. Я разрешил эту дилемму в их пользу. Они были флотскими птицами, и обращаться с ними надлежало соответственно. Я наполнил кормушки, подлил воды, кому требовалось, а они продолжали насмехаться и передразнивать меня. Так я дождался первой «собачьей вахты»[101]. Джемми подождал, пока я закончу, а затем опять обозвал меня Этим словом. От этого завелся Полифем. Я охладил пыл Джемми покрывалом для клетки нашей Полли. Его помощник умолк, как от короткого замыкания, подтвердив тем самым, что действуют они заодно. Я принялся чистить их клетки плотницким шпателем, а они были довольны, взирая на то, как я драю гальюны и разношу пайки. Джемми, конечно, не мог меня видеть, но Полифем ему все рассказал, и тот в темноте опять повторил слово, которого не должен был говорить. Характер у него был, надо отдать ему должное. Затем я запер мастерскую и пошел домой. Миссис Вирджил сказала, что я отлично справился, но я-то знал, что они всего лишь примериваются. Бунт и заговор — вот что они задумали, и вопрос был лишь в том, как они намерены воплотить свои планы в жизнь. Господи, чтоб мне лопнуть! Я видел три года беспрестанных бунтов — во время проблем с рабами в Красном море. Тогда я ходил на старом корвете «Петруччо» — том самом, что потом перевернулся у атолла Миникой. К концу того рейса все офицеры, что не сидели под арестом, требовали разбирательства в суде, а нижняя палуба планировала убийства. — И чем тогда все закончилось? — полюбопытствовал мистер Хитли. — Вполне во флотском духе. Мы вернулись домой. Когда все наши тараканы вымерли[102], капитан велел свалить собранные доказательства в вещевой мешок. «Тут достаточно грязи, дряни и лжесвидетельств, — сказал он, — чтобы разжаловать всех, начиная с меня. Если хотите тащить это домой, так и скажите». Мы не захотели. «Тогда мы по-христиански все это похороним!» — сказал он, и мы так и поступили... Но вернемся к попугаям. Я пришел в мастерскую на рассвете — а с самого восхода солнца их можно было слышать даже на Багамах, — но таковы уж эти птицы. Я дал им время накричаться, пока мне не стало казаться, что они снова издеваются. Когда же я снял покрывало нашей Полли с клетки Джемми, он не стал меня обзывать. Просто сидел и молча глумился надо мной. Я не мог понять, что он замыслил, пока он не покосился одним глазом вверх — и там, под крышей, я увидел мелкого зеленого паршивца, порхающего туда-сюда. Он выбрался из клетки! А в следующее мгновение еще один прошелся по потолочной балке, поглядывая на меня, как леди из Госпорта, чтоб оценить реакцию. Я запер двери и окна, прежде чем они додумались бы удрать.Потом осмотрел клетки. Все утро эти поганцы только и делали, что распутывали проволочные «бабушкины узлы»[103], которыми эти безрукие из Нового флота пытались заблокировать дверцы клеток. В море, конечно, попугаям некуда было удрать, и они это знали. Но на берегу, и это они тоже знали, за побег или смерть одного из них отвечать довелось бы мне. Вот почему Джемми насмехался. Они действовали по его приказу! — Но разве это не мог быть Полифем? — предположил мистер Хитли. — Он мог передавать им распоряжения Джемми, но сам был далеко не так смышлен. Я слышал от него только насмешки и ругательства. Так или иначе, но загнать обратно зеленых поганцев я не сумел, они десятками выбирались из клеток, а когда не можешь удержать власть — лучше и не пробуй. Так что я выскользнул в дверь, закрыл ее поплотнее и стал слушать снаружи. Ничего особенного — обычная склока на нижней палубе. Джемми клял их за то, что они упустили шанс. Первые дезертиры должны были сбежать целым отрядом. Полифем в ответ ругал Джемми, как последний докер, а остальные трещали без всякого смысла, потому что им нравилось себя слушать. И тогда я решил, что пришло время прекратить бунт. Я отправился домой за ножницами. — Я не вполне понимаю, зачем вам... — Я же говорил, что тот пушкарь с «Полифема» жуть как гордился своей челкой и вечно ее накручивал — пока его не отправили к цирюльнику в Дартмур с наказом состричь все, что не соответствовало уставу. Тогда-то он и присмирел. Дьявол, никак не вспомню его имени!... Мистер Вирджил нахмурился и на некоторое время впал в задумчивость. — Когда я снова вошел к ним, то обнаружил, что из клеток вырвались уже не меньше двух дюжин мелких зеленых. Но они не сумели покинуть судно, поэтому я их проигнорировал и занялся корнем проблемы. Я подманил к себе Полифема — якобы затем, чтобы почесать ему голову, а потом — раз — и остриг! Как только щелкнули ножницы, он начал кусаться, чисто взбесившийся бладхаунд... — Мистер Вирджил помахал правой рукой. — Пришлось скрутить его и прижать к полу клетки, прежде чем мне удалось одолеть его желтую челку... то бишь, хохолок. А после этого — чтоб мне лопнуть — он перевернулся на бок и потерял сознание! Стрижка сотворила с ним истинное чудо — вернее, с тем, кем он был, еще оставаясь человеком, — и все равно, я был удивлен реакцией этой плешивой курицы. — Получи, желтый пес! — сказал я. — А остальное достанется Джемми Ридеру. От Джемми мои действия, конечно, не укрылись. Он знал, что его ждет. Поэтому пал на пол клетки и перевернулся на спину, как акула, решив биться не на жизнь, а на смерть. Для него косица — то есть, хвост, — наверняка значили не меньше, чем косица для настоящего Джемми. Я сказал: — Джемми, ни на одном из кораблей, где я служил, не бывало одновременно двух боцманов. Живой или мертвый, ты будешь понижен в звании, и можешь говорить все, что угодно. Я не стану заносить это в рапорт. — И что он сказал? — О, много чего! Но я не стал это записывать, мне нужно было лишь одно: подавить мятеж. И я таки добрался до него — хоть он дважды располосовал мне руку на ленты — и отхватил красные перья в его хвосте до самой серой гузки. Он с самого начала нарывался — и я его предупреждал. — А дальше? — Он утихомирился. Я никогда не видел таких, кто был бы особо разговорчив после понижения в звании. Они просто боятся, что голос их выдаст, понимаете? Джемми пытался порхать, но у него отсутствовали бакштаги. Тогда он вскарабкался по прутьям клетки — медленно и неуклюже, будто немощный старец, забрался в кольцо и стал раскачиваться на нем, мрачный, как старый угольщик. Бедолага! Мистер Хитли кивнул, соглашаясь. — И это решило все дело? — спросил он. — Я вырвал корень зла, — ответил мистер Вирджил. — Остались обычные матросы, летавшие на свободе. Когда они поняли, что я их не желаю замечать, то начали возвращаться в клетки, по двое-трое в одну — за компанию, и тут же начинали из-за этого ссориться. Я поторопил их, бросая шляпу туда-сюда (в мастерской становилось все жарче из-за закрытых дверей), и еще до заката все вернулись на места, а я завязал дверцы теми же кривыми узлами, что и их безмозглые владельцы. Неужто нынче на флоте никого ничему не учат? — А что стало с Джемми и Полифемом? — спросил мистер Хитли. — Джемми был занят тем, что привыкал к новой стрижке, а Полифем сидел и квакал, как жаба. Никакого характера! Так оно и шло, пока не вернулись крейсера. — Но разве на кораблях не поднялся шум? Полисмен на верфи сказал мне... и эта шлюпка с «Флореалии»... — Да просто они сходили на соседний остров, вот и все. Вопили, бросали в воздух шапки, кричали «ура», чтобы порадовать налогоплательщиков. Главный старшина проверил— семьдесят две оставленных мне клетки — по птице в каждой, — и на том моя вахта закончилась. Но потом они устроили толковище и решили поговорить со своими питомцами вместо того, чтобы сразу уйти. Какой-то бездельник с «Буллеана» начал возмущаться, что это не его птица. Я слышал, как старшина сказал: «Разбирайтесь сами», а тот начал обходить мастерскую, пытаясь разобраться. И наткнулся на матроса с «Флореалии» с похожей жалобой. Пошли разговоры — все завертелось вокруг клеток. Они поднимали их, рассматривали на свет, как бокалы с портвейном. Отличная забава, богом клянусь! Ну а потом начали разбираться попарно. — А как насчет Джемми Ридера и Полифема? — О них тоже было множество разговоров. Кто-то из торпедных нянек, или равный ему по рангу, горланил, что разыщет и прибьет того гада, который отрезал хвост его бедненькой Жозефине. (До этого момента у меня и в мыслях не было, что Джемми может вдруг оказаться леди). Затем столкнулся с Полифемом (то есть, с его хозяином), продолжая скорбеть о своей потере, и, даже не будучи в одной команде, они мигом нашли общий язык. А затем недовольство, вызванное ситуацией с пернатыми любимцами, мало-помалу переросло в грызню между экипажами. Видал я и худшие беспорядки в свое время, но более быстрого перехода к ним — нигде и никогда! Как обычно, за этим стояло что-то другое. Я слышал, что один из кораблей для учебных стрельб получил еще довоенный кордит, а потому палил в белый свет не лучше, чем старый «Суперб» в Александрии, когда мы взорвали их склад боеприпасов. Второй корабль выразил свои соболезнования флажковым сигнальным кодом. Так что обе команды сошли на берег уже враждебно настроенными. А когда шум из мастерской стал доноситься наружу, один их старшина сказал мне: «Они не станут нас слушать, папаша. Скажут, что мы с тобой судим предвзято». Я ответил: «Господь свидетель, ты непредвзят. Но я-то знаю, кто ты, и толку от тебя не больше, чем от их узлов на клетках. Закрой двери и окна, пусть они сами разбираются». Старшины так и сделали, и когда шум внутри начал утихать сам собой, а мастерская как следует накалилась на солнышке, никто и не думал вмешиваться, как я и советовал. Наконец экипажи расцепились, начали подбирать разбитые клетки и спорить. Тогда я просвистал: «Очистить нижнюю палубу» и рассказал им, как и за что я понизил в звании Полифема и Джемми. Это слегка остудило их пыл. Затем я рассказал, как потел в мастерской, охраняя их сокровища, и что у них нет оснований жаловаться на то, что их бедные, одинокие, всеми брошенные пташки перепутали гамаки в их отсутствие. Когда я услышал, что они смеются, то сказал, что они невоспитанная и недисциплинированная салажья мелочь, позор Нового флота, и они ушли. А как я мог поступить иначе? Ведь если бы какой-нибудь остолоп послал за морской пехотой и вдобавок выплеснул все подробности дела на бумагу, то эти два корабля сортировали бы своих попугаев до конца времен! Вы же знаете, что бывает за драки на берегу! Еще хуже могло бы выйти, если бы они убили полисмена-другого. И должен сказать, что ловкость, с которой я управился с ними — с птицами и матросами, я имею в виду, — говорит о том, что следует знать свое дело, сэр Ричард! Выправка и настроение мистера Хитли тут же изменились. Он протянул руку. Мистер Вирджил поднялся на ноги и пожал ее. Оба сияли. — О том, что ты свое дело знаешь, Вирджил, я знал с первого шага на берегу. А ты сразу меня узнал? — Я подумал об этом, сэр, когда вы жестом велели мне подняться на борт этой калоши. Но не был уверен до тех пор, пока не увидел вот эту картинку, которой вы мне обязаны. — Мистер Вирджил указал на оголившееся запястье мистера Хитли, на котором под рыжеватыми волосками виднелся бледно-синий якорь, обвитый цепью. — На фор-марсе «Резистанса» по пути из Порт-Ройяла, — сказал мистер Хитли. Мистер Вирджил кивнул и улыбнулся. — Она сохранилась, — сказал он. — Но... что случилось с вами, сэр Ричард? — Те, кто был лучше меня, погибли на войне. А я принял от них наследство, как видишь. — Так вы теперь у нас лорд? Его собеседник кивнул. И вдруг хлопнул себя по колену. — Вспомнил-таки! — воскликнул он. — Того пушкаря с «Полифема»! Это был Харрис — Чатти Харрис. Он служил со мной на «Комусе», а затем на «Эвриале». И вечно ссужал нас деньгами под проценты. — Это он! — подхватил мистер Вирджил. — Я всегда думал, что в нем есть что-то от еврея-ростовщика. А кто тогда командовал «Комусом»? Я имею в виду тот рейс на Адриатике, когда он получил волной в корму и чуть не потопил капитана в его каюте. Мистер Хитли выудил из памяти и это имя, и некоторое время они, так сказать, гребли туда и обратно, вспоминая корабли и людей давно ушедшей эпохи. Это дело знают все старики: мертвое тянется к мертвым, как железо к железу. Адмирал сидел в изгибе кормового фальшборта, сцепив пальцы на коленях, — так, словно румпель-штерты[104] все еще были на месте. Мистер Вирджил, поднявшись на ноги в честь великих имен и дат, не отрываясь глядел на него, захваченный бурным потоком воспоминаний. Тем временем экипажи с пассажирами начали возвращаться в гавань. Один из них вез потного офицера с «Буллеана», которому поручили разыскать адмирала в отставке лорда Хитли, который вместо отеля зачем-то отправился на верфь, и передать ему приглашение капитана — оказать ему честь и пообедать с ним. Ведь время уже прямиком выруливало к коктейлям!* * *
Позже, как раз за упомянутыми коктейлями, лорд Хитли выяснил, что единодушное мнение эскадры его величества было таково: папашу Вирджила из-за его штучек с попугаями стоило бы повесить на нок-рее. — Рад, что благодаря прогрессу у вас на сегодняшний день практически не осталось мачт, — ответил он. — Этот человек научил меня всему, что я знаю о море и мореплавании, еще в ту пору, когда я звался Снотти. Мистер Вирджил — лучший боцман британского флота... ну а в свободное от службы время — величайший из его вралей.МОРСКОЙ ПЕС
Когда тот самый шлюп, известный читателю тем, что прослужил добрых сто лет, совершая торговые рейсы между островами Вест-Индии, был отремонтирован мистером Рэндольфом с острова Стефано, между ним и владельцем шлюпа мистером Глэдстоном Гэллапом, а также адмиралом в отставке лордом Хитли и мистером Уинтером Вирджилом состоялось обсуждение вопроса о том, как лучше использовать это судно. Определить это можно было лишь с помощью пробных выходов в море в присутствии комиссии, состоящей из упомянутых выше лиц, а также фокстерьера-полукровки Лил, принадлежащей мистеру Рэндольфу, и — время от времени — капитана крейсера его величества «Буллеан», который приходился отставному адмиралу племянником.* * *
Лил поместили в ящик, чтобы защитить от соленых брызг до тех пор, пока шлюп не преодолеет мелководье и не окажется в более спокойных водах. Остальные расположились на корме, окидывая взглядами ширь многоцветного моря. Мистер Гэллап стоял у румпеля, которым в ходе ремонта заменили штурвал, и старался говорить как можно меньше, ибо у него имелся другой способ произвести впечатление на всю компанию: тем, как ловко и точно его судно лавирует между рифов и проходит по фарватерам глубоких коралловых проходов, заполненных густо-синей водой. Между тем, мистер Вирджил уже не впервые заводил речь о своей Большой Проблеме с Попугаями, которой, как вы уже знаете, посвящена другая история. Капитан тактично соглашался с ним в главном: будь это человек, животное или птица — дисциплина на службе превыше всего, и мистер Вирджил поступил правильно, понизив в чине посредством стрижки хвостовых перьев попугая, прозванного им Джемми Ридером, — серого жако из Западной Африки... Сам он знавал пса — своего собственного, к слову, — почти что рожденного и уж точно с младенчества выросшего на эсминце, которого не только повышали и понижали в звании и должности, но и снова повышали его ранг, продвигали по службе, а пес все это отлично понимал и сознавал причины таких пертурбаций. — Выходи, послушай, — наконец сказал мистер Рэндольф, запуская руку в ящик. — Это пойдет тебе на пользу. Лил неуклюже выбралась оттуда и покачнулась от резкого крена судна — мистер Гэллап как раз пересекал неожиданно сильное течение. Он правил к берегу, чтобы показать спутникам остров адмирала Гэллапа, чьи владельцы освободили своих рабов-карибов[105] более сотни лет назад. И те, что вполне естественно, приняли фамилию бывших владельцев. Потому-то в этих краях и было столько Гэллапов — мягких, простодушных и довольно состоятельных людей с соответствующими манерами и инстинктивным знанием, которому не было равных, своих родных вод — от Панамы до Пернамбуко. Капитан же неторопливо рассказывал историю о старом эсминце, приписанном к военно-морской базе в Китае, который вместе с тремя другими, такими же пожилыми, перегнали к восточному побережью Англии, когда флот призвал своих ветеранов на Первую мировую. О том, как пес по имени Малахия — или Майкл, Майк, а также Микки, — расцвел на борту старого «Мэйки-ду», в журнале которого значился юнгой{1}, как научился взбираться по промасленным стальным трапам, цепляясь согнутыми передними лапами за ступеньки, и о том, как он порой служил хозяину меховой горжеткой, согревая его шею в холодные ночи на мостике. О том, что для естественных надобностей ему выделили особое место на палубе у спасательного плота, и о том, что он ни разу ничего не позволил себе за пределами этого места. О том, как он покорил сердце стюарда офицерской кают-компании Ферза, получив в его лице самого преданного защитника во всей маленькой флотилии, которая исполняла свой долг в Северном море, конвоируя и защищая торговые суда. А затем военные потери сделали свое дело, и капитан... превратился в адмирала. — В первые лейтенанты мне подсунули одного добровольца — юнца девятнадцати лет — с ручищами толщиной в окорок и голосом, похожим на клепальный молоток, хоть звук «р» он не смог бы выговорить даже под угрозой расстрела. В первый раз я увидел его за столом в офицерской кают-компании: он сидел, не сняв фуражки, и почесывал бедро. И знаете, как он ко мне обратился? «Ну, ста'ина, что п'идумано для наших завт'ашних мучений?» Я сообщил и добавил кое-что от себя, но он не расстроился. Он был искренне благодарен за мои намеки на то, как делаются дела на «больших ко'аблях», как он их называл. Правда, водоизмещение у «Мэйки-ду» было около трехсот тонн, насколько я помню. До того он успел послужить на торпедных катерах береговой охраны, вылавливал тела у корнуольского побережья после атак тевтонов. Он поведал мне, что его шкипером был ветеран, именовавший морские валы «бо'оздами» и совершенно уверенный, что судну надлежит держаться аккурат между ними. Звали его Юстас Сирил Чидден, отец его был сахароваром... Изумление слушателей было выражено в различных формах. Мистер Уинтер Вирджил даже счел уместным добавить пару фраз об упадке Нового флота. — Нет, — сказал капитан. — Обращение «старина» совершенно не говорит об упадке. Он просто не знал, как нужно, — вот и все. Но Майк немедленно к нему привязался. На следующую ночь мы получили особое задание. Ни огней, ни ориентиров, конечно же, — только дождь и солидная волна. Как только я отвел корабль от берега, я приказал парню встать на мостик. Сирил прибежал в начищенных сапогах, как и положено морскому офицеру{2}. Мы с Майком были рядом, в штурманской рубке. Довольно скоро он начал бранить старого Шайда, нашего рулевого старшину, за то, что тот на четверть румба отклонился от курса. Чуть позже Сирил снова повысил свой пронзительный голос, подчеркивая, что тот совсем отклонился от курса, и если сделает это снова, его «'азжалуют». Так и продолжалось до конца плавания, а мы с Майком все ждали бунта со стороны Шайда. Когда Шайд сменился, я спросил его, что он думает о нашем новом приобретении. «Либо полный идиот, либо истинный самородок, — сказал Шайд. — С этим призывом иначе не бывает». Его слова меня обнадежили, и я решил, что Сирила стоит пообтесать. Чем мы все дружно и занялись. И ему это понравилось! Действительно понравилось, он говорил, что это «инте'есно», ведь никто из его призыва даже не мечтал водить торпедные катера! Там им приходилось быть чертовыми пиратами. Он привык драться, чтобы заставить слушаться себя. Он угрожал одному из матросов — в прошлом помощнику корсетника, за то что тот передразнивал его картавость. Дело удалось замять, но тот поганец поднял шум. Он был красным еще до того, как мы узнали, как это называется. Однажды он пнул Майка, когда думал, что никто на него не смотрит, но Ферз это заметил, и негодяю пришлось поймать головой комингс грузового люка. Впрочем, лучше от этого он не стал... Океанский лайнер водоизмещением в двадцать тысяч тонн прошел по линии горизонта, увозя измученных жаждой пассажиров. Мистер Гэллап сообщил его название, имя капитана и пару неприятных особенностей судна, которые проявлялись на определенной скорости и при некоторых маневрах. — Не сравнить вот с этим красавцем! — Он указал на судно с квадратным носом, чуть побольше буксира, которое рассекало белоснежным клином пены индиговое море. Адмирал выпрямился и признал в нем минный тральщик из Северного моря. — Это раньше он был тральщиком, — сказал мистер Гэллап. — А теперь — обычный паром. И ни разу за десять лет его не остановила погода! Капитан, глядя, как заслуженная посудина проходит мимо, невольно вздрогнул от воспоминаний. — Зато на нем сухо, — сказал он. — А мы жили в футе воды под ногами. Наши палубы текли как решето. Нам приходилось подпирать переборки палками от метел, и так почти каждый выход в море. Большая часть команды не привыкла к такой жизни, и оттого начались свары. Мне пришлось подтянуть гайки. Адмирал и мистер Вирджил кивнули. — А затем Чидден пришел ко мне и сообщил, что на нижней палубе растет недовольство тем, что Майк до сих пор в ранге юнги, хотя и проходил в море столько лет. Он сказал, что думает — нашим парням понравится, если пса повысят до матроса. Я спросил, кто подал такую идею. «Я, — ответил Сирил. — Мне кажется, это поможет «'азрядить обстановку». Я, естественно, велел ему проваливать к чертям и заниматься своими прямыми обязанностями. А затем официально известил команду, что в судовых документах Майк будет отныне значиться как матрос Малахия Дог{3}. Я находился на мостике, когда об этом оповестили вахтенных. Они ликовали. Полубак был залит водой, в камбузе, как всегда, не было огня, но они кричали и радовались. Вот вам и нижняя палуба! Мистер Вирджил энергично потер ладони, выразив тем самым согласие. — А Майк это понял, мистер Рэндольф? — Понял. Обычно он заранее вынюхивал, что на обед у команды. И если одобрял унюханное, то оставался присматривать за обедающими. А если нет — возвращался в кают-компанию за какой-нибудь там акулой с вустерским соусом. Еду он выпрашивал виртуозно. Но в тот день, когда его повысили до матроса, он прохаживался мимо тех, кто хлебал свое варево, с таким достоинством и гордостью неся свое маленькое тело, словно был дядюшкой адмирала, явившегося на судно с инспекцией. Между прочим, он был не больше, чем наша Лил. Когда мы в следующий раз зашли в порт для чистки котла, я заказал ему латунный ошейник со знаками различия: его именем и чином. Клянусь, за всю войну в Северном море не было ничего подобного. Матросы буквально дрались за право его начистить. О, из Малахии вышел отличный матрос, и он никогда, никогда не забывало приличиях... Мистер Рэндольф дважды повторил это «никогда» специально для Лил. — Ну, а потом наша большевистская птичка-корсетник начала петь о том, что на корабле, где с людьми обращаются, как с собаками, и наоборот, приличным людям нечего делать. Что в принципе было бы верно, будь это правдой, но приводило только к упадку духа и будило низменные чувства у экипажа. Понимаете? — Что угодно может стать причиной, когда находишься в неопределенном положении, — заметил мистер Вирджил. — И что же вы использовали в качестве коренного конца, чтобы удержать такелаж? — Вам это известно не хуже, чем мне, Вирджил. Старую команду — артиллериста, кока, старшего механика, торпедного старшину. Но всем нам было, конечно, чертовски не по себе. На старых миноносцах нет ни серьезных полубаков, ни приличной высоты бортов, ни офицерских помещений. Спать приходилось, уткнувшись носом в носки канонира — и все такое прочее. Помните эти калоши, сэр? Адмирал помнил — еще с тех времен, когда эпоха только начиналась. Мистер Гэллап впитывал услышанное — ведь его опыт войны ограничивался Фолклендскими островами, которые он посетил в составе призовой команды[106] немецкого парусника, захваченного на пути в Патагонию и отправленного на юг под командованием младшего лейтенанта, который не имел ни малейшего представления, что делать с парусами. Об этом он и рассказал, а мистер Рэндольф, уже слышавший эту историю раньше, принес на мостик обед, приготовленный еще дома миссис Вирджил. Мистер Гэллап закрепил румпель, чтобы шлюп мог спокойно идти своим курсом, пока они едят. Лил заработала свою порцию, показав несколько выученных ею в последнее время фокусов. — Дворняжки всегда считались самыми умными, — почти с вызовом заметил мистер Рэндольф. — Не стоит называть их дворняжками, — капитан потрепал дерзко торчащее ухо Лил. — Майк тоже был таким. Называйте их «полукровками». Чувствуете разницу? Румянец, напоминающий цветом тигровую лилию — явно унаследованный от предков с континента, — появился на смуглых щеках мистера Гэллапа. — Да, — сказал он. — Есть огромная разница между «дворнягой» и «псом со смешанной кровью». А спустя некоторое время они снова вернулись к рассказу капитана. Тот описывал все возраставшие трудности и тысячи проблем: чудом удавшиеся попытки избежать дружественного огня в густом тумане, встречи с подводными лодками противника, битвы с непробиваемой тупостью капитанов судов, которые им доводилось сопровождать, — и бесконечный каторжный труд, которого требовал старина «Мэйки-ду», чтобы оставаться в строю. А как раз это осложнялось морской безграмотностью и низким моральным уровнем матросов нового призыва. — Из всех нас один лишь матрос Малахия Дог держал хвост пистолетом. Он был самым ценным нашим ресурсом, не говоря уж о том, что служил мне грелкой на ночных вахтах. Я обычно заправлял его лапы в петли для пуговиц моего бушлата, а сверху накидывал сложенный вдвое плед. Нравилось ли ему это? Не знаю. Хочешь — не хочешь, а свое дело приходится любить. Таковы были его обязанности на борту — и этим все сказано. Но у него имелись и враги. Я, кажется, уже говорил, насколько он был щепетилен. И вот однажды пошли разговоры о том, что пес осквернил квартердек. Ферз доложил мне об этом, но с характерной оговоркой: «Прошу прощения, сэр, но с тем же успехом это мог быть любой из нас, но только не он».
Тогда я спросил малыша, что он может сказать в свою защиту, указав ему при этом на косвенные улики. Майк жутко обиделся. Я понял это по тому, как он напрягся, когда я в очередной раз взял его погреться. А Чидден — тот был уверен, что кто-то пытается подставить нашего Майка; к тому же он думал, что создание авторитетной следственной комиссии пойдет на пользу не только этому делу, но поможет уладить и парочку других проблем, возникших на корабле. Одна часть команды хотела, чтобы Майка понизили в чине на основании имеющихся доказательств. Они... — Это мне знакомо, — вздохнул мистер Вирджил, и его взгляд стал таким острым, словно пытался проникнуть через туманную завесу минувших лет. — А другая часть, — продолжал капитан, — желала найти того, кто подбросил эти, так сказать, косвенные улики, и закатать виновника в карцер. о время мы сопровождали минные тральщики — нервы все время на пределе, и всем было немного не по себе. Я понимал, к чему клонит Чидден, но не был уверен, что наш экипаж уже в достаточной степени просолился в море, чтобы серьезно отнестись к подобному расследованию. Но Чидден божился, что они вполне достойны. В конце концов я сказал: «Будь по-твоему. Я отказываюсь от своих прав хозяина пса. Дисциплина должна быть дисциплиной, так им и скажи. К тому же расследование поможет им слегка отвлечься». Проблема заключалась в том, что утро, когда было совершено преступление, оказалось туманным, и никто ни черта не видел. Майк, естественно, слонялся где хотел. Спал он со мной и Чидденом в кают-компании и, в соответствии с обычным распорядком дня, примерно около третьей склянки утренней вахты, то есть в половине шестого утра, просыпался, спрыгивал с наших животов и спешил наверх — посетить свою уборную. Однако улики были обнаружены на квартердеке в седьмом часу, а обвиняемый не мог дать показания в свою защиту. Так что следственная комиссия ползала по кораблю все то время, что мы прикрывали минные тральщики. Акватория этого района была буквально засеяна минами, мы находились слишком близко к побережью, захваченному фрицами. С нашей осадкой в семь футов мы были более или менее в безопасности, а вот крейсера огневой поддержки держались на границе района, избегая в него заходить. Фрицы несколько месяцев подряд замусоривали море, но большая часть мин успела оторваться от якорей, их разнесло течением во все стороны, и нашим специалистам приходилось вылавливать их, прочесывая море квадрат за квадратом. В другое время все были бы заняты поиском блуждающих мин — ох, видели бы вы как жутко покачиваются рога взрывателей, когда мину приподнимает волной! Она словно приветствует вас! Но пока велось расследование дела Майка, все сосредоточились на нем, а за борт поглядывали только в спокойные минуты... О, Майк все знал, мистер Рэндольф, будьте уверены! Он догадывался, что попал в беду. Обвинение мертвой хваткой вцепилось в доказательство и в особый цинизм, с которым было совершено преступление. Каким мог быть приговор? Разжалование в юнги, что привело бы к потере знака отличия — латунного ошейника. Когда Ферз снимал его, а Майк лизал его руку, Ферз плакал, как святой Петр... А после этого малыш кинулся на мостик, рассказать мне об этом, и я принялся его утешать. Он был маленьким песиком, измученным холодом и скверной кормежкой. Вы ведь знаете, как они не находят себе места и льнут к людям, когда им не по себе... Последние слова были обращены к мистеру Рэндольфу, но согласились с ними все без исключения. — А затем наши люди отправились обедать, и все головы были заняты только мыслями о преступлении. Те, кто не любил Майка, перенесли свое недовольство и на меня. — Зачем же вы это позволили? — поинтересовался адмирал. — Чтобы отделить агнцев от козлищ, сэр. То было особое время... Мы шли вторыми, следом двигались «Хау-кам» и «Фан-квай», а наш флагман, «Хоп-хелл», в голове колонны. Командовал нашим соединением Уизерс. Мы называли его «Джосс»[107] за его поистине дьявольское везение. Стоял полный штиль, вокруг неподвижно висели клочья тумана, но наши тральщики закончили работу в срок. Пока мы сопровождали их обратно к крейсерам, Джосс получил радиограмму о том, что с воздуха замечена подводная лодка противника, поднявшаяся на поверхность к северо-востоку от ас для перезарядки аккумуляторов. Он отправил «Хау-кам» и «Фан-квай» сопровождать тральщики, а мы с ним отправились взглянуть на субмарину. Корабли то ныряли в туман, то выныривали из него — двухмильная видимость сменялась плотной, как повязка на глазах, мглой; бледный кружок солнца вверху казался вырезанным из листового цинка... И вот, в очередной раз выскочив из полосы тумана, мы увидели подводную лодку с отдраенными люками и людей на ее палубе. До нее было меньше мили по левому борту. Мы развернулись к ней носом, и, как только перед нами оказался ее надводный борт, я увидел, как «Хоп-хелл» «посылает привет» — выпускает торпеду. Мой артиллерист мгновенно последовал его примеру. Слава небесам, торпеды прошли мимо по носу и корме лодки, а стоявший на палубе человек начал махать нам раскрытым зонтиком, как старая горничная, останавливающая автобус. От этого нам пришлось тормозить буквально на заду, да будет мне позволено так выразиться. Потом человек на палубе бросил зонтик и заорал: «Что же это вы, проклятые придурки, творите?» То был капитан Конолли, и кто-то из его команды говорил нам потом на берегу, что зонтик этот служил ему личным опознавательным знаком. Вот потому-то мы и не прикончили его тогда вместе с его субмариной. А сам он сообщил нам, когда мы оказались рядом, что рискнул этой ночью подойти слишком близко к берегу, после чего за ним немного погонялись эсминцы, и он был вынужден лечь на дно, где слышал, как три или четыре крупных корабля прошли прямо над ним. Он указал координаты этого места, и мы постерегли его, пока он не закончил подзарядку, после чего он погрузился и ушел в подводном положении, добавив напоследок, что ближе к берегу туман еще гуще, но там явно что-то происходит. Ну, мы и двинулись дальше по наводке Конолли... Да, и еще: артиллерист Джосса вечно похвалялся тем, что в его башке хранятся силуэты всех немецких судов, и клялся, что лодка Конолли с виду была точной копией какой-то их чертовой субмарины. Потому якобы он и стрелял. Джосс тогда спустил с него шкуру, что, впрочем, никак не повлияло на то печальное обстоятельство, что у нас осталось всего по одной торпеде... Затем Джосс круто повернул к берегу, а я заметил в носовой волне отблеск чего-то похожего на рога мины; но это оказались лишь три или четыре пустые бутылки из-под немецкого белого вина, а мы его в море почти никогда не пили. Мистер Рэндольф и мистер Гэллап улыбнулись. В мире было не так уж много напитков, не знакомых жителям острова Святого Стефана — будь они в бутылках, бочках или на разлив. Капитан продолжал: — Затем Джосс попросил меня подойти поближе и, так сказать, «подержать его за руку», потому как он нервничал. Тут капитан принялся объяснять, как при правильном распределении кранцев[108], умелом рулевом на вахте и относительно спокойном море миноносцы некоторых типов могут некоторое время идти борт о борт. При этом их капитаны могут вести вполне конфиденциальный разговор. Закончил он словами: «Мы состыковали наших старичков, как пару сампанов». — Вы, молодежь, считаете, будто сами изобрели навигацию, — заметил адмирал. — А у кого вы украли свои кранцы? — Не мы, а один дружок Чиддена в порту, сэр. Он был самым прожженным вором среди капитанов третьего ранга. Торпедные катера береговой охраны — не лучшая школа... Так мы и продолжали путь — мостик к мостику, — беседуя в свое удовольствие. Джосс, между прочим, заявил, что эти винные бутылки и большие корабли, которые прошли над Конолли, вызывают у него некоторые подозрения. Мы шли по мелководью, более или менее учитывая направление течений. Но не особо спешили, и незадолго до заката заметили на воде очередную стайку винных бутылок. Майк засек их первым. Он обычно тыкался своим маленьким носом мне под подбородок, если ему казалось, что я что-то упустил. А потом туман стал непроглядным, и в эфире начался в полном смысле слова кошачий концерт. Джосс сказал, что звучит это так, словно фрицев отправили в рейд с молниеносным ударом и быстрым отходом от цели, а значит, если туман удержится, мы можем здесь пригодиться. Он сказал, что лучше бы мне передать ему оставшуюся торпеду, потому что собирался сам идти в атаку — испытать в очередной раз свою удачу. Мои пушки, как всем было известно, не стоили доброго слова. Поэтому торпеду мы передали и двинулись дальше. К тому времени мы перешли на самый малый ход, потому что из-за тумана не могли разглядеть даже вытянутую руку, и тщательно прислушивались. В тумане слышно далеко. — Это так, — кивнул мистер Гэллап, — но ориентироваться совершенно невозможно. — Верно. И порой начинает казаться, будто что-то слышишь, а что это — одному богу известно. Так было и тогда, но Майк снова начал тыкаться носом мне в подбородок. Его слух нас ни разу не подводил. Я передал это Джоссу, и пару минут спустя до нас донеслись голоса — казалось, что до них несколько миль. Джосс сказал: «Это тот самый сеятель бутылок. Рыщет по проливу. Надеюсь, он слишком занят своими делами, чтобы о нас беспокоиться, но если туман поредеет, нам придется пожалеть, что мы не парочка субмарин». Я поплотнее «застегнул» Майка у себя на груди и на всякий случай укутал пледом, а те голоса зазвучали вновь — на этот раз сверху, буквально над моей головой. Затем что-то громадное двинулось задним ходом, затем самым малым вперед... и оба его винта остановились. Джосс прошептал: «Он прямо над нами!» Я ответил: «Пока еще нет. Майк чует его... ага, по правому борту!» Малыш снова высунул нос из пледа, нюхал воздух и толкал меня в подбородок... А затем, богом клянусь, этот тип выдвинулся откуда-то сзади по правому борту. Мы не могли его рассмотреть целиком, но чувствовали, как он дрейфует под слабым ветром, слышали его кислый горячий запах. Кто-то громко докладывал на мостик замеренную лотом глубину. Полагаю, они там думали, что уже практически дома. Тут Джосс прошептал мне: «Давай вперед — и прижимайся к нему, пока не услышишь мой сигнал. А затем отвлеки его. Вторую торпеду я буду направлять по огню его батарей, когда он попробует тебя достать». Он отошел, а я медленно двинул миноносец вперед — так дьявольски медленно! Шайд потом клялся, что в самый последний миг различил очертания вражеской кормы и едва сумел спасти наш правый винт. У меня в ту минуту чуть сердце не остановилось. А потом я услышал, как правые кранцы с визгом трутся о его борт, — а мы оказались вплотную к сеятелю бутылок! Теоретически считается, что если вот так прижаться к большому кораблю, он не сумеет опустить ни орудия, ни пулеметные установки, чтобы тебя достать. Мистер Гэллап снова улыбнулся. Ему случалось видеть подобные игры багамских катеров с иностранными военными судами. — Забавно было прятаться под нависающим бортом и слышать, как бьется сердце большого корабля. Работала трюмная помпа, ворочались винты, звенели склянки машинного телеграфа в машинном отделении, какой-то чертов бедолага заходился кашлем. Не знаю, сколько это длилось, но все эти жуткие минуты фрицы занимались своими делами прямо у нас над головой. Я отправил Шайда на корму к румпель-талям — руль мог нам вот-вот понадобиться, — а Чиддена поставил к двенадцатифунтовой пушке на мостике. Мой канонир занялся шестифунтовыми на носу, а я удерживал «Мэйки-ду» прижатым к борту нашего заклятого друга. А затем я услышал крик Джосса и сразу же — оглушительный грохот. Первая торпеда поразила цель. Мы вогнали в корабль три выстрела из двенадцатифунтовых, а шестифунтовые вспороли беззащитный борт почти в упор, когда между нами не было и пятнадцати футов. А затем весь экипаж бросился на корму. От моей единственной торпеды здесь все равно не было бы толку — она ударила бы в корпус вражеского судна прежде, чем ее хвост выбрался бы из трубы торпедного аппарата. Тут корабль очнулся и шарахнул всеми батареями правого борта, но их стволы не удалось опустить достаточно низко, чтобы нас накрыть. Впрочем, нам хватило самой вспышки залпа. Нас оглушило, выбило из нас дух и отшибло мозги. Мостик и двенадцатифунтовую пушку взрывная волна кучей сгребла к правому борту, верх передней трубы снесло, и она раскрылась, как тюльпан. Затем грянул второй залп, и из нас снова вышибло дух. Заметьте — мы оглохли еще от первого, поэтому слышать ничего не слышали, зато чувствовали! А потом нас швырнуло в сторону — словно корова лягнула всеми копытами, и я уже решил, что нам конец. Появилось странное ощущение рвущейся шерстяной ткани — ощущение, не звук, — и я увидел еще одну вспышку главных орудий над головой под углом градусов в тридцать. Мы немного передвинулись к носу чужого корабля. Это был единственный момент, когда я смог хоть что-нибудь разглядеть!.. Спустя некоторое время мы решили оценить масштабы наших проблем. Обломки мостика лишили нас большей части правого борта. Все было затянуто дымом из разбитой трубы, некоторые штаги порвались, радиорубку сплющило, компасы спятили, спасательные плоты и все, что не было закреплено, оказалось за бортом, палубные люки либо заклинило, либо искорежило. Но потерь у нас не было. Кое-кого, конечно, контузило или ушибло, почти у всех шла кровь из носов и ушей. И еще — мы тряслись, как паралитики, и довольно долго. Шок, я полагаю. — А Майк? — спросил мистер Рэндольф. — О, с ним все было в порядке. Все это время он провел, запустив зубы в мой плед. А сразу после этого он кинулся в кают-компанию и вылакал несколько пинт воды. Потом попытался лапами счистить с языка привкус пороховой гари. Затем ему понадобилось оправиться, но оказалось, что его личную уборную начисто снесло. Он был крайне опечален и поведал об этом Ферзу, а тот проорал мне в ухо: «Вот оно, доказательство того, что он не мог испортить квартердек, сэр! Если кому-то и нужно подтверждение его порядочности, сейчас самое время. Он же требователен в этом отношении, как герцогиня... И нечего смеяться, сэр!» — Прошу прощения! — вмешался адмирал. — И как же вы справились с его требовательностью? — Я выдал ему особое разрешение нарушить чистоту палубы. Но за то, что я при этом смеялся, он стал рычать на меня, как молодой тигр... Можете не верить, но это факт. Пять минут спустя весь корабль снова гудел по поводу Майка. Они трудились, как бобры, устраняя нанесенный нам ущерб, и во все горло орали про пса. Вот вам и салаги! В конце концов мы выбрались из тумана, и это было похоже на шествие по длинному-предлинному туннелю. Я удалялся от берега, более-менее ориентируясь по глубинам, пока не сумел разглядеть вверху звезды. Немного поспорив, мы решили, что Джосс поступит точно так же, и решили подождать его, пока команда отпиливала то, что осталось от мостика, и укрепляла трубу. Штиль все еще продолжался, прибрежный туман тянулся, насколько хватало взгляда, и стоял неподвижно, будто гряда утесов. И действительно, едва забрезжил рассвет, как Джосс вынырнул из тумана в трех-четырех милях от нас и пошел на сближение, готовя буксирные тросы. Мы и в самом деле выглядели как навозная баржа. Я просигналил, что мы в порядке и готовы делать тринадцать узлов, что было, конечно, наглой ложью. Вот... а после этого мы двинулись дальше, выстроившись кильватерной колонной. Джосс уселся на устройстве для сбрасывания глубинных бомб на корме и стал семафорить мне на полубак о том, что произошло. Первым же торпедным выстрелом он попал в левый борт сеятеля бутылок. Вторым разнес носовой орудийный погреб, но в радиограмме сообщил об этом, как о выстреле с моего борта. Немецкий корабль как раз обозначил себя вспышками в тумане, так что прицеливание было простым — с сотни ярдов, не больше. Что с ним было дальше, мы так и не узнали... За последние несколько минут ветер и волны заметно усилились. — Ладно, — сказал наконец мистер Гэллап. — На сегодня наши прогулки закончены. Но мистер Рэндольф, согласно приказу миссис Вирджил, отданному еще перед выходом в море, вынес на палубу непромокаемые плащи — на случай, если шлюп начнет основательно болтать на полном ходу. — И что же было потом? — спросил он. — Потом мы проследовали дальше. Джосс сигнальными флажками рассказывал мне новости, а экипаж был занят нашей трубой и мелким ремонтом. Однако споры по делу Майка продолжали разгораться и достигли небывалой силы. К тому же нас всех до сих пор трясло. — А где был Майк? — спросил мистер Рэндольф, когда волна, которую рассек шлюп, прокатилась по палубе. — Служил мне горжеткой на полубаке и рассказывал о своих подвигах. Он никогда не лаял, зато умел выразительно ворчать, как пекинес. Потом Джосс вдруг сменил курс. Я подумал, что это из-за мин, но затем мы прошли мимо какого-то бородатого бандита, который покачивался на волнах в спасательном круге, уронив голову на руки и скалясь, как пьяный в пабе... Вполне мертвый... И ведь сколько раз я замечал — невозможно предугадать, как и на что среагирует нижняя палуба. Они уставились на мертвеца, и наш кок сказал, что тот выглядит как пьяный. Вот и все. А потом Ферз вдруг проскрипел: «Богом клянусь, на его месте мог оказаться любой из нас! — И вдруг продолжил, как священник во время свадебной церемонии: — Поскольку все вы обязательно дадите ответ в день Страшного суда, когда откроются все сердечные тайны, я требую от вас и настаиваю: скажите, какой чертов подонок подбросил эти улики против Малахии? И не забывайте — тот малый в воде вас слышит!» Звучит смешно, но тогда меня просто морозом по спине продрало. И я услышал, как тот чертов большевик-корсетник лопочет, что просто пошутил, мол, вовсе не думал, что все это будет воспринято так серьезно. А затем у трубы началась потасовка, но я, естественно, был очень и очень занят, обмениваясь сообщениями с Джоссом. Когда я не спеша отправился на корму, над Ферзом стоял старшина команды кочегаров, а Чидден и Шайд оттесняли небольшую толпу, жаждавшую крови большевика. Сирил тоже не остался в стороне от потасовки. Мне показалось, хоть я и не стал бы присягать на суде, что старшина кочегаров подцепил башмаком какой-то нож и отправил его за борт. — Нож! — шокировано воскликнул адмирал. — Да, столовый нож, сэр, с хорошо отточенной кромкой. Ферз десять лет прослужил на Лестер-сквер официантом или подавальщиком, и набрался всяких тамошних штучек. К тому времени, как я добрался до этой группы, они так и дергались, словно марионетки, потому что никто из нас еще не справился с трясучкой после контузии... Я не стал ничего предпринимать. Я был уверен, что те двое, которым досталось от Чиддена, станут на него жаловаться. Большевик жив, а наш старшина кочегаров своевременно избавился от улики против Ферза. Учитывая ситуацию, я даже пожалел нашего большевика... Позже Чидден пришел ко мне в кают-компанию и сказал, что тот просит «сег'егации»[109] ради собственной безопасности. О да, он был безусловно виновен в том, что попытался подставить Майка. Но я сказал, что не смогу выдвинуть этой свинье официальных обвинений за очернение собачьей репутации, зато восстановлю Майка в должности и повышу его, из чего нижняя палуба сделает свои выводы. — Тогда они прикончат нашего большевика, — сказал молодой человек. — Нет, Сирил, — ответил я. — Они будут пугать его до смерти, но топить не станут. Чем он там сейчас занимается? — Восстанавливает Майкову убо'ную, а Шайд и Ферз висят над ним и скалятся. — Значит, он в безопасности, — сказал я. — Я отправлю Майка наверх, пусть посмотрит, все ли его устраивает. А что насчет Докинза и Прэтта? Именно этих двоих Сирил успел оглушить, пока старшина кочегаров остужал пыл машинного отделения. Те тоже не любили большевика. — Вертятся и шантажируют! — ответил он. — Я сказал им, что спас их от виселицы, но теперь они требуют ужин на всех, как только вернемся в порт. — А что вообще делал старшина кочегаров делал на верхней палубе? — спросил мистер Вирджил, нахохлившись под холодными брызгами. — Присматривал за дисциплиной. Наш был на все руки — мог починить все, что угодно, от часов в кают-компании до камбузной плиты, а заодно сделать настоящего моряка из всего, что ходит на двух ногах... Как, собственно, и вы в свое время, мистер Вирджил... Ну что ж, миноносец двигался дальше, и когда Чидден доложил, что «те'ито'ия» готова к использованию по назначению, я отправил Майка ее опробовать. — А Майк понял? — спросил мистер Рэндольф. — Не спрашивайте, понял он или нет, иначе сочтете меня лжецом. После того как Чидден сообщил команде, что я повысил майка до мичмана{4} «за выдающуюся отвагу и предоставление ценной информации о местоположении противника», наш большевик публично принес мистеру Малахии Догу извинения, а Ферз снова надел на него ошейник. Заодно я присвоил новое звание и большевику. Капитан произнес его, это звание — вполне самоочевидное, хотя вряд ли его согласились бы носить в течение хоть одного дня даже худшие из худших на службе его величества. — Оно разнеслось по всему флоту, — капитан повторил его, пока остальные заливались тем грубым хохотом, который недоступен пониманию женщин. — И малый остался на судне? — спросил мистер Вирджил. — Я знавал одного кочегара на старом «Минотавре» — тот перерезал себе горло за гораздо менее обидное прозвище. они порой странно реагируют на подобные вещи. — Он остался с нами, живым и здоровым, хоть и несколько поменял свои убеждения. — Видал я и такое в свое время, — согласился мистер Вирджил. Адмирал кивнул сам себе, а мистер Гэллап приподнялся у румпеля, глядя из-под переднего паруса и готовясь провести шлюп там, где коралловый риф был так же неумолим к малейшим ошибкам, как лапа голодного тигра. Через полчаса они пересекли пролив, а через час миновали огромный круизный лайнер, который только что пришвартовался и теперь выпускал на берег измученных жаждой пассажиров — к лавкам со спиртным, смотревших витринами на гавань. Те, кто не мог выдержать четыре с половиной минуты пешей прогулки до бара ближайшего отеля, уже врывались туда и выходили, откупоривая только что купленные бутылки виски. Мистер Гэллап, слегка потеряв скорость при входе в гавань, наверстал упущенное, проскользнув под мангровыми деревьями к лодочному сараю. — Не знаю, сумел ли я показать вам, какими они были, мои парни, — в заключение сказал капитан. — Я, случалось, говорил им, что они — худший мусор из того, что сумели сгрести на пляже. В некотором смысле так оно и было. Но поймите меня правильно. Когда доходило до дела, они становились солью земли — самой солью господней земли, — чтоб им пусто было, морским демонам!.. Впрочем, сейчас это уже совсем не так важно, да и от нашего флота осталось не так уж много.
ХЛЕБ, ОТПУЩЕННЫЙ ПО ВОДАМ
Если вы помните моего недостойного дружка Бругглсмита, вы наверняка не забыли и его приятеля Макфи, старшего механика с «Бреслау», чей ялик Бругглсмит как раз и пытался украсть. За плечами у Макфи были тридцать два года изучения механизмов и нравов кораблей. Одна сторона его лица была изувечена взрывом манометра еще в те времена, когда люди гораздо меньше знали о принципах измерения давления; нос гордо вздымался над шрамами, как полицейская дубинка над общественными беспорядками. Вся его голова была покрыта рубцами и шишками, и он имел привычку хватать ваш палец и проводить им по своим коротким седеющим волосам, повествуя, как именно он получил ту или иную отметину. Он обладал всеми мыслимыми сертификатами повышения квалификации, а в нижнем ящике комода, где он хранил фотографию жены, лежали две или три медали Королевского гуманистического общества за спасение жизни на море. С профессиональной точки зрения (правда, когда обезумевшие пассажиры третьего класса толпами прыгали за борт, все выглядело иначе) — так вот, с этой точки зрения Макфи не одобрял спасения жизней на море и частенько говорил мне, что ад с распростертыми объятиями ждет кочегаров и их помощников, которые нанимаются на судно ради хорошего жалованья, чтобы на третий день службы свалиться с каким-нибудь недугом. Он свято верил в воспитание четвертого и пятого механиков посредством метко брошенного сапога, когда те будили его среди ночи воплем, что якобы подшипники главного вала раскалились докрасна — и только потому, что неверный свет качающейся лампы окрашивал в красноватый тон работающий металл. Он считал, что в мире существуют всего два достойных поэта: Роберт Бернс (а как же иначе!) и Джеральд Мэсси[110]. Когда у него появлялось время для книг, он читал Уилки Коллинза и Чарльза Рида[111], чаще последнего, — и знал наизусть целые страницы из «Трудных денег». В кают-компании его место было рядом с капитаном, но пока работали двигатели, Макфи пил только воду. Он был добр ко мне с первой встречи: я не задавал дурацких вопросов и считал Чарльза Рида недооцененным писателем. Позже он даже одобрил мои тексты, в частности, один двадцатичетырехстраничный памфлет, который я написал для «Холдока, Стейнера и Чейза», владельцев пароходной компании, когда они приобрели патент на новую вентиляцию и установили ее в каютах «Бреслау», «Шпандау» и «Кольтцау». Пассажирский помощник с «Бреслау» рекомендовал меня секретарю мистера Холдока, который, будучи методистом, пригласил меня к себе и устроил для меня обед с гувернанткой, когда все остальные уже покончили с обедом, затем вложил мне в руки планы и спецификации, и в тот же вечер я накатал означенный памфлет. Он назывался «Уют в каюте» и принес мне семь фунтов и десять шиллингов — весьма значительную по тем временам сумму, а гувернантка, учившая младшего Джона Холдока арифметике и чистописанию, поведала мне, что миссис Холдок просила ее присмотреть за мной на тот случай, если я решу стащить с вешалки в прихожей чужое пальто. Макфи очень понравился мой памфлет, исполненный в византийском стиле с украшениями в духе барокко и рококо; и позже он представил меня миссис Макфи, а та заняла в моем сердце место, которое прежде принадлежало Дине. Супруги жили в маленьком домике, снимая его за двенадцать фунтов в год, неподалеку от конторы пароходства. Когда Макфи не было дома, миссис Макфи читала в газетах колонку агентства Ллойда и приглашала к себе жен старших механиков или равных им по социальному положению дам. Пару раз сюда наведывалась с визитом и миссис Холдок — в одноконном экипаже с целлулоидными накладками на бортах, и у меня есть все основания полагать, что, некоторое время поизображав прилежных и чопорных супруг своих мужей, они переходили к злословию и сплетням. Холдоки жили примерно в миле от Макфи в старомодном особняке с большим садом, обнесенным кирпичной стеной. Летом их одноконный экипаж можно было увидеть торжественно тарахтящим по Тейдон или Лоутону. А я был просто другом миссис Макфи, и она позволяла мне сопровождать ее в поездках в западную часть города, а иногда даже в театры, где всхлипывала, смеялась или трепетала со всей искренностью простодушного сердца. Именно она ввела меня в совершенно новый мир — мир жен судовых врачей, капитанов и механиков, чьи мысли и разговоры вертелись вокруг таких кораблей и морских маршрутов, о которых вы наверняка даже не слышали. Там шла речь о парусниках со стюардами в кают-компаниях и салонами из красного дерева и клена, ходивших в Австралию с грузами, а заодно бравших на борт (разумеется, согласно рекомендациям врачей) больных туберкулезом и безнадежных пьяниц. О грязных малотоннажных западноафриканских шхунах, кишащих крысами и тараканами, на борту которых люди умирали как угодно, только не в своих койках, о бразильских судах, где подчас товар перевозили даже в арендованных для этой цели каютах, и они выходили в море, рискуя вот-вот перевернуться, о занзибарских и маврикийских пароходах, о замечательных, заново отреставрированных яхтах, лавировавших среди течений в окрестностях острова Борнео. Мы знали их и любили, поскольку они помогали нам заработать на хлеб и масло к этому хлебу, а большие атлантические лайнеры мы просто высмеивали и рекомендовали всем те суда, что принадлежали владельцам мелких компаний, будь они методистами, баптистами или пресвитерианами.Едва я вернулся в Англию, как миссис Макфи пригласила меня отобедать — как обычно, в три пополудни, прислав записку на свадебно-кремовой визитной карточке. Еще только подходя к их дому, я заметил новые занавески на окне, стоившие никак не меньше сорока пяти шиллингов за пару, а миссис Макфи, провожая меня в маленький холл, оклеенный обоями под мрамор, проницательно на меня взглянула и воскликнула: — Неужто вы ничего не слышали? А как вам наша новая вешалка для шляп? Вешалка оказалась из дуба — минимум за тридцать шиллингов. Сам Макфи, громко топая, спустился по лестнице на судне он двигался беззвучно, как кот, несмотря на свой вес, — и мы обменялись рукопожатиями в той жесткой мере, которую механик позаимствовал у старого Холдока, — тот вечно прощался со своими шкиперами, выламывая им руки. Я подумал про себя, что он, должно быть, получил наследство, но сохранял спокойствие, хотя миссис Макфи каждые тридцать секунд принималась умолять меня побольше есть и не отвлекаться. Обед прошел в атмосфере легкого безумия, поскольку Макфи и его жена все время держались за руки, как маленькие дети, кивали друг другу, подмигивали, давились смехом и едва прикасались к тарелкам. Наконец вошла прислуга и остановилась, ожидая хозяйских распоряжений. И это при том, что миссис Макфи не раз и даже не десять повторяла при мне, что, пока она в силах, никому не будет позволено делать вместо нее домашние дела. И вот вам — горничная в чепце ждет приказаний, а миссис Макфи все раздувается и раздувается от собственной значительности в своем новехоньком мареновом платье. Для Джанет Макфи не существовало полутонов, как их не было и в ее новом наряде. В этой обстановке необъяснимой гордости и скрытого ликования я чувствовал себя так, словно таращусь на фейерверки, не зная, по какому поводу устроено празднество. Когда служанка убрала со стола, на нем появился ананас, стоящий полгинеи в это время года, ваза из кантонского фарфора с сушеными личи[112] и хрустальная тарелка с маринованным имбирем, а также баночка с великолепными первоклассными пикулями, распространявшими обворожительный аромат. Макфи получал их от одного голландца с Явы, и мне всегда казалось, что тот маринует их в виски или роме. Но вершиной трапезы была мадера той марки, которую можно добыть, лишь хорошо разбираясь в винах и зная нужных людей. К вину прилагалась плетенка из кукурузных листьев с сигарами с той же Мадейры, и конец обеда прошел в молчании и клубах синеватого дыма. Джанет во всем своем великолепии то и дело улыбалась нам и поглаживала Макфи по руке. — А сейчас мы выпьем, — наконец провозгласил Макфи, потирая подбородок, — за то, чтобы вечное проклятие пало на головы Холдока, Стейнера и Чейза! Я, естественно, ответил «Аминь», хоть и получил от этой троицы семь фунтов и десять шиллингов наличными. Враги Макфи были моими врагами, к тому же я пил его мадеру. — Вы ничего не слышали? — снова спросила Джанет. — Ни слова, ни шепотка? — Ни слова, ни шепотка. Клянусь! — Скажи ему, Мак, — кивнула она. И это было очередным проявлением ее безграничной доброты и супружеской любви. Женщина с более низменным характером разболтала бы все сама, но в Джанет было пять футов и девять дюймов даже без каблуков. — Мы богаты, — сказал Макфи. Я пожал обоим руки. — Мы чертовски богаты, — добавил он. Я пожал их руки еще раз. — Мне больше не придется выходить в море, разве что на собственной яхте с маленьким вспомогательным мотором. — На яхту нам не хватит, — вмешалась Джанет. — Мы действительно довольно богаты, вернее, состоятельны, но не более того. Новое платье для церкви и еще одно — для выездов в театр. — Сколько же у вас денег? — полюбопытствовал я. — Двадцать пять тысяч фунтов. Я с трудом перевел дыхание. — А мое жалование составляло двадцать-двадцать пять фунтов в месяц! Последние слова Макфи буквально проревел, словно весь мир состоял в заговоре против него. — Я все это время отсутствовал, — сказал я. — И не знаю ничего, что произошло с прошлого сентября. Это наследство? Кто-то оставил их вам? Они в один голос рассмеялись. — Их нам оставили, — наконец выговорил Макфи, все еще давясь смехом. — Ох, не могу... оставили! Вот это здорово... Конечно, оставили! Джанет, ты слышала? Нет, если ты вставишь это в свой памфлет, выйдет очень забавно... Оставили!.. — Тут он хлопнул себя по бедру и захохотал так, что вино задрожало в графине. Шотландцы — отличные люди, но у них есть неприятная черта: они слишком долго застревают на одной шутке, в особенности, если никто другой не смог ее понять. — Когда возьмусь переписывать, непременно вставлю, Макфи. Вот только сначала неплохо бы побольше узнать о деле. Макфи предавался размышлениям примерно половину сигары, а Джанет в это время жестом привлекла мой взгляд и как бы провела его по комнате — от одной новой вещи к другой. Новый узорчатый ковер, новые, хоть и грубовато сработанные часы с боем между моделями колумбийских яхт с балансирами, новый буфет с инкрустациями, на котором располагалась новая же пурпурная жардиньерка, новая каменная решетка из позолоченной латуни и, наконец, — новое, черное с золотом, пианино. Тем временем Макфи начал: — В октябре прошлого года правление компании отправило меня в отставку — как только «Бреслау» встал на зимний ремонт. Он провел в море восемь месяцев — двести сорок дней, — и я уже три дня занимался документами к тому моменту, как его перевели в сухой док. При всем при этом, по документам выходило, что компания должна мне меньше трех сотен фунтов — а если точнее, двести восемьдесят шесть фунтов и четыре шиллинга. Никто другой не стал бы восемь месяцев нянчиться с «Бреслау» за такую сумму. Нет, никогда, никогда больше! Пусть хоть потопят все свои корабли, мне на них плевать!.. — Незачем так говорить, — мягко напомнила Джанет. — Мы ведь уже покончили с Холдоком, Стейнером и Чейзом. — Это меня бесит, Джанет, просто бесит. Я был прав от первого до последнего слова, весь мир тому свидетель, но я не могу простить им. «И оправдана мудрость всеми чадами ее»[113]; любой другой на моем месте затребовал бы добрые восемь сотен. Нашим шкипером был Хэй, вы с ним знакомы. Его перевели на «Торгау», и заставили меня ждать «Бреслау» под командованием сопляка Баннистера. К слову, в то время были очередные выборы в правление компании. Я слышал, что акции продавали кому попало, и теперь большинство членов совета директоров были мне незнакомы. Старый совет никогда бы так не поступил. Они мне доверяли. Но в новом совете все проголосовали за реорганизацию. Юнец Стейнер — сын старого Стейнера — стоял у истоков этого безобразия, и они даже не потрудились поставить меня в известность. Первое, что я узнал как старший механик, было расписание зимних рейсов, где «Бреслау» поставили шестнадцать дней между портом и портом! Шестнадцать дней, вообрази! «Бреслау» хороший корабль, но и в летнее время ему требуется на это восемнадцать дней. А шестнадцать — просто смехотворная чепуха, так я и сказал мальчишке Баннистеру. — Придется уложиться, — ответил он. — Наверно, не стоило отправлять им счет на триста фунтов. — А они что, хотят, чтоб их корабли по воздуху летали? — спросил я. — Совет спятил. — Вот им это и скажи, — был ответ. — А я женатый человек, у меня четвертый ребенок на подходе. — Рыженький мальчуган, — добавила Джанет. Кстати, ее собственные волосы были того чудесного медно-золотого оттенка, который обычно достается женщинам вместе со сливочной кожей. — Клянусь, в тот день я был на редкость зол! А поскольку я нежно любил старый «Бреслау», то рассчитывал на некоторое внимание со стороны совета после двадцати лет беспорочной службы. В среду как раз предполагалось заседание, а перед тем я провел ночь в машинном отделении, собирая, так сказать, свидетельства для поддержки моего дела. А потом все им и выложил — прямо в лоб. «Джентльмены, — говорю, — я водил «Бреслау» восемь сезонов и считаю, что с работой справился безупречно. Но если вы решитесь утвердить это, — я помахал перед ними расписанием, — то, клянусь своей профессиональной репутацией, корабль не справится. Можно, конечно, попытаться, но с такими рисками, от которых любой, у кого осталась голова на плечах, просто сбежит». «А за что, по-вашему, мы платим вам надбавки? — спросил старый Холдок. — Мы же вливаем в «Бреслау» деньги, как воду в решето!». «Пусть совет решит, — ответил я, — кажутся ли ему непомерной суммой двести восемьдесят семь фунтов за восемь месяцев». Я мог бы ничего этого не говорить. Совет целиком обновился, и теперь в нем сидели проклятые судовые поставщики, глухие к слову Писания и жадные к дивидендам. «Мы должны доверять обществу», — сказал младший Стейнер. «Лучше бы вы доверяли «Бреслау», — сказал я. — Он верно служит вам, как до того служил вашему отцу. Ему необходимо заново укрепить киль, нужны новые палгуны и чистка передних котлов, расточка всех трех цилиндров и перешлифовка всех направляющих. И это только начало. Работы с ним на три месяца». «Только потому, что один из работников чего-то испугался?» — спросил этот Стейнер. Я тогда сломал козырек фуражки, которую держал в руках, и возблагодарил Бога за то, что у нас с Джанет нет ребятни и отложено немного деньжат. «Поймите, джентльмены, — сказал я. — Если «Бреслау» станет шестнадцатидневкой, вам понадобится другой механик!» «Баннистер не возражает», — сказал Холдок. «Я говорю о себе, — ответил я. — У Баннистера дети». А потом я слетел с тормозов и объявил: «Можете гонять судно хоть в ад и обратно, пока платите лоцманам, но только без меня». «Какая дерзость!» — возмутился младший Стейнер. «Да хоть бы и так», — сказал я, уже разворачиваясь, чтобы уйти. «Считайте себя уволенным. Мы обязаны поддерживать дисциплину в рядах наших служащих», — проквакал старый Холдок, и оглянулся, чтобы проверить, поддерживает ли его совет. Они ничего не ведали, прости их господи, и согласно закивали, выгоняя меня из пароходства после двадцати лет верной и преданной службы. Я вышел и плюхнулся на скамью неподалеку от швейцара, чтобы прийти в себя. Кажется, я поносил совет директоров последними словами. А потом старый Макриммон из «Макнахтен и Макриммон» вышел из своего кабинета, который расположен на том же этаже, и взглянул на меня, приподняв пальцем одно веко. Ты же знаешь его прозвище — Слепой Дьявол, хотя он ничуть не слеп и вовсе не показался мне дьяволом, когда имел дело сомной... Ему принадлежит «Блэк Берд Лайн», если помнишь. «Что случилось, мистер Макфи?» — спросил он. А я к тому времени был уже в трансе. «Старшего механика вышвырнули после двадцати лет службы за то, что он не рискнул гнать «Бреслау» по новому расписанию. Прикиньте, Макриммон», — брякнул я. Старик пожевал губами и присвистнул. «Ох, — сказал он. — Новое расписание. Понятно!» И проковылял в зал собраний, из которого я только что вышел, а его терьер Денди, служивший старику поводырем, остался со мной. То была усмешка судьбы. Через минуту он вернулся. «Вы отпустили свой хлеб по водам[114], Макфи, и черт с ним, — сказал он. — Где мой пес? Надо же, у вас на коленях... Он, кстати, разбирается в людях получше этого Стейнера. Что вы там наплели совету, Макфи? Это дорого вам обойдется». «Бреслау» обойдется им дороже, — ответил я. — Слезай с моего колена, тварь вонючая!» «Подшипники перегрелись, а? — сказал Макриммон. — Уже тридцать лет прошло с тех пор, как кто-то в последний раз позволил себе сквернословить мне в лицо. Было время, когда я б вас за такое дело с лестницы спустил». «Да уж, простите великодушно!» — сказал я, поскольку знал, что ему уже не меньше восьмидесяти. — Я ошибся, Макриммон, но когда человеку указывают на дверь лишь за то, что он исполняет свой долг, непросто сдержаться». «Да уж, слышал, — говорит Макриммон. — А есть ли у вас возражения против трампового грузового парохода? Всего пятнадцать фунтов в месяц, но не зря же говорят, что Слепой Дьявол кормит своих людей лучше прочих. Это мой «Кайт». Приглашаю. Можете поблагодарить терьера, а я не привык к благодарностям. И, к слову, — добавляет он, — что это на вас нашло, что вы решились бросить свое место у Холдока?» «Новое расписание, — сказал я. — «Бреслау» его не выдержит». «Тьфу, ну надо же, — сказал он. — А ведь можно было немного солгать, — разогнать корабль так, чтоб показать им скорость, а привести в порт на два дня позже. Чего проще — сказать, что сбавил обороты из-за подшипников, а? все мои люди так делают, и я им якобы верю». «Макриммон, — сказал я. — Что для девицы ее честь?» Он сморщил свое пергаментное лицо и поерзал в кресле. «Самое главное, — был ответ. — Господи, самое главное на свете». Конечно, не в нашем с ним почтенном возрасте толковать о девичьей чести, но я все-таки сказал: «Вот именно. Есть только одна вещь, которую ни один из нас ни в торговле, ни в профессиональных делах не сделает ни при каких обстоятельствах. Если я знаю расписание, я привожу корабль вовремя — с оглядкой на возможный шторм. Меньшего, клянусь Богом, я не делал. Но и большего, Бог свидетель, не смогу! Нет таких секретов мастерства, которых я бы не знал». «Это я слышал, — говорит Макриммон, сухой, как бисквит. «Но честность в ведении дела для меня святыня, поймите. И я бы не осмелился с этим шутить. Ненадолго форсировать слабую машину — чистое мастерство, но тот мухлеж, которого требует совет, грозит погубить множество жизней. Поверьте, в этом-то я разбираюсь. Мы с ним еще поговорили, и на следующей неделе я вышел в море на борту «Кайта», грузового парохода линии «Блэк Берд» водоизмещением в двадцать пять сотен тонн и простенькой компаундной машиной. Чем больше была загрузка трюмов и, соответственно, осадка, тем лучше был у него ход. Я добился от «Кайта» одиннадцати узлов, хотя восемь и три десятых раньше были для него нормой. Хорошая кормежка, лучший уголь, новые помпы, отличная команда. Не было ничего такого, что старик не добыл бы для своего корабля, — за исключением краски. Вот с ней у Макриммона были проблемы. Выбить из него краску было не проще, чем выдернуть его последний зуб. Он приходил в док, где его корабли позорились на весь свет пятнами ржавчины, и начинал ныть и восклицать, что выглядят они просто превосходно. У каждого судовладельца свои пределы, я это не раз замечал, и вот для Макриммона это была краска. Но зато к его двигателям можно было подойти без риска для жизни, и при всей его слепоте я видел, как он отказал пятерым посредникам, одному за другим, стоило мне только ему кивнуть, а его загоны для перевозки скота на борту были обустроены с расчетом на зиму в Северной Атлантике. Понимаешь, что это значит? Макриммон и «Блэк Берд Лайн», да благословит их Господь! О, я еще забыл сказать, что корабль наш принимал на нос тяжелую волну и сопел себе при двадцати узлах встречного ветра на сорока пяти оборотах в минуту и трех с половиной узлах, и при этом машины дышали мягко и тихо, как спящий младенец. Шкипером нашим был Белл, и хоть между командами и судовладельцами теплых отношений отродясь не бывало, все мы любили старого Слепого Дьявола и его пса, да и мы, я уверен, ему нравились. Было у него чуть побольше двух миллионов фунтов стерлингов, и никакой при этом любви к дальним родственникам. Деньги жуткая штука, когда их много, — особенно для одинокого человека. Я дважды сводил «Кайт» в рейс, когда до нас дошли слухи о поломке на «Бреслау», которую я и предсказывал. Механиком там стал Кальдер — этот не смог бы даже буксир провести по Соленту[115]. Чтобы добавить оборотов, он приподнял машины над рамами, и в результате они окончательно сорвались с крепежа и превратились в кучу лома. Днище было пробито, «Бреслау» залило через сальники дейдвуда по кормовую переборку, и судно дрейфовало, а семьдесят девять пассажиров тряслись и пищали на борту, пока «Камал аль Заман» с линии «Рамси энд Голд Картахена» не взял его на буксир за пять тысяч семьсот сорок фунтов, которые и получил впоследствии через адмиралтейский суд. Пять тысяч семьсот сорок фунтов, включая судебные издержки, плюс потребность в новых машинах! Лучше б они оставили меня на старом расписании! Но даже после этого новый совет не обуздал свою страсть к сокращению издержек. Это младший Стейнер, еврей, все их подзуживал. Они теряли людей, потому что мало кто готов был терпеть такую дрянь, урезали расходы на ремонт, кормили команду остатками и объедками, но, в противоположность Макриммону, маскировали свои недостатки краской и дешевой позолотой. Кого Бог хочет погубить, того лишает разума, так-то. В январе мы встали в сухой док, а в соседнем ремонтировался «Гроткау», их большой грузовой пароход, который раньше звался «Дорабелла» и ходил на линии «Пиган, Пиган и Уэлш». Эта сработанная на «Клайде»[116] плоскодонная железка с куриной грудью, слабыми двигателями, тупым носом и пятью и пятью тысячами тонн водоизмещения не могла ни толком повернуть, ни разогнаться, ни остановиться при надобности. Руля она слушалась не сразу, ей надо было поворочаться и почесаться, чтобы задом заползти в док. Но Холдоку и Стейнеру эта посудина досталась по дешевке, и они раскрасили ее, как вавилонскую блудницу, а мы для краткости называли ее просто «Шлюхой». Я отправился повидать молодого Баннистера — он вынужден был ходить на том, что совет прикажет, и вместе с Кальдером их перевели на эту плавучую коровью лепешку, — ну а во время разговора я заглянул в док, где она стояла. Обшивка была вся изъедена коррозией, и работяги, которые ее красили и перекрашивали, только и делали, что смеялись над ним. Хуже было другое. У этой посудины был большой и неуклюжий гребной винт Трешера, чуть ли не двадцатифутовый, и на конце гребного вала, сразу за ступицей, виднелась здоровенная трещина, в которую можно было засунуть перочинный нож. Жуткое дело! «Когда твоему судну заменят гребной вал? — спросил я у Баннистера. Он сразу понял, о чем я. «Да это чепуха, поверхностный изъян», — сказал он, отводя взгляд. «Поверхностный, говоришь? — сказал я. — С таким нарушением целостности в море выходить нельзя». «Сегодня вечером ее зашпаклюют, — сказал он. — Я женатый человек, и... ты же знаешь наш совет!» Ну я ему и сказал, что обо всем этом думаю. А ты же знаешь, какое эхо в сухом доке? Я поднял голову и увидел молодого Стейнера, который слушал меня сверху, и, клянусь, он обрушился на меня с такими словами, что мира между нами не могло быть во веки веков. Я у него оказался и шпионом, и замаравшим свою честь механиком, и тем, кто плохо влияет на молодого капитана. Под конец он посулил засудить меня за клевету, но как только я стал подниматься вверх по трапу, Стейнер смылся — и вовремя, потому что я швырнул бы его в док, если б поймал. А наверху я встретил Макриммона с Денди, который натягивал поводок, чтоб провести старика среди рельсовых путей. «Макфи, — сказал он. — Я тебе плачу не за драки с «Холдоком, Стейнером, Чейзом и компанией» всякий раз, как ты их увидишь. Что у вас тут творится?» «Ничего особенного, просто гребной вал у них сгнил, как капустная кочерыжка. Да сходите сами взгляните, мистер Макриммон. Сплошная комедия». «Я опасаюсь этого болтуна Стейнера, — сказал он. — Просто скажи, в чем там у них проблема и насколько это серьезно». «Трещина в семь дюймов прямо за ступицей. Ничто на свете не удержит их винт на месте, он вот-вот оторвется». «Когда?» «Откуда мне знать?!» — сказал я. «В том-то и дело, в том-то и дело... — пробормотал Макриммон. — У всех есть свои пределы. Ты уверен, что это действительно трещина?» «Да это целое ущелье, — сказал я, потому что у меня не было других слов, чтобы описать масштаб проблемы. — А молодой Баннистер болтает, что это всего лишь поверхностный дефект!» «Ну, думаю, нам следует заниматься собственными делами. Если у вас на борту этой посудины есть друзья, Макфи, почему бы не пригласить их на обед в «Рэдли»?» «Я подумывал о скромном чаепитии в моей каюте, — ответил я. — Механикам сухогрузов не по карману тамошние цены». «Нет и нет! — сказал мне старик. — Только не в каюте. Они будут смеяться над моим «Кайтом» из-за того, что тот не вымазан краской, как их «Шлюха». Пригласите их в Рэдли, Макфи, и пришлите мне счет. А благодарить, как вы помните, надо моего терьера, а не меня. Я не привык к благодарностям». Потом он резко изменился в лице и проговорил уже совершенно серьезным тоном: «Мистер Макфи, это не старческое слабоумие». «Боже упаси! — сказал я, чуть не выскочив из собственной шкуры, потому что только-только подумал именно об этом. — Вы вполне можете позволить себе маленькое чудачество, мистер Макриммон». Клянусь, старый дьявол так смеялся, что в итоге чуть не сел на Денди. «Пришлите мне счет, — повторил он. — Я давно не пью шампанское, вот и расскажете мне, каково оно нынче на вкус». Мы с Беллом позвали молодого Баннистера и Кальдера на обед в «Рэдли». И там мы заняли отдельный кабинет — будто владельцы яхт из Кауса. Макфи улыбнулся и откинулся на спинку стула, вспоминая. — А потом? — спросил я. — Мы ведь не пьяницы в полном смысле этого слова, но в «Рэдли» надрались до положения риз. Взяли шесть больших бутылок сухого шампанского и к нему — бутылку виски. — Хочешь сказать, что вам четверым хватило по полторы бутылки шампанского на брата, не считая виски? — удивился я. Макфи взглянул на меня снисходительно и пожал плечами. — Мы туда ходили не пить, — сказал он. — Просто от выпитого у нас лучше заработали мозги. К слову сказать, младший Баннистер все-таки уронил голову на стол и расплакался, как ребенок, а Кальдер почти уже собрался отправиться к Стейнеру в два часа пополуночи и расквасить ему физиономию. Праведный Боже, как они оба проклинали совет и «Гроткау», гребной вал, машины и все прочее! В тот вечер никто даже не заговаривал о «поверхностных дефектах» —— и без того все было ясно. Молодой Баннистер и Кальдер пожали друг другу руки и поклялись отомстить совету директоров любой ценой, за исключением той, которая приведет их к потере мореходных сертификатов. Вот и заметь, как мнимая экономия губит дело! Мало того, совет кормил их, как свиней, а я давно заметил, что, когда дело касается желудка, в шотландцев вселяется дьявол. Если мой народ хорошо кормить, он протащит на своем горбу через Атлантику даже землечерпалку, но при паршивой жратве и служба будет паршивой — так уж ведется по всему миру. Счет отправился к Макриммону, и он ни слова не говорил мне до конца недели, когда я явился к нему за краской. Вот тогда-то мы и узнали, что «Кайт» задерживается в ливерпульском порту. «Оставайтесь на месте, — сказал Слепой Дьявол. — Вы что там, все еще купаетесь в шампанском? «Кайт» не выйдет из порта, пока я не отдам приказ, и... и как вообще я могу сейчас покупать краску, если «Ламмергейер» застрял в доке на неизвестный срок, а?» Он говорил о нашем большом сухогрузе — механиком там был Макинтайр, — и я знал, что из ремонта ему не выйти раньше, чем через три месяца. В то утро я встретил нашего главного клерка — вы его не знаете, — так тот просто все ногти сгрыз от досады. «Старик спятил, — сказал мне клерк. — Он вывел из дела «Ламмергейер» — и это в такое время!» «Может, у него есть на то причины», — сказал я. «Причины? Да у него просто маразм!» «В маразм я не поверю, пока он не отдаст приказ красить наши суда», — сказал я. «Так именно это он и сделал — хотя сейчас южноамериканские фрахты стоят выше, чем можно было даже мечтать. Он велел их красить... красить... красить!!! — Маленький клерк просто приплясывал, как цыпленок на сковородке. — Пять тысяч тонн потенциального груза гниют в доке, а он выделил деньги на краску в четвертьфунтовых баночках, потому что большие банки, видите ли, разрывают ему сердце. Спятил, говорю вам, определенно спятил. А тем временем «Гроткау» — единственное на данный момент доступное судно — забирает себе каждый фунт в Ливерпуле, который должен был стать нашим!» Я тоже подивился такой глупости — учитывая при этом обед у «Рэдли». «Можете на меня таращиться сколько угодно, Макфи, — сказал мне наш главный клерк. — Но сейчас моторы, подвижной состав, фермы для мостов — и пианино, и женские шляпки, и всяческие бразильские дорогущие штучки грузят на «Гроткау» — а «Ламмергейер», видите ли, обстоятельно красят!» Черт, мне показалось, он сейчас упадет и забьется в судорогах. А сказать я мог только одно: «Делай что должен, и будь что будет». Но на «Кайте» Макриммона все равно сочли спятившим, а Макинтайр с «Ламмергейера» выступил за то, чтобы запереть его в сумасшедшем доме ао какому-то там хитрому пункту, который он отыскал в правилах судоходства. И при этом всю неделю цены на фрахт в Южную Америку росли и росли. Стыд и позор! Когда же Белл наконец получил приказ вести «Кайт» из дока в Ливерпуль с водным балластом, Макриммон зашел к нам попрощаться и при этом все время сокрушался и ныл по поводу центнеров краски, потраченных им на «Ламмергейер». «Я жду от вас покрытия этих затрат, — вдруг заявил он. — И надеюсь, что вы их покроете! Бога ради, почему вы еще не отчалили? Вы что, специально тут в доке прохлаждаетесь?» «А каковы наши шансы, Макриммон? — спросил Белл. — Мы все равно на день опаздываем на ярмарку фрахтоы ы Ливерпуле. «Гроткау» сгреб все заказы, которые могли бы стать нашими, будь у нас «Ламмергейер». Макриммон в ответ захихикал — ну прямо идеальная картина старческого слабоумия. Брови у него заплясали вверх и вниз, как у гориллы. «Приказы получите в запечатанном виде, — сказал он, хмыкая и почесываясь. — Вон они. На конвертах указано время, когда их надо вскрыть». Когда старик сошел на берег, Белл, пошелестев конвертами, сказал: «Нам придется ползти вдоль южного побережья. Дополнительные распоряжения будут сориентированы по погоде. Теперь в его безумии больше нет никаких сомнений». Ну, мы и повели наш старый «Кайт» вдоль берега — погода была отвратная — и ждали распоряжений по телеграфу, что для шкиперов сущее проклятие. Когда мы добрались до Холихеда, Белл вскрыл последний конверт с последними инструкциями. Я как раз был в рубке, и он швырнул мне бумагу, возопив: Ты когда-нибудь видел что-то подобное, Мак?» Не скажу, что именно написал Макриммон, но он оказался далеко не безумен. Когда мы добрались до устья реки Мерси, дул юго-западный ветер, а утро выдалось промозглым. Море и небо были одинаково серо-зелеными. Ливерпульская погода, как тут говорят. Там мы и встали на рейд под дружные проклятья команды. На корабле ничего не утаишь. Они тоже считали макриммона сумасшедшим. А потом мы увидели «Гроткау», которая гудела сиреной, покидая с отливом порт: перегруженную до предела, сверкающую свежевыкрашенной трубой, шлюпками и всем прочим. Выглядела посудина в точности как та самая шлюха, да и перхала она так же. Кальдер рассказал мне за обедом в «Рэдли», что творилось с ее машинами, но я и на слух мог это определить за две мили. Ну, мы тоже снялись, догнали ее и пристроились в кильватере, громко шлепая по воде, а ветер все крепчал — надвигался солидный шторм. К шести пополудни он был умеренным ближе к сильному, а к середине вахты юго-восточный ветер показал себя во всей красе. «Она будет жаться к Ирландии при таком ветре», — сказал Белл. Я стоял рядом с ним на мостике, следя за бортовыми огнями «Гроткау». Мы держали в поле зрения и зеленый, и красный.[117]{5} Пассажиров, с которыми пришлось бы считаться, у нас не было, а поскольку все взгляды были прикованы к «Гроткау», мы чуть не влетели под лайнер, возвращавшийся в Ливерпуль. Белл едва успел вывернуть «Кайт» из-под носа лайнера, и между двумя мостиками пронесся шквал ругани. В дальнейшем мы сели на хвост «Гроткау» и провели там следующие два дня — посудина сбросила ход до пяти узлов, и мы неторопливо плелись к Фастнету. — Но вы ведь не проходите Фастнет на пути к южноамериканским портам, верно? — спросил я. — Не проходим. Обычно мы стараемся держаться самого прямого курса. Но в этот раз мы следовали за «Гроткау», а эта калоша была не в состоянии справляться с такой непогодой. Но, зная то, что я знал о состоянии судна, я не мог винить в этом молодого Баннистера. Начинался североатлантический зимний шторм — снег с дождем при сильном ледяном ветре. В такие дни словно сам дьявол разгуливает по морю над глубинами, вспенивая гребни волн и прикидывая, кого бы потопить. Эта девка еще кое-как держалась, но через четверть часа она вышла за острова Скеллит, подхватила юбки и помчалась спасаться к мысу Данмор-Хед. Ох и мотало же ее! «Они правят к Смервику», — сказал Белл. «Они бы уже попытались свернуть к Вентри, если бы направлялись туда», — ответил я. «При таком шторме у них трубу сорвет, — сказал Белл. — И почему это Баннистер не может держать корабль носом к открытому морю?» «Все дело в гребном валу. При таких трещинах любая болтанка лучше хода по гребням[118]. Хоть это-то Кальдер знает», — сказал я. «При такой погоде трудно не угробить парораспределительный механизм», — сказал Белл. Его борода и усы примерзли к штормовке, с подветренной стороны брызги образовали на ней толстую ледяную корку. Идеальная зимняя погодка для Северной Атлантики! Море сорвало все три наших шлюпки, а шлюпбалки скрутило в бараний рог. «Плохо, — заметил Белл, глядя на это. — Без шлюпки нам не завести буксир». Для абердинца Белл был весьма рассудительным. Я не из тех, кто готов к любым неожиданностям за пределами машинного отделения, поэтому между двумя валами спустился вниз — поглядеть, как дела у нашего «Кайта». Веришь или нет, но с верфи «Клайд» не сходило более мощных кораблей его класса! Кинлох, мой помощник, знал это не хуже меня. Он как раз сушил носки на главном парораспределителе и расчесывал бакенбарды тем гребнем, который Джанет подарила мне в прошлом году, — в общем, вел себя так, словно мы отстаивались в порту. Я проверил соленость воды в котле, заглянул в топки, потрогал подшипники, поплевал на упорный и перекрестил его на всякий случай, а перед тем как снова подняться на мостик, снял с кожуха носки Кинлоха. Там Белл передал мне управление, а сам пошел вниз погреться. К тому моменту, как он вернулся, у меня перчатки примерзли к ручкам штурвала и смерзлись ресницы. Идеальная зимняя погодка для Северной Атлантики, как я уже говорил. Штормовой ветер держался всю ночь, мы шли лагом к волне, от чего старый «Кайт» скрипел от носа до кормы. Я убавил обороты до тридцати... нет, до тридцати семи. Утром пошла длинная зыбь, и «Гроткау» понесло на запад. «До Рио она доползет, с винтом или без него», — сказал Белл. «Прошлая ночь сильно ее потрепала, — ответил я. — Скоро ей конец, попомни мои слова». Мы находились тогда, если не ошибаюсь, в ста пятидесяти милях на запад-юго-запад от Слайн-Хед[119]. А на следующий день нас занесло уже к восемнадцатому градусу западной долготы и на пятьдесят первый градус северной широты — то есть поперек всех традиционных североатлантических курсов. при этом мы не теряли «Гроткау» из виду, подбираясь ближе по ночам и немного отставая днем. После шторма ударил мороз, ночи были темными и глухими. В пятницу вечером я был в машинном отделении, и в середине моей смены Белл передал по переговорной трубе: «Она это сделала!» — после чего я сразу поднялся на мостик. «Гроткау» оторвалась от нас к югу, и вывесила три красных огня один над другим, — сигнал о том, что пароход вышел из строя. «Вот оно, буксируемое судно, — сказал Белл, облизываясь. — И стоить оно будет больше, чем «Бреслау». Вперед, Макфи!» «Подожди немного, — сказал я. — Здесь в море полно других кораблей». «Еще бы, — сказал Белл. — Сама судьба просится в руки. Что скажешь, дружище?» «Пусть поболтаются до рассвета. Они в курсе, что мы здесь. Если Баннистеру экстренно понадобится помощь, он выпустит красную ракету». «При чем тут проблемы Баннистера? Мы дождемся, что какая-нибудь лохань уведет добычу прямо у нас из-под носа», сказал он и крутанул штурвал. «Баннистер предпочтет отправиться домой на лайнере и обедать в кают-компании. Помнишь, что они говорили про свой рацион от «Холдока и Стейнера» в тот вечер в «Рэдли»? Так что держись подальше от них. Одно дело буксировка, но за покинутое командой судно мы получим в десять раз больше». «А-а! — сообразил Белл. — Так вот что у тебя на уме, Мак? Я люблю тебя, как брата! Остаемся на месте, пока не рассветет». — И он повел нас в сторону от крашенной шлюхи, потерявшей ход. Но тут с ее носа взлетела ракета, две взлетели с мостика, а на корме загорелся фальшфейер. А затем они еще и бочку с мазутом подожгли на носу. «Они тонут, — разочарованно сказал Белл. — Все пропало, и я получу разве что новый ночной бинокль за то, что подберу юного Баннистера, — вот дурак-то! «Успокойся и посмотри внимательно, — сказал я. — Они находятся к югу от нас. Баннистер не хуже меня знает, что нам хватило бы и одной ракеты. Он не стал бы просто так устраивать фейерверк. Слышишь их сигналы?» Сирена «Гроткау» гудела и гудела минут пять, а потом опять полетели ракеты — ни дать ни взять, сельская ярмарка. «Это не для тех, кто занят обычным каботажем, — сказал Белл. — Ты прав, Мак. Это для салона, полного пассажиров». Он поморгал и взглянул в ночной бинокль туда, где к югу от нас появилось темное пятно. «Что там у тебя?» — спросил я. «Лайнер, — ответил он, — Вон его ракета... Надо же — разбудили капитана с золотыми галунами, а теперь уже и всех пассажиров... Включают свет, каюта за каютой! А вон еще ракета! Спешат на помощь погибающим в океанской бездне». «Дай-ка бинокль!» — сказал я, но Белл выплясывал на мостике, как оглашенный. «Почта-почта-почта! — распевал он. — У этих парней контракт с правительством на доставку срочной почты, а коли так, Мак, чтоб ты знал, они обязаны спасать жизни в море, но не могут никого брать на буксир! Не могут, не могут! Вон их ночной сигнал — они будут там через полчаса!» «Олух чертов! — рявкнул я. — Мы же тут светим всеми нашими габаритами! Ох, Белл, ну ты и дурачина!..» Он скатился с мостика вперед, а я помчался на корму, и никто не успел бы и глазом моргнуть, как наши ходовые огни были погашены, люк машинного отделения прикрыт, и мы затаились в непроглядной тьме, следя за тем, как приближаются огни лайнера, которому сигналила «Гроткау». Лайнер шел где-то под двадцать узлов, все каюты сияли, шлюпки на талях покачивались на ветру. Все делалось с размахом, и уложились они за час. Лайнер остановился, как швейная машинка миссис Холдок, вниз с борта спустили трапы, затем на воду легли шлюпки. Минут десять спустя послышались одобрительные крики пассажиров, и они продолжили движение. «Теперь они будут рассказывать об этом до самой смерти, — заметил Белл. — Спасение в море, глубокой ночью, красивое, как на театральной сцене. Молодой Баннистер и Кальдер будут пить виски в салоне, а через шесть месяцев Британский совет по торговле и мореплаванию вручит капитану лайнера новехонький бинокль. С какой стороны ни посмотри — везде сплошное человеколюбие». Мы дождались рассвета, лежа в дрейфе — даже глаз не сомкнули, таращась на «Гроткау», который слегка задрал нос, словно насмехаясь над нами. Выглядела эта калоша просто смехотворно. «У нее течь в кормовом отсеке, — сказал Белл, — иначе с чего бы ей задирать нос? Гребной вал проделал там дыру — а у нас нет шлюпок. И вот эти три сотни тысяч фунтов — по самым скромным прикидкам — сейчас потонут прямо у нас на глазах! Что делать?» Он за минуту буквально раскалился: наш капитан был темпераментным парнем. «Подойди к ней как можно ближе, — сказал я. — Дай мне спасательный жилет и леер, я поплыву туда». Море было неспокойное, а ветер холодный, жутко холодный, но команда «Гроткау» спускалась в шлюпки по трапу, словно пассажиры, и трап этот так и остался висеть с подветренного борта, почти касаясь воды. Проглядеть такое приглашение было все равно что плюнуть в лицо улыбнувшемуся тебе провидению. Между бортами оставалось меньше пятидесяти ярдов, когда Кинлох как следует смазал меня жиром за камбузом, а когда корабли поравнялись, я отправился за борт — спасать наши три сотни тысяч фунтов.

Холод был зверский, но я с умом подошел к делу и вскоре уже карабкался наверх, цепляясь за перекладины трапа, с такой скоростью, что успел ободрать оба колена об этот трап и вывалиться на палубу раньше, чем корабль снова качнуло. Привязав леер к обрешетке, я прошлепал на корму в каюту молодого Баннистера. Там я растерся всем, что только нашел, а потом натянул сухую одежду из гардероба капитана, и кровь опять побежала по моим жилам. Три пары одних подштанников — и этого мне показалось мало. Сроду я еще так не замерзал. Оттуда я направился на корму, в машинное отделение. «Гроткау», как уже было сказано, «присел» на корму. Винт с оконечным валом отвалились, и все механизмы сдвинулись назад. В машинном отделении перекатывалась туда-сюда вода, черная и жирная. Стояла она где-то на пяти-шести футах. Водонепроницаемая дверь в котельное отделение была закрыта, но весь этот беспорядок меня слегка смутил. Правда, только на минуту и только потому, что я, если можно так выразиться, был не так спокоен и рассудителен, как обычно. Я снова огляделся, чтобы удостовериться. Внизу была всего лишь черная вода из льял: мертвая вода, которая попала туда по счастливой случайности. — Макфи, я, конечно, всего лишь пассажир, а не моряк, — заметил я, — но вы ведь не хотите сказать, что шесть футов воды в машинном отделении можно назвать «счастливой случайностью»? — Я всего лишь констатирую факты — простые и естественные, — возразил Макфи. — Шесть или семь футов грязной воды в машинном — крайне угнетающее зрелище, если ты знаешь, что вода продолжает прибывать. Но я уже понял, что ничего подобного не происходит, и поэтому, заметь, не стал так уж огорчаться. — Это хорошо, но я хотел бы поподробнее, — сказал я. — Да ведь я уже сказал. Шесть футов или чуть больше. Плюс фуражка Кальдера, плавающая на поверхности. — Она-то откуда взялась? — Видимо, когда началась паника из-за отвалившегося винта, двигатели стали разгоняться и разгоняться, и в тот момент Кальдер вполне мог уронить ее. Помнится, я однажды видел его в этой фуражке в Саутгемптоне... — Бог с ней, с фуражкой. Я хочу знать, откуда взялась вода, почему она там плескалась, и откуда, Макфи, у вас появилась уверенность, что это не течь? — По одной причине — вполне достаточной и основательной. — Так сообщите ее мне. — Ну, могу сказать только то, что эта причина — результат ошибочных действий другого человека. Всем нам свойственно ошибаться. — Что, простите? — В общем, я снова поднялся на палубу, и Белл крикнул мне с мостика — мол, как дела? «Идти сможет, — крикнул я в ответ. — Бросай мне буксирный трос и отправляй человека на помощь. Я затащу его на борт на спасательном леере». Я видел, как парни из палубной команды качают головами, и ветер донес до меня пару крепких ругательств. Потом Белл сказал: «Они в себе не уверены, в такую воду готов лезть только Кинлох, а мне некем его заменить». «Тогда моя доля будет больше, — сказал я. — Справлюсь и в одиночку». Тут одна из этих сухопутных крыс спрашивает: «Как думаешь, Макфи, там безопасно?» «Ничего не могу гарантировать, — отвечаю я. — Кроме, разве что, того, что отлуплю кое-кого за задержку». Тогда он прокричал: «У нас остался всего один спасательный жилет, но его не могут найти, иначе я бы приплыл». «Бросайте мне эту Иезавель[120]», — распорядился я, потому что у меня заканчивалось терпение, и они схватили добровольца, прежде чем он понял, что происходит, обвязали моим леером и вышвырнули за борт. Мне пришлось тащить его всю дорогу, выбирая трос, а когда я вытряс из него соленую воду, доброволец очень обрадовался, потому что оказалось, что он вообще не умел плавать. К спасательному лееру они привязали двухдюймовый проводник, а к нему — буксирный трос. Я закрепил проводник на барабане ручной лебедки на носу, и мы с добровольцем изрядно попотели, затаскивая буксирный трос на борт и закрепляя его на кнехтах «Гроткау». Белл подвел «Кайт» так близко, что я даже начал побаиваться столкновения, которого прогнившая обшивка «Гроткау» точно не пережила бы. Затем он перебросил мне еще один спасательный леер, и мы двинулись на корму, где заново проделали ту же утомительную работу со вторым тросом. В этом Белл был прав: нам предстояло долго буксировать судно, и хотя до сих пор провидение нам помогало, слишком уж полагаться на удачу не стоило. Когда второй буксирный трос был надежно закреплен, я крикнул Беллу выбрать слабину и отправляться домой. Тот, второй, помогал мне в работе только тем, что без конца клянчил выпить, но я строго приказал ему заняться снастями, а потом встать к рулю, потому что сам я собирался отдохнуть. Как он держал курс — это просто жуть. Но, по крайней мере, он цеплялся за штурвал и вертел его с умным видом, хоть я и сомневаюсь, что посудина это чувствовала. А я отправился прямиком на койку молодого Баннистера и уснул как убитый. Проснулся я зверски голодным и сразу ощутил довольно сильную качку. «Кайт» спокойно пыхтел, делая четыре узла, а вот «Гроткау» то зарывалась носом, то зависала, то начинала рыскать. Просто позорная буксировка. Но хуже всего оказалось с едой. Я рыскал и на камбузных полках, и в кладовых, и в лазарете, и в каютах, но обнаружил только такое, что не рискнул бы предложить даже кардифскому углекопу, а вы же знаете, что говорят про кардифских парней: они готовы лопать даже шлак, лишь бы не тратиться. Еда здесь была просто тошнотворной! Ничего не поделаешь — оставалось следить за буксирными тросами и кормой «Кайта», которая разводила белую пену, когда поднималась на волне. Я запустил вспомогательный паровой насос и выкачал воду из машинного отделения. На корабле не должно оставаться незаконченных дел. Когда там стало почти сухо, я спустился в туннель гребного вала и обнаружил, что протекает он совсем немного — через дейдвудный сальник, но в остальном не было ничего серьезного. Винт отлетел начисто, будто ножом срезанный, как я и предполагал, и Кальдер, судя по всему, ждал этого момента, положив руку на рукоятку управления. Так он мне потом и сказал, когда мы встретились на берегу. В машине ничего не перекосилось и не сломалось. Двадцатифутовый винт просто скользнул на дно Атлантики — так же просто, как человек умирает в положенный ему срок. После этого я занялся верхней палубой «Гроткау». Ее шлюпки размолотило о шлюпбалки, там и сям не хватало поручней, пару вентиляционных кожухов сорвало и унесло, кран-балки погнуло волнами, но крышки люков были в порядке, да и другого серьезного урона я не обнаружил. Но, праведный Боже, как же я возненавидел этот корабль — словно живое существо. Восемь изнурительных дней на его борту я погибал от голода — и это на расстоянии буксирного троса от сказочного изобилия! Весь день я валялся в койке и читал «Женоненавистник», лучшую книгу Чарли Рида, потихоньку потягивая спиртное. Это была выматывающая работа. Восемь дней на борту «Гроткау» — и ни разу я не был сыт. Как же винить сбежавшую с нее команду? Вы хотите знать, как там вел себя мой доброволец? Его я заставлял трудиться в поте лица, чтоб не мерз. Раз у нас даже дошло до драки, когда мы замеряли глубину лотом, после чего я остался приглядывать за тросами на кнехтах и дышать целебным морским воздухом. Честно говоря, я там чуть не помер от голода и холода, а «Гроткау» тащилась, как баржа, и Беллу приходилось постоянно с ней возиться, чтобы привести к ветру или сменить курс. Да и Ла-Манш был в те дни перегружен. Мы долго ждали просвета, а потом едва не столкнулись с тремя рыбачьими шлюпами, а оттуда нам прокричали, что мы идем слишком близко к Фалмуту[121]. Потом нас с «Кайтом» чуть не разделил пьяный иностранный фруктовоз, нацелившийся к берегу прямо между нами. Ночь становилась все темнее и темнее, и по поведению тросов я чуял, что Белл не знает, где находится. И только утром, когда ветер сдул туман, как пламя свечки, и взошло солнце, мы определились: за нашим буксирным тросом виднелся Эддистон[122], и, боже, это было так же верно, как причитания Макриммона над моим счетом за краску! Мы были так близко, так близко к цели! Белл круто развернул «Кайт», едва не сорвав с «Гроткау» кнехты, а когда мы оказались за плимутским волнорезом, я возблагодарил Творца, опустившись на колени в каюте молодого Баннистера. Первыми на борт поднялись Макриммон и Денди. Я разве не говорил, что, согласно приказу, мы должны были доставить все найденное нами в море в Плимут? Старый дьявол выехал сюда в тот же час, как сложил два и два, выслушав исповеди Кальдера и команды «Гроткау», едва те сошли со сходней лайнера. И успел вовремя. Я уже проорал Беллу, чтобы прислал чего-нибудь поесть, и он отправил мне обед в той же шлюпке, что везла Макриммона, соблаговолившего посетить и меня. Старик улыбался, хлопал себя по бедрам и семафорил бровями, пока я ел. «Ну и как «Холдок, Стейнер и Чейз» кормит своих людей?» — поинтересовался он. «Сами видите, — сказал я, вышибая пробку из очередной бутылки пива. — Я не нанимался голодать, Макриммон». «Как и совершать заплывы в шторм, — ответил он, потому что белл уже рассказал ему о том, как я тащил трос. — Ну, полагаю, в накладе вы не останетесь. Какой фрахт мы могли бы взять на «Ламмергейер», чтобы получить четыре сотни тысяч фунтов? А, Макфи? Клянусь, это вырвет печень «Холдоку, Стейнеру, Чейзу и компании». Верно, Макфи? И что — я по-прежнему страдаю старческим слабоумием? Или я уже не сумасшедший — по крайней мере, до тех пор, пока не прикажу красить «Ламмергейер»? А, Макфи? Денди, можешь смело задрать тут лапу!.. И что — была там вода в машинном отделении? «Могу заявить беспристрастно, — ответил я, — сколько-то воды там имелось». «Они решили, что корабль тонет, когда оторвался винт, —— проскрипел старик. — Вода прибывала с невероятной скоростью. Кальдер говорил, что им с Баннистером жалко было покидать судно». А я подумал об обеде в «Рэдли», и о том, чем мне пришлось питаться последние восемь дней. «Да уж, наверняка жалко», — сказал я. «Но команда не хотела и слышать о том, чтобы остаться и тащиться в порт под парусом. Все возмущались и говорили, что еще задолго до того все они перемрут с голода». «И перемерли бы, если б остались», — сказал я. «По словам Кальдера, на борту был практически бунт». «Вам известно больше, чем мне, Макриммон, — сказал я. — Откровенно говоря, раз уж все мы в одной лодке, скажите: кто открыл забортный клапан?» «А, так вот в чем было дело, в клапане? — спросил старик, и я увидел, что он в самом деле удивлен. — Забортный клапан, значит?» «Я думаю, что именно он. Все было задраено, когда я поднялся на борт, но кто-то затопил машинное отделение футов на шесть, а потом закрыл клапан сверху дистанционной передачей». «Надо же! — усмехнулся Макриммон. — Неблагодарность человеческая не знает пределов. Но если это всплывет в суде, «Холдок, Стейнер и Чейз» изрядно опозорятся». «Я спрашиваю лишь из чистого любопытства». «Мой пес страдает тем же недугом. Денди, надо бороться с чрезмерным любопытством, оно заводит маленьких терьеров в беду и никогда не кончается ничем хорошим. Где находился «Кайт», когда тот расфранченный лайнер снимал команду с «Гроткау»?» «Там же, совсем неподалеку», — ответил я. «И кому из вас двоих пришла мысль погасить ходовые огни?» — спросил он, подмигивая. «Денди, — обратился я к терьеру, — нам обоим стоит поумерить любопытство. Очень уж это невыгодная штука. И каковы, по-твоему, наши шансы на вознаграждение за спасенное имущество, Денди?» Старик смеялся, пока не раскашлялся. «Возьмешь, что я тебе дам, Макфи, и останешься доволен. Боже, и на что только люди тратят свое время, когда стареют!.. Возвращайся на «Кайт», да поживее. Я совсем забыл, что в Лондоне вас ждет чартер на Балтику. И это будет, полагаю, ваш последний рейс, разве что захотите выйти в море ради собственного удовольствия». Представители судовладельца уже поднимались на борт, чтобы заняться кораблем и отбуксировать его дальше. Так что я передал Стейнеру его посудину и вернулся обратно на «Кайт». Стейнер стал было по привычке задирать нос, но Макриммон этот самый нос ему живо натянул, заявив: «Вот, кстати, тот человек, которому вы обязаны судном — и должны денег. Стейнер, денег! Позвольте представить вам мистера Макфи. Вы, возможно, встречались и раньше, но как-то вам не везет на хороших людей, что на суше, что в море!» Этот Стейнер зыркнул так, будто готов был сожрать старика целиком, а тот кашлял и посвистывал во все свои старые бронхи. «Вы еще не получили призовые», — сказал Стейнер как бы с намеком. «Нет, конечно же, еще нет! — ответил старик, и его скрипучий голос был слышен, наверно, даже на берегу. — Но у меня есть два миллиона фунтов стерлингов, а наследников нет, и если ты, щенок, вздумаешь со мной тягаться в судах, я выставлю фунт против фунта — до последней монеты. Ты меня знаешь: я Макриммон из «Макнахтен и Макриммон»!» Уже садясь в шлюпку, он процедил сквозь зубы: «Господи, я четырнадцать лет ждал возможности разорить эту паскудную фирмочку, и теперь, с Божьей помощью, я это сделаю!» «Кайт» болтался в Балтийском море, пока старик делал свое дело. Но мне известно, что асессоры оценили «Гроткау» со всем ее грузом в триста шестьдесят с чем-то тысяч фунтов, поскольку перечень содержимого ее трюмов больше походил на описание рога изобилия, — и Макриммон получил треть этой суммы за спасение покинутого командой корабля. Видите ли, есть огромная разница между буксировкой судна с командой и буксировкой судна, брошенного на произвол судьбы, — и эта разница исчисляется в фунтах стерлингов. Сверх того, две трети команды «Гроткау» выразили желание дать показания о злоупотреблениях с продовольствием на судне, а насчет гребного вала в Совет по торговле и мореплаванию отправилась докладная Кальдера, и попади эта докладная в суд, дело могло бы обернуться для компании-судовладельца совсем плохо. Так что тягаться с нами в суде они даже не пытались. Когда «Кайт» вернулся, Макриммон заплатил мне и Беллу лично, а остальной команде pro rata[123] — так это, кажется, называется. Моя доля — вернее, наша с Джанет доля, — составила ровно двадцать пять тысяч фунтов стерлингов. При этих словах Джанет вскочила и поцеловала его. — Двадцать пять тысяч фунтов стерлингов! Ну а я ведь родом с Севера и не люблю тратить деньги без счета, но я бы отдал зарплату за полгода — сто двадцать фунтов — за то, чтобы узнать кто затопил машинное отделение «Гроткау». Я знаю, до какой степени Макриммон их ненавидел, но он точно не приложил к этому руку. Как и Кальдер — поскольку, когда я его об этом спросил, он чуть не полез в драку. Для Кальдера это было бы высшей степенью профессиональной непригодности — я имею в виду не драку, а открытие кингстона в таких обстоятельствах. Но все же я довольно долго думал, что это сделал он. Я был почти уверен, что он поддался соблазну. — А теперь что вы об этом думаете? — спросил я. — Ну, я склоняюсь к тому, что это один из тех случаев, которые напоминают нам, что все мы в руках высших сил. — И, следовательно, эти руки открыли, а потом закрыли кингстон? — Я не это имею в виду. Но наверняка какой-то оголодавший смазчик или, может, кочегар, открыл его ненадолго, чтобы уж с гарантией покинуть борт «Гроткау». Когда видишь, что машинное отделение затоплено, это деморализует, особенно после любой аварии механизмов деморализует и сбивает с толку. Так или иначе, он добился того, чего хотел: вся команда отправилась на лайнер, вопя во всю глотку, что «Гроткау» вот-вот затонет. Но что любопытно, то это последствия. Вполне вероятно, что в данный момент он возится с машинами на борту другого торгового парохода, а я нахожусь здесь — с двадцатью пятью тысячами фунтов инвестиций и твердым решением никогда больше не выходить в море — разве что пассажиром. Ты ведь понимаешь меня, Джанет?..
Последние комментарии
2 часов 4 минут назад
2 часов 10 минут назад
2 часов 13 минут назад
2 часов 14 минут назад
2 часов 19 минут назад
2 часов 36 минут назад