

Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВ
I
ТОМ

*
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Илья Ильф и Евгений Петров Том 1
Серия основана в 2000 году
С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»
*
Редколлегия: Аркадий Арканов, [Никита Богословский], Владимир Войнович, Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков, Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко, академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович
Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак
Дизайн перепле а Ахмед Мусин
В оформлении переплета использована карикатура художников Кукрыниксы
При подготовке издания использовались фотографии и материалы из личного архива А. И. Ильф
Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы: Российский государственный архив литературы и искусства. Одесский литературный музей, компанию Art Collegia и лично Анатолия Злобовского
© А. И. Ильф, составление, комментарии, 2007 © Ю. Н. Кушак, составление, 2007 © ООО «Издательство «Эксмо», оформление, 2008
Живые классики
Недавно я где-то (уже успел забыть, где) прочел про такой забавный казус. Один наш современник, прочитав комедию Грибоедова «Горе от ума», высказал недовольство тем обстоятельством, что речь всех ее персонажей почти сплошь состоит из пословиц и поговорок: неужели, мол, автор не мог сочинить для каждого из них свои реплики. не вкладывая в их уста уже готовые, кем-то другим придуманные фразы.
Наивный читатель этот не знал, что все эти реплики персонажей «Горя от ума» сочинил именно Грибоедов, а пословицами и поговорками они стали потом.
Нечто подобное могло бы случиться и с Ильфом и Петровым.
Впервые прочитав грибоедовскую комедию и высказав о ней множество довольно резких критических соображений — в чем-то справедливых, а во многом совсем несправедливых, — А. С. Пушкин (в письме Бестужеву в январе 1825 года), заключая этот свой импровизированный разбор, обронил фразу, ставшую впоследствии знаменитой: «О стихах я не говорю, половина — должны войти в пословицу».
Предсказание это, как мы теперь знаем, сбылось полностью.
То же произошло и со знаменитыми романами Ильфа и Петрова. По степени воздействия на живую речь современников — да и потомков — эти их книги не имеют себе рапных в русской литературе XX века.
Отдельные речения, фразы, выражения, вырванные мл авторского текста, а также наиболее выразительные реплики персонажей обоих романов были подхвачены многочисленными читателями и с тех пор прочно вошли в наш речевой обиход:
«Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» «Конгениально!», «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!», «Тщательно пережевывая пишу, ты помогаешь обществу», «Жертва аборта», «Ближе к телу…», «Знойная женщина — мечта поэта», «Почем опиум для народа?», «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих», «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон», «Утром — деньги, вечером — стулья», «Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!», «На блюдечке с голубой каемочкой», «Бензин ваш — идеи наши», «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», «Не делайте из еды культа». «Вы жалкая, ничтожная личность», «Мы в гимназиях не обучались», «Может быть, именно в этом великая сермяжная правда», «Вы не в церкви, вас не обманут», «Бриан — это голова», «Полное спокойствие дает только страховой полис», «Сбылись мечты идиота», «Не будите во мне зверя».
Наверняка я вспомнил далеко не всё. Перечень таких оборотов, прочно вошедших в нашу живую речь, можно длить до бесконечности. Я уж не говорю о многих словесных формулах, впрямую относящихся к конкретным персонажам романов, но давно уже ставших нарицательными: «Зицпредседатель Фунт», «Сыновья лейтенанта Шмидта», «Контора «Рога и копыта», «Великий комбинатор», «Пикейные жилеты».
Причиной этой заразительности языковой стихии романов Ильфа и Петрова была, конечно, и необычайная словесная одаренность обоих авторов. Но — не только. Не меньшую, а может быть, даже и большую роль сыграла тут направленность этой их одаренности. Самая природа их художественного дара.
* * *
Давно было замечено, что в романах Ильфа и Петрова царит атмосфера пародии. С веселым озорством авторы пародировали все, что попадало в их поле зрения. Казавшиеся им комичными расхожие формулы современного политического или военного жаргона («Навалился класс-гегемон», «Пиво отпускается только членам профсоюза», «Командовать парадом буду я!»). Но этим дело не ограничивалось. Вот, например, текст телеграммы Остапа Бендера подпольному миллионеру Копейке — «Графиня изменившимся лицом бежит пруду» — взят из телеграфного сообщения корреспондента газеты «Речь» о некоторых обстоятельствах, сопутствовавших уходу Л. Н. Толстого из Ясной Поляны. Не дочитав оставленного мужем письма, Софья Андреевна побежала к пруду, в котором накануне утонули две девушки, и кинулась с мостков в воду, чтобы утопиться. Ее с трудом вытащили дочь Александра, студент Булгаков, лакей Ваня и повар. Вот об этом поваре и говорилось в телеграмме:УВИДАВШИЙ ПОВАР ПОБЕЖАЛ ДОМ СКАЗАТЬ: ГРАФИНЯ ИЗМЕНИВШИМСЯ ЛИЦОМ БЕЖИТ ПРУДУ. (Смерть Толстого: по новым материалам. М., 1929)
Заметьте: книга, из которой авторы взяли текст этой телеграммы, вышла в свет незадолго до того, как они начали работу над «Золотым теленком». У них все шло в ход. Работая над дилогией, они щедро черпали чуть ли не из любой тогдашней книжной новинки. В то самое время, когда Ильф и Петров работали над Двенадцатью стульями», на книжных прилавках появились книга: «Письма Ф. М. Достоевского к жене» (Центрархив: Гос. изд-во, 1926). Читая ее (именно это издание), я обратил внимание на то, что одно из писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне подписано — «Твой вечный муж Достоевский». Естественно, я сразу вспомнил комическую подпись под письмом отца Федора к жене: «Твой вечно муж Федя». Совпадение не могло быть случайным. Перечитывая письма Достоевского под таким — не скрою, совершенно новым для меня — углом зрения, я без труда установил, что сходство на этом отнюдь не кончается. Постоянный лейтмотив писем отца Федора («Вышли денег…», «Продай пальто брата твоего булочника и срочно вышли…», «Продай всё. что можешь, и немедленно вышли!..») почти дословно совпадает с постоянными просьбами Достоевского к жене. Совсем как Достоевский, отец Федор в своих письмах то и дело жалуется на дороговизну, сообщает, сколько приходится платить за номер в гостинице, как удается ему экономить буквально на каждой мелочи. (Достоевский пишет, что перестал ходить обедать в трактиры, а готовит дома — так выходит дешевле, да и вкуснее. Отец Федор сообщает жене, что сам стирает себе белье, а утром надевает его на себя еще влажным, непросохшим. «Но в такую жару, — оптимистически замечает он, — это даже приятно».) Есть и более прямые совпадения. Вот, например, в одном из писем Достоевского читаем: Приключений со мною здесь никаких, кроме разве пустяков. Так, например, потерял дневную рубашку (кажется, не из лучших), хватился только вчера. Между тем ее украли наверно еще в Hotel de France… Второе приключение в том, что я купил зонтик. Стал третьего дня, в субботу пополудни, гаргаризировать горло. Это комната, в которой устроено 50 мест для гаргаризирующих, поставил в уголок зонтик и вышел, забыв его. Через полчаса спохватился, иду и не нахожу: унесли. В этот день шел дождь ночью и все утро, завтра, думаю. Воскресение, завтра закрыты лавки, если и завтра дождь, то что со мной будет. Пошел и купил. и кажется подлейший, конечно шелковый, за 14 марок (по нашему до 6 руб.)… Решительно несчастье, только деньги выходят.
Из письма отца Федора:
Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить — того и гляди украдут. Народ здесь бедовый… Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про странный случай, происшедший со мной сегодня. Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход: купил английский кепи за 2 р. 50 к.
Но главное сходство заключается в том, что мольбы о деньгах и в тех и в других письмах постоянно предваряются объяснениями в любви.
Из письма Достоевского: Выручи, ангел-хранитель мой. Ах, ангел мой, я тебя бесконечно люблю… пришли мне как можно больше денег.
Из письма отца Федора: Пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю… Денег у меня на дорогу в обрез… Зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей и вышли в Ростов…
То обстоятельство, что стремление пародировать частную переписку великого писателя отдает, мягко говоря, непочтительностью к памяти гения, не должно нас смущать. Для юмориста, для сатирика, как давно известно, нет ничего «святого». И отец Федор далеко не единственный персонаж их романов, представляющий пародию на весьма высокий объект. Васисуалий Лоханкин, выпоротый соседями за то, что регулярно забывал гасить свет в уборной, реагировал на эту болезненную и унизительную процедуру, как мы помним, весьма своеобразно:
«А может, так надо, — думал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. — Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва». И покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покрикивала с антресолей: «Так его, болезного, так его, родименького!» — Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду.
Сцена эта — пародийное отражение знаменитой фразы Н. К. Михайловского, который, как известно, заявил однажды, что не стал бы особенно негодовать, ежели бы его высекли. «Мужиков же секут…» — сказал он. Это стремление Ильфа и Петрова пародировать ВСЁ И ВСЯ, хотя оно и отдает подчас, мягко говоря, некоторой непочтительностью к «святыням», как я уже говорил, не должно нас коробить. Оно не должно нас коробить по той простой причине, что вызвано это стремление было не какими-то злонамеренными (скажем, продиктованными «социальным заказом», как полагают нынешние критики их романов) целями, а самой природой их художнического дара.
* * *
Художник сатирического дарования, сатирического склада инстинктивно исходит из того, что «смеяться, право, не грешно НАД ВСЕМ, что кажется смешно». Ильф и Петров были сатириками, что называется, от Бога. Едва ли не в каждом предмете или явлении, попадавшем в поле их зрения, они видели смешные, комические черты. Мало того: черты, заслуживающие осмеяния. Взять хотя бы знаменитую реплику Остапа Бендера — «Командовать парадом буду я!». Это была самая обычная казенная фраза, традиционно заключающая приказ о военном параде на Красной площади. Но соавторам по мерещилось в ней нечто комическое, и они превратили ее в анекдотическую, настолько одиозную, что власти вынуждены были от нее отказаться, заменить другой, более нейтральной: «Командовать парадом приказано мне». О многих крылатых выражениях, хлынувших из романов Ильфа и Петрова в лексикон нашей повседневной речи («Пиво отпускается только членам профсоюза», «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих»), сегодня даже уже и не скажешь, были они придуманы соавторами или выхвачены ими прямо из жизни. Это же можно сказать и о блистательных — теперь да-к-ко не столь известных — их сатирических рассказах и фельетонах. В них тоже полно таких языковых жемчужин: «Фруктовые воды сулят нам углеводы», «Больше внимания общественному питанию», «Оставляй излишки не в пивной, а на сберкнижке», «Глядя на солнечные лучи, не забудь произвести анализ мочи». Из этих юмористических рекламных лозунгов разве только один последний скорее всего выдуман соавторами. Хотя — кто знает? Уникальная наша советская действительность подбрасывала сатирикам еще и не такие перлы.* * *
Давным-давно, лет, наверно, сорок тому назад в раз говоре с одним ученым-экономистом я высказал весьма крамольную по тем временам й, как мне тогда казалось, весьма парадоксальную мысль, что проклятый мир капитала в самой основе своей гораздо демократичнее нашего, социалистического мироустройства. Булочник Филиппов был поставщиком двора его императорского величества. Это значит, что булки и калачи, которые он продавал в своей булочной, ел сам царь и вся царская семья. Но любой гражданин Российской империи мог купить и съесть точно такую же булочку и точно такой филипповский калач. Не то что у нас, где в семы: ответственного работника, когда у дочери случилось расстройство желудка, мать с ужасом воскликнула: — Признайся! Ты съела что-то городское! «Городское» — это то, что ели мы все. А для них были специальные огороды, где выращивались овощи без нитратов. И специальные хлебозаводы, где хлеб пекли из особой муки, не такой, как та, из которой пекли хлеб, продававшийся в обыкновенных, «городских» булочных. Я говорил долго, приводя все новые и новые примеры. А когда выдохся, мой собеседник сказал: — Ну конечно, вы совершенно правы. Безусловно, общество, где все можно купить за деньги, гораздо демократичнее нашего общества закрытых столовых, спецбуфетов и спецраспределителей. Но вы-то, не экономист, как до этого додумались? Вот что меня удивляет! — А тут нет ничего удивительного, — объяснил я. — Я понял это, читая романы Ильфа и Петрова. И напомнил ему, как мыкался Остап Бендер со своим миллионом. Чтобы получить номер в гостинице, должен был выдавать себя то за знаменитого дирижера, то еще за кого-нибудь, кому такая «привилегия» полагается по его социальному статусу. Остап Бендер стал главным художественным открытием и главным художественным достижением Ильфа и Петрова. Фигура Остапа — это гимн (независимо от желаний и намерений создавших его соавторов) духу свободного предпринимательства. Создав своего Остапа, Ильф и Петров отчасти искупили давний грех старой русской литературы, где фигура предпринимателя являлась перед нами либо в образе жулика Чичикова, либо в худосочном, художественно убогом облике гончаровского Штольца. В отличие от Штольца Остап — художественно полнокровен. А в отличие от Чичикова он — жулик не по призванию, а по несчастью. Жуликом его сделали обстоятельства, имя которым — социализм. Николай Заболоцкий сказал однажды: «Я только поэт и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть, социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несет смерть».Романы Ильфа и Петрова (опять-таки независимо от того, хотели этого их авторы или нет, и даже независимо от того, сознавали или не сознавали это они сами) наглядно и неопровержимо показали, что социализм несет смерть не только искусству, но всем видам и формам творчества. Эту формулу можно было бы даже и расширить, сказав, что социализм несет смерть всем проявлениям живой жизни. Но это было бы, в сущности, тавтологией, ибо жизнь, лишенная духа творчества, — это уже не жизнь. Шутливая эпитафия, которую сочиняет себе Остап («Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка…»), на самом деле неверна. Остап — не стяжатель. Он — художник. Главное для него — не деньги, не результат этой бешеной погони, а — сам ее процесс. Не сам клад нужен ему, а именно этот бешеный азарт добывания клада, вся эта увлекательная, хитроумная игра, с ее на ходу импровизируемыми поворотами, вдохновенными озарениями и экспромтами. Стяжатель — не Остап, а Корейко. Он, быть может, для того и выведен в романе, чтобы читатель резче ощутил, как разительно непохожи они — серый, тусклый стяжатель и ослепительный, фонтанирующий искрометными идеями великий комбинатор. Конечно, Остап, ставший обладателем миллиона, впадает в уныние и потому, что начинает уже торжествовать общество распределения, где деньги постепенно утрачивают свою волшебную роль всеобщего эквивалента. В этом новом мире «пиво отпускается только членам профсоюза». Не будучи хоть каким-нибудь членом (если не Политбюро или ЦК, так хоть Союза писателей или Литфонда), вы ни за какие деньги не получите ни кружки ледяного пива в жаркий летний день, ни номера в гостинице, ни автомашины той марки, какую вы хотели бы иметь. Но все это — только одна сторона Остаповой драмы. Другая же состоит в том (и это и отличает его от Корей-ко), что сам факт обладания миллионом не насыщает его душу. Не зря он даже в какой-то момент порывается отослать этот свой миллион председателю государственного банка. Он, конечно, быстро устыдился этого своего мимолетного порыва. Но в тусклой душе Александра Ивановича Корейко такой порыв не мог бы даже и возникнуть! Может быть, кому-нибудь такое сравнение покажется слишком смелым и даже кощунственным, но я бы не побоялся уподобить Остапа художнику или поэту, которому (как некогда Тарасу Шевченко) запрещено рисовать и сочинять стихи. Разница лишь в том, что Шевченко было запрещено прикасаться к холсту и бумаге высочайшим повелением, относящимся к нему персонально, а Остапу (и таким, как он) не позволяло заниматься любимым делом само устройство того общества, в котором ему выпало жить. Для сегодняшнего читателя Остап совсем не таков, каким он виделся современникам Ильфа и Петрова, еще верившим в социализм. Об этом красноречиво говорят все известные нам экранизации их знаменитых романов. Но еще красноречивее говорит об этом такой анекдот. Учитель в школе спрашивает ученика: — Кто написал «Повесть о настоящем человеке»? Ученик отвечает, не задумываясь: — Ильф и Петров.
* * *
Ильф и Петров счастливо нашли друг друга. Врожденный сатирический дар проявился у обоих еще до того, как они стали писать вместе: в этом вы убедитесь, читая в этих двух томах разделы «Ильф без Петрова» (в первом томе) и «Петров без Ильфа» (во втором). Помимо их первых, ранних опытов, в этих разделах вы найдете и зрелые, поздние произведения, писавшиеся уже после того, как они стали соавторами. У Ильфа — хорошо известные читателям его «Записные книжки», а у Петрова — произведения, созданные Евгением Петровичем после безвременной кончины Ильи Арнольдовича. Определившая состав этих двух томов Александра Ильинична Ильф — «дочь Ильфа и Петрова», как с юмором, унаследованным от отца, она себя называет, — очень правильно поступила, включив в них, помимо произведений давно и хорошо известных, не столь известные, а иногда и совсем неизвестные, которые сегодняшний читатель прочтет впервые. Это, в частности, относится к сценарию фильма «Музыкальная история». Фильм этот вышел на экран перед самой войной, в 1940 году, и имел оглушительный успех. Многие тогда (Дм и потом) приписывали этот успех участию в фильме таких тогдашних «звезд», как Сергей Яковлевич Лемешев, Зоя Федорова, Эраст Гарин, игравших главные роли. Заслуга их в этом — что говорить! — была велика. Но сейчас, прочитав сценарий этого фильма, написанный Евгением Петровым (в соавторстве с Георгием Мунблитом), вы увидите, что это не «полуфабрикат» для кинематографического воплощения, а — литература. И литература хорошая. Недаром и годы спустя, когда фильм давно уже сошел экрана, повзрослевшие, а то и постаревшие его зрители с наслаждением повторяли полюбившиеся им реплики его персонажей: «Одеколон не роскошь, а предмет ширпотреба и культурной жизни»; «Какие интересные шляпки носила буржуазия»; «Занимайте места согласно купленным билетам»; «Ноль внимания, фунт презрения». Они стали если не пословицами, то идиомами — слитными словосочетаниями, живущими самостоятельной жизнью и повторяющимися в устной и письменной речи без ссылок на имена авторов, вроде знаменитых зощенковских: «Вы, как кавалер и у власти», «Я беспорядков не нарушаю», «Теноров нынче нету», «Старушка — божий одуванчик» и других перлов неумирающего интеллигентского фольклора.* * *
Теперь Ильф и Петров уже классики. Роль, по правде сказать, не такая уж завидная:Есть такие писатели —
Пишут старательно.
Лаврами их украсили.
Произвели в классики.
Их не ругают, их не читают.
Их почитают.
Бенедикт САРНОВ
От составителя

Одесса. 1997 год. Дочь Ильи Ильфа Александра Ильинична и внук Илья у мемориальной доски на доме по улице Старопортофранковской. 137, где родился Ильф.
Как составить два тома «Антологии сатиры и юмора России XX века», посвященные Илье Ильфу и Евгению Петрову? Отдать один том Ильфу, а другой — Петрову? Или поместить в одном томе их общие произведения, а другой поделить между двумя «разрозненными частями» (как называли себя авторы)? Нужно ли печатать романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые есть если не в каждом доме, то в каждом книжном магазине? Поразмышляв, мы решили не только включить в каждый том по роману, но отдать им первое, главное место. Ведь Ильф и Петров прославились именно романами — классическими образцами сатиры и юмора конца 1920-х годов и середины 1930-х, которые как нельзя более соответствуют духу «Антологии». Тем более что за создание «Антологии» издательство «Эксмо» награждено премией международного фестиваля «Золотой Остап», а стало быть, герой поименованных романов связан с нашим изданием особыми узами. Мы решили, что самое правильное — открыть каждый том романом, предварив его одной из юмористических автобиографий Ильфа и Петрова. Канонический текст «Двенадцати стульев» сложился не сразу. В первой журнальной версии (январь — июль 1928 г.) насчитывалось 37 глав (сокращения и поправки вызваны ограниченным листажом). Готовя роман к первому книжному изданию, авторы восстановили многие купюры. Для второго издания они почистили текст, сняв длинноты, повторы и непритязательные шутки. В первом, «дополненном», издании (1928) — 41 глава; во втором, «исправленном» (1929), — 40. Следующие прижизненные издания повторяли (и по сей день повторяют) второе издание, считающееся каноническим. Мы предлагаем читателям вариант, куда перенесены тексты наиболее значительных «изъятий», существовавшие в романе на всех стадиях его развития. Однако, если по той или иной причине те или иные образы, сцены и эпизоды были отброшены авторами, правомерно ли восстанавливать купюры и отменять «усекновение глав»? Назовем ряд авторских «изъятий». Эпизод с редакционным фотографом, которого отправляют фотографировать Ньютона в кругу семьи. Новелла о голубоглазой Клотильде и скульпторе-халтурщике. Пародия на известных литераторов, навеянная сюжетом повести Валентина Катаева «Растратчики». Остросатирическая глава «Могучая кучка, или Золотоискатели». Неизданная глава с описанием детства, отрочества и зрелости бывшего предводителя дворянства. Меркантильные неудачи отца Федора. Эти и другие «изъятия» возвращены на присущие им места. Но имеем ли мы на это право? Не наносим ли моральный ущерб давно почившим авторам? Не оскорбим ли своим демаршем литературоведов и архивистов? Не ущемим ли интересы читателей? Вспомним, применительно к случаю, об эпигонских сочинениях с беззастенчивым использованием персонажей и сюжетных линий обоих романов. Сочинения получаются настолько беспомощные и убогие (а одно — даже порнографическое!), что действительно хочется говорить о моральном ущербе. В нашем случае дело обстоит иначе. Вопрос о правомерности или ущемлении не возникает. Все, что мы предлагаем читателям, написано Ильфом и Петровым — лично! Их собственной рукой! Бывшие купюры вливаются в канонический текст романа, ничуть не нарушая увлекательного процесса чтения. За романом следуют произведения, написанные Ильфом и Петровым «в четыре руки». Эти фельетоны и расказы очень давно не печатались, и тут опять возникло много вопросов. Какие именно взять? Как расположить? Хронологически? Тематически? В результате мы разделили «обобществленное литературное хозяйство» Ильфа и Петрова на две части. Первый том отдан фельетонистике 1929–1932 годов, второй — 1932–1937. 1932 год фигурирует дважды, потому что в гом самом году, 23 апреля, было опубликовано Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидировавшее РАПП (РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей, которая вела непримиримую борьбу против всех других литературных объединений). Как писал поэт-сатирик, «по манию восточного сатрапа не стало РАППа». Освежающим апрельским дождем это постановление не назовешь, но работать стало чуть легче. С 23 апреля 1932 года и начнется аналогичный раздел второго тома. Остается лишь сожалеть о том, что без комментариев читателям трудно будет представить советскую действительность эпохи «Великого перелома». Обострение классовой борьбы, индустриализация, периодические массовые чистки, процессы «вредителей». Годы всеобщего покаяния и отмежевания. Деление писателей и деятелей искусства на «пролетарских», «стоящих на советской платформе», «попутчиков», «колеблющихся» и др. Проблема творческой интеллигенции. Травля «непролетарских элементов», цензурные репрессии. Гонение на сатиру. По словам Мих. Кольцова, «не раз и не два в наших дискуссиях и на страницах печати проскакивал тезис о ненужности, о ложной роли, даже о бессмысленности существования сатиры в нашей обстановке». «Приучили человека к тому, что юмор — жанр низкий, недостойный великой русской литературы», — вторят ему Ильф и Петров. Положительный ответ на вопрос: «А нужна ли нам сатира?» — дают фельетоны и рассказы Ильфа и Петрова, написанные вместе — главным образом в период их активного сотрудничества в сатирическом журнале «Чудак» (1929–1930). Состав этого раздела ориентирован на сборники «Как создавался Робинзон» (1933 и 1935 гг.), поскольку в них выбор принадлежал самим авторам. Но мы не стали воспроизводить структуру «Робинзона», разбив рассказы и фельетоны на две группы по тематическому признаку: в одну группу вошли произведения, где рассматриваются сложные житейские проблемы того времени, в другой демонстрируется авторское отношение к различным явлениям искусства. В пределах каждой мы придерживаемся хронологического порядка. Рассказы «Синий дьявол» (из цикла гротескных новелл «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска»), а также «Гелиотроп» и «Процедуры Трикартова» (из сатирического цикла «1001 день, или Новая Шахерезада») тоже входят в этот раздел, потому что Ильф и Петров неизменно включали их в свои юмористические сборники. Впервые в собрании фельетонов и рассказов Ильфа и Петрова публикуется литературный фельетон «К барьеру!». Он был напечатан без подписи в журнале «Чудак». Но принадлежит ли он нашим соавторам? Перебирая авторов-чудаковцев (Е. Зозуля, В. Катаев, А. Зорич. Б. Левин, В. Ардов, братья Тур, Г. Рыклин), я пришла к убеждению, что такой поворот темы был «по плечу» только Ильфу и Петрову. Об этом говорят и стилистика, и характерный язык (например: «От неожиданности лысина Шкловского на минуту потухла, но потом заблистала с еще большей силой» или «Все повернулись в сторону Лидина и долго на него смотрели»). Представляется, что гротеск Фельетонов «Литературный трамвай» и «На зеленой садовой скамейке» восходит к этой зарисовке, сделанной 'Почти с натуры». Сатирическая гипербола осталась забытой на журнальной полосе скорее всего потому, что упоминавшийся в ней Борис Пильняк постоянно подвергался ожесточенной травле государственных органов, вплоть до расстрела в 1938 году. «Чудаковский» фельетон Ильфа и Петрова «Три с минусом», якобы посвященный «борьбе» с Пильняком, был напечатан в их собрании сочинений лишь в 1996 году. Что касается произведений, написанных порознь мы включаем в первый том ильфовские рассказы и фельетоны (1923–1930), а также «Записные книжки», которые оп вел с 1925 года до самой смерти (1937). Этот раздел называется «Ильф без Петрова». Тематика раннего Ильфа: одесские реминисценции бабелевского толка, беглые московские зарисовки времен нэпа, кинематография конца 1920-х. Разностильные < очинения не столько сатирические, сколько юмористические. Постепенно Ильф совершенствуется, с каждым годом пишет все умнее, все ироничнее и к осени 1927 гона просто предназначен судьбой стать одним из создателей романа «Двенадцать стульев». В этом разделе публикуются вещи известные, малоизвестные и неизвестные. Я не устояла перед соблазном включить сюда анонимный фельетон «Обновленные валеты» из сатирического журнала «Чудак»: авторство Ильфа устанавливается безо всякого труда. Перед вами — самые смешные, самые парадоксальные, самые важные записи из ильфовских «Записных книжек». Они позволяют оценить вкусы писателя и его взгляд на окружающий мир. «Бал эпохи благоденствия». «В краю непуганых идиотов». «Искусство на грани преступления». «Это неприятно, но это так. Великая страна не имеет великой литературы». Читатели знакомы с Ильфом-писателем. Теперь они могут узнать его как человека. Полностью публикуются воспоминания Петрова об Ильфе, ставшие предисловием к первому изданию ильфовских «Записных книжек» (1939). В мемуарах современников Ильф предстает и безжалостным сатириком, «родившимся с мечом в руке», и человеком, который, по словам его друга и соавтора, «был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ». Последний раздел этого тома отдан, во-первых, ответам Ильфа и Петрова на вопрос: «Как вы пишете вдвоем?», а во-вторых, рецензиям, статьям и другим документам, связанным с творчеством писателей и, в частности, с романом «Двенадцать стульев». Роман был первым общим сочинением молодых авторов. Написанный в конце 1927 года и вышедший в свет в середине 1928-го, «многостраничный фельетон» имел большой успех у публики и почти не был замечен критикой. После пары пренебрежительных рецензий («это не более как беззаботная улыбка фланера, весело прогуливающегося по современному паноптикуму», «роман не восходит на высоты сатиры…» и т. д.) критика умолкла. О. Мандельштам предвещал, что до «брызжущего весельем и молодостью памфлета» еще «доберутся» и «отбреют как следует». Пока что до этого не дошло. Критика еще не раскусила Бендера, не поняла еще, что роман — бомба замедленного действия. «Варфоломеевская ночь с оргвыводами» и «ударами палашом по вые» настала позже, после появления журнальной версии «Золотого теленка». Напрасно надеялся Владимир Набоков, что авторам «удалось проскочить в политическом отношении». Не удалось. Но об этом во втором томе.
Александра ИЛЬФ
Двойная автобиография
Составить автобиографию автора «Двенадцати стульев» довольно затруднительно. Дело в том, что автор родился дважды: в 1897 году и в 1903 году. В первый раз автор родился под именем Ильи Ильфа, а во второй раз — Евгения Петрова.
Оба эти события произошли в городе Одессе.
Таким образом, уже с младенческого возраста автор начал вести двойную жизнь. В то время, когда одна половина автора барахталась в пеленках, другой уже было шесть лет, и она лазила через забор на кладбище, чтобы рвать сирень. Такое двойное существование продолжалось до 1925 года, когда обе половины впервые встретились в Москве.
Илья Ильф родился в семье банковского служащего и и 1913 году окончил техническую школу. С тех пор он последовательно работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат. После этого был статистиком, редактором юмористического журнала «Синдетикон», в котором писал стихи под женским псевдонимом, бухгалтером и членом Президиума Одесского союза поэтов. После подведения баланса выяснилось, что перевес оказался на литературной, а не бухгалтерской деятельности, и в 1923 году И. Ильф приехал в Москву, где и нашел свою, как видно окончательную, профессию — стал литератором, работал в газетах и юмористических журналах.
Евгений Петров родился в семье преподавателя и в 1920 году окончил классическую гимназию. В том же году сделался корреспондентом Украинского телеграфного агентства. После этого в течение трех лет служил инспектором уголовного розыска. Первым его литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. В 1923 году Евг. Петров переехал в Москву, где продолжал образование и занялся журналистикой. Работал в газетах и юмористических журналах. Выпустил несколько книжечек юмористических рассказов.
После стольких приключений разрозненным частям удалось наконец встретиться. Прямым следствием этого и явился роман <Двенадцать стульев», написанный в 1927 году в Москве.
В таких случаях авторов обычно спрашивают, как это они пишут вдвоем. Интересующимся можем указать на пример певцов, которые поют дуэты и чувствуют себя при этом отлично.
После «Двенадцати стульев» нами выпущены в свет — сатирическая повесть «Светлая личность» и две серии гротескных новелл: «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерезада».
Сейчас мы пишем роман под названием «Великий комбинатор» и работаем над повестью «Летучий голландец». Мы входим в недавно образовавшуюся литературную группу «Клуб чудаков».
Несмотря на такую согласованность действий, поступки авторов бывают иногда глубоко индивидуальными. Так, например, Илья Ильф женился в 1924-м, а Евгений Петров в 1929 году.
Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВСочинено 25 июня 1929 г.Москва
12 СТУЛЬЕВ


Посвящается Валентину Петровичу Катаеву
Часть первая
СТАРГОРОДСКИЙ ЛЕВ
Глава I
БЕЗЕНЧУК И «НИМФЫ»
В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы.
Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.
По утрам, выпив из морозного, с жилкой, стакана спою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за маленькими, с об валившейся замазкой окнами угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холю ногтей» и «ондулянсион на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:
ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА «МИЛОСТИ ПРОСИМ»
Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков. Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве. В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он — вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием. — Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении, сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года — не шутка и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне. — Эпполе-эт, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон. Слово «сон» было произнесено с французским прононсом. Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала: — Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками. — Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего. Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось и разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал: — Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили? Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того — что было самым ужасным, — Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем. — Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича — С добрым утром! Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. — Как здоровье тещеньки, разрешите узнать? — Мр-мр-мр, — неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. — Ну, дай бог здоровьечка, — с горечью сказал Безенчук, — одних убытков сколько несем, туда его в качель! И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. — Здорова, здорова, — ответил Ипполит Матвее…… - что ейделается! Сегодня золотую девушку видела, pm пущенную. Такое ей было видение во сне. Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи», показывали пять минут десятого. Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам Правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего заносчиво следили двое молодых людей — мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело — и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица, в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. — Товарищ, — сказала она, — где тут… Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул: — Сочетаться! Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета. — Рождение? Смерть? — Сочетаться, — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства», — и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Виду него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки. — Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выспренно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно! Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2. За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы. Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкоминского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Насупил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полнозвучное чавканье. Старушку, пришедшую регистрировать внучонка, отогнали на середину площади. Переписчик Сапежников начал досконально уже всем известный цикл охотничьих рассказов. Весь смысл их сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от переписчика нельзя было добиться. — Ну, вот-с, — иронически сказал Ипполит Матвеевич, — вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки… Ну, а дальше что? — Дальше? А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью… Ну, вот. Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку… Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело. Ипполит Матвеевич раздраженно хмыкнул: — Ну, а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью? — Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Донников, а у него, бродяги, под соломой целый «гусь» запрятан, четвертуха вина… Сапежников захохотал, обнажив светлые десны. — Вчетвером целого «гуся» одолели и легли спать, тем более — на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное… Ну, у меня полшишки нашлось. Выпили. Чувствуем — не хватает. Драманж! Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая — вином торгует… — Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать? — А тогда ж и охотились… Что с Григорий Васильевичем делалось! Я, вы знаете, никогда не блюю… И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. «Не расходитесь, — говорит, — ребята, я сейчас еще кой-чего довезу». Ну, и довез, конечно. И все сороковками — других в «Молоте» не было. Даже собак напоили… — А охота?! Охота! — закричали все. — С пьяными собаками какая же охота? — обижаясь, сказал Сапежников. — М-мальчишка! — прошептал Ипполит Матвеевич и, негодуя, направился к своему столу. Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился.
Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в коло кола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо, леденело над опустевшей площадью. В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке и в тулупе с косматым воротником Под мышкой он осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном холщовом переплете. Застенчиво стуча своими слоновыми сапогами, милиционер подошел к Ипполиту Матвеевичу и налег грудью на тщедушные перильца. — Здорово, товарищ, — густо сказал милиционер, доставая из разносной книги большой документ, — товарищ начальник до вас прислал, доложить на ваше распоряжение, чтоб зарегистрировать. Бумага была такого содержания: «Служебная записка. В загс. Тов. Воробьянинов! Будь добрый. У меня как раз сын родился. В 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без излишней волокиты. Имя сына — Иван, а фамилия моя. С коммунистическим пока. Замначальника умилиции Перервин». Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди (тем более что ее никогда и не пивало) зарегистрировал дитя умилиции. От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел. Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, и явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. Почет дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь? Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог. — Ну? — спросил Ипполит Матвеевич более строго. — «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует… — Чего? — спросил Ипполит Матвеевич. — Да вот «Нимфа»… Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка поуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб — огурчик, отборный, любительский… — Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди гробов. Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. — Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже. Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно. Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное. При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову: — Уступлю за тридцать два рублика. Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. — Можно в кредит, — добавил Безенчук. Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу. Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками: — Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами. — Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось? Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты: — Сильнейший сердечный припадок. И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила: — Не исключена возможность смертельного исхода. И сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю — дверь открыта, в кухне никого, в этой компа ее тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее… Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку. про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.
Глава II КОНЧИНА МАДАМ ПЕТУХОВОЙ
Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец «танго». Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. — Клавдия Ивановна! — позвал Воробьянинов. Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу. — Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами? Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться. — Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что — сходите в аптеку. Нате квитанции, узнайте, почем пузыри для льда. Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах. До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал: — Путаются, туды их в качель, под ногами.Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял». Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек». Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, — не знаю, правда это или неправда, — на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается. Граждане протяжно вздохнули. — Это ты, Андрей, малость перехватил… — Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же! Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался: — Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей? Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально. Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич. — Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит. — Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает. — А доктор что говорит? — Что доктор! В страхкассе разве доктора? И здорового залечат! «Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись: — Теперь вся сила в гемоглобине. Сказав это, «Пьер и Константин» умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина. Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день. В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зёленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. — Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз. — Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. — А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! — заволновался Безенчук. — Да пошел ты к черту! Надоел! — Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима? Или как? — Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял? Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян. На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич. — На ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно». Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, так же строго. — Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам… Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье. — Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный гарнитур? — Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. — Тот… Обитый английским ситцем… — Ах, это в моем доме? — Да, в Старгороде… — Помню, отлично помню… Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская… А почему вы вспомнили? Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах. Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала: — В сиденье стула я зашила свои брильянты. Ипполит Матвеевич покосился на старуху. — Какие брильянты? — спросил он машинально, но тут же спохватился: — Разве их не отобрали тогда, во время обыска? — Я спрятала брильянты в стул, — упрямо повторила старуха. Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит. — Ваши брильянты! — закричал он, пугаясь силы своего голоса. — В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне? — Как же было дать вам брильянты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха. Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть. — Но вы их вынули оттуда? Они здесь? Старуха отрицательно покачала головой. — Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином. — Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом. И, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича. — Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии? Старуха ничего не ответила. У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и. мелькнув у колен золотой дужкой, грянулось об пол. — Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!.. Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло. Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке. — Умирает, кажется! Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад. Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала к комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли «танго-амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. — Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. — Гроб — он работу любит. — Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик. — Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, и, значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает… — То есть как это считается? У кого это считается? — У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «наш-то, слышали, дуба дал». Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил: — Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут? — Я — человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут, — и строго добавил: — Мне дуба дать или сыграть в ящик — невозможно: у меня комплекция мелкая… А с гробом как. господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазету ставить будете? Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча. Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях. Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами:
Нашему брандмейстеру слава, Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..
— На свадьбе у Кольки, брандмейстерова сына, гулями. — равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. — Так неужто без глазету и без всего делать? Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду. А там посмотрим». И в брильянтовых мечтах даже покойница теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку: — Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!
Глава III «ЗЕРЦАЛО ГРЕШНОГО»
Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всенощной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине. рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть». Матушка присела на стул и боязливо зашептала: — Новое дело затеял! Опять как с Неркой кончится. Неркой звали суку, французского бульдога, которую «нгц Федор купил за двадцать рублей на Миусском рынке в Москве. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кобелем секретаря уисполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. При виде собачки попадья ахнула и со всей твердостью заявила, что «конского завода» не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание Нерки началось. Еду собаке подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом — манная кашица, а в третье блюдечко отец Федор накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору. От добротной пищи и нежного воспитания Нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст. Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачеями, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем уисполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства. Наконец на Нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястья египетской царицы Клеопатры, и Катерина Александровна, взяв с собой три рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху. Счастливый принц встретил прелестную Нерку нежным, далеко слышным лаем. Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой. В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Саженях в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки и параболы, изредка принюхиваясь к основанию ближайшей тумбочки. Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пес Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к Нерке с нечистыми намерениями. Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в сенях палку, выбежал на улицу. Сцена, представившаяся его взору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа: «Пошел! Пошел! Пошел!» — и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Отец Федор бросился шагать свое будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах. Дома произошла большая тяжелая сцена, уснащенная многими тяжелыми подробностями. Попадья плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что потомство Нерки все-таки пойдет по уисполкомовской линии. Через положенное время Нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят чисто бульдожьей породы, которых портила одна лишь маленькая подробность: у каждого щенка имелся большой, черный, пушистый. лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразным хвостом рухнула возможность продать приплод с прибылью. Щенков раздарили. Нерку подвергай строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также по утрам, дням и вечерам под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окно и жалобно подвывая. Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля, второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее щенки из третьей серии (их было двенадцать) оказались вылитыми Марсиками и от визитов к уисполкомовскому медалисту заимствовали только кривые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, вчинить иск было некому. Так распался «конский завод» и мечты о верном постоянном доходе. Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не шала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «плуг-и-молотовское». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму. Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через два месяца собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявлении на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины — Триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай. Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учету приплод. Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец. — Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Федор. — А ужин как же? — Ладно. Потом. Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет. Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое. Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне. Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал: — Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться. Матушка от удивления даже руки назад отвела. — Что же ты над собой сделал? — вымолвила она наконец. — Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось. — Господи, — сказала матушка, посягая на локоны ища Федора, — неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался? Такому направлению разговора отец Федор обрадовался. — А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что — не люди? — Люди, конечно, люди, — согласилась матушка ядовито, — как же: по иллюзионам ходят, алименты платят… — Ну, и я по иллюзионам буду бегать. — Бегай, пожалуйста. — И буду бегать. — Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри. И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров. Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз. — Никуда не пойду! — заявила матушка и заплакала. Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает. — Не бросаю, — твердил отец Федор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может? — Не может, — говорила попадья. Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой. Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело», — и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», и мало ли что еще там было. Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десяток — все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора. Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке осталось еще двадцать рублей. — На хозяйство хватит, — решил он.Глава IV МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взорам всех мирян полосатые брюки. Агент ОДТГПу медленно прошел по залу, утихомирил возникшую в очереди брань из-за места и занялся уловлением беспризорных, которые осмелились войти в зал I и II класса, играя на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава». Кассир, суровый гражданин, долго возился с компостерами, пробивал на билете кружевные цифры и, к удивлению всей очереди, давал мелкую сдачу деньгами, а не благотворительными марками в пользу детей. Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «неправильный» билет, и только впущенный наконец в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел. Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды. Интересная штука — полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу,омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров. С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он — пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны. Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами. Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот: — Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. «А Моня здесь?» — еврей спрашивает еле-еле. «Здесь». — «А тетя Брана пришла?» — «Пришла». — «А где бабушка? Я ее не вижу». — «Вот она стоит». — «А Исак?» — «Исак тут». — «А дети?» — «Вот все дети». — «Кто же в лавке остался?!» Сию же секунду чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали!» — с трудом завладевает вниманием и начинает: — Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит — под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает: «Это ты, Джек?» А Джек лизнул руку и отвечает: «Это я». Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры. и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда. Интересная штука — полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь — путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сгорбясь на стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый-К», прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану. Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое. Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой в погоне за сокровищами бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса, купленные вместо рубля за пять копеек.На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, пятидесяти девяти лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил сорок один рубль отпускных и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку. Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом, и с нервностью продавал свояченице брандмейстера «крем Анго, против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брандмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, не достижимый в природе загар». Но в аптеке был только крем Анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную помаду и клоповар — прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки. — Как вам нравится Шанхай? — спросил Липа Ипполита Матвеевича. — Не хотел бы я теперь быть в этом сеттльменте. — Англичане ж сволочи, — ответил Ипполит Матвеевич, — так им и надо. Они всегда Россию продавали. Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря: «А кто Россию не продавал?» — и приступил к делу. — Что вы хотели? — Средство для волос. — Для ращения, уничтожения, окраски? — Какое там ращение! — сказал Ипполит Матвеевич. — Для окраски. — Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому. Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок. — Они скоро всю Хэнань заберут, эти кантонцы, — сказал на прощанье Липа. — Сватоу, я знаю, а? Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние. После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.
Глава V ПРОШЛОЕ РЕГИСТРАТОРА ЗАГСА
На масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие. взволновавшее передовые слои местного общества. В четверг вечером в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах шла грандиозная программа:ВСЕМИРНО-ИЗВЕСТНАЯ ТРУППА ЖОНГЛЕРОВ 10 арабов! Величайший феномен XX века Стэнс Загадочно! Непостижимо! Чудовищно!!! Стэнс — человек-загадка! Поразительные испанские акробаты Инас! Брезина — дива из парижского театра Фоли-Бержер! Сестры Драфир и другие номера
Сестры Драфир — их было трое — метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский сад, и с волжским акцентом пели:
Пред вами мы, как птички.
Легко порхаем здесь.
Толпа нам рукоплещет.
Бомонд в восторге весь.
Мы порхаем.
Мы слез не знаем.
Нас знает каждый всяк —
И умный и дурак.
…Сама юность волнующая.
Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.
Из-за туч
Солнца луч —
Гений твой.
Ты могуч.
Ты певуч,
Ты живой.
Скажи, дорогая мамаша.
Какой нынче праздник у нас, —
В блестящем мундире папаша.
Не ходит брат Митенька в класс?
Глава VI ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР
В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек пет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный. — Дядя, — весело кричал он, — дай десять копеек! Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: — Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию. «О баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» — запел он, подходя к привозному рынку. Туг для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать: — Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка. Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел. К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля. — Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, — было бы что мерить. Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел: в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской СССР, РСФСР 2-й ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАРГУБСТРАХА молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. — А что, отец, — спросил молодой человек, затянувшись, — невесты у вас в городе есть? Старик дворник ничуть не удивился. — Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно ввязываясь в разговор. — Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос: — В таком доме да без невест? — Наших невест, — возразил дворник, — давно на том смете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня: старухи живут на полном пенсионе. — Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились? — Уж это верно. Когда родились, тогда и родились. — А в этом доме что было до исторического материализма? — Когда было? — Да тогда, при старом режиме. — А, при старом режиме барин мой жил. — Буржуй? — Сам ты буржуй! Сказано тебе — предводитель дворянства. — Пролетарий, значит? — Сам ты пролетарий! Сказано тебе — предводитель. Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. — Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить. — Ну, угости. На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. — Так я у тебя переночую, — говорил новый друг. — По мне, хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсинные штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины: «Большевики пишут письмо Чемберлену», по популярной картине художника Репина: «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста. Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции. Вариант № 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап: «Низкий сорт, нечистая работа». С картиной тоже не все обстояло гладко: могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина — голым по пояс? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то. — Не будет того эффекта! — произнес Остап вслух. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома: — Полицмейстер ему честь отдавал… Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением — трешку дает… На Пасху, положим, буду говорить, еще грешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь… Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит… Медаль даже обещался мне Представить. «Я, — говорит, — хочу, чтобы дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью…» — Ну и что, дали? — Ты погоди… «Мне, — говорит, — дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, и первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, — говорят, — в заграницу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, — творит, — Тихон, жди, без медали не будешь». — А твоего барина что, шлепнули? — неожиданно спросил Остап. — Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть… А теперь медали за дворницкую службу дают? — Дают. Могу тебе выхлопотать. Дворник с уважением посмотрел на Бендера. — Мне без медали нельзя. У меня служба такая. — Куда ж твой барин уехал? — А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал. — А!.. Белой акации, цветы эмиграции… Он, значит, эмигрант? — Сам ты эмигрант… В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Их хоть каждый день поздравляй — гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!.. В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском. — Барин! — страстно замычал Тихон. — Из Парижа! Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать, но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. — У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу. — Здравствуй, Тихон, — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич, — я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову? Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть. — Отлично, — сказал он, кося глазом, — вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку. Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Глядя на бумажку, дворник так растрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива. Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал: — Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер! Может, слыхали? — Не слышал, — нервно ответил Ипполит Матвеевич. — Ну, да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме… — Что за чепуха! — воскликнул Ипполит Матвеевич — Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из… — Чудно, чудно! Из Моршанска. Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо. — Ну, знаете, я пойду, — сказал он. — Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к нам само придет. Ипполит Матвеевич не нашелся что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера. — Я вас не понимаю, — сказал он упавшим голосом. — Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку. Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал: — Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены — с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит — дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит… А вы тоже через польскую границу переходили? — Честное слово, — вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам, — честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт… — При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить… Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать. Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков брильянтов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решатся уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда — всему конец, а может быть, еще посадят. — Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, — просительно сказал Ипполит Матвеевич, — могут и впрямь подумать, что я эмигрант. — Вот! Вот! Это конгениально! Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ. — Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант. — А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? — Ну, приехал из города N по делу. — По какому делу? — Ну, по личному делу. — И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал… Туг Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился. — Хорошо, — сказал он, — я вам все объясню. В конце концов без помощника трудно, — подумал Ипполит Матвеевич, — а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».Глава VII БРИЛЬЯНТОВЫЙ ДЫМ
Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых, при прикосновении гребешка, вылетела дружная стайка электрических искр, и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о брильянтах со слов умирающей тещи. В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся… А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением произносил: — Три нитки жемчуга… Хорошо помню. Две по сорок бусин, а одна большая — в сто десять. Брильянтовый кулон… Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоит, старинной работы… Дальше шли кольца: не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми брильянтами; тяжелые, ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь; браслеты в виде змей с изумрудной чешуей; фермуар, на который ушел урожай с пятисот десятин; жемчужное колье, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной примадонне; венцом всему была сорокатысячная диадема. Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Брильянтовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату. Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа. — Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила? — Тысяч семьдесят — семьдесят пять. — Мгу… Теперь, значит, стоит полтораста тысяч. — Неужели так много? — обрадованно спросил Воробьянинов. — Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это. — Как плюнуть? — Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет. — Как же так? — А вот как. Сколько было стульев? — Дюжина. Гостиный гарнитур. — Давно, наверно, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках. Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. — Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия. — В случае реализации клада я как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно. Ипполит Матвеевич посерел. — Это грабеж среди бела дня. — А сколько же вы думали мне предложить? — Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч рублей! — Больше вы ничего не хотите? — Н-нет. — А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат? — В таком случае простите, — сказал Воробьянинов в нос — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом. — Ага! В таком случае, простите. — возразил великолепный Остап, — у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу привиться с вашим делом. — Мошенник! — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав. Остап был холоден. — Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши брильянты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость. Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло. — Двадцать процентов, — сказал он угрюмо. — И мои харчи? — насмешливо спросил Остап. — Двадцать пять. — И ключ от квартиры? — Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч! — К чему такая точность? Ну, так и быть — пятьдесят процентов. Половина — ваша, половина — моя. Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважении it личности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов. — Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов. — Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер, — вы любите деньги больше, чем надо. — А вы не любите денег? — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты. — Не люблю. — Зачем же вам шестьдесят тысяч? — Из принципа! Ипполит Матвеевич только дух перевел. — Ну что, тронулся лед? — добивал Остап. Воробьянинов запыхтел и покорно сказал: — Тронулся. — Ну, по рукам, уездный предводитель команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели! После того как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище «предводителя команчей», потребовал извинения и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции.В это время дворник Тихон пропивал в пивной «Фазис» рубль, чудесным образом попавший в его руку Пять слепых гармонистов, тесно прижавшись друг к другу, сидели на крохотном деревянном островке, морщась от долетавших до них брызг пивного прибоя. Появлением барина и тремя бутылками пива дворник был растроган до глубины души. Все казалось ему превосходным: и барин, и пиво, и даже предостерегающий плакат: «Прозба непреличными словами не выражаться». Слово «не» давно уже было вырвано с мясом каким-то весельчаком. И эта особенность страшно смешила дворника Тихона. Дворник крутил головой и бормотал: — Выдумали же, дьяволы! Насмеявшись вдоволь, дворник Тихон взял последнюю свою бутылку и пошел к соседнему столику, за которым сидели совершенно ему незнакомые штатские молодые люди. — А что, солдатики, — спросил Тихон, подсаживаясь, — верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут? Молодые люди загоготали. Один из них спросил: — Ты-то сам из помещиков будешь? — Мы из дворников, — ответил Тихон, — а, буду говорить, помещик, положим, вернулся. И ему землю не дадут? — Ну ясно, дура ты, не дадут. Тихон очень удивился, допил пиво, опьянел еще больше и заболботал что-то несуразное про вернувшегося барина. Молодые люди насилу высадили его из-за своего столика. — Барин, — бормотал Тихон, — медаль даст. Приехал мой барин. — Ну и дурак же! — подытожили молодые люди. — Это чей дворник? — Вдовьего дома. Бывшего воробьянинского. — Вернется он сюда, как же! Ему и за границей неплохо. — А может, вернулся — в спецы метит. В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье, было новолуние. — А! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника. Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз. — Это конгениально, — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу, — а ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль? — М-можно, — сказал дворник неожиданно. — Послушай, Тихон, — начал Ипполит Матвеевич, — не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью? Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик: — Бывывывали дни вессселые… Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю «ходиков», то становясь на одно колено. Ему было страшно весело. Ипполит Матвеевич совсем потерялся. — Придется отложить опрос свидетелей до утра, — казал Остап. — Будем спать. Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой» в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один — гарусный, ярко-голубой. — Жилет прямо на продажу, — завистливо сказал Бендер, — он мне как раз подойдет. Продайте. Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии. Он, морщась, согласился продать жилет за свою цену — восемь рублей. — Деньги — после реализации нашего клада, — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет. — Нет, я так не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, краснея. — Позвольте жилет обратно. Деликатная натура Остапа возмутилась. — Но ведь это же лавочничество! — закричал он. — Начинать полуторастотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко! Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал:

Остап заглянул в книжечку. — Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу — пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Еще можно жить. После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, a с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора. Всем троим снились сны. Воробьянинову привиделись сны черные: микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но небритый. Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего Маслотрестом и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя. А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности: подбирать конские яблоки и кричать на богаделок.
Глава VIII СЛЕДЫ «ТИТАНИКА»
Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «гут морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением: отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая трава левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительною цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. — Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды. — Товарищ Бендер, — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: «Не могу!» — и снова бушевал. — С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер, — сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами. Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. — Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите! — Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином… Контрабандный товар. — Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон… И потом посмотрите. Вы читали это? — Читал. — А вот это — маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытирать, а сушить на солнце или у примуса… Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой «липой»? Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться. — Выдайте рубль герою труда, — предложил Остап, — и, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем… Подожди, отец, не уходи, дельце есть. Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона. а потом был забран у него завхозом 2-го дома соцобеса. — Так он что, здесь в доме? — Здесь и стоит. — А скажи, дружок, — замирая, спросил Воробьянинов, — когда стул был у тебя, ты его… не чинил? — Чинить его невозможно. В старое время работа была орошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять. — Ну, иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри не говори, что я приехал. — Могила, гражданин Воробьянинов. Услав дворника и прокричав: «Лед тронулся», Остап 1 к ядер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича: — Придется красить снова. Давайте деньги — пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к черту не годится, только собак красить… Вот в старое время была красочка!.. Мне чин беговой профессор рассказал волнующую историю. Мы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая пещь. Так вот… Был такой знаменитый комбинатор, граф Друцкий. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша! И вот, когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за пятьдесят рублей замечательный совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл еще тысяч триста. Его орловец Маклер с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошел Мак-Магона. Гром!.. Но тут Курочкин (слышали?) замечает, что все орловцы начинают менять масть — один только Маклер, как дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный! Графу дали три года. Оказалось, что Маклер не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот это красочка! Не то что ваши усы!.. — Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат? — Такой же, как этикетка на вашем «Титанике», фальшивый! Давайте деньги на краску. Остап вернулся с новой микстурой. — «Наяда». Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак! Начался обряд перекраски. Но «изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. Ничего еще не евший с утра Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе, на Малой Арнаутской улице. — Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана, — бодро заметил Остап, — но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить. — Я не могу, — скорбно ответил Ипполит Матвеевич, — это невозможно. — Что, усы дороги вам как память? — Не могу, — повторил Воробьянинов, понуря голову. — Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой. — Брейте! Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву «Жиллет», а из бумажника — запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. — Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку. Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил: — Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек! — За конспирацию, товарищ фельдмаршал, — быстро ответил Бендер. Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции. Но конец, который бывает всему, пришел. — Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста. Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента. — Ну, марш вперед, труба зовет! — закричал Остап. — И по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы — к старухам! — Я не могу, — сказал Ипполит Матвеевич, — мне очень тяжело будет войти в собственный дом. — Ах да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно. Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт — в дворницкой. Парад-алле!Глава IX ГОЛУБОЙ ВОРИШКА
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не и красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его — Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было. «Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, поднимаясь наверх. В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели:Слышен звон бубенцов издалека.
Это тройки знакомый разбег…
А вдали простирался широ-о-ко
Белым саваном искристый снег!..
Та-та-та, та-та-та, та-та-та,
То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рум…
«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА»
«ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ ПОМОГАЕШЬ ОБЩЕСТВУ» и «МЯСО — ВРЕДНО» Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе. которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу. Хуже всех приходилось старухе Кокушкиной, которая сидела против большого, хорошо иллюминованного акварелью чертежа коровы. Чертеж этот был пожертвован ОННОБом (Обществом новой научной организации быта). Симпатичная корова, глядевшая с чертежа одним темным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома, с тою только разницей, что те места, которые на плане дома были обозначены уборными, кухнями, коридорами и черными лестницами, на плане короны фигурировали под названием: филе, ссек, край. 1-й, 2 й и 3-й сорта. Кокушкина ела свою кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у нее слюнотечение и перебои сердца. Во 2-м доме собеса мясо к обеду не подавали. Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был тридцатидвухлетний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда. Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Обед продолжался. Старушки загомонили: — Сейчас нажрутся, станут песни орать! — А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику. — Посмотрите, пьяный сегодня придет… В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя, и коровий голос начет: — …бретение… Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал: — Евокррраххху видусоб… ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий, — Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, — Со-куц-кий… Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу: — …изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено Доризулом, — Дарья, Онега, Раймонд… Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты.Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате: — …А теперь прослушайте новгородские частушки… Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:
На стене клопы сидели
И на солнце щурились.
Фининспектора узрели —
Сразу окочурились…
Глава X ГДЕ ВАШИ ЛОКОНЫ?
В то время как Остап осматривал 2-й дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш брильянтовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами: «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина Старгико и тянувшуюся вплоть до здания губплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами. Ипполит Матвеевич шел, с интересом посматривая к встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара — в уездном городе N. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а может быть, делались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае, их не было. Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые — серыми, с каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к Первому мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии: Вокзальную и Привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул. Да! Это был гамбсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках, это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо. — Точить ножи, ножницы, бритвы править! — закричал вблизи баритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо: — Паять, пачинять!.. — Московская гайзета «Звестие», журнал «Смехач», «Красная нива»!.. Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроя. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. — Грабят, — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. — Позвольте, позвольте, — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. «Что же это такое?» — отчаянно думал Ипполит Матвеевич. Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походки у него была самая решительная. Они шли все быстрее и, завидя в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде, повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. — Позвольте же! — закричал он, не стесняясь. — Ка-ра-ул! — еле слышно воскликнул незнакомец. И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог лягаться только левой ногой. — О господи! — зашептал незнакомец. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, не кто иной, как священник церкви Фрола и Лавра — отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. — Батюшка! — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал наконец пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, светился на битый кирпич. — Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? — с наивозможной язвительностью спросила духовная особа. — А ваши локоны где? У вас ведь были локоны? Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком: «Нет, прошу вас» — он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. — Так это вы, святой отец, — проскрежетал Ипполит Матвеевич, — охотитесь за моим имуществом? С этими словами Ипполит Матвеевич лягнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся. — Это не ваше имущество. — А чье же? — Не ваше. — А чье же? — Не ваше, не ваше. — А чье же, чье? — Не ваше. Шипя так, они неистово лягались. — А чье же это имущество? — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал: — Это национализированное имущество. — Национализированное? — Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. — Кем национализировано? — Советской властью! Советской властью! — Какой властью? — Властью трудящихся. — А-а-а!.. — сказал Ипполит Матвеевич, леденея. — Властью рабочих и крестьян? — Да-а-а-с! — М-м-м!.. Так, может быть, вы, святой отец, партийный? — М-может быть! Туг Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «может быть?» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем: руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Брильянтов не было. — Ну что, нашли? — спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. — Вы аферист! — крикнул Ипполит Матвеевич. — Я вам морду побью, отец Федор! — Руки коротки, — ответил батюшка. — Куда же вы пойдете весь в пуху? — А вам какое дело? — Стыдно, батюшка! Вы просто — вор! — Я у вас ничего не украл! — Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво! Ипполит Матвеевич с негодующим «пфуй» покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял вполоборота, приподняв левую ногу — ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал «Шимми»:Раньше это делали верблюды,
Раньше так плясали ба-та-ку-ды,
А теперь уже танцует шимми целый мир…
Глава XI СЛЕСАРЬ, ПОПУГАЙ И ГАДАЛКА
Дом № 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцыбашева. Арцыбашевских ликов было ровно восемь, по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах. Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска: ОДЕССКАЯ БУБЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ МОСКОВСКИЕ БАРАНКИ На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом: спекулировали мануфактурой всех видов — грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком. Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо, во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писаными буквами фамилией помещалась на правой двери:В. М. ПОЛЕСОВ
Левая была снабжена беленькой жестянкой
МОДЫ И ШЛЯПЫ
Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попутай в красных подштанниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Беклина «Остров мертвых» в раме фантази темно-зеленого полированного дуба, под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых — узнать было уже невозможно. В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью ришелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шали. — Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, — сказала хозяйка. Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. — Только вы, пожалуйста, и будущее, — жалобно попросила она. — Вас надо гадать на даму треф. Вдова возразила: — Я всегда была червонная дама. Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама. Набело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и, если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до Страшного суда. Линии ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников. — Вот спасибо вам, мадамочка, — сказала вдова, — уж я теперь знаю, кто трефовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный? — Марьяжный, девушка. Окрыленная вдова зашагала домой. А гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показав пасть пятидесятилетней женщины, и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке «Грец», по-кухарочьи вытерла руки о передник, взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой. Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос веничек седеющих волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она «к поцелуям зовущая, вся такая воздушная». У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полесовым, слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей, перед тем как выпустить на сцену. Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород. — До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать. Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала: — Какие теперь магазины! Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико!.. — Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать все будет… Мрак! А остальные моторы — харьковская работа. Сплошной госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел… Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попадавшим впросак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7 по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы «Треугольник», рыжие замки — такие огромные, что ими можно было запирать города, — мягкие баки для горючего с надписями «Indian» и «Wanderer», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, промасленная пакля. стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленой дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал действия возчика. Наконец сердце его не выдерживало. — Кто же так заезжает? — кричал он, ужасаясь. — Заворачивай! Испуганный возчик заворачивал. — Куда же ты заворачиваешь, морда? — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. — Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал. Покомандовавши так с полчаса, Полесов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить, то меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом; то, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полесов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами. Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали что хотели, ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар — Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы был ван-дереровский, колеса давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления — посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал. Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома № 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, двадцать один рубль семьдесят пять копеек. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы. Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке; Железные штанги и копья были сложены под верстак. Кще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом 11 городе произошла большая неприятность: на Дромной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно: дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома № 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме № 5, раскрытом настежь, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жесткой трубы которого било пламя, бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил держащеюся впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома № 5 Он потерял еженощный заработок: ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было Отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил Христом-богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось все больше и больше. Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу. — При наличии отсутствия пропитанных шпал, — кричал Виктор Михайлович на весь двор, — это будет не трамвай, а одно горе! — Когда же все это кончится! — сказала Елена Станиславовна. — Живем как дикари. — Конца этому нет… Да! Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова. Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой. — Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю — что-то знакомое. Как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают: «Скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании?» Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жилотдел. «А вам зачем?» — спрашиваю. А они говорят «спасибо» и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И тот, другой, с ним был — красавец мужчина. Явно бывший офицер. И тут я подумал… В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто не приятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома № 5, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил. — Витьки-слесаря опять нету? — спросил он у Елены Станиславовны. — Ах, ничего я не знаю. — сказала гадалка, — ничего я не знаю. И в необыкновенном волнении, выплескивая воду ил ведра, торопливо ушла к себе. Дворник погладил цементный бок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески:
ХОД В СЛЕСАРНУЮ МАСТЕРСКУЮ
красовалась вывеска:
СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ И ПОЧИНКА ПРИМУСОВ
под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой и замок и с ненавистью сказал: — У, гангрена! Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора, к колодцу, и. став на нее обеими ногами, начал скандалить. — Ворюги у вас в доме номер семь живут! — вопил дворник. — Сволота всякая! Гадюка семибатюшная! Среднее образование имеет!.. Я не посмотрю на среднее образование!.. Гангрена проклятая!.. В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала. С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор не спеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. — Слесарь-механик! — вскрикивал дворник. — Аристократ собачий! Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило. — Харю разворочу! — неистовствовал дворник. — Образованный! Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака». Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал. Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела. — Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу! Мерзавец! Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов». Виктор Михайлович еще долго хорохорился. — Сукины сыны, — говорил он, обращаясь к зрителям, — возомнили о себе! Хамы! — Будет вам, Виктор Михайлович! — крикнула из окна Елена Станиславовна. — Зайдите ко мне на минуточку. Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать. — Да говорю же вам, что это он, без усов, но он, — по обыкновению, кричал Виктор Михайлович, — ну вот, знаю я его отлично! Воробьянинов, как вылитый! — Тише вы, господи! Зачем он приехал, как вы думаете? На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка. — Ну, а вы как думаете? Он усмехнулся с еще большей иронией. — Уж во всяком случае, не договоры с большевиками подписывать. — Вы думаете, что он подвергается опасности? Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за десять лет революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса. — Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. — Он послан из-за границы? — спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись. — Безусловно, — ответил гениальный слесарь. — С какой же целью он здесь? — Не будьте ребенком. — Все равно. Мне надо его видеть. — А вы знаете, чем рискуете? — Ах, все равно! После десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем. Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга. — Умоляю вас, найдите его! Узнайте, где он! Вы всюду бываете! Вам будет нетрудно! Передайте, что я хочу его видеть. Слышите? Попугай в красных подштанниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер. — Елена Станиславовна, — сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди, — я найду его и свяжусь с ним. — Может быть, вы хотите еще компоту? — растрогалась гадалка. Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.
Глава XII АЛФАВИТ «ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ»
На второй день компаньоны убедились, что жить в дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала Черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали. — Считаю вечер воспоминаний закрытым, — сказал Остап, — нужно переезжать в гостиницу. Ипполит Матвеевич дрогнул. — Этого нельзя. — Почему-с? — Там придется прописаться. — Паспорт не в порядке? — Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки. Концессионеры в раздумье помолчали. — А фамилия Михельсон вам нравится? — неожидан но спросил великолепный Остап. — Какой Михельсон? Сенатор? — Нет. Член союза совторгслужащих. — Я вас не пойму. — Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой. Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу. — Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет. беспартийный, холост, член союза с тысяча девятьсот двадцать первого года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей… Но вы можете не дружить с детьми: этого от вас милиция не потребует. Ипполит Матвеевич зарделся. — Но удобно ли? — По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное Уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Воробьянинов все-таки запнулся. — Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло, а то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа-Христозопуло или Зловуновым. Последовало быстрое согласие, и концессионеры, нс попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу.Остановились они в меблированных комнатах «Сор бонна». Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие, и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин. — Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, — сказал Остап. Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана: две кровати и ночной столик. — Стиль каменного века, — заметил Остап с одобрением. — А доисторические животные в матрацах не водятся? — Смотря по сезону, — ответил лукавый коридорный, — если, например, губернский съезд какой-нибудь, го. конечно, нету, потому что пассажиров бывает много и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров «Ливадия». В тот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, его жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда. Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль двадцать копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в «Сорбонне» и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воробьяниновского особняка мебель, дело можно «читать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках. — Только бы ордера достать, — прошептал Ипполит Матвеевич, валясь на постель, — только бы ордера!.. Пружины разбитого матраца кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу: «А маслом, — почему-то вертелось у него в голове, — каши не испортишь». Между тем каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати с боку на бок. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище — окраине Старгорода. Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами, по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки.Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов. Остап миновал светящийся остров — железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «прошу крутить». После длительных расспросов, «к кому» да «зачем», ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ни чего не говорил. — Где здесь гражданин Коробейников? — спросил Бендер. Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собою маленького старичка-чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том. что старик этот — сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым: — Я к вам по делу. Вы служите в архиве Старкомхоза? Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. — А раньше служили в жилотделе? — Я всюду служил, — сказал старик весело. — Даже в канцелярии градоначальства? При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и наконец остановилась в положении, свидетельствовавшем, что служба в градоначальстве — дело давнее и что все упомнить положительно невозможно. — А позвольте все-таки узнать, чем обязан? — спросил хозяин, с интересом глядя на гостя. — Позволю. — ответил гость. — Я — Воробьянинова сын. — Это какого же? Предводителя? — Его. — А он что, жив? — Умер, гражданин Коробейников. Почил. — Да, — без особой грусти сказал старик, — печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было? — Не было. — любезно подтвердил Остап. — Как же?.. — Ничего. Я от морганатического брака. — Не Елены ли Станиславовны будете сынок? — Да. Именно. — А она в каком здоровье? — Маман давно в могиле. — Так, так, ах, как грустно! И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее как сегодня видел Елену Станиславовну на базаре, в мясном ряду. — Все умирают, — сказал он. — А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю… — Вольдемар, — быстро сообщил Остап. — Владимир Ипполитович? Очень хорошо. Так. Я вас слушаю, Владимир Ипполитович. Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах. и заглянул в самые глаза Остапа. Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубокоуважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубокоуважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это. — Я хотел бы, — с невыразимой сыновней любовью закончил Остап, — найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома? — Сложное дело, — ответил старик, подумав, — это только обеспеченному человеку под силу… А вы, простите, чем занимаетесь? — Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре. Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал. «Прыткий молодой человек», — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что «старик — типичная сволочь». — Так вот, — сказал Остап. — Так вот, — сказал архивариус, — трудно, но можно… — Потребует расходов? — помог владелец мясохладобойни. — Небольшая сумма… — Ближе к телу, как говорит Мопассан. Сведения будут оплачены. — Ну что ж, семьдесят рублей положите. — Это почему ж так много? Овес нынче дорог? Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником. — Изволите шутить… — Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти? — Деньги при вас? Остап с готовностью похлопал себя по карману. — Тогда пожалуйте хоть сейчас, — торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры: А, Б, В и далее, до арьергардной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой. — Ого! — сказал восхищенный Остап. — Полный архив на дому! — Совершенно полный, — скромно ответил архивариус. — Я, знаете, на всякий случай… Коммунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться… Живем мы, знаете, как на вулкане… все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Нот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет… А мне много не нужно — по десяточке за ордерок подадут — и на том спасибо… А то иди попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут! Остап восторженно смотрел на старика. — Дивная канцелярия, — сказал он, — полная механизация. Вы прямо герой труда! Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. — Все здесь, — сказал он, — весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это — алфавитная книга, зеркало жизни! Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожаалуйста. Смотрите на букву А. Буква А, Ак, Ам, Ан, Ангелов… Номер? Вот № 2 742. Теперь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года: рояль «Беккер» № 97 012, табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре (два красного дерева), шифоньер один и так далее… А кому дано?.. Смотрим книгу распределения. Тот же номер 82 742… Дано… Шифоньер — в горвоенком, гардеробов три штуки — в детский интернат «Жаворонок»… И еще один гардероб — в личное распоряжение секретаря Старпродкомгуба. А рояль куды пошел? Пошел рояль в собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть… «Что-то не видел я там такого рояля», — подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена. — Или, примерно, у правителя канцелярии городской управы Мурина… На букву М, значит, и нужно искать. Все тут. Весь город. Рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры… Сервизы даже и то есть… — Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква В. — Есть буква В, — охотно отозвался Коробейников. — Сейчас. Вм, Вн, Ворицкий, № 48238 Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек… Рояль «Беккер» № 54 809, вазы китайские, маркированные — четыре, французского завода «Севр», ковров обюссонов — восемь, разных размеров, гобелен «Пастушка», гобелен «Пастух», текинских ковров — два, хоросанских ковров — один, чучело медвежье с блюдом — одно, спальный гарнитур — двенадцать мест, столовый гарнитур — шестнадцать мест, гостиный гарнитур — четырнадцать мест, ореховый, мастера Гамбса работы… — А кому роздано? — в нетерпении спросил Остап. — Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом — во второй район милиции. Гобелен «Пастух» — в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» — в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан — в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный — в союз охотников, гарнитур столовый — в Старгородское отделение Главная. Гарнитур гостиный ореховый — по частям. Стол круглый и стул один — во 2-й дом собеса, диван с гнутой спинкой — в распоряжение жилотдела (до сих пор в передней стоит, всю обивку промаслили, сволочи): и еще один стул — товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению и резолюции завжилотделом т. Буркина. Десять стульев в Москву, в музей мебельного мастерства, согласно циркулярного письма Наркомпроса… Вазы китайские, маркированные… — Хвалю, — сказал Остап, ликуя, — это конгениально! Хорошо бы и на ордера посмотреть. — Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На № 48 238, литера В. Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку. — Вот-с. Вся вашего батюшки мебель туг. Вам все ордера? — Куда мне все… Так… Воспоминания детства — гостиный гарнитур… Помню, игрывал я в гостиной на ковре хоросан, глядя на гобелен «Пастушка»… Хорошее было время, золотое детство!.. Так вот гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук. Один ордер на десять стульев, два — по одному стулу, один — на круглый стол и один — на гобелен «Пастушка». — Изволите ли видеть. Все в порядке. Где что стоит — псе известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто, в случае чего, не отопрется. Может быть, хотите генеральши Поповой гарнитур? Очень хороший. Тоже гамбсовская работа. Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям. схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался. — Можно расписочку писать? — осведомился архивариус. ловко выгибаясь. — Можно, — любезно сказал Бендер, — пишите, борец за идею. — Так я уж напишу. — Кройте! Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передня ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. — Ну, пока, — сказал он, сощурясь, — я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии. Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку. — Пока, — повторил Остап. Он двинулся к выходу. Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил: — А деньги? — Какие деньги? — сказал Остап, открывая дверь. — Вы, кажется, спросили про какие-то деньги? — Да, как же! За мебель! За ордера! — Голуба, — пропел Остап, — ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета. Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя. — Тише, дурак, — сказал Остап грозно, — говорят тебе русским языком — завтра, значит, завтра. Ну, пока! Пишите письма!.. Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. — Лед тронулся! — закричал Остап машинисту. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался. Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и, мерзко сквернословя, вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он стал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Коробейникова на Гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. С этой неудачей мог сравниться только один случай в жизни Варфоломеича. Года три назад, когда впервые после революции появились медовые субъекты, принимающие страхование жизни, Варфоломеич решил обогатиться за счет Госстраха. Он застраховал свою бабушку ста двух лет, почтенную женщину, возрастом которой гордилось все Гусище, в тысячу рублей. Древняя женщина была одержима многими старческими болезнями. Поэтому Варфоломеичу пришлось платить высокие страховые взносы. Расчет Варфоломеича был прост и верен. Старуха долго прожить не могла. Вычисления Варфоломеича говорили за го. что она не проживет и года. За год пришлось бы внести рублей шестьдесят страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью почти гарантированной. Но старуха не умирала. Сто третий год она прожила вполне благополучно. Негодуя, Варфоломеич возобновил страхование на второй год. На сто четвертом году жизни старуха значительно окрепла: у нее появился аппетит и разогнулся указательный палец правой руки, скрученный хирагрой уже лет десять. Варфоломеич со страхом убедился, что, истратив сто двадцать рублей на бабушку, он не получил ни копейки процентов на капитал. Бабушка не хотела умирать, капризничала, требовала кофий и однажды летом выползла даже на площадь Парижской коммуны послушать новомодную музыку — музыкальное радио. Варфоломеич понадеялся, что музыкальный рейс доконает старуху, которая действительно слегла и пролежала в постели три дня, поминутно чихая. Но организм победил. Старуха встала и потребовала киселя. Пришлось в третий раз платить страховые деньги. Положение сделалось невыносимым. Старуха должна была умереть и все-таки не умерла. Тысячерублевый мираж таял, сроки истекали, надо было возобновлять страхование. Неверие овладело Варфоломеичем. Проклятая старуха могла прожить еще двадцать лет. Сколько ни обхаживал Варфоломеича страховой агент, как ни убеждал он его, рисуя обольстительные, не дай бог, похороны старушки, Варфоломеич был тверд, как диабаз. Страхования он не возобновил. Лучше потерять, решил он, сто восемьдесят рублей, чем двести сорок, триста, триста шестьдесят, четыреста двадцать или, может быть, даже четыреста восемьдесят не говоря уже о процентах на капитал. Даже теперь, пиная ногой стол, Варфоломеич не переставал по привычке прислушиваться к кряхтению бабушки, хотя никаких коммерческих выгод из этого кряхтения он уже извлечь не мог. — Шутки?! — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. — Теперь деньги только вперед. И как же это я так оплошал? Своими руками отдал ореховый гостиный гарнитур!.. Одному гобелену «Пастушка» цены нет! ручная работа!.. Звонок «прошу крутить» давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал: — Куда здесь войти? Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто (на ощупь — драп) и ввел в столовую отца Федора. — Великодушно извините, — сказал отец Федор. Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостиный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата посетитель расценивал значительно ниже, рублей в тридцать. Согласились на пятидесяти. — Деньги я бы попросил вперед, — заявил архивариус. — это мое правило. — А это ничего, что я золотыми десятками? — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. — По курсу приму. По девять с половиной. Сегодняшний курс. Востриков вытряс из колбаски пять желтяков, досыпал к ним два с полтиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит — зеркало жизни на букву П, быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный тов. Брунсу, проживающему по Виноградной, 34, на двенадцать ореховых стульев фабрики Гамбса. Дивясь своей сметке и умению изворачиваться. архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. — Все в одном месте? — воскликнул покупатель. — Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближете. Впрочем, что вам объяснять! Вы сами знаете! Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту. Варфоломеич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков. «И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло? — подумал он. — С ума посходили». Он разделся, невнимательно помолился богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.
Глава XIII ЗНОЙНАЯ ЖЕНЩИНА — МЕЧТА ПОЭТА
За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клецках, из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше и, снисходительно сощурясь, глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах «Сорбонны» зашумели. На открытие трамвая из уездов съезжались делегаты. Из гостиничной линейки с вывеской «Сорбонна» высадилась их целая толпа. Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны. На Кооперативной улице у перегруженного грузовика Мельстроя лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы. В номере, обставленном с деловой роскошью (две кровати и ночной столик), послышались конский храп и ржание: Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах. — Кстати, — сказал он, — прошу погасить задолженность. Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми, без пенсне, глазами. — Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что нас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, семьдесят рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда тридцать пять рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях? Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка исчезла в сиянии брильянтовой горы. Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новой, построенной на драгоценном фундаменте жизни тешили его. «А святой отец? — мысленно ехидствовал он. — Дурак-дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды». Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Целая в трещинах дверь № 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанной потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга. следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались… В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса, Ипполит Матвеевич не выдержал. — Здравствуйте, батюшка, — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему богом, и ответствовал: — Доброе утро, Ипполит Матвеевич. Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил: — Не ушиб ли я вас во время последней встречи? — Нет, отчего же, очень приятно было встретиться, — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. — Обедню небось уже не служите? — спросил он при следующей встрече. — Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. — Заметьте — свои сокровища! Свои! — Мне неизвестно — чьи, а только ищут. Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного — Остап Бендер, в голубом жилете, и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел. — Покупаете старые вещи? — спросил Остап грозно. — Стулья? Потроха? Коробочки от ваксы? — Что вам угодно? — прошептал отец Федор. — Мне угодно продать вам старые брюки. Священник оледенел и отодвинулся. — Что же вы молчите, как архиерей на приеме? Отец Федор медленно направился к своему номеру. — Старые вещи покупаем, новые крадем! — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться: — Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию — дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо! А?! Дверь за служителем культа закрылась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: — Сам ты дурак! — Что? — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: — Почем опиум для народа? За дверью молчали. — Папаша, вы пошлый человек! — прокричал Остап. В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились. — И враг бежит, бежит, бежит! — пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся. Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать. — Ордер на гобелен «Пастушка», — сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. — Я купил этот гобелен у петербургского антиквара. — К черту пастушку! — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу. — Стол круглый… Как видно, от гарнитура… — Дайте сюда столик. К чертовой матери столик! Остались два ордера: один — на десять стульев, выданный музею мебельного мастерства в Москве, другой — на один стул — т. Грицацуеву, в Старгороде, по улице Плеханова, 15. — Готовьте деньги, — сказал Остап, — возможно, и Москву придется ехать. — Но тут ведь тоже есть стул?. — Один шанс против десяти. Чистая математика. Да и то если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. — Не шутите так, не нужно. — Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон, найдем! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. — Мне почему-то кажется, — заметил Ипполит Матвеевич, — что ценности должны быть именно в этом стуле. — Ах! Вам кажется? Что вам еще кажется? Ничего? Ну, ладно. Будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом пятнадцать. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге. Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента. — Как бы он за нами не пошел! — испугался Ипполит Матвеевич. — После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение не возможно. Он меня боится.Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки, в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. — Есть-то он есть, — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой, — но как этот стул достать? Купить? — Как же, — ответил Остап, — не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?.. — Что же делать? Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет. — Шик-модерн, — сказал он. — Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит. — Нет, вы знаете, — оживился Ипполит Матвеевич, — когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое. Они там, ей-богу, там… Ну вот, ей-богу ж, я чувствую. — Не волнуйтесь, гражданин Михельсон. — Его нужно ночью выкрасть! Ей-богу, выкрасть! — Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство — грабить бедную вдову. Ипполит Матвеевич опомнился. — Хочется ведь скорее, — сказал он умоляюще. — Скоро только кошки родятся, — наставительно заметил Остап. — Я женюсь на ней. — На ком? — На мадам Грицацуевой. — Зачем же? — Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле. — Но ведь вы себя связываете на всю жизнь! — Чего не сделаешь для блага концессии! — На всю жизнь! — прошептал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось. Показались не чищенные со дня отъезда из города N голубые зубы. — На всю жизнь! — прошептал Ипполит Матвеевич. — Это большая жертва. — Жизнь! — сказал Остап. — Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что, если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусаре-схимнике? Ипполит Матвеевич не слыхал. — Буланов! Не слыхали? Герой аристократического Петербурга? Сейчас услышите. И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы.
РАССКАЗ О ГУСАРЕ-СХИМНИКЕ*****
Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца гусара — куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос. За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок. Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследства их увеличивали и без того огромное состояние гусара. Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений, как это говорится в великосветских романах. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих. И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног. Но все было тщетно. Следы графа не находились. Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века, принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые глухи. Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему — несчастный роман. А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину. В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму: клобук с отвесным козырьком, закрывающим лицо, и рясу, связывающую движения. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца. Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя. Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик крестьянин продолжал носить сухари. Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь. Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он проворочался до утра, тихо стеная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все: по углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно. В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал нее швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца по-пял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок «Арагац» против клопов. Но и «Арагац» не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он жег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство: продукты бр. Глик — розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и двадцать пять лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя, сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства.Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах туш и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая: — Мои маленькие друзья. — Где вы были? — спросил Ипполит Матвеевич спросонья. — У вдовы, — глухо ответил Остап. — Ну? Ипполит Матвеевич оперся на локоть. — И вы женитесь на ней? Глаза Остапа заискрились. — Теперь я уже должен жениться, как честный человек. Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. — Знойная женщина, — сказал Остап, — мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах — еще встречаются. — Когда же свадьба? — Послезавтра. Завтра нельзя: Первое мая — все за крыто. — Как же будет с нашим делом? Вы женитесь… А нам, может быть, придется ехать в Москву. — Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается. — А жена? — Жена? Брильянтовая вдовушка? Последний вопрос! Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день.
Глава XIV ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ: ВЫ ВЗВОЛНОВАНЫ!
В утро Первого мая Виктор Михайлович Полесов, снедаемый обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Колонна музработников, в мягких отложных воротничках. каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Щ», все время наскакивал на музработников сзади. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики: — Где ваш распорядитель? Вам разве по Красноармейской?! Не видите, влезли и создали пробку! Тут, на горе музработников, в дело вмешался Виктор Михайлович. — Конечно же, вам сюда, в тупик, надо сворачивать! Праздника даже не могут организовать! — надрывался Полесов. — Сюда! Сюда! Удивительное безобразие! Грузовики Старкомхоза и Мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше — в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду. Стучали пионерские барабаны. Допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча, с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц. Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. — Васька! — кричали с тротуара. — Буржуй! Отдай подтяжки. Девушки пели. В толпе служащих собеса шел Альхен с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил:Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!..
Приезжали меня сватать.
Просили приданого,
А папаша посулил
Трамвая буланого…
Елекстрический мой конь
Лучше, чем кобылка.
На трамвае я поеду,
А со мною милка…
«…Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши. Наверху — он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человек, в затрапезной фуражке с молоточками. Вспоминаю: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся. Спрашиваю: — Как выполняются задания? Некрасивое лицо строителя, инженера Треухова, оживляется… Он пожимает мне руку. Он говорит: — Семьдесят процентов задания уже выполнено…» Статья кончалась так: •Он жмет мне на прощанье руку… Позади меня гудят стропила. Рабочие снуют там и сям. Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя? МАХОВИК».
Спасало Треухова только то, что на чтение газеты времени не было и иногда удавалось пропустить сочинения т. Маховика. Один раз Треухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение.
«Конечно, — писал он, — болты можно называть трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить т. Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах — все равно что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и проч.».
После этого неугомонный Принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных: «15 000 рублей ржавеют», «Жилищные комочки», «Материал плачет» и «Курьезы и слезы». Строительство подходило к концу. Термитным способом сваривались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до боен и от привозного рынка до кладбища. Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине Октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на «арматуру», не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до Первого мая. К этому дню решительно все было готово. Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал спервым мороженщиком, бог весть как попавшим в Пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты, Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле. Но светлому залу депо, в котором стояли десять светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. Ни груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов, корреспондент добросовестно продолжал изыскания, находя недостаток лишь в отсутствии буфета. В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая. На трибуну поднялся президиум губисполкома. Принц Датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров. — Товарищи! — сказал Гаврилин. — Торжественный митинг по случаю открытия старгородского трамвая позвольте считать открытым. Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал». — Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину! — крикнул Гаврилин. Принц Датский — Маховик — и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки: «Торжественный митинг открылся докладом председателя Старкомхоза т. Гаврилина. Толпа обратилась в слух». Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц-Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил Mt четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, Маховик-Датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вывалянные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись: «В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире…» Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. — Трамвай построить, — сказал он, — это не ешака купить. В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом. Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил пол часа, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали: «В об разных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего Союза…» Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел ни Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами: — И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из депа, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. А еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова. Ему тоже спасибо!.. Стали искать Треухова, но не нашли. Представитель Маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся и перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали: «Шумные аплодисменты, переходящие и овацию…» Потом подумали над тем, что «переходящие в овацию…» будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил. Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл туш. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться. Наконец нашли Треухова. Он был испачкан и, прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. — Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Треухову! — радостно возвестил Гаврилин. — Ну, говори, а то я совсем не то говорил, — добавил он шепотом. Треухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. А сделать можно много: можно освободить народ от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого ледоходом, можно, наконец, осуществить проект постройки огромной маслохладобойни. Треухов открыл рот и, запинаясь, заговорил: — Товарищи! Международное положение нашего государства… И дальше замямлил такие прописные истины, что пиши, слушавшая уже шестую международную речь, помолодела. Только окончив. Треухов понял, что и он ни попа не сказал о трамвае. «Вот обидно. — подумал он, — абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно». И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера, — восклицал он, — эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин…» Первую часть речи француз произносил в тоне ля, вторую часть — в тоне до и последнюю, патетическую, — в тоне ми. Жесты его были умеренны и красивы. «А мы только муть разводим, — решил Треухов, — лучше б совсем не говорили». Было уже совсем темно, когда председатель губисполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Треухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещенные вагоны казались еще ослепительнее, чем днем. Все они плыли цугом по Гусищу; пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденного. Гаврилин, в кондукторской форменной тужурке, с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на
1 мая в 9 ч. вечера ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, имеющий быть в клубе коммунальников по следующей программе:
1. Доклад т. Мосина 2. Вручение грамоты союзом коммунальников 3. Неофициальная часть: большой концерт и семейный ужин с буфетом.
На площадке последнего вагона стоял неизвестно кик попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно. Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. — Воздушный тормоз работает неважно, — заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров, — не всасывает. — Тебя не спросили, — ответил вагоновожатый, — авось засосет. Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Треухова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но, так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали т. Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а, строго и серьезно глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полесов заметил, что его держит за ногу и смеется гадким смехом не к го иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят. Вик-юр Михайлович осторожно последовал за ними. Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком «фиате» поджидал отдававшего последние распоряжения Треухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамова яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик-модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо. — Внимание! — крикнул бородатый армяковладелец. — Коля! Ставь юпитера! Треухов заалелся и двинулся к ночным посетителям. — Это вы кино? — спросил он. — Что ж вы днем не приехали? — А когда назначено открытие трамвая? — Он уже открыт. — Да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца! Впрочем, мы и так справимся. Коля! Давай свет! Вертящееся колесо! Крупно! Двигающиеся ноги толпы — крупно. Люда! Милочка! Пройдитесь! Коля, начали! Начали. Пошли! Идите, идите, идите… Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Треухов? Будьте добры, товарищ Треухов. Нет, не так. В три четверти… Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая… Коля! Начали! Говорите что-нибудь!.. — Ну, мне, право, так неудобно!.. — Великолепно!.. Хорошо!.. Еще говорите!.. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая… Люда! Войдите в рамку. Так. Дышите глубже: вы взволнованы!.. Коля! Ноги крупно!.. Начали!.. Так, так… Большое спасибо… Стоп!.. С давно дрожавшего «фиата» тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился. — Коля! Сюда! Прекрасный типаж. Рабочий! Пасса жир трамвая! Дышите глубже. Вы взволнованы. Вы ни когда прежде не ездили в трамвае. Начали! Дышите! Гаврилин с ненавистью засопел. — Прекрасно!.. Милочка!.. Иди сюда! Привет от комсомола!.. Дышите глубже. Вы взволнованы… Так… Пре красно. Коля, кончили. — А трамвай снимать не будете? — спросил Треухом застенчиво. — Видите ли, — промычал кожаный режиссер, — условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую! Кинохроника молниеносно исчезла. — Ну, поедем, дружок, отдыхать, — сказал Гаврилин. — Ты что, закурил? — Закурил, — сознался Треухов, — не выдержал. На семейном вечере голодный накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил: — Ты чудак! Тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты! Это замечательная наука. И главное — абсолютно простая. Мост через Гудзон… Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес филиппику, направленную против буржуазной прессы: — Эти акробаты фарса, эти гиены пера! Эти виртуозы ротационных машин! — кричал он. Домой его отвезла жена на извозчике. — Хочу ехать на трамвае, — говорил он жене, — ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать!.. Почему? Во-первых, это выгодно…
Полесов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову. — Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич, — сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе. — Не имею чести, — пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю интеллигенту. — Ну-ну, — сказал он, — что вы хотите сказать моему другу? — Вам не надо беспокоиться, — зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. — Я от Елены Станиславовны. — Как? Она здесь? — Здесь. И очень хочет вас видеть. — Зачем? — спросил Остап. — А вы кто такой? — Я… Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню. — Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне, — нерешительно сказал Воробьянинов. — Она чрезвычайно просила вас прийти. — Да, но откуда она узнала?.. — Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал: знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь! Все будет совершенно тайно. — Знакомая женщина? — спросил Остап деловито. — М-да, старая знакомая… — Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто. — Пожалуй. — Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец. И Виктор Михайлович проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки, в Перелешинский переулок.
Глава XV «СОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА»
Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности: могут выпасть зубы, поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы. Поэтому, когда Полесов постучал в дверь и Елена Станиславовна спросила: «Кто там?» — Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году, перед открытием парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. — Как вы изменились! — сказал он невольно. Старуха бросилась ему на шею. — Спасибо, — сказала она, — я знаю, чем вы рискова ли, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я иг спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна. — Но я приехал вовсе не из Парижа, — растерянно сказал Воробьянинов. — Мы с коллегой прибыли из Берлина, — поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича, — об этом не рекомендуется говорить вслух. — Ах, я так рада вас видеть! — возопила гадалка. — Войдите сюда, в эту комнату… А вы, Виктор Михайлович. простите, но не зайдете ли вы через полчаса? — О! — заметил Остап. — Первое свидание! Трудные минуты! Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами. любезнейший Виктор Михайлович? Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкою с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. — А вы помните. Елена Станиславовна? — говорил Ипполит Матвеевич. — А вы помните, Ипполит Матвеевич? — говорила Клена Станиславовна. «Кажется, наступил психологический момент для ужина». — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: — В Берлине есть очень странный обычай: там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед. Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. — А теперь действовать, действовать и действовать! — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. — Старуха не подкачает? Надежная женщина? Полесов молитвенно сложил руки. — Ваше политическое кредо? — Всегда! — восторженно ответил Полесов. — Вы, надеюсь, кирилловец? — Так точно. Полесов вытянулся в струну. — Россия вас не забудет! — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. — Мадам, — сказал он, — мы счастливы видеть в вашем лице… Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту. Поэтому он начал деловито: — Строгий секрет! Государственная тайна! Остап показал рукой на Воробьянинова: — Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору. Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полесове все происходящее вы звало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа. — Наших в городе много? — спросил Остап напрямик. — Каково настроение? — При наличии отсутствия… — сказал Виктор Михайлович и стал путано объяснять свои беды, туг был и дворник дома № 5. возомнивший о себе хам, и плашки в три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее. — Хорошо! — грянул Остап. — Елена Станиславовна! С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам? — Кого ж можно пригласить? Максима Петровича разве с женой? — Без жены, — поправил Остап, — без жены! Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого? В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Вик-гор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина «Быстроупака» Дядьева, председателя «Одесской бубличной артели — Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. — В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание. Под величайшим секретом. Заговорил Полесов: — Я побегу к Максиму Петровичу, за Никешей и Владей. а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в «Быстроупак» и за Кислярским. Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрена на Ипполита Матвеевича и тоже ушла. — Что это значит? — спросил Ипполит Матвеевич. — Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. — Почему? — Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько вас есть денег? — Каких денег? — Всяких. Включая серебро и медь. — Тридцать пять рублей. — И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию? Ипполит Матвеевич молчал. — Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору. — Зачем? — Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день. — Что же я должен делать? — простонал Ипполит Матвеевич. — Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки. — Но ведь это же… обман. — Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки. — К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести. — Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай. Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание. Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову: — Вы в каком полку служили? Чарушников запыхтел. — Я… я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам. — Вы дворянин? — Да. Был. — Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил? Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание! Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил: — В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание. Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной владельцу «Быстроупака», Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил, и обещал содействие заграницы и полную тайну организации. Первым чувством владельца «Быстроупака» было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: «А вдруг!.. Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано». Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей. — Крепитесь, — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. — Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа. Кислярский сочувственно загрустил. — Вы знаете, кто это сидит? — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. — Как же, — ответил Кислярский, — это господин Воробьянинов. — Это, — сказал Остап, — гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору. «В лучшем случае — два года со строгой изоляцией, — подумал Кислярский, начиная дрожать. — Зачем я сюда пришел?» — Тайный союз меча и орала! — зловеще прошептал Остап. «Десять лет», — мелькнула у Кислярского мысль. — Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки! «Я тебе покажу, сукин сын, — подумал Остап. — Меньше, чем за сто рублей, я тебя не выпущу». Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном «союзе меча и орала». Он остался: «длинные руки» произвели на него невыгодное впечатление. — Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не понял своего нового друга — молодого гвардейца. «Какие дети? — подумал он. — Почему дети?» Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено, — решил он, — под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет! Не вышло — мое дело шестнадцатое. Помогал детям — и дело с концом». Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. Кислярский был на седьмом небе. «Золотая голова», — думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. — Товарищи! — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. — Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленые Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа. — В порядке старшинства, господа, — сказал Остап. — начнем с уважаемого Максима Петровича. Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей. — В лучшие времена дам больше! — заявил он. — Лучшие времена скоро наступят, — сказал Ости. — Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. Восемь рублей дали Никеша с Владей. — Мало, молодые люди. Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес пятьдесят. — Браво, гусар! — сказал Остап. — Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество? Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был неумолим: — В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними. Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей. — Всего, — возгласил Остап, — четыреста восемьдесят восемь рублей. Эх! Двенадцати рублей не хватает для ровного счета. Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в ридикюле искомые двенадцать рублей. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. — О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, — говорил Остап на прощание, — строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне… Это, кстати, в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. — Ну, — сказал Остап, — будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел. Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого, и вышел на улицу. Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат пятьсот честно заработанных рублей. — Извозчик! — крикнул он. — Вези в «Феникс»! — Это можно, — сказал извозчик. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану. — Это что? Закрыто? — По случаю Первого мая. — Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде! Ну, тогда валяй на улицу Плеханова. Знаешь? Остап решил поехать к своей невесте. — А раньше как эта улица называлась? — спросил извозчик. — Не знаю. — Куда же ехать? И я не знаю. Тем не менее Остап велел ехать и искать. Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и наконец сообщил, что Плеханова — не иначе как бывшая Губернаторская. — Ну, Губернаторская! Я Губернаторскую хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на Губернаторскую. — Ну, и езжай! Приехали на Губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. Но не нашел ее. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься. — Вези в «Сорбонну»! — крикнул он. — Тоже извозчик! Плеханова не знаешь!Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король — сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос — обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Потому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии: товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжение всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «горько». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: — Так вы не тяните. Они там. — Вы — стяжатель, — ответил пьяный Остап, — ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету. Чтоб все было готово. Адье, фельдмаршал! Пожелайте мне спокойной ночи. Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в «Сорбонну» волноваться. В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посредине комнаты и сел. — Как это вам удалось? — выговорил наконец Воробьянинов. — Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. «На заре ты ее не буди». Увы! Пришлось оставить любимой записку: «Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди. Твой Суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет — отдыхал на стуле по пути. Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. — Тихо, — сказал Остап, — нужно действовать без шума. Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела. — Вы дверь заперли? — спросил Остап. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках. — Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь. Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения. — Готово, — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица. — Ну? — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. — Ну? Ну? — Ну и ну, — отвечал Остап раздраженно, — один шанс против одиннадцати. И этот шанс… Он хорошенько порылся в стуле и закончил: — И этот шанс пока не наш. Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Брильянтов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр. — Теперь наши шансы увеличились. Он походил по комнате. — Ничего! Этот стул обошелся вдове больше, чем нам. Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что гыл соучастником обыкновенной кражи. — Пошлая вещь, — заметил Остап, — но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конец в Москве. А мебельный музей — это вам не вдова; там потруднее будет! Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги (их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось пятьсот тридцать пять рублей), выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчике. На Кооперативной они увидели Полесова, бежавшего но тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома № 5 по Перелешинскому переулку. Заворачивая за угол, концессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «караул!» и «хам!». Возле самого вокзала, на Гусище, пришлось переждать похоронную процессию. На грузовой платформе, содрогаясь, ехал гроб, за которым следовал совершенно обессиленный Варфоломеич. Каверзная бабушка умерла как раз в тот год, когда он перестал делать страховые взносы. До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной. Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну. Вагоны проносились над Гусищем. Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс. — Смотрите, смотрите! — крикнул он. — Скорее! Альхен, с-сукин сын!.. Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей фисгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке. Солнце пробилось сквозь тучи. Сияли кресты церквей. Остап, хохоча, высунулся из окна и гаркнул: — Пашка! На толкучку едешь? Паша Эмильевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами. — Видели? — радостно спросил Остап. — Красота! Вот работают люди! Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине. — Ничего, папаша! Не унывайте! Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве!
Часть вторая
В МОСКВЕ
Глава XVI СРЕДИ ОКЕАНА СТУЛЬЕВ
Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР г подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, — книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки, с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок. Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц! Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом прячутся пи кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в Пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перца пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки: нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках. Кто же этот розовощекий индивид — обжора, пьянчуга и сластун? Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс? Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл? Это не Лукулл. Это — Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов; средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это — нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в гос-магазине галантереи и трикотажа. От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных, шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в сто сорок три миллиона человек. Если отбросить девяносто миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке — истертые ковры и паласы, то все же остается пятьдесят миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее двадцати шести с половиной миллионов. Для верности откажемся еще от шести с половиной миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным. Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой. Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.Глава XVII ОБЩЕЖИТИЕ ИМЕНИ МОНАХА БЕРТОЛЬДА ШВАРЦА
Неяркое московское небо было обложено по краям лепными облаками. Трамваи визжали на поворотах так естественно, что казалось, будто визжит не вагон, а сам кондуктор, приплюснутый совработниками к табличке «Курить и пленить воспрещается». Курить и плевать воспрещалось, но толкать кондуктора в живот, дышать ему в ухо и придираться к нему без всякого повода, очевидно, не воспрещалось. И этим спешили воспользоваться все. Был критический час. Земные и неземные создания спешили на службу. Мелкая птичья шушера, покрытая первой майской пылью, буянила на деревьях. У Дома народов трамваи высаживали граждан и облегченно уносились дальше. С трех сторон к Дому народов подходили служащие и исчезали в трех подъездах. Дом стоял большим белым пятиэтажным квадратом, прорезанным тысячью окон. По этажам и коридорам топали ноги секретарей, машинисток, управделов, экспедиторов с нагрузкой, репортеров, курьерш и поэтов. Весь служебный люд принимался неторопливо вершить обычные и нужные дела, за исключением поэтов, которые разносили стихи по редакциям ведомственных журналов. Дом народов был богат учреждениями и служащими. Учреждений было больше, чем в уездном городе домов. На втором этаже версту коридора занимала редакция и контора большой ежедневной газеты «Станок». Окна редакции выходили на внутренний двор, где по кругу спортивной площадки носился стриженый физкультурник в голубых трусиках и мягких туфлях, тренируясь в беге. Еще не загоревшие белые ноги его мелькали между деревьями. В редакционных комнатах происходили короткие стычки между сотрудниками. Выясняли очередность ухода в отпуск. С криками «Бархатный сезон» все поголовно сотрудники выражали желание взять отпуск исключительно в августе. Когда председатель месткома был доведен претензиями до изнурения, репортер Персицкий с сожалением оторвался от телефона, по которому узнавал о достижениях акционерного общества «Меринос», и заявил: — А я не поеду в августе. Запишите меня на июнь. В августе малярия. — Ну вот и хорошо, — сказал председатель. Но тут все сотрудники тоже перенесли свои симпатии на июнь. Председатель в раздражении бросил список и ушел. К Дому народов подъехал на извозчике модный писатель Агафон Шахов. Стенной спиртовой термометр показывал восемнадцать градусов тепла, но на Шахове было мохнатое демисезонное пальто, белое кашне, каракулевая шапка с проседью и большие полуглубокие калоши — Агафон Шахов заботливо оберегал свое здоровье. Лучшим украшением лица Агафона Шахова была котлетообразная бородка. Полные щеки цвета лососиного мяса были прекрасны. Глаза смотрели почти мудро. Писателю было под сорок. Писать и печататься он начал с пятнадцати лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава. Это началось тогда, когда Агафон Шахов стал писать романы с психологией и выносить на суд читателя разнообразные проблемы. Перед читателями, а главным образом читательницами замелькали проблемы в красивых переплетах, с посвящением на особой странице: «Советской молодежи», «Вузовцам московским посвящаю», «Молодым девушкам». Проблемы были такие: пол и брак, брак и любовь, любовь и пол, пол и ревность, ревность и любовь, брак и ревность. Спрыснутые небольшой долей советской идеологии, романы получили обширный сбыт. С тех пор Шахов стал часто говорить, что его любят студенты. Однако вечно питаться браком и ревностью оказалось затруднительным. Критика зашипела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался. И погрузился в газеты. В страхе он сел было за роман, трактующий о снижении накладных расходов, и даже написал восемьдесят страниц в три дня. Но в развернувшуюся любовную передрягу ответственного работника с тремя дамочками не смог «ставить ни одного слова о снижении накладных расходов. Пришлось бросить. Однако восьмидесяти страниц было жалко, и Шахов быстро перешел на проблему растрат. Ответственный работник был обращен в кассира, а дамочки оставлены. Над характером кассира Шахов по трудился и наградил его страстями римского императора Нерона. Роман был написан в две недели и через полтора месяца увидел свет. Слезши с извозчика у Дома народов, Шахов любовно окупал в кармане новенькую книжку и вошел в подъезд. По дороге писатель все время посматривал на задники своих калош: не стерлись ли. Он подошел к клетке лифта и стал ждать. Подняться ему нужно было только на второй этаж, но он берег здоровье, да и лифт в Доме народов налагался бесплатно. Шахов вошел в отдел быта редакции «Станка», в котором часто печатался, и, ни с кем не поздоровавшись, спросил: — Платят у вас сегодня? Ну и хорошо. А что, «милостивый государь» еще не растратился? «Милостивым государем» в редакции и конторе звали кассира Асокина. С него Шахов писал своего героя, и вся редакция, включая самого кассира, знала это. Сотрудники отрицательно замотали головами. Шахов пошел в кассу получать деньги за рассказ. — Здравствуй, «милостивый государь», — сказал писатель, — ты, я слышал, деньги даешь сегодня. — Даю, Агафон Васильевич. Кассир просунул в окошечко ведомость и химический карандаш. — Вы, я слышал, произведение новое написали? Ребята рассказывали. — Написал. — Меня, говорят, описали? — Ты там самый главный. Кассир обрадовался. — Так вы хоть дайте почитать, раз все равно описали. Шахов достал свежую книжку и тем же карандашом, которым он расписывался в ведомости, надписал на титульном листе: «Тов. Асокину дружески. Агафон Шахов». — На, читай. Тираж десять тысяч. Вся Россия тебя знать будет. Кассир благоговейно принял книгу и положил ее в несгораемый шкаф на пачки червонцев.Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. «Стар-городская правда» от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути — последний час перед Москвой. Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников. Налетела Удельная, потом Малаховка, сгинуло куда-то Красково. — Смотрите, Воробьянинов! — закричал Остап. — Видите — двухэтажная дача. Это дача Медсантруда. — Вижу. Хорошая дача. — Я жил в ней прошлый сезон. — Вы разве медик? — рассеянно спросил Воробьянинов. — Для того чтобы жить на такой даче, не нужно быть медиком. Ипполит Матвеевич удовлетворился этим странным объяснением. Он волновался. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними. — Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. Обойдется? — встревоженно говорил он. — Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если мы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы. Стрелочники трубили. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны. — Белый изотермический. Ташкентская, срочный возврат, годен для рыбы и мяса, оборудован крючьями. — Темный дуб, палубная обшивка, мягкие рессоры, спальный вагон прямого сообщения. — Дюжина товарных Рязано-Уральской дороги. Измараны меловыми знаками. — Нефтяные цистерны. Срочный возврат в Баку. — Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вагон-клуб дорпрофсожа М.-Казанской дороги. — Раз, два, три… Восемь… Десять… Платформы, груженные лесом. И вдруг, в стороне, забытый вагон — обтрепанный вагон-микст с надписью: «Деникинский фронт». Пути вздваивались. Поезд выскочил из коридора. Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли паровоз в стойло. От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва. Это был Рязанский — самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Московские вокзалы — ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают тридцать тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа (шаровары и толстые шерстяные чулки наружу). С Курского — попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского — выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик — наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик, это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это — башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебникове. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии — сто тридцать верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших. Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале. Это узбеки в белых кисейных чалмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками Зодиака циферблат Миланского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять. — Очень удобно для свиданий! — сказал Остап. — Всегда есть десять минут форы. — Мы куда теперь? В гостиницу? — спросил Воробьянинов, сходя с вокзальной паперти и трусливо озираясь. — Здесь в гостиницах, — сообщил Остап, — живут только граждане, приезжающие по командировкам, а мы, дорогой товарищ, частники. Мы не любим накладных расходов. Остап подошел к извозчику, молча уселся и широким жестом пригласил Ипполита Матвеевича. — На Сивцев Вражек! — сказал он. — Восемь гривен. Извозчик обомлел. Завязался нудный спор, в котором часто упоминались цены на овес и ключ от квартиры, где деньги лежат. Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. Подле реставрированных тщанием Главнауки Красных ворот расположились заляпанные известкой маляры с саженными кистями, плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плотно облепили угол Садовой-Спасской. — Запасный дворец, — заметил Ипполит Матвеевич, глядя на длинное, белое с зеленым, здание по Новой Басманной. — Работал я и в этом дворце, — сказал Остап, — он. кстати, не дворец, а НКПС. Там служащие, вероятно, до сих пор носят эмалевые нагрудные знаки, которые я изобрел и распространял. А вот и Мясницкая. Замечательная улица. Здесь можно подохнуть с голоду. Не будете же вы есть на первое шарикоподшипники, а на второе — мельничные жернова. Туг ничем другим не торгуют. — Туг и раньше так было. Хорошо помню. Я заказы вал на Мясницкой громоотводы для своего старгородского дома. Когда проезжали Лубянскую площадь, Ипполит Матвеевич забеспокоился. — Куда мы, однако, едем? — спросил Ипполит Матвеевич. — К хорошим людям, — ответил Остап, — в Москве их масса. И все мои знакомые. — И мы у них остановимся? — Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется. В сквере против Большого театра уже торчала паль мочка, анонсируя, что лето наступило и что желающие подышать свежим воздухом должны немедленно уехать не менее чем за две тысячи верст. В академических театрах еще свирепствовала зима. Зимний сезон был в разгаре. Афиши сообщали о первом представлении оперы «Любовь к трем апельсинам», о «Последнем концерте перед отъездом за границу знаменитого тенора Дмитрия Смирнова» и о всемирно известном капитане с его шестьюдесятью крокодилами в Первом госцирке. В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы. На углу Тверской беготня экипажей, как механических. так и приводимых в движение конной тягой, была особенно бурной. Дворники поливали мостовые и тротуары из тонких, как краковская колбаса, шлангов. Со стороны Моховой выехал ломовик, груженный фанерными ящиками с папиросами «Наша марка». — Уважаемый! — крикнул он дворнику. — Искупай лошадь! Дворник любезно согласился и перевел струю на рыжего битюга. Битюг, плотно упершись передними ногами, позволил себя купать. Из рыжего он превратился в мерного и сделался похож на памятник некоей лошади. Движение конных и механических экипажей остановилось. Купающийся битюг стоял на самом неудобном месте. По всей Тверской, Охотному ряду, Моховой и даже Театральной площади машины переменяли скорость и останавливались. Место происшествия со всех сторон окружали очереди автобусов. Шоферы дышали горячим бензином и гневом. Зеркальные дверцы их кабинок распахивались, и оттуда несся крик: — Чего стал? — Дай лошадь искупать! — огрызался возчик. — Да проезжай ты, говорят тебе, ворона! Образовалась такая большая пробка, что движение застопорилось даже на Лубянской площади. Дворник давно уже перестал поливать лошадь, и освежившийся битюг успел обсохнуть и покрыться пылью, но пробка все увеличивалась. Выбраться из всей этой каши возчик не мог, и битюг все еще стоял поперек улицы. Посреди содома находились концессионеры. Остап, стоя в пролетке, как полицмейстер, мчащийся на пожар, отпускал сардонические замечания и нетерпеливо ерзал ногами. Через полчаса движение было урегулировано, и путники выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом Вражке. — Что это за дом? — спросил Ипполит Матвеевич. Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил: — Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. — Неужели монаха? — Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашко. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик мах нули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов МУНИ. Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди. Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. — Свет и воздух, — сказал Остап. Внезапно в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеевича, кто-то засопел. — Не пугайтесь, — заметил Остап, — это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики, — лучший проводник звука. Осторожнее! Держитесь за меня! Туг где-то должен быть несгораемый шкаф. Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. — Что, больно? — осведомился Остап. — Это еще ничего. Это — физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений — жутко вспомнить. Туг вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопуло. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них ни дал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись к мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы. — Ты дома, Коля? — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели. — Дома, — ответили за дверью. — Опять к этому дураку гости спозаранку пришли! — зашептал женский голос из крайнего пенала слева. — Да дайте же человеку поспать! — буркнул пенал № 2. В третьем пенале радостно зашипели: — К Кольке из милиции пришли. За вчерашнее стекло. В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми — для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены — и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались. — Прекрасное утро, сударыня, — сказал Ипполит Матвеевич. Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале. — Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте! И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала: — Зверевы дураки! За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев. — Видите? Они ничего не слышат. Зверевы дураки, болваны и психопаты. Видите!.. — Да. — сказал Ипполит Матвеевич. — А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну вот мы и ходим. Я очень люблю мясо. А там котлеты ил лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле.. В это время вернулся Коля с Остапом. — Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею. — Верно, ребята! — закричал Коля. — Идите к Иванопуло. Это свой парень. — Приходите к нам в гости, — сказала Колина же на, — мы с мужем будем очень рады. — Опять в гости зовут! — возмутились в крайнем пенале. — Мало им гостей! — А вы — дураки, болваны и психопаты, не ваше дело! — сказала Колина жена, не повышая голоса. — Ты слышишь, Иван Андреевич, — заволновались в крайнем пенале, — твою жену оскорбляют, а ты молчишь. Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз, к Иванопуло. Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег кичку. На дверях висела записка: «Буду не раньше 9 ч. Пантелей». — Не беда, — сказал Остап, — я знаю, где ключ. Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Иванопуло была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца. — Отлично устроимся, — сказал Остап, — приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей — сукин сын! Куда он девал матрац, интересно знать? Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической Лишни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы. — Аут, — сказал Остап, — класс игры невысокий. Однако, давайте отдыхать. Концессионеры разостлали на полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой. Не успели они как следует улечься на телеграммах и хронике театральной жизни, как в соседней комнате послышался шум раскрываемого окна, и сосед Пантелея вызывающе крикнул теннисистам: — Да здравствует Советская Республика! Долой хищ-ни-ков им-периа-лиз-ма! Крики эти повторялись минут десять. Остап удивился и поднялся с полу. — Что это за коллекционер хищников? Высунувшись за подоконник, он посмотрел вправо и увидел у соседнего окна двух молодых людей. Он сразу заметил, что они кричат о хищниках только тогда, когда мимо их окна проходит милиционер с поста у посольства. Милиционер озабоченно поглядывал то на молодых людей, то за решетку, где играли в теннис. Положение его было тяжелое. Крики о хищниках все продолжались, и он не знал, что предпринять. С одной стороны, эти возгласы были вполне естественны и не заключали в себе ничего непристойного. А с другой стороны, хищники в белых штанах, игравшие за решеткой в теннис, могли принять это на свой счет и обидеться. Не будучи в со стоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. Дипломатическое затруднение наконец закончилось. К молодым людям пришли гости, и соседи занялись громогласным решением шахматной задачи. Остап повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.
Глава XVIII УВАЖАЙТЕ МАТРАЦЫ, ГРАЖДАНЕ!
— Лиза, пойдем обедать! — Мне не хочется. Я вчера уже обедала. — Я тебя не понимаю. — Не пойду я есть фальшивого зайца. — Ну и глупо! — Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. — Сегодня будешь есть шарлотку. — Мне что-то не хочется. — Говори тише. Все слышно. И молодые супруги перешли на драматический шепот. Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. — Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? — закричал Коля, в горячности не учтя подслушивающих соседей. — Да говори тише! — громко закричала Лиза. — И потом ты ко мне плохо относишься. Да! Я люблю мясо! Иногда. Что же тут дурного? Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления. Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих (одно первое — борщ монастырский и одно второе — фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» — задумывался он вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке минную и тонкую линию. При таких условиях перейти к мясоедение значило гибель. Поэтому Коля пылко заговорил: — Подумай только, пожирать трупы убитых животных. Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса. — Конечно, — с застенчивой иронией сказала Лиза, — например, ангина. — Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. — Как это глупо! — Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов. — Ты хочешь сказать, что я дура? — Это глупо. — Глупая дура? — Отстань, пожалуйста. Что это такое, в самом деле? Коля вдруг замолчал. Все больше и больше заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши, картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет. — Ведь ты пойми, — закричал Коля, — какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни! — Пусть отнимает! — сказала Лиза. — Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить. — Почему же ты не хотела говорить? — У меня не было сил. Я боялась заплакать. — А теперь ты не боишься? — Теперь мне уже все равно. Лиза всплакнула. — Лев Толстой, — сказал Коля дрожащим голосом, — тоже не ел мяса. — Да-а, — ответила Лиза, икая от слез, — граф ел спаржу. — Спаржа не мясо. — А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда «Анну Каренину» писал — лопал, лопал, лопал! — Да замолчи! — Лопал! Лопал! Лопал! — А когда «Крейцерову сонату» писал, тогда тоже лопал? — ядовито спросил Коля. — «Крейцерова соната» маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках! — Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым? — Я к тебе прицепилась с Толстым? Я? Я к вам прицепилась с Толстым? Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку. — Куда ты идешь? — Оставь меня в покое. Иду по делу. И Лиза убежала. «Куда она могла пойти?» — подумал Коля. Он прислушался. — Много воли дано вашей сестре при советской власти. — сказали в крайнем слева пенале. — Утопится! — решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. Лиза взволнованно бежала по улицам.Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрацы. Молодожены и советские середняки — главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую, я лоснящихся цветочках, основу своего счастья! Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это — семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса! Как сладко спать под демократический звон его пружин! Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге! Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец. Человек, лишенный матраца, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не дают ему взаймы денег «до среды», шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним: они не любят идеалистов. Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи:
Под мягкий звон часов Буре приятно отдыхать в качалке.
Снежинки вьются на дворе, и, как мечты, летают галки.
Глава XIX МУЗЕЙ МЕБЕЛИ
Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской:МУЗЕЙ МЕБЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Возвращаться домой было неудобно. Идти было не к кому. В карманчике лежало двадцать копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Лиза пошла в вестибюль. Там она сразу наткнулась на человека в подержанной Породе, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы: — Богато жили люди! Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх. В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой — мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. (гол был безбрежен. Сесть за него было все равно что гость за Театральную площадь, причем Большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняг, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло Пег ценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило — ничего себе. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчаясь тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор. По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала усебя под ногами. Дивясь и млея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые — Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик. — Вот хорошо! — сказала Лиза. — Будет не так скучно. Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками. Она бежала мимо парчовых кресел итальянского Возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек на этой постели казался бы не больше ореха. Зал был где-то под ногами, может быть, справа, но попасть в него было невозможно. Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи-Сез. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. Подходя, Лиза услышала звучный голос: — Мебель в стиле шик-модерн. Но это, кажется, не то. что нам нужно. — Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие залы. Нам необходимо систематически все осмотреть. — Здравствуйте, — сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились. — Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла. А то одной скучно. Давайте смотреть все вместе. Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков брильянтовой мебели. — Мы — типичные провинциалы, — сказал Бендер нетерпеливо, — но как попали сюда вы, москвичка? — Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей. — Вот как? — заметил Ипполит Матвеевич. — Ну, покинем этот зал, — сказал Остап. — А я его еще не смотрела. Он такой красивенький. — Начинается! — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил: — Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского. — Туг где-то, мне говорили, есть мебель мастера Гамбса. — сообщил Ипполит Матвеевич, — туда, пожалуй, исправимся. Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова под руку (он казался ей удивительно милым представителем науки), понравилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. К го смешил предводитель команчей в роли кавалера. Лиза сильно стесняла концессионеров. В то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подогну застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратных сажени, то и тогда средневековое ложе не поместилось бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гамбса. — Потерпим, — шепнул Остап, — мебель не уйдет: и вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную. Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно. Им не было конца. Мебель александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг. — Смотрите, смотрите! — доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав. — Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате. Правда? — Прелестная мебель! — гневно сказал Остап. — Упадочная только. Мебель не произвела на Ипполита Матвеевича должного впечатления. Между тем она была прекрасна. Совершенство ее форм поражало глаз. Лиза мечтательно сказала: — На этом кресле, может быть, сидел Пушкин. — Кто вы говорите? Пушкин? — спросил Остап. — Сейчас я узнаю. Остап стал на колени и заглянул под сиденье. — На нем сидел О’Генри в бытность его в американской тюрьме Синг-Синг. Вы удовлетворены? А теперь мы смело можем перейти в другую комнату. Стада диванов, секретеров, горок, шкафов — все стили, все времена, все эпохи — были осмотрены концессионерами, а залы, большие и маленькие, все еще тянулись. — А здесь я уже была, — сказала Лиза, входя в красную гостиную, — здесь, я думаю, останавливаться не стоит. К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые. — Что же вы стали? Пойдемте. Я уже устала. — Подождите, — сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки, — одну минуточку. Большая комната была перегружена мебелью. Гамбсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным. — Вы устали, барышня, — сказал он Лизе, — присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал. Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну. — Они? — опросил Остап. — Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть. — Все стулья тут? — Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите… Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул. — Позвольте, — сказал он наконец, — двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять. — А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья. Они стали ходить между стульями. — Ну? — торопил Остап. — Спинка как будто не такая, как у моих. — Значит, не те? — Не те. — Напрасно я с вами связался, кажется. Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен. — Ладно, — сказал Остап, — заседание продолжается. Стул — не иголка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду. — Чего это вы такой грустный? — говорила Лиза. — Вы устали? Ипполит Матвеевич отделывался молчанием. — У вас голова болит? — Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие жен- ной ласки сказывается на жизненном укладе. Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначавшихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного загса к неудобному и хлопотливому быту охотника за брильянтами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачовой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать. — Да. — сказал он, нежно глядя на собеседницу, — такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета… — Петровна. А вас как зовут? Обменялись именами-отчествами. «Сказка любви дорогой», — подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о редерерах, ни о дамских оркестрах и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось! И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже. — Вы научный работник? — спросила Лиза. — Да, некоторым образом, — ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство. — А сколько вам лет, простите за нескромность? — К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения. Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена. — Но все-таки? Тридцать? Сорок? Пятьдесят? — Почти. Тридцать восемь. — Ого! Вы выглядите значительно моложе. Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым. — Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? — спросил Ипполит Матвеевич в нос. Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала. — Куда это товарищ Бендер запропастился? — сказала она тоненьким голосом. — Так когда же? — спросил Воробьянинов нетерпеливо. — Когда и где мы увидимся? — Ну, я не знаю. Когда хотите. — Сегодня можно? — Сегодня? — Умоляю вас. — Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам. — Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие Погоды замечательные. Знаете стихи: «Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом». — Это Жарова стихи? — М-м… Кажется. Так сегодня? Где же? — Какой вы странный! Где хотите. Хотите — у несгораемого шкафа? Знаете? Когда стемнеет. Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно, в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит. — Простите, мадемуазель, — сказал он быстро, — но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место. У Ипполита Матвеевича захватило дыханье. — До свиданья, Елизавета Петровна, — сказал он поспешно, — простите, простите, простите, но мы страшно спешим. И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гамбсовской мебелью. — Если бы не я, — сказал Остап, когда они спускались по лестнице, — ни черта бы не вышло. Молитесь на меня! Молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится! Слушайте! Ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией? — Что за издевательство! — воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под ига могучего интеллекта сына турецко-подданного. — Молчание, — холодно сказал Остап, — вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель — кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой. — Ну, и что же? — закричал Ипполит Матвеевич. — Что же сказал вам заведующий? — Сказал все, что надо. Не волнуйтесь. «Скажите, — спросил я его, — чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности?» Спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. «Какая это мебель? — спрашивает он. — У меня в музее таких фактов не наблюдается». Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги. Искал полчаса и наконец возвращается. Ну, как вы себе представляете? Где эта мебель? — Пропала? — пискнул Воробьянинов. — Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее светили в склад, и только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет (она лежала на складе семь лет!), она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион Главнауки. И, если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша! Вы удовлетворены? — Скорее! — закричал Ипполит Матвеевич. — Извозчик! — завопил Остап. Они сели не торгуясь. — Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал! Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет. В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны. — Они? — спросил Остап. — Боже, боже, — твердил Ипполит Матвеевич, — они, они. Они самые. На этот раз сомнений никаких. — На всякий случай проверим, — сказал Остап, стараясь быть спокойным. Он подошел к продавцу: — Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея? — Эти? Эти — да. — А они продаются? — Продаются. — Какая цена? — Цены еще нет. Они у нас идут с аукциона. — Ага. Сегодня? — Нет. Сегодня торг уже кончился. Завтра с пяти часов. — А сейчас они не продаются? — Нет. Завтра с пяти часов. Так, сразу же, уйти от стульев было невозможно. — Разрешите, — пролепетал Ипполит Матвеевич, — осмотреть. Можно? Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем. — Молитесь на меня! — шептал Остап. — Молитесь, предводитель. Ипполит Матвеевич был готов не только молиться ни Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет. — Завтра, — говорил он, — завтра, завтра, завтра. Ему хотелось петь.
Глава XX БАЛЛОТИРОВКА ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам, в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными. Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайное ситечко, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом. Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору «Старгородской правды», и там ей живо состряпали объявление:УМОЛЯЮ лиц, знающих местопребывание. Ушел из дому т. Бендер, лет 25–30. Одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет.
Указавш. прошу сообщ. за приличн. вознагражд. Ул. Плеханова. 15. Грицацуевой.
— Это ваш сын? — участливо осведомились в конторе. — Муж он мне! — ответила страдалица, закрывая лицо платком. — Ах, муж! — Законный. А что? — Да ничего. Вы бы в милицию все-таки обратились. Вдова испугалась. Милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла. Троекратно прозвучал призыв со страниц «Старгородской правды». Но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих местопребывание брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознагражден и ем. Соседки судачили. Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело: муж мелькнул, как ракета, утащив с собой в черное небо хороший стул и семейное ситечко, и вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой?
К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голо сами: «Местов нет», и все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлонич Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик: «Получите билеты!» — Полесов важно говорил: «Годиной», — и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть. Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах гадалкой. — А как вы думаете, Елена Станиславовна, — говорил он, чем объяснить отсутствие наших руководителей? Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений. — А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, — продолжал неугомонный слесарь, — что они выполняют сейчас особое задание? Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря: «Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором. Тебе будут подчинены все слесаря. А дворник дома № 5 так и останется дворником, возомнившим о себе хамом». — А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак нельзя сидеть сложа руки! Гадалка согласилась и заметила: — А ведь Ипполит Матвеевич герой! — Герой, Елена Станиславовна! Ясно. А этот боевой офицер с ним? Деловой человек! Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может. Решительно не может. И Полесов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества «Меча и орала», особенно допекая осторожного владельца «Одесской бубличной артели — «Московские баранки», гражданина Кислярского. При виде Полесова Кислярский чернел. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до умоисступления. К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел. — Ты. Виктор, не болбочи, — говорил ему рассудительный Дядьев, — чего ты целыми днями по городу носишься? — Надо действовать! — кричал Полесов. — Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал — дело святое. И, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо: на то военные люди есть. А мы часть гражданская — представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро. Уверяю вас. — Ну, в этом мы и не сомневаемся, — сказал Чарушников, надуваясь. — И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваше, молодые люди? Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы «Быстроупак», что ему нс придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул. — Что же нам сейчас делать? — нетерпеливо спросил Виктор Михайлович. — Погодите, — сказал Дядьев, — берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры! — Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства! — воскликнули молодые люди Никеша и Владя. Чарушников снисходительно закашлялся. — Куда там! Он не меньше чем министром будет. А то и выше подымай — в диктаторы! — Да что вы, господа, — сказал Дядьев, — предводитель — дело десятое! О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю… — Господина Дядьева! — восторженно закричал Полесов. — Кому же еще взять бразды над всей губернией? — Я очень польщен доверием… — начал Дядьев. Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников. — Этот вопрос, господа, — сказал он с надсадой в голосе, — следовало бы провентилировать. На Дядьева он старался не смотреть. Владелец «Быстроупака» гордо рассматривал свои сапоги. на которые налипли деревянные стружки. — Я не возражаю, — вымолвил он, — давайте пробаллотируем. Закрытым голосованием или открытым? — Нам по-советскому не надо, — обиженно сказал Чарушников, — давайте голосовать по-честному, по-европейски — закрыто. Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова — две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кем бы он ни был. Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный. Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него. Другой голос Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала: — А городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова. — Почему же — все-таки? — проговорил великодушный губернатор. — Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна. — Просим, просим! — закричали все. — Так считать избрание утвержденным? Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал: — Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте! В пустую сахарницу посыпались бумажки. — Шесть голосов — за, — сказал Полесов, — и один воздержался. — Поздравляю вас, господин голова! — сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. — Поздравляю вас! Чарушников расцвел. — Остается освежиться, ваше превосходительство. — сказал он Дядьеву. — Слетай-ка, Полесов, в «Октябрь». Деньги есть? Полесов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином. Попечителем учебного округа наметили бывшего директора дворянской гимназии, ныне букиниста, Распопова. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал: — Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил. На Владю набросились. — В такой решительный час, — закричали ему, — нельзя помышлять о собственном благе! Подумайте об отечестве. Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся. Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голо совании на всякий случай воздержался. Перебирая знакомых и родственников, выбрали: полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора; заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда; наметили председателей земской и купе ческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок» Никешу и Владю назначили, за их молодостью, чиновниками для особых поручений при губернаторе. — Паз-звольте! — воскликнул вдруг Чарушников. — губернатору целых два чиновника! А мне? — Городскому голове, — мягко сказал губернатор, — чиновников для особых поручений не полагается по штату. — Ну, тогда секретаря. Дядьев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна. — Нельзя ли, — сказала она, робея, — тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик. Сын мадам Черкесовой… Очень, очень милый, очень способный… Он безработный сейчас. На бирже труда состоит. У него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в союз… Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна. — Пожалуй, можно будет, — милостиво сказал Чарушников, — как вы смотрите на это, господа? Ладно. В общем, я думаю, удастся. — Что ж, — заметил Дядьев, — кажется, в общих чертах все? Все как будто? — А я? — раздался вдруг тонкий, волнующийся голос. Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял вконец расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полесова и что он вообще один из главных организаторов старгородского отделения «Меча и орала». Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула. — Виктор Михайлович! — застонали все. — Голубчик! Милый! Ну, как вам не стыдно? Ну, чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же! Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости. Елена Станиславовна не вытерпела. — Господа, — сказала она, — это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича? Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб. — Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером? — А, Виктор Михайлович? — спросил губернатор. — Хотите быть попечителем? — Ну, конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем! — поддержал городской голова, глотая грибок и морщась. — А Распо-опов? — обидчиво протянул Виктор Михайлович. — Вы же уже назначили Распопова? — Да, в самом деле, куда девать Распопова? — В брандмейстеры, что ли?.. — В брандмейстеры! — заволновался вдруг Виктор Михайлович. Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороные драконы понесли его на пожар городского театра. — Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером! — Ну, вот и отлично! Поздравляю вас. Отныне вы брандмейстер. — За процветание пожарной дружины! — иронически сказал председатель биржевого комитета. На Кислярского набросились все: — Вы всегда были левым! Знаем вас! — Господа, какой же я левый? — Знаем, знаем!.. — Левый! — Все евреи левые! — Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю. — Левый, левый, не скрывайте! — Ночью спит и видит во сне Милюкова! — Кадет! Кадет! — Кадеты Финляндию продали, — замычал вдруг Чарушников, — у японцев деньги брали! Армяшек разводили. Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал: — Я всегда был октябристом и останусь им. Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует. — Прежде всего, господа, демократия, — сказал Чарушников, — наше городское самоуправление должно быть демократичным. Но без кадетишек. Они нам достаточно нагадили в семнадцатом году! — Надеюсь, — ядовито заинтересовался губернатор, — среди нас нет так называемых социал-демократов? Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя «центром». На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит. Заговорили о войне. — Не сегодня-завтра, — сказал Дядьев. — Будет война, будет. — Советую запастись кое-чем, пока не поздно. — Вы думаете? — встревожился Кислярский. — А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой! Серебряные монетки — как сквозь землю, бумажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие хождение наравне, и всякая такая штука. — Война — дело решенное. — Вы как знаете, — сказал Дядьев, — а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости. — А ваши дела с мануфактурой? — Мануфактура сама собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам. Советую настоятельно. Полесов усмехнулся. — Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них — ну, как вы думаете, сколько аэропланов? — Штук двести! — Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов. — Да-а… Довели большевики до ручки. Разошлись за полночь. Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно. — Губернатор! — говорил Чарушников. — Какой же ты губернатор, когда ты не генерал? — Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня. — Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием. — За баллотированного двух небаллотированных дают. — Па-апрашу со мной не острить! — закричал вдруг Чарушников на всю улицу. — Что же ты, дурак, кричишь? — спросил губернатор. — Хочешь в милиции ночевать? — Мне нельзя в милиции ночевать, — ответил городской голова, — я советский служащий… Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой.
Глава XXI ОТ СЕВИЛЬИ ДО ГРЕНАДЫ
Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженый священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу, в дом № 34, к гражданину Брунсу? Где же этот кладоискатель в образе ангела и за клятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, де журящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа? Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная, Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку… Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, N котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России. Только письма жене пишет.ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,
писанное им в Харькове,
на вокзале, своей жене в уездный город N
Голубушка моя, Катерина Александровна! Весьма перед тобою виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время. Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно деяться, согласишься. Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и боже меня от этого упаси. Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу. Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в доме, в Старгороде, в одном из гостиных стульев (их всего двенадцать) запрятаны ее брильянты. Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти брильянты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя. Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать. Приехал я в Старгород, и представь себе — этот старый однолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек! И с ним ездит какой-то уголовный преступник — нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, сжить со свету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади, не дался. Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в воробьяниновском доме (там ныне богоугодное заведение); несу я мою мебель к себе в номера «Сорбонна», и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю — Воробьянинов. По брился, представь себе, и голову оголил, аферист, позорится на старости лет. Разломали мы стул — ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчался. Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил. «Какой, — говорю, — срам на старости лет, какая, — говорю, — дикость в России теперь настала: чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал! Вы, — говорю, — низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его». Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть. А я пошел к себе в номера «Сорбонна» и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло: я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался — пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич — очень порядочный старичок. Живет себе со старухой бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, прав да, вознаградить за такую услугу. Остался без денег (но об этом после). Оказалось, что все двенадцать гостиных стульев из воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу, на Виноградную улицу, дом № 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал (боялся, что стулья попадут в разные места). Я очень этому обрадовался, туг как раз в «Сорбонне» я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга, бандита, не пожалел. Я очень боялся, что они проведают мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали. Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году и Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный. Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, и no-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в «Новоросцементе», как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товаро-пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей (он мне должен и обещался отдать) и вышли в Ростов: главный почтамт, до востребования, Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод, в видах экономии, пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь: мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал. Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный — центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Сделай: I) мою летнюю рясу в чистку отдай (лучше 3 р. за чистку отдать, чем на новую тратиться), 2) здоровье береги. 3) когда Гуленьке будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж. Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Нежно целую, обнимаю и благословляю. Твой муж Федя.Нотабене: где-то теперь рыщет Воробьянинов?
Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопуло в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов.
Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края.
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя.
От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей…
Раздаются серенады.
Раздается звон мечей…
Хóдите,
Вы всюду бродите.
Как будто ваш аппендицит
От хождения будет сыт,
Хóдите,
Та-ра-ра-ра, —
Хóдите,
Та-ра-ра-ра…
Ночной зефир
Струит эфир…
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
Хóдите,
Вы всюду бродите,
Та-ра-ра-ра…
Глава XXII ЭКЗЕКУЦИЯ
Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. — Похоже на то, — сказал Остап, — что уже завтра мы сможем, при наличии доброй воли, купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз. Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «столетье» и бороде, ниспадавшей на толстовку русского коверкота. Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступали сначала обычная аукционная гиль и дичь: разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный ридикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен «Охотник, стреляющий диких уток» и прочая галиматья. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно: стулья налицо; цель была близка, ее можно было достать рукой. — А большой бы здесь начался переполох, — подумал Остап, оглядывая аукционную публику, — если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев». — Фигура, изображающая правосудие! — провозгласил аукционист. — Бронзовая. В полном порядке. Пять рублей. Кто больше? Шесть с полтиной, справа, в конце — семь. Восемь рублей в первом ряду, прямо. Второй раз, восемь рублей, прямо. Третий раз, в первом ряду, прямо. К гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег. Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая. Время тянулось мучительно. — Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего. В публике засмеялись. — Купите, предводитель, — съязвил Остап, — вы, ка жегся, любите. Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и мол чал. — Нет желающих? Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая право судне. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше? В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь «Правосудие» в полном составе. — Пять рублей — бронзовое «Правосудие»! — Шесть! — четко сказал гражданин. — Шесть рублей прямо. Семь. Девять рублей, в конце справа. — Девять с полтиной, — тихо сказал любитель «Право судия», поднимая руку. — С полтиной, прямо. Второй раз, с полтиной, прямо. Третий раз, с полтиной. Молоточек опустился. На гражданина из первого рядя налетела барышня. Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу. — Десять стульев из дворца! — сказал вдруг аукционист. — Почему из дворца? — тихо ахнул Ипполит Матвеевич. Остап рассердился: — Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь! — Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса. Василий, подайте один стул под рефлектор. Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил. — Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову! — зашипел Остап. — Сядьте, я вам говорю! У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели. — Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей. Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен. — Чего же вы не торгуетесь? — набросился на него Воробьянинов. — Пошел вон, — ответил Остап, стиснув зубы. — Сто двадцать рублей, позади. Сто тридцать пять, там же. Сто сорок. Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья («Чудесные полукресла! Дивная работа! Саня! Из дворца же!») и подняла руку. — Сто сорок пять, в пятом ряду справа. Раз. Зал потух. Слишком дорого. — Сто сорок пять. Два. Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал. — Сто сорок пять. Три. Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал: — Двести. Все головы повернулись в сторону концессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа. — Двести, раз, — сказал он, — двести, в четвертом ряду справа, два. Нет больше желающих торговаться? Двести рублей, гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей — три, в четвертом ряду справа. Рука с молоточком повисла над кафедрой. — Мама! — сказал Ипполит Матвеевич громко. Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук. — Продано, — сказал аукционист. — Барышня! В четвертом ряду справа. — Ну, председатель, эффектно? — спросил Остап. — Что бы, интересно знать, вы делали без технического руководителя? Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. — Вы купили стулья? — Мы! — воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич. — Мы, мы. Когда их можно будет взять? — А когда хотите. Хоть сейчас! Мотив «Ходите, вы всюду бродите» бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. «Наши стулья, наши, наши, наши!» Об этом кричал весь его организм. «Наши!» — кричала печень. «Наши!» — подтверждала слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил а Эдем. — А почему же двести тридцать, а не двести? — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. — Включается пятнадцать процентов комиссионного сбора. — ответила барышня. — Ну, что же делать! Берите! Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия: — Гоните тридцать рублей, дражайший, да поживее: не видите — дамочка ждет. Ну? Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. — Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья? — У меня нет денег, — пробормотал наконец Ипполит Матвеевич. — У кого нет? — спросил Остап очень тихо. — У меня. — А двести рублей?! — Я… м-м-м… п-потерял. Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки вид глазами. — Дайте деньги! — прошептал он с ненавистью. — Старая сволочь! — Так вы будете платить? — спросила барышня. — Одну минуточку, — сказал Остап, чарующе улыбаясь, — маленькая заминка. Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами. Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор. — Позвольте! — завопил он. — Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей. — Хорошо, — сказала барышня кротко, — я сейчас все устрою. Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. — По правилам аукционного торга, — звонко заявил он, — лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется. Изумленные друзья сидели недвижимо. — Папрашу вас! — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. — Па-апра-ашу вас! Аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился. И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал. — Возмутительные порядки, — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич, — форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться. Остап молчал. — Нет, действительно, это ч-черт знает что такое! — продолжал горячиться Воробьянинов. — Дерут с трудящихся втридорога. Ей-богу!.. За какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти… — Да, — деревянно сказал Остап. — Правда? — переспросил Воробьянинов. — С ума сойти можно! — Можно. Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. — Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев ни трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро! Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. — Ну, теперь пошел вон! Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся. Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам. — Ах, вы еще здесь, душа общества? Пошел! Ну? — Това-арищ Бендер, — взмолился Воробьянинов. — Товарищ Бендер! — Иди! Иди! И к Иванопуло не приходи! Выгоню! — Това-арищ Бендер! Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться. — Все пропало! — пробормотал он. — Что пропало? — угодливо спросил Воробьянинов. — Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется не густо. В это время в аукционном зале происходило следующее: аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики двести рублей сразу не удастся (слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале), решил получить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям. — Четыре стула из дворца. Ореховые. Мягкие. Работы Гамбса. Тридцать рублей. Кто больше? К Остапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие. — Ну, вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите — кто и что. Чтоб ни один стул не ушел. В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились. Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану. Еще саженей за десять он увидел молодого человека, расставлявшего треногу фотографического аппарата. В котле сидели беспризорные. Как только они увидели, что их тесную группу собираются фотографировать, они стали защищаться. В фотохроникера полетели куски смолы. Он отскочил, таща за собой похожую на жертвенник треногу с клап-камерой. Переправившись на другой тротуар, фотограф сделал попытку снять беспризорных издалека. Тогда юные оборвыши покинули котел и набросились на врага. Испуганный за целость своего аппарата, фотограф спасся Петровскими линиями. Из гущи собравшейся толпы лениво вышел фотокор респондент конкурирующего журнала. Беспризорные смотрели на него безо всякой приязни, но толпа волновала фотографа, как волнуют тореадора взгляды красавиц. К тому же он был тонкий психолог. Он подошел к детям, дал на всю компанию полтинник, и уже через минуту беспризорные чинно сидели в котле, а фотограф общелкивал их со всех сторон. — Мерси, — сказал он по привычке, — готово. Его проводил одобрительный смех расходившейся публики. Тогда в деловой разговор с беспризорными вступил Остап. Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли наготове у входя в аукцион. — Продают, продают, — зашептал Ипполит Матвеевич, — четыре и два уже продали. — Это вы удружили, — сказал Остап, — радуйтесь. В руках все было, понимаете — в руках. Можете вы это понять? В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистам, крупье и стекольщикам! — С полтиной, налево. Три. Еще один стул из дворца. Ореховый. В полной исправности. С полтиной, прямо. Раз — с полтиной, прямо. Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина и костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис. — А скажите, — поспешно спросил он Остапа, — здесь в самом деле аукцион? Да? Аукцион? И здесь в самом деле продаются вещи? Замечательно! Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок. — Вот здесь действительно продают вещи? И в самом деле можно дешево купить? Высокий класс! Очень, очень! Аа! Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи. — А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно! Ах!.. Ах!.. Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось. На Сивцевом Вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. Цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек, с раскрытой волосатой грудью, в подтяжках, стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки. У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени. — Добрый вечер, — решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо. Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу. — Так будет со всеми, — сказал Коля детским голосом, — кто покусится… На что именно покусится, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке. Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. — Правильно, — приговаривал Остап, — а теперь по шее. Два раза. Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу… Еще разок… Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место. Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую дли него минуту, то, надо думать, тайный союз «Меча и орала» прекратил бы свое существование. — Ну, кажется, хватит, — сказал Коля, пряча руку в карман. — Еще один разик, — умолял Остап. — Ну его к черту! Будет знать другой раз! Коля ушел. Остап поднялся к Иванопуло и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде. — Гражданин Михельсон! — крикнул Остап. — Конрад Карлович! Войдите в помещение! Я разрешаю! В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший. — Неслыханная наглость! — сказал он гневно. — Я еле сдержал себя. — Ай-яй-яй, — посочувствовал Остап, — какая теперь молодежь пошла! Ужасная молодежь! Преследует чужих жен! Растрачивает чужие деньги… Полная упадочность. А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно? — Я его вызову на дуэль! — Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопулу и соседа справа. Он — бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках — это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель? В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных. Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на бричке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно. Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, «шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья — Варсонофьевский, — он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить. — Очень шибко бежал, — сказал беспризорный, — из головы выскочило. — Не получишь денег, — заявил наниматель. — Дя-адя!.. Да я тебе покажу. — Хорошо! Оставайся. Пойдем вместе. Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой-Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот. Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждения в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции «Станка». Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные. — Казарменный переулок, у Чистых Прудов. — Номер? — Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут. Во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли. Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель во шел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя — у ворот стояли стрелки ОБО НКПС. — Наверно, уехал, — закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски — рубль на гонца, не считая вестники с Варсонофьевского переулка, забывшего номер дома (ему было велено явиться на другой день пораньше), — технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правлении, принялся комбинировать. — Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых, испытанных приемов: 1) простое знакомство, 2) любовная интрига, 3) знакомство со взломом, 4) обмен и 5) деньги. Последнее — самое верное. Но денег мало. Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись: картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», чайное ситечко и полная возможность продолжать карьеру многоженца. Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след! — расплывчатый и туманный. — Ну, что ж, — сказал Остап громко. — На такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание Продолжается! Слышите? Вы! Присяжный заседатель!Глава XXIII ЛЮДОЕДКА ЭЛЛОЧКА
Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени мумбо-юмбо составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:1. Хамите. 2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.) 3. Знаменито. 4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.) 5. Мрак. 6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».) 7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.) 8. Не учите меня жить. 9. Как ребенка. («Я бью его, как ребенка», — при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка», — как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.) 10. Кр-р-расота! 11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.) 12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.) 13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.) 14. У вас вся спина белая. (Шутка.) 15. Подумаешь. 16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.) 17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.
Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина (одна — анфас, другая — в профиль), то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик и подбородок с маленьким, нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива. Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе «Электролюстра», для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года, с тех пор как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. — Хо-хо! — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: «Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я — самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное — «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. — Ого! — сказала Эллочка сама себе. Это значило: «Или я, или она». Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки. По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд. Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в чернобурых лисах, 2) с брильянтовой звездой во лбу, 3) в авиационном костюме (высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины) и 4) в бальном туалете (каскады драгоценностей и немножко шелку). Эллочка произвела мобилизацию. Папа-Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого осталось десять дней и четыре рубля. Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. — Мрачный муж пришел, — отчетливо сказала Эллочка. Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. — Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья? — Хо-хо! — Нет, в самом деле? — Кр-расота! — Да. Стулья хорошие. — Зна-ме-ни-тые! — Подарил кто-нибудь? — Ого! — Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил… — Эрнестуля! Хамишь! — Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет! — Подумаешь! — Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам! — Шутите! — Да, да. Вы живете не по средствам… — Не учите меня жить! — Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей… — Мрак! — Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею… — Жуть! Эрнест Павлович замолчал. — Вот что, — сказал он наконец, — так жить нельзя. — Хо-хо, — сказала Эллочка, садясь на новый стул. — Нам надо разойтись. — Подумаешь! — Мы не сходимся характерами. Я… — Ты толстый и красивый парниша. — Сколько раз я просил не называть меня парнишей! — Шутите! — И откуда у тебя этот идиотский жаргон! — Не учите меня жить! — О, черт! — крикнул инженер. — Хамите, Эрнестуля. — Давай разойдемся мирно. — Ого! — Ты мне ничего не докажешь! Этот спор… — Я побью тебя, как ребенка. — Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком. — Шутите! — Мебель мы делим поровну. — Жуть! — Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу… — Знаменито, — сказала Эллочка презрительно. — А я перееду к Ивану Алексеевичу. — Ого! — Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня… Только мебели нет. — Кр-расота! Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником. — Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра… И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право?! Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям. — У тебя вся спина белая, — сказала Эллочка граммофонным голосом. — До свидания, Елена. Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись: — Поедешь в таксо? Кр-расота! Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер Эллочка провела с Фимой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику. — Кажется, будут носить длинное и широкое, — говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи. — Мрак. И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь.
В десять часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом. — Не врешь? — Что вы, дядя… Вот сюда, в парадное. Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. — Прибавить надо, — сказал мальчик по-извозчичьи. — От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение. — Ого? — спросили из-за двери. — По делу, — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. — Прекрасный мех! — воскликнул он. — Шутите! — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан. — Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я знаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд! Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. — Вы — парниша что надо, — заметила Эллочка после первых минут знакомства. — Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины? — Хо-хо! — Но я к вам по одному деликатному делу. — Шутите! — Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление. — Хамите! — Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. — Жуть! Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни. «Новое дело, — подумал он, — стулья расползаются, как тараканы». — Милая девушка, — неожиданно сказал Остап, — продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей. — Хамите, парниша, — лукаво сказала Эллочка. — Хо-хо, — втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе, — решил он, — предложим обмен». — Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Эллочка насторожилась. — Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь. — Должно быть, знаменито, — заинтересовалась Эллочка. — Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне — стул, а я вам — ситечко. Хотите? И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда мумбо-юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала: — Хо-хо! Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.
Глава XXIV АВЕССАЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИЗНУРЕНКОВ
Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его: — И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в ЗАГС. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев. Поезжайте! Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить», — думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик. В плане работ инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий Иванопуло уходил, Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ: — Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего непредпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать брильянты из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали Уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально. В комнате студента Иванопуло в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко, — третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за брильянтами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины. — Даже если в стульях ничего нет, — говорил Остап, — считайте, что мы заработали десять тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванопуло помеблируется. Нам самим приятнее. В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с Садовой-Спасской, дано двадцать пять рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Эллочкиного мужа. Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе № 6. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути. Высадившись у Красных Ворот, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками. Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:Авессалом Владимирович Изнуревков
В полном затмении Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты. — Простите, — сказал он придушенным голосом, — могу я видеть товарища Изнуренкова? Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу. В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус. — Фу! — сказал Ипполит Матвеевич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты — блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки. Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин — в пении, Горький — в литературе, Капабланка — в шахматах, Мельников — в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, — в чистке сапог желтым кремом. Шаляпин пел. Горький писал большой роман. Капабланка готовился к матчу с Алехиным. Мельников рвал рекорды. Ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска. Авессалом Изнуренков — острил. Он никогда не острил бесцельно, ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов. Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и все же оставался в неизвестности. Если остротой Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали над рисунком. Имени Изнуренкова не было. — Это ужасно! — кричал он. — Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками? И он продолжал жарко бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом, бюрократами. Он уязвлял своими остротами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии. После выхода журналов в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрады «авторами-куплетистами». Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, Изнуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора. Гейне опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости; Марк Твен убежал бы от такой темы. Но Изнуренков оставался на своем посту. Он бегал по редакционным комнатам, натыкаясь на урны для окурков и блея. Через десять минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок. Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал: — Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я уплачу, наконец! Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое. Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился. — Поймите же, — заговорил хозяин примирительным тоном, — ведь я не могу на это согласиться. Ипполит Матвеевич на месте Изнуренкова тоже в конце концов не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал. — Это не я виноват. Виноват сам Музпред. Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель — орудие производства. И стул — тоже орудие производства! Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать. — Отпустите стул! — завизжал вдруг Авессалом Владимирович. — Слышите? Вы! Бюрократ! Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал: — Простите, недоразумение, служба такая. Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел: «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда». Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол. — Так вы не возьмете сегодня мебель?.. Хорошо!.. Ах! Ах! Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери. — Подождите! — крикнул вдруг Изнуренков. — Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности? Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича. — Высокий класс!.. — бормотал Авессалом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии. — Ах!.. Ах!.. Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи: — Девушки из предместий! Лучший плод!.. Высокий класс!.. Ах!.. «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда…» — Так я пойду, гражданин, — глупо сказал директор концессии. — Подождите, подождите! — заволновался вдруг Изнуренков. — Одну минуточку!.. Ах!.. А котик? Правда, он пушист до чрезвычайности?.. Подождите!.. Я сейчас!.. Он смущенно порылся во всех карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся. — Простите, душечка, — сказал он Воробьянинову, который в продолжение всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски. С этими словами он дал предводителю полтинник. — Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен. — Премного благодарен, — сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости. — Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!.. Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты Изнуренкова блеяние, визг, пение и страстные крики. На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха.
Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В ней, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено. «Пойду умоюсь», — решил он. Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада охватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда. — Хорошо! — сказал Эрнест Павлович. Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдоить. Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника. «Пусть хоть он воды принесет, — решил инженер, протирая глаза и медленно закипая, — а то черт знает что такое». Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети. — Дворник! — закричал Эрнест Павлович. — Дворник! Никто не отозвался. Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. — Дворник! — крикнул он вниз. Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам. — Гу-гу! — ответила лестница. — Дворник! Дворник! — Гум-гум! Гум-гум! Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не поддалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет. «Положение», — подумал Эрнест Павлович. — Вот сволочь! — сказал он двери. Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка. По лестнице толкали вверх детскую колясочку. Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке. — С ума можно сойти! Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит. «Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода?» — подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти. Однообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел. Положение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно — пропадать. Пена лопалась и жгла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень. Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным. Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему ни стоило. «Нету другого выхода, нету. Только спрятаться у дворника!» Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами. Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на Арлекина, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил, и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович очутился уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца. Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной дворницкой. Так он и сделал. Неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то поднимался. — Несносный мальчишка! — послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. — Сколько раз я ему говорила! Эрнест Павлович, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот, взлетел на девятый этаж. Очутившись на своей загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды. — Господи! — сказал инженер. — Боже мой! Боже мой! Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили! Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог — нервы сдали. Он попал в склеп. — Наследили за собой, как свиньи! — услышал он старушечий голос с нижней площадки. Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке. Выхода не было.
Глава XXV КЛУБ АВТОМОБИЛИСТОВ
Выбирались из загона (материал набранный, но не вошедший в прошлый номер) заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места. Всего газета на своих четырех страницах (полосах) могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти все: телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный фельетон и два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы: театр, спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающийся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием «Крупинки», научно-популярные статьи, радио- и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на десять строк. Поэтому распределение места па полосах обычно сопровождалось драматическими сценами. Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос: — Как? Сегодня не будет шахмат? — Не вмещаются, — ответил секретарь. — Подвал большой. Триста строк. — Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждет воскресного отдела. У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд Неунывако, у меня, наконец… — Хорошо. Сколько вы хотите? — Не меньше ста пятидесяти. — Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк. Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать, хотя бы на этюд Неунывако (замечательная индийская партия Тартаковер — Боголюбов лежала у него уже больше месяца), но его оттеснили.— Нужно давать впечатления с пленума? — спросил он очень тихо. — Конечно! — закричал секретарь. — Ведь позавчера говорили. — Пленум есть, — сказал Персицкий еще тише, — и две зарисовки, но они не дают мне места. — Как не дают? С кем вы говорили? Что они, посходили с ума? Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персицкий, а еще позади бежал сотрудник из отдела объявлений. — У нас секаровская жидкость! — кричал он грустным голосом. За ними плелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул. — Жидкость во вторник. Сегодня публикуем наши приложения! — Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги. — Хорошо, в ночной редакции выясним. Сдайте объявление Паше. Она сейчас как раз едет в ночную. Секретарь сел читать передовую. Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник. — Ага, — сказал секретарь, — очень хорошо. Есть тема для карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии. — Я думаю так, — проговорил художник, — Стальной Шлем и общее положение Германии… — Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите. Художник пошел в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем принялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия», на витом хвосте — «Данцигский коридор», на челюсти — «Мечты о реванше», на ошейнике — «План Дауэса» и на высунутом языке — «Штреземан». Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал, и надпись не помещалась. Человек менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами: «Французские предложения о гарантиях безопасности». Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе его написал: «Пуанкаре». Набросок был готов. На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий: чье-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа. Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками «Жиллетт», подсветляя их; придавали снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами и ставили на обороте подпись и размер: 3 3/4 квадрата, 2 колонки и так далее — указания, потребные для цинкографии. В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил: — Товарищ Арно желает узнать… Шел разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать товарищ Арно, сам Арно, в бархатных велосипедных брюках, и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером № 86, которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиною в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать: перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку. — Ого-го! — смеялись иностранцы. — Колоссаль! Это перо было поднесено редакции съездом рабкоров. Редактор, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и, быстро кивая головой то на ручку, то на гостей, весело объяснял. Крик в секретариате продолжался. Персицкий принес статью Семашко, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Неунывако. Он тщился сохранить хотя бы решения задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с Ласкером на сен-себастианском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет «Суда и быта». Семашко послали в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса. Когда он дошел до места: «…Однако содержание последнего пакта таково, что если Лига Наций зарегистрирует его, то придется признать, что…», к нему подошел «Суд и быт», волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону «Суда и быта» и делая в передовой ненужные пометки. «Суд и быт» зашел с другой стороны и сказал обидчиво: — Я не понимаю. — Ну-ну, — забормотал секретарь, стараясь оттянуть время, — в чем дело? — Дело в том, что в среду «Суда и быта» не было, в пятницу «Суда и быта» не было, в четверг поместили из загона только алиментное дело, а в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы… — Где пишут? — закричал секретарь. — Я не читал. — Завтра всюду появится, а мы опять опоздаем. — А когда вам поручили чубаровское дело, вы что писали? Строки от вас нельзя было получить. Я знаю. Вы писали о чубаровцах в «Вечерку». — Откуда вы это знаете? — Знаю. Мне говорили. — В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил Персицкий, тот Персицкий, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград. — Паша! — сказал секретарь тихо. — Позовите Персицкого. «Суд и быт» индифферентно сидел на подоконнике. Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники. Тяжбу разбирали долго. Секретарь прекратил ее ловким приемом: выкинул шахматы и вместо них поставил «Суд и быт». Персицкому было сделано предупреждение. Наступило самое горячее редакционное время — пять часов. Над разгоревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди. По коридору ходил редакционный поэт.
Слушай, земля,
Просыпаются реки,
Из шахт,
От пашен,
Станков,
От каждой
Маленькой
Библиотеки
Стоустый слышится рев…
Меня манит твой взгляд туманный,
Кавказ сияет предо мной.
Твой рот, твой стан благоуханный…
О я, погубленный тобой…
Глава XXVI РАЗГОВОР С ГОЛЫМ ИНЖЕНЕРОМ
Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Не застав Эрнеста Павловича днем (квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе), великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину. Но судьба судила так, что, прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь по̀том. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старику извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер. — Требую протокола! — с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. «За такие штуки надо морду бить», — решил Остап. Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг голого была вода, вылившаяся в щель квартирной двери. — О-о-о, — стонал голый, — о-о-о… — Скажите, это вы здесь льете воду? — спросил Остап раздраженно. — Что это за место для купанья? Вы с ума сошли! Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул. — Слушайте, гражданин, вместо того чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи! Прямо какой-то пикадор! — Ключ, — замычал инженер. — Что ключ? — спросил Остап. — От кв-в-варти-ыры. — Где деньги лежат? Голый человек икал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда наконец сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно. — Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто! Стараясь не запачкаться о голого, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз. Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру. Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом, плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки. Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович с криками «Пардон! Пардон!» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках. — Вы меня просто спасли! — возбужденно кричал он. — Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел. — К тому, видно, и шло. — Я очутился в ужасном положении. И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья. — Если бы не вы, я бы погиб, — закончил инженер. — Да, — сказал Остап, — со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного. Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать. — Совсем так, как с вами, — начал Бендер, — только было это зимой, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником в девятнадцатом году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные! Типичные собственники: одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну, и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег: простуды я не боялся — дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз — градусов двадцать. Я стучу — не открывают. На месте нельзя стоять: замерзнешь! Стучу и бегаю, стучу и бегаю — не открывают. И, главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют. Стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал. Чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом. Инженеру все это было очень близко. — Да, — сказал Остап, — так это вы инженер Щукин? — Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право. — О, пожалуйста! Антр-ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин. — Чрезвычайно буду рад вам служить. — Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло. — Да, пожалуйста! — воскликнул Эрнест Павлович. — Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести. Сегодня же. — Нет, зачем же! Для меня это — сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это нетрудно. Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов.Бывшему студенту Иванопуло был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы. В стройную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение. Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера, одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в тридцать шесть раз больше своей ставки. Положение было даже хуже: концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на одиннадцать номеров из двенадцати. Да и самый двенадцатый номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш. Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства. — Ого! — сказал технический руководитель. — Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной? — Товарищ Бендер, — пробормотал предводитель. — Ах, зачем вы играете на моих нервах! Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз. Остап склонил голову набок и сощурил глаза. — Не мучьте дитю, — забасил он наконец, — где стул? Почему вы его не принесли? Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. — А мои инструкции? — спросил Остап грозно. — Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, — это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место! Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот Авессалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай, не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница. Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь. — Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из сорока процентов представляется мне абсурдным. Воленс-неволенс, но я должен поставить новые условия. Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать. — Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите — двадцать процентов? Ипполит Матвеевич решительно замотал головой. — Почему же вы не хотите? Вам мало? — М-мало. — Но ведь это же тридцать тысяч рублей! Сколько же вы хотите? — Согласен на сорок. — Грабеж среди бела дня! — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в дворницкой. — Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?! — Это вам нужен ключ от квартиры, — пролепетал Ипполит Матвеевич. — Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение. Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски брильянтов. Лед, который тронулся еще в дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, тоунося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает! Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания. Его несло в открытое море приключений.
Глава XXVII ДВА ВИЗИТА
Подобно распеленатому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой величиной в крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, Авессалом Изнуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках. Он вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил вслух, словно высчитывал страховку каменного, крытого железом строения. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше чем на минуту. Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, Изнуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую остроту. — Что плохо, то плохо, — говорил он, — кончено. В магазинах Авессалом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него, по крайней мере, рублей тридцать. Но Изнуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и, благодарно блея, убегал. Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события. Может быть, Изнуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть, а может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды, или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу «Уменье хорошо одеваться и вести себя в обществе». Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела, мысли прыгали. Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья. — Ах, ах, — вскрикивал Авессалом Владимирович, — божественно! «Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир…» Ах, ах! Высокий класс!.. Вы — королева Марго. Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась. — Ну, ешьте шоколад, ну, я вас прошу!.. Ах, ах!.. Очаровательно! Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал: — Правда, он похож на попугая? Лев! Лев! Настоящий лев! Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности?.. А хвост! Хвост! Скажите, это действительно большой хвост? Ах! Потом кот полетел в угол, и Авессалом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостьи: — Скажите, а эта брошка действительно из стекла? Ах! Ах! Какой блеск!.. Вы меня ослепили, честное слово!.. А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня?.. Ах! Ах!.. Какие руки!.. Какой нос!.. Ах! Он не обнимал девушку. Ему было достаточно говорить ей комплименты. И он говорил без умолку. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа. Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал: — Изнуренков здесь живет? Это вы и есть? Авессалом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых. — Что же это, товарищ, — жестко сказал Бендер, — это совсем не дело — прогонять казенного курьера. — Какого курьера? — ужаснулся Изнуренков. — Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул, — строго проговорил Остап. Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места. — Нет! Сидите! — закричал Изнуренков, закрывая стул своим телом. — Они не имеют права. — Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободите мебель! Закон надо соблюдать! С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе. — Вывожу мебель! — решительно заявил Бендер. — Нет, не вывозите! — Как же не вывожу, — усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор, — когда именно вывожу. Авессалом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице. — А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять две недели, а она стояла только три дня! Может быть, я уплачу! Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. Авессалом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес: — Высокий класс! Ах! Ах!.. Какой поворот темы! Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предместья стоящей посреди комнаты. Остап отвез стул на извозчике. — Учитесь, — сказал он Ипполиту Матвеевичу, — стул взят голыми руками. Даром. Вы понимаете? После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил. — Шансы все увеличиваются, — сказал Остап, — а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить? — А что такое? — Может быть, никаких брильянтов нет? Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок. — В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопуло увеличится еще только на один стул. — О вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали, — заискивающе сказал Ипполит Матвеевич. Остап нахмурился. Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени. — Что вы мелете? В какой газете? Ипполит Матвеевич с торжеством развернул «Станок». — Вот здесь. В отделе «Что случилось за день». Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах: «Наши шпильки» и «Злоупотребителей — под суд». Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
— Это извозчик отделался легким испугом, а не я, — ворчливо заметил О. Бендер. — Идиоты! Пишут, пишут — и сами не знают, что пишут. Ах! Это — «Станок». Очень, очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле? Забавная история! Великий комбинатор задумался. Повод для визита в редакцию был найден. Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией, Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений: ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул. Он влез в местком, где уже шло заседание молодых автомобилистов, и, так как сразу увидел, что стула там нет, перекочевал в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюции; в отделе рабкоров узнавал, где здесь, согласно объявлению, продается макулатура; в секретариате выспрашивал условия подписки, а в комнате фельетонистов спросил, где принимают объявления об утере документов. Таким образом он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку. Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность. — Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, — сказал Бендер. — Какая клевета? — спросил редактор. Остап долго разворачивал экземпляр «Станка». Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри. Редактор прочел указанную Остапом заметку. — В чем же вы, товарищ, видите клевету? — Как же! А вот это:
Пострадавший отделался легким испугом.
— Не понимаю. Остап ласково смотрел на редактора и на стул. — Стану я пугаться какого-то там извозчика! Опозорили перед всем миром — опровержение нужно. — Вот что, гражданин, — сказал редактор, — никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем. — Ну, все равно, я так этого дела не оставлю, — говорил Остап, покидая кабинет. Он уже увидел все, что ему было нужно.
Глава XXVIII ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДОПРОВСКАЯ КОРЗИНКА
Старгородское отделение эфемерного «Меча и орала» вместе с молодцами из «Быстроупака» выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза «Хлебопродукта». Прохожие останавливались. — Куда очередь стоит? — спрашивали граждане. В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полесов. — Дожили, — говорил брандмейстер, — скоро все на жмых перейдем. В девятнадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня. Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полесовым в спор и ссылались на «Старгородскую правду». Доказав Полесову, как дважды два — четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди. Молодцы из «Быстроупака», закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь. В три дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили, до прибытия находящегося в пути продовольствия, ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по пять фунтов муки. На другой день было изобретено противоядие. Первым в очереди за сахаром стоял Альхен. За ним — его жена Сашхен, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать призреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачав из магазина «Старгико» полпуда сахару, Альхен увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхен хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет. Полесов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то с Мечи и Урала подпольной организации. Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена. Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме. — Слушай, Генриетта, — сказал он жене, — пора уже переносить мануфактуру к шурину. — А что, разве придут? — спросила Генриетта Кислярская. — Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть? — Так что, уже приготовить белье? Несчастная моя жизнь! Вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь шурин состоит членом профсоюза, и — ничего! А этому обязательно нужно быть красным купцом! Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа в председатели биржевого комитета. Поэтому она была спокойна. — Может быть, я не приду ночевать, — сказал Кислярский, — тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники? — Может быть, возьмешь с собой примус? — Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку. У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом — столик; кроме того, она заменяла шкаф: в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье. — Можешь меня не провожать, — сказал опытный муж. — Если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свиданья! Рубенс может подождать. И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку. — Куда вы, гражданин Кислярский? — окликнул Полесов. Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам. — Иду сознаваться, — ответил Кислярский. — В чем? — В мече и орале. Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру. Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву. — Кислярский — провокатор! — закричал брандмейстер. — Только что пошел доносить. Его еще видно. — Как? И корзинка при нем? — ужаснулся старгородский губернатор. — При нем. Дядьев поцеловал жену, крикнул, что, если придет Рубенс, денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей. Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил. — А как же деньги? — спросил Рубенс. — За деньгами придете к жене. — А почему вы с корзинкой? — подозрительно осведомился Рубенс. — Иду в баню. — Ну, желаю вам легкого пара. Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую «Бонбон де Варсови», выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губпрокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано: «Губернский прокурор», и вежливо постучал. — Можно! — ответил хорошо знакомый Кислярскому голос. Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью. Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем. — Вот он, — воскликнул Дядьев, — самый главный октябрист! — Во-первых, — сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, — во-первых, я не октябрист, затем, я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главный — это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого… — Красноармейская! — закричал Дядьев. — Номер три! — хором сообщили Владя и Никеша. — Во двор и налево, — добавил Виктор Михайлович, — я могу показать. Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну. Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно. Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей лавчонки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях Малого Совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения. Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя — пикового короля. Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты — пиковые короли — и увели прорицательницу в казенный дом, к прокурору. Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом. — Дожились! — сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из-под мышки перышко. Мадам Грицацуева-Бендер в страхе кинулась к дверям. Вдогонку ей полилась горячая, сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов. — При наличии отсутствия, — раздраженно сказала птица. И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря: «Ну, как вам это понравится, вдовица?» — Мать моя! — простонала Грицацуева. — В каком полку служили? — спросил попугай голосом Бендера. — Кр-р-р-р-рах… Европа нам поможет. После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет: — Попка дурак! Вдова бежала по улице и голосила. А дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич. — По объявлению, — сказал Варфоломеич, — два часа жду, барышня. Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце. — Ох! — запела вдова. — Истомилась душенька! — От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? Вы объявление давали? Вдова упала на мешки с мукой. — Какие у вас организмы слабые, — сладко сказал Варфоломеич. — Я бы хотел спервоначалу насчет вознаграждения уяснить себе… — Ох!.. Все берите! Ничего мне теперь не жалко! — причитала чувствительная вдова. — Так вот-с. Мне известно пребывание сыночка вашего О. Бендера. Какое вознаграждение будет? — Все берите! — повторила вдова. — Двадцать рублей, — сухо сказал Варфоломеич. Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой. Запорошенные ресницы усиленно моргали. — Сколько? — переспросила она. — Пятнадцать рублей, — спустил цену Варфоломеич. Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно. Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены. — Ну что ж, бог с вами, пусть пять рублей будет. Только деньги попрошу вперед. У меня такое правило. Варфоломеич достал из записной книжечки две газетные вырезки, не выпуская их из рук, стал читать: — Вот извольте посмотреть по порядку. Вы писали, значит: «Умоляю… ушел из дому товарищ Бендер… зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет…» Правильно ведь? Это «Старгородская правда», значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. Вот… «Попал под лошадь…» Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте… «Попал под лошадь…» Да жив, жив! Говорю вам, жив. Нешто б я за покойника деньги брал бы? Так вот: «Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом…» Так вот, эти документики я вам предоставляю, а вы мне денежки вперед. У меня уж такое правило. Вдова с плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой гарусной груди. Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа, безусловно, найдутся в редакции газеты «Станок», где, уж конечно, все на свете известно. После ошеломительного удара, который нанес ему бесславный конец его бабушки, Варфоломеич стал промышлять собачками. Он комбинировал объявления в «Старгородской Правде». Прочтя объявление:Проп. пойнтер нем. коричнев. масти, грудь, лапы, ошейн. серые. Утайку преслед. Дост. ул. Кооперативную 17,2.
а рядом с ним замаскированное:
Прист. сука неизв. породы темно-желт. Через три дня счит. своей. Перелеш. пер. 6.
Варфоломеич обходил объявителей и, убедившись, что сука одна и та же, еще до истечения трехдневного срока доносил владельцу о местопребывании пропавшей собаки. Это приносило нерегулярный и неверный доход, но после крушения грандиозных планов могла пригодиться и веревочка.
ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,
писанное в Ростове, в водогрейне «Млечный Путь»,
жене своей в уездный город N
Милая моя Катя! Новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. «Новоросцемент» — весьма большое учреждение, никто там инженера Брунса и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол. Пошел. «Да, — сказали мне, — служил у нас такой, ответственную работу исполнял, только, говорят, в прошлом году он от нас ушел. Переманили его в Баку, на службу в Азнефть, по делу техники безопасности». Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь Богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему. Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 р. 25 к. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую. Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить — того и гляди, украдут. Народ здесь бедовый. Не нравится мне город Ростов. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. Но ничего, матушка, бог даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда — совсем западноевропейский город. А потом заживем в Самаре, возле своего заводика. Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет? Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживай уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьке напиши то же. Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня. Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход: купить английское кепи за 2 р. 50 к. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечно муж Федя.Глава XXIX КУРОЧКА И ТИХООКЕАНСКИЙ ПЕТУШОК
Репортер Персицкий деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона. — Ньютона я беру на себя. Дайте только место, — заявил он. — Так вы, Персицкий, смотрите, — предостерегал секретарь, — обслужите Ньютона по-человечески. — Не беспокойтесь. Все будет в порядке. — Чтоб не случилось, как с Ломоносовым. В «Красном лекаре» была помещена ломоносовская праправнучка-пионерка, а у нас… — Я тут ни при чем. Надо было вам поручать такое ответственное дело рыжему Иванову! Пеняйте сами на себя. — Что же вы принесете? — Как что? Статья из Главнауки, у меня там связи не такие, как у Иванова. Биографию возьмем из Брокгауза. Но портрет будет замечательный. Все кинутся за портретом в тот же Брокгауз, а у меня будет нечто пооригинальнее. В «Международной книге» я высмотрел такую гравюрку!.. Только нужен аванс!.. Ну, иду за Ньютоном! — А снимать Ньютона не будем? — спросил фотограф, появившийся к концу разговора. Персицкий сделал знак предостережения, означавший: спокойствие, смотрите все, что я сейчас сделаю. Весь секретариат насторожился. — Как? Вы до сих пор еще не сняли Ньютона?! — накинулся Персицкий на фотографа. Фотограф на всякий случай стал отбрехиваться. — Попробуйте вы его поймать, — гордо сказал он. — Хороший фотограф поймал бы! — закричал Персицкий. — Так что же, надо снимать или не надо? — Конечно, надо! Поспешите! Там, наверное, сидят уже из всех редакций! Фотограф взвалил на плечи аппарат и гремящий штатив. — Он сейчас в «Госшвеймашине». Не забудьте — Ньютон, Исаак, отчества не помню. Снимите к юбилею. И пожалуйста — не за работой. Все у вас сидят за столом и читают бумажки. На ходу снимайте. Или в кругу семьи. — Когда мне дадут заграничные пластинки, тогда и на ходу буду снимать. Ну, я пошел. — Спешите! Уже шестой час! Фотограф ушел снимать великого математика к его двухсотлетнему юбилею, а сотрудники стали заливаться на разные голоса. В разгар веселья вошел Степа из «Науки и жизни». За ним плелась тучная гражданка. — Слушайте, Персицкий! — сказал Степа. — К вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка, этот товарищ вам все объяснит. Степа, посмеиваясь, убежал. — Ну? — спросил Персицкий. — Что скажете? Мадам Грицацуева возвела на репортера томные глаза и молча сунула ему бумажку. — Так, — сказал Персицкий, — …попал под лошадь… отделался легким испугом… В чем же дело? — Адрес, — просительно молвила вдова, — нельзя ли адрес узнать? — Чей адрес? — О. Бендера. — Откуда же я знаю? — А вот товарищ говорил, что вы знаете. — Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол. — А может, вы вспомните, товарищ? В желтых ботинках. — Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда пожалуйста. Я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все адреса. Я занят, гражданка. Но вдова, которая почувствовала к Персицкому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча накрахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы. «Сволочь Степа, — подумал Персицкий, — ну ничего, я на него напущу изобретателя вечного движения, он у меня попрыгает». — Ну, что я могу сделать? — раздраженно спросил Персицкий, останавливаясь перед вдовой. — Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? Что я, лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине?.. Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только «товарищ» и «очень вас». Занятия в Доме Народов уже кончились. Канцелярии и коридоры опустели. Где-то только дошлепывала страницу пишущая машинка. — Пардон, мадам, вы видите, что я занят! С этими словами Персицкий скрылся в уборной. Погуляв там десять минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персицкого она снова заговорила. Репортер осатанел. — Вот что, тетка, — сказал он, — так и быть, я вам скажу, где ваш О. Бендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать. И Персицкий так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела. Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору. Коридоры Дома Народов были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, — это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух, — он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира, бегуном Нурми. Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет. Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмачках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома Народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой. При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад. — Товарищ Бендер! — закричала вдова в восторге. — Куда же вы?! Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова. — Подождите, что я скажу, — просила она. Но слова ее не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистел ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяло ей лестничные шумы. — Ну, спасибо, — бурчал Остап, сидя на пятом этаже, — нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще чего доброго ко мне приедет гусар-одиночка с мотором. В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячью дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорее найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти. Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса ей невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу. Наконец, Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад. Но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой.
В Москве любят запирать двери. Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры с черного хода. Давно прошел восемнадцатый год, давно уже стало смутным понятие — «налет на квартиру», сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей. Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков? Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни-единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, — закрыты. Кто знает, почему они закрыты! Возможно, что лет двадцать тому назад из цирковой конюшни украли ученого ослика и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прихватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала… В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями, якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко — стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрыты и поныне. Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями. Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Все они закрыты. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого состязания их ломают. Но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают. Если уже нет никакой возможности привесить дверь (это бывает тогда, когда ее не к чему привесить), пускаются в ход скрытые двери всех видов: 1. Барьеры. 2. Рогатки. 3. Перевернутые скамейки. 4. Заградительные надписи. 5. Веревки. Барьеры в большом ходу в учреждениях. Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. Это удается не всегда. А может быть, посетитель принес полезное изобретение. А может быть, и просто хочет уплатить подоходный налог. Но барьер помешал — осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным. Рогатка применяется на улице. Ставят ее весною на шумной улице, якобы для ограждения производящегося ремонта тротуара. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит. Вянет лист. А рогатка все стоит. Ремонт не сделан. И улица пустынна. Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами. О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит. Надписи эти бывают двух родов: прямые и косвенные. К прямым можно отнести:
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ХОДА НЕТ
Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой. Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают вход, но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться правом входа. Вот они, эти позорные надписи:
БЕЗ ДОКЛАДА НЕ ВХОДИТЬ
ПРИЕМА НЕТ
СВОИМ ПОСЕЩЕНИЕМ ТЫ МЕШАЕШЬ ЗАНЯТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть скамейку или вывесить заградительную надпись, — там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки, веревка может искалечить человека. К черту двери! К черту очереди у театральных подъездов! Разрешите войти без доклада! Умоляю снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели! Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли!
Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Из освещенного коридора, через стеклянную дверь, на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пепельное утро проникал сквозь окна лестничной клетки. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери. — Суслик! — позвала вдова. — Су-у-услик! Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и малиновые призраки. Остап не слышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном «товарищ Бендер» бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. — А, — сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью, — вы тоже здесь? — Здесь, здесь, — твердила вдова радостно. — Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись, — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки опять загремели. Остап раскрыл объятия. — Что же ты не идешь, моя курочка. Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома. Вдова была лишена фантазии. — Суслик, — сказала она в пятый раз. — Откройте мне дверь, товарищ Бендер. — Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки? Вдова мучилась. — Ну, чего вы терзаетесь? — спрашивал Остап. — Что вам мешает жить? — Сам уехал, а сам спрашивает! И вдова заплакала. — Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе. — А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер… — Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует? Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар. — Изменщик! — выговорила она, вздрогнув. У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел:
Частица черта в нас
заключена подчас!
И сила женских чар
родит в груди пожар!..
Глава XXX АВТОР «ГАВРИЛИАДЫ»
Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к Дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов: курьеры, входящие и исходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Прежде всего Никифор Ляпис пошел в буфет. Никелированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека. Никифор съел варенец, вскрыв запечатанный бумагой стакан, и кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в «Гигроскопический вестник», еженедельный рупор, посредством которого работники фармации общались с внешним миром. — Доброе утро, — сказалНикифор. — Написал замечательные стихи. — О чем? — спросил начальник литстранички. — На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал… Начальник для более тонкого определения сущности «Гигроскопического вестника» пошевелил пальцами. Трубецкой-Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпус назад и певуче сказал: — «Баллада о гангрене». — Это интересно, — заметила гигроскопическая персона. — Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики. Ляпис немедленно задекламировал:Страдал Гаврила от гангрены,
Гаврила от гангрены слег…
Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила письма разносил…
Гаврила ждал в засаде зайца,
Гаврила зайца подстрелил…
Гаврила ждал в засаде птицу,
Гаврила птицу подстрелил…
Служил Гаврила за прилавком,
Гаврила флейтой торговал…
Гаврила шел кудрявым лесом,
Бамбук Гаврила порубал…
Служил Гаврила хлебопеком,
Гаврила булку испекал…
РАССКАЗ О НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ
В Ленинграде, на Васильевском острове, на Второй линии жила бедная девушка с большими голубыми глазами. Звали ее Клотильдой. Девушка любила читать Шиллера в подлиннике, мечтать, сидя на парапете невской набережной, и есть за обедом непрожаренный бифштекс. Но девушка была бедна. Шиллера было очень много, а мяса совсем не было. Поэтому, а еще и потому, что ночи были белые, Клотильда влюбилась. Человек, поразивший ее своей красотой, был скульптором. Мастерская его помещалась у Новой Голландии. Сидя на подоконнике, молодые люди смотрели в черный канал и целовались. В канале плавали звезды, а может быть, и гондолы. Так, по крайней мере, казалось Клотильде. — Посмотри, Вася, — говорила девушка, — это Венеция! Зеленая заря светит позади черно-мраморного замка. Вася не снимал своей руки с плеча девушки. Зеленое небо розовело, потом желтело, а влюбленные все не покидали подоконника. — Скажи, Вася, — говорила Клотильда, — искусство вечно? — Вечно, — отвечал Вася, — человек умирает, меняется климат, появляются новые планеты, гибнут династии, но искусство неколебимо. Оно вечно. — Да, — говорила девушка, — Микель-Анджело… — Да, — повторял Вася, вдыхая запах ее волос, — Пракситель!.. — Канова!.. — Бенвенуто Челлини!.. И опять кочевали по небу звезды, тонули в воде канала и туберкулезно светили к утру. Влюбленные не покидали подоконника. Мяса было совсем мало. Но сердца их были согреты именами гениев. Днем скульптор работал. Он ваял бюсты. Но великой тайной были покрыты его труды. В часы работы Клотильда не входила в мастерскую. Напрасно она умоляла: — Вася, дай посмотреть мне, как ты творишь! Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей: — Еще не время, Клотильда, еще не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут. Плыли звезды… Однажды счастливой девушке подарили контрамарку в кино. Шла картина под названием «Когда сердце должно замолчать». В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе, девушка была необычайно взволнована всем виденным. «Скульптор Ганс ваял бюсты. Слава шла к нему большими шагами. Жена его была прекрасна. Но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст — великое творение скульптора Ганса, над которым он трудился три года. Слава и богатство погибли под ударом молотка. Горе Ганса было безысходным. Он повесился, но раскаявшаяся жена вовремя вынула его из петли. Затем она быстро сбросила свои одежды. — Лепи меня! — воскликнула она. — Нет на свете тела, прекраснее моего. — О! — возразил Ганс. — Как я был слеп! И он, охваченный вдохновением, изваял статую жены. И это была такая статуя, что мир задрожал от радости. Ганс и его прекрасная жена прославились и были счастливы до гроба». Клотильда шла в Васину мастерскую. Все смешалось в ее душе. Шиллер и Ганс, звезды и мрамор, бархат и лохмотья… — Вася! — окликнула она. Он был в мастерской. Он лепил свой дивный бюст — человека с длинными усами и в толстовке. Лепил он его с фотографической карточки. — И вся-то наша жизнь есть борьба! — напевая, скульптор придавал скульптуре последний лоск. И в эту же секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного удара молотком. Клотильда сделала свое дело. Протягивая Васе руку, запачканную в гипсе, она гордо сказала: — Почистите мне ногти! И она удалилась. До слуха ее донеслись странные звуки. Она поняла, в чем дело: великий скульптор плакал над разбитым творением. Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать: — Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел. Он сидел на высокой табуреточке спиною к вошедшей Клотильде и что-то делал. Но девушка не смутилась. Она сбросила все одежды, покрылась от холода гусиной кожей и вскричала, лязгая зубами: — Лепи меня, Вася, нет на свете тела, прекраснее моего! Вася обернулся. Слова песенки застыли на его устах. И тут Клотильда увидела, что он делал. Он лепил дивный бюст — человека с длинными усами и в толстовке. Фотографическая карточка стояла на столике. Вася придавал скульптуре последний лоск. — Что ты делаешь? — спросила Клотильда. — Я леплю бюст заведующего кооплавкой № 28. — Но ведь я же вчера его разбила! — пролепетала Клотильда. — Почему ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уничтожила твое вечное искусство. Почему же ты жив, человек? — Вечное-то оно — вечное, — ответил Вася, — но заказ-то нужно сдать. Ты как думаешь? Вася был нормальным халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.— Так вот, Ляпсус, не пугайте Хиночку Члек своим мастерством. Она нежная женщина. Она верит в ваш талант. Больше, кажется, в это никто не верит. Но если вы еще месяц будете бегать по «Гигроскопическим вестникам», то и Хина Члек отвернется от вас. Кстати, полтинника я вам не дам. Уходите, Ляпсус!..
Глава XXXI МОГУЧАЯ КУЧКА, ИЛИ ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ
Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильде не вызвал в бараньей душе Ляписа никаких эмоций. С криками «Жертва громил», «Налетчики скрылись» и «Тайна редакторского кабинета» — в комнату вбежал Степа. — Персицкий, — сказал он, — иди скорее на место происшествия и пиши в «Что случилось за день». Сенсационный случай на пять строчек петита!.. Оказалось, что пришедший в свою комнату редактор нашел огромную ручку с пером № 86 лежащей на полу. Перо воткнулось в ножку дивана. А новый, купленный на аукционе, редакторский стул имел такой вид, будто бы его клевали вороны. Вся обшивка была прорвана, набивка выброшена на пол, и пружины высовывались, как готовящиеся к укусу змеи. — Мелкая кража, — сказал Персицкий, — если подберутся еще три кражи — дадим заметку в три строки. — В том-то и дело, что не кража. Ничего не украли. Даже на столе три рубля лежали, и тех не тронули. Только стул исковеркали. — Совсем как у Ляпсуса, — заметил Персицкий, — похоже на то, что Ляпсус не врал. — Вот видите, — гордо сказал Ляпсус, — дайте полтинник. Принесли вечернюю газету. Персицкий стал ее проглядывать. Обычный читатель газету читает. Журналист сначала рассматривает ее, как картину. Его интересует композиция. — Я бы все-таки так не верстал, — сказал Персицкий, — наш читатель не подготовлен к американской верстке… Карикатура, конечно, на Чемберлена… Очерк о Сухаревой башне… Ляпсус, писанули бы и вы что-нибудь о Сухаревском рынке — свежая тема — всего только сорок очерков за год печатается… Дальше… Персицкий с легким презрением начал читать отдел происшествий, делавшийся, по его пристрастному мнению, бездарно. — Столетний материал!.. Этот растратчик у нас уже был… Неудавшаяся кража в театре Колумба! Э-э-э, товарищи, это что-то новое… Слушайте! И Персицкий прочел вслух:НЕУДАВШАЯСЯ КРАЖА В ТЕАТРЕ КОЛУМБА Двумя неизвестными злоумышленниками, проникшими в реквизитную театра Колумба, были унесены четыре старинных стула. Во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем и, преследуемые им, скрылись, бросив стулья. Любопытно отметить, что стулья были специально приобретены для новой постановки гоголевской «Женитьбы».
— Нет, тут что-то есть. Это какая-то секта похитителей стульев. — Маньяки! — Ну, не так просто. Действуют они довольно здраво. Побывали у Ляпсуса, у нас, в театре. — Да!.. Охотники за табуретками!.. — Что-то они ищут, товарищи. Тут Никифор Ляпис внезапно переменился в лице. Он неслышно вышел из комнаты и побежал по коридору. Через пять минут раскачивающийся трамвай уносил его к Покровским воротам. Ляпис обитал в доме № 9 по Казарменному переулку совместно с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Ляпис носил капитанскую фуражку с гербом Нептуна — властителя вод. Комната Ляписа была проходной. Рядом жила большая семья татар. Когда Ляпис вошел в свою ободранную комнату, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. Это был человек, созвучный эпохе. Он делал все то, что требовала эпоха. Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве. Менялись вкусы. Менялись требования. Эпоха и современники нуждались в героическом романе на темы гражданской войны. И Хунтов писал героические романы. Потом требовались бытовые повести. Созвучный эпохе Хунтов принимался за повести. Эпоха требовала многого, но у Хунтова почему-то не брала ничего. Теперь эпоха требовала пьесу. Поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. От человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнет изучать нравы того социального слоя людей, которых он собирается вывести на сцену. Можно ждать, что автор предполагаемой к написанию пьесы примется обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характеры действующих лиц, придумывать сценические квипрокво. Но Хунтов начал с другого конца — с арифметических выкладок. Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний валовой сбор со спектакля в каждом театре. Его полное приятное лицо морщилось от напряжения, брови подымались и опадали. Хунтов быстро прочеркивал в записной книжке колонки цифр — он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причем производил вычисления по два раза: один раз, учитывая повышенные цены, а другой раз — обыкновенные. В голове московских зрелищных предприятий по количеству мест и расценкам на них шел Большой Академический театр. Хунтов расстался с ним с великим сожалением. Для того, чтобы попасть в Большой театр, нужно было бы написать оперу или балет. Но эпоха в данный отрезок времени требовала драму. И Хунтов выбрал самый выгодный театр — Московский Художественный Академический. Качалов, думалось ему, Москвин, под руководством Станиславского сбор сделают. Хунтов подсчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же «Дни Турбиных», думалось ему. Гонорару набегало много. Еще никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей. Оставалось написать пьесу. Но это беспокоило Хунтова меньше всего. Зритель дурак, думалось ему. — Мировой сюжет! — возгласил Ляпис, подходя к человеку, непрерывно звучащему в унисон с эпохой. Хунтову сюжет был нужен, и он живо спросил: — Какой сюжет? — Классный, — ответил Ляпис. Эпохальный мужчина приготовился уже записать слова Ляписа, но подозрительный по природе своей автор многоликого Гаврилы замолчал. — Ну! Говори же! — Ты украдешь! — Я у тебя часто крал сюжеты? — А повесть о комсомольце, который выиграл сто тысяч рублей? — Да, но ее же не взяли. — Что у тебя вообще брали! Я могу написать замечательную поэму. — Ну, не валяй дурака! Расскажи! — А ты не украдешь? — Честное слово. — Сюжет классный. Понимаешь, такая история. Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты узнали и стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья, и началась борьба. Тут можно такое накрутить… Хунтов забегал по комнате, описывая дуги вокруг опустошенного воробьяниновского стула. — Ты дашь этот сюжет мне. — Положим. — Ляпис! Ты не чувствуешь сюжета! Это не сюжет для поэмы. Это сюжет для пьесы. — Все равно. Это не твое дело. Сюжет мой. — В таком случае, я напишу пьесу раньше, чем ты успеешь написать заглавие своей поэмы. Спор, разгоревшийся между молодыми людьми, был прерван приходом Ибрагима. Это был человек легкий в обхождении, подвижный и веселый. Он был тучен. Воротнички душили его. На лице, шее и руках сверкали веснушки. Волосы были цвета сбитой яичницы. Изо рта шел густой дым. Ибрагим курил сигары «Фигаро» — 2 штуки 25 копеек. На нем было парусиновое подобие визитки, из карманов которого высовывались нотные свертки. Матерчатая панама сидела на его темени корзиночкой. Ибрагим обливался грязным потом. — Об чем спор? — спросил он пронзительным голосом. Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые фокстроты. Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял название «Любовь в океане» на «Амброзию», или «Флирт в метро» на «Сингапурские ночи», и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор. — Об чем спор? — повторил он. Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима. История о фашистах была рассказана во второй раз. — Поэму нужно писать, — твердил Ляпис-Трубецкой. — Пьесу! — кричал Хунтов. Но Ибрагим поступил, как библейский присяжный заседатель. Он мигом разрешил тяжбу. — Опера, — сказал Ибрагим, отдуваясь. — Из этого выйдет настоящая опера с балетом, хорами и великолепными партиями. Его поддержал Хунтов. Он сейчас же вспомнил величину сборов Большого театра. Упиравшегося Ляписа соблазнили рассказами о грядущих выгодах. Хунтов ударял ладонью по справочнику и выкрикивал цифры, сбивавшие все представления Ляписа о богатстве. Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую обработку взял на себя Хунтов. Стихи достались Ляпису. Музыку должен был написать Ибрагим. Писать решили здесь и сейчас же. Хунтов сел на искалеченный стул и разборчиво написал сверху листа: «Акт первый». — Вот что, други, — сказал Ибрагим, — вы пока там нацарапаете, опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кой-какие лейтмотивы. Это совершенно необходимо. Золотоискатели принялись вырабатывать характеры действующих лиц. Наметились, приблизительно, такие лица: УГОЛИНО — гроссмейстер ордена фашистов (бас). АЛЬФОНСИНА — его дочь (колоратурное сопрано). ТОВ. МИТИН — советский изобретатель (баритон). СФОРЦА — фашистский принц (тенор). ГАВРИЛА — советский комсомолец (переодетое меццо-сопрано). НИНА — комсомолка, дочь попа (лирич. сопрано). (Фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и др.) — Я, — сказал Ибрагим, которому открылись благодарные перспективы, — пока что напишу хор капелланов и сицилийские пляски. А вы пишите первый акт. Побольше арий и дуэтов. — А как мы назовем оперу? — спросил Ляпис. Но тут в передней послышались стук копыт о гнилой паркет, тихое ржание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателей отворилась, и гражданин Шаринов, сосед, ввел в комнату худую, тощую лошадь с длинным хвостом и седеющей мордой. — Гоу! — закричал Шаринов на лошадь. — Ну-о, штоб тебя… Лошадь испугалась, повернулась и толкнула Ляписа крупом. Золотоискатели были настолько поражены, что в страхе прижались к стене. Шаринов потянул лошадь в свою комнату, из которой повыскакивало множество зеленоватых татарчат. Лошадь заупрямилась и ударила копытом. Квадратик паркета выскочил из гнезда и, крутясь, полетел в раскрытое окно. — Фатыма! — закричал Шаринов страшным голосом. — Толкай сзади! Со всего дома в комнату золотоискателей мчались жильцы. Ляпис вопил не своим голосом. Ибрагим иронически насвистывал «Амброзию». Хунтов размахивал списком действующих лиц. Лошадь тревожно косила глазами и не шла. — Гоу! — сказал Шаринов вяло. — О-о-о, ч-черт!.. Но тут золотоискатели опомнились и потребовали объяснений. Пришел управдом с дворником. — Что вы делаете? — спросил управдом. — Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? Шаринов вдруг рассердился. — Какое тебе дело? Купил лошадь. Где поставить? Во дворе украдут! — Сейчас же уведите лошадь! — истерически кричал управдом. — Если вам нужна конина — покупайте в мусульманской мясной. — В мясной дорого, — сказал Шаринов. — Гоу! Ты!.. Проклятая!.. Фатыма!.. Лошадь двинулась задом и согласилась наконец идти туда, куда ее вели. — Я вам этого не разрешаю, — говорил управдом, — вы ответите по суду. Тем не менее злополучный Шаринов увел лошадь в свою комнату и, непрерывно тпрукая, привязал животное к оконной ручке. Через минуту пробежала Фатыма с большой и легкой охапкой сена. — Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! — завопил Ляпис. — Не беспокойтесь, — сказал управдом, уходя, — работайте. Золотоискатели, прислушиваясь к стуку копыт, снова засели за работу. — Так как же мы назовем оперу? — спросил Ляпис. — Предлагаю назвать «Железная роза». — А роза тут при чем? — Тогда можно иначе. Например, «Меч Уголино». — Тоже несовременно. — Как же назвать? И они остановились на отличном интригующем названии — «Лучи смерти». Под словами «акт первый» Хунтов недрогнувшей рукой написал: «Раннее утро. Сцена изображает московскую улицу, непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев. На перекрестке — Уголино в поддевке. С ним — Сфорца…» — Сфорца в пижаме, — вставил Ляпис. — Не мешай, дурак! Пиши лучше стишки для ариозо Митина. На улице в пижаме не ходят! И Хунтов продолжал писать: «С ним — Сфорца в костюме комсомольца…» Дальше писать не удалось. Управдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из шариновской комнаты. — Фатыма! — кричал Шаринов. — Держи, Фатыма! Ляпис схватил со стола батон и трусливо шлепнул им по костлявому крупу лошади. — Тащи! — вопил управдом. Лошадь крестила хвостом направо и налево. Милиционеры пыхтели. Фатима с братьями-татарчатами обнимала худые колени лошади. Гражданин Шаринов безнадежно кричал «Гоу!». Золотоискатели пришли на помощь представителям закона, и живописная группа с шумом вывалилась в переднюю. В опустевшей комнате пахло цирковой конюшней. Внезапный ветер сорвал со стола оперные листочки и вместе с соломой закружил по комнате. Ариозо товарища Митина взлетело под самый потолок. Хор капелланов и зачатки сицилийской пляски пританцовывали на подоконнике. С лестницы доносились крик и брезгливое ржание. Золотоискатели, милиционеры и представители домовой администрации напрягали последние силы. Осилив упорное животное, соавторы собрали развеянные листочки и продолжали писать без помарок.
Глава XXXII В ТЕАТРЕ КОЛУМБА
Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет. Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, за окном — по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие, кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади пронесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием. Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали. На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить о прелестных прошедших временах. Но он не знал, кто проезжает перед ним в образе кучера, да и кучер вряд ли захотел бы говорить с ним о прелестных временах. Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука. — Послушайте, — сказал вдруг великий комбинатор, — как вас звали в детстве? — А зачем вам? — Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа? — Киса, — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь. — Конгениально! Так вот что, Киса, посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками. Остап стянул через голову рубашку «ковбой». Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя — спина очаровательной формы, но несколько грязноватая. — Ого, — сказал Ипполит Матвеевич, — краснота какая-то. Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний. — Честное слово, цифра восемь! — воскликнул Воробьянинов. — Первый раз вижу такой синяк. — А другой цифры нет? — спокойно спросил Остап. — Как будто бы буква Р. — Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям я подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером № 86. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула. — А я тоже… Я тоже пострадал! — поспешно вставил Киса. — Это когда же? Когда вы кобелировали за чужой женой? Насколько мне помнится, этот запоздалый кобеляж закончился для вас не совсем удачно! Или, может быть, во время дуэли с оскорбленным Колей? — Нет-с, простите, повреждения я получил на работе-с! — Ах! Это когда мы по стратегическим соображениям отступали из театра Колумба? — Да, да… Когда за нами гнался сторож… — Значит, вы считаете героизмом свое падение с забора? — Я ударился коленной чашечкой о мостовую. — Не беспокойтесь! При теперешнем строительном размахе ее скоро отремонтируют. Ипполит Матвеевич проворно завернул левую штанину и в недоумении остановился. На желтом колене не было никаких повреждений. — Как нехорошо лгать в таком юном возрасте, — с грустью сказал Остап, — придется, Киса, поставить вам четверку за поведение и вызвать родителей!.. И ничего-то вы толком не умеете. Почему нам пришлось бежать из театра? Из-за вас! Черт вас дернул стоять на цинке, как часовой, не двигаясь с места. Это, конечно, вы делали для того, чтобы привлечь всеобщее внимание. А изнуренковский стул кто изгадил так, что мне пришлось потом за вас отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною — стул вдовицы! За мною — два щукинских! Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только один-единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага — архиепископа!.. Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису. Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить — оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему. — А то, может быть, разделимся? — спросил Остап. — Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе. Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать. — Из двух зайцев, — сказал он, — выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит!.. Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита-ла-комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета!.. Одним словом — заседание продолжается. Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулки. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась — в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках «собачья радость» и ботиночках «джимми». Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар» (между б. Филипповым и б. Елисеевым). Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских — они также нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона «Юных пионеров», с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, боязливо косясь на милиционера, но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был неопасен. Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий Немой» неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель: — …Молодой помещик и поэт Ленский влюблен в дочь помещика Ольгу Ларину. Евгений Онегин, чтобы досадить другу, притворно ухаживает за молодой Ольгой. Прослушайте увертюру. Даю зрительный зал… Громкоговоритель быстро закончил настройку инструментов, звонко постучал палочкой дирижера о пюпитр и высыпал в толпу, ожидающую трамвая, первые такты увертюры. С мучительным стоном подошел трамвай номер 6. Уже взвился занавес, и старуха Ларина, покорно глядя на палочку дирижера и напевая «Привычка свыше нам дана», колдовала над вареньем, а трамвай еще никак не мог оторваться от штурмующей толпы. Ушел он с ревом и плачем только под звуки дуэта «Слыхали ль вы». Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места. — Все-таки, — сказал он, — очень дорого. Шестнадцатый ряд три рубля. — Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса? — Ну, а куда же, ведь без билета не пустят! — Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора. И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих, тесно связанных с театром лиц, как-то: членов ассоциации теа- и кино-критиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета «мастерской циркового эксперимента» и какого-то «Фортинбраса при Умслопогасе». Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича — «мне только справку, вы же видите, что я даже калош не снял», — пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. — Да! — кричал он. — Да! Да! В восемь тридцать! Он с лязгом вешал трубку, чтобы снова ее схватить. — Да! Театр Колумба! Ах, это вы, Сегидилья Марковна? Есть, есть, конечно, есть. Бенуар!.. А Бука не придет? Почему? Грипп? Что вы говорите? Ну, хорошо!.. Да, да, до свиданья, Сегидилья Марковна… — Театр Колумба!!! Нет! Сегодня никакие пропуска не действительны! Да, но что я могу сделать? Моссовет запретил!.. — Театр Колумба!!! Ка-ак? Михаил Григорьевич? Скажите Михаилу Григорьевичу, что днем и ночью в театре Колумба его ждет третий ряд, место у прохода… Рядом с Остапом бурлил и содрогался мужчина с полным лицом, брови которого беспрерывно поднимались и опадали. — Какое мне дело! — говорил ему администратор. Хунтов (это был человек, созвучный эпохе) негордой скороговоркой просил контрамарку. — Никак! — сказал администратор. — Сами понимаете — Моссовет! — Да, — мямлил Хунтов, — но Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов согласовало с Павлом Федоровичем… — Не могу и не могу… Следующий! — Позвольте, Яков Менелаевич, мне же в Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов… — Ну, что я с вами сделаю?.. Нет, не дам! Вам что, товарищ? Хунтов, почувствовав, что администратор дрогнул, снова залопотал: — Поймите же, Яков Менелаевич, Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных компози… Этого администратор не перенес. Всему есть предел. Ломая карандаши и хватаясь за телефонную трубку, Менелаевич нашел для Хунтова место у самой люстры. — Скорее, — крикнул он Остапу, — вашу бумажку. — Два места, — сказал Остап очень тихо, — в партере. — Кому? — Мне. — А кто вы такой, чтоб я давал вам места? — А я все-таки думаю, что вы меня знаете. — Не узнаю. Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду. — Ходят всякие, — сказал администратор, пожимая плечами, — кто их знает,кто они такие… Может быть, он из Наркомпроса?.. Кажется, я его видел в Наркомпросе… Где я его видел? И, машинально выдавал пропуска счастливым теа- и кино-критикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу. Театр Колумба помещался в особняке. Поэтому зрительный зал его был невелик, фойе непропорционально огромны, курительная ютилась под лестницей. На потолке была изображена мифологическая охота. Театр был молод и занимался дерзаниями в такой мере, что был лишен субсидии. Существовал он второй год и жил, главным образом, летними гастролями. Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился. К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы», Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил: — Степа-ан! Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки Эсмарха загремели. — Степа-а-ан! — повторил Подколесин, делая новый прыжок. Но так как Степан, стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликался, Подколесин трагически спросил: — Что же ты молчишь, как Лига Наций? — Очевидно я Чемберлена испужался, — ответил Степан, почесывая шкуру. Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы. — Ну что, шьет портной сюртук? Прыжок. Удар по кружкам Эсмарха. Степан с усильем сделал стойку на руках и в таком положении ответил: — Шьет. Оркестр сыграл попурри из «Чио-чио-сан». Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской. — А что, — спросил Подколесин, — не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно? Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил: — Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента? — А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться. — Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты! После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина: — Граждане! Не волнуйтесь! Свет потушили нарочно, по ходу действия. Этого требует вещественное оформление. Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно, на верблюде, приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога: — Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал! — Ах, ты заметил, несмотря на темноту?! А я хотел преподнести тебе сладкое вер-блюдо! В антракте концессионеры прочли афишу.ЖЕНИТЬБА текст — Н. В. Гоголя стихи — М. Шершеляфамова литмонтаж — И. Антиохийского музыкальное сопровождение — Х. Иванова Автор спектакля — Ник. Сестрин Вещественное оформление — Симбиевич-Синдиевич. Свет — Платон Плащук. Звуковое оформление — Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Грим — мастерской КРУЛТ. Парики — Фома Кочура. Мебель — древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе им. Валтасара. Инструктор акробатики — Жоржетта Тираспольских. Гидравлический пресс под управлением монтера Мечникова.
Афиша набрана, сверстана и отпечатана в школе ФЗУ КРУЛТ.
— Вам нравится? — робко спросил Ипполит Матвеевич. — А вам? — Очень интересно, только Степан какой-то странный. — А мне не понравилось, — сказал Остап, — в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских Вогопаса. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад? Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах. Сцена сватовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Х. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть в публику. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и в мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: «Я хочу Подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она спрыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет. Женихи были очень смешны — в особенности Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом. Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает у Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся. — Я доволен спектаклем, — сказал Остап, — стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут. Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления. На лестнице раздавался снисходительный голос Хунтова. — Да. Я пишу оперу. В Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов мне говорили… И долго еще расходившаяся публика слышала барабанную дробь человека, созвучного эпохе: — Согласитесь с тем, что Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов… — Ну, — сказал Остап, — вам, Кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите два жестких места для сидения до Нижнего, Курской дороги. Не беда — посидим. Всего одна ночь. На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич-Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, закусывал за столиком. Вымочив в пиве усы, он тревожно спрашивал монтера: — Что, гидравлический пресс не сломают в дороге? — Беда с этим прессом, — отвечал Мечников, — работает он у нас пять минут, а возить его целое лето придется. — А с «прожектором времен» тебе легче было, из пьесы «Порошок идеологии»? — Конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломкий. За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна — молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление — Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд. — Вы вчера мне не в ногу подавали, — жаловалась Агафья Тихоновна, — я так свалиться могу. Звуковое оформление загалдело. — Что ж делать! Две кружки лопнули! — Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсмарха? — кричал Галкин. — Зайдите в Госмедторг. Не то что кружки Эсмарха — термометра купить нельзя! — поддержал Палкин. — А вы разве и на термометрах играете? — ужаснулась девушка. — На термометрах мы не играем, — заметил Залкинд, — но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь — приходится мерить температуру. Автор спектакля и главный режиссер Ник. Сестрин прогуливался с женою по перрону. Подколесин с Кочкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских. Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом. Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые потные лица. Подкатывали пролетки, пахло бензином, наемные машины высаживали пассажиров. Навстречу им выбегали Ермаки Тимофеевичи, уносили чемоданы, и овальные их бляхи сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала за горло. — Ну, пойдем и мы, — сказал Остап. Ипполит Матвеевич покорно согласился. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком. — Безенчук! — сказал он в крайнем удивлении. — Ты как сюда попал? Безенчук снял шапку и радостно остолбенел. — Господин Воробьянинов! — закричал он. — Почет дорогому гостю! — Ну, как дела? — Плохи дела, — ответил гробовых дел мастер. — Что же так? — Клиента ищу. Не идет клиент. — «Нимфа» перебивает? — Куды ей! Она меня разве перебьет? Случаев нет. После вашей тещеньки один только «Пьер и Константин» перекинулся. — Да что ты говоришь? Неужели умер? — Перекинулся, Ипполит Матвеевич. На посту своем перекинулся. Брил аптекаря нашего Леопольда и перекинулся. Люди говорили, разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал. — Ай-яй-яй, — бормотал Ипполит Матвеевич, — ай-яй-яй. Ну что ж, значит, ты его и похоронил? — Я и похоронил. Кому ж другому? Разве «Нимфа», туды ее в качель, кисть дает? — Одолел, значит? — Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился. — Растирался? — Нам растираться не к чему. — А сюда тебя зачем принесло? — Товар привез. — Какой же товар? — Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству. Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль от Безенчука на земле стоял штабель гробов. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины. — Восемь штук, — сказал Безенчук самодовольно, — один к одному. Как огурчики. — А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно. — А гриб? — Какой гриб? — Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить. Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством, вмешался. — Слушай, ты, папаша. Это в Париже грипп свирепствует. — В Париже? — Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно — устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит. Безенчук дико огляделся. Действительно. На площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись. Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще стоял ошалело над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.
Часть третья
СОКРОВИЩЕ МАДАМ ПЕТУХОВОЙ
Глава XXXIII ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ НА ВОЛГЕ
Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства, под надписью «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся», стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым. Страдальческие крики пароходов пугали предводителя. В последнее время он стал пуглив, как кролик. Ночь, проведенная без сна в жестком вагоне почтового поезда Москва — Нижний Новгород, оставила на лице Ипполита Матвеевича тени, пятна и пыльные морщины. Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый, как цветная капуста, валил из пароходных труб. Шла погрузка парохода «Антон Рубинштейн», стоявшего у дебаркадера № 2. Грузчики вонзали железные когти в тюки хлопка. На пристани выстроились в каре чугунные горшки, лежали мокросоленые кожи, бунты проволоки, ящики с листовым стеклом, клубки сноповязального шпагата, жернова, двухцветные костистые сельскохозяйственные машины, деревянные вилы, обшитые дерюгой корзинки с молодой черешней и сельдяные бочки. У дебаркадера № 4 стоял теплоход «Парижская коммуна». Вниз по реке он должен был уйти по расписанию только в шесть часов вечера, но уже и теперь, в одиннадцатом часу, по его белым опрятным палубам прогуливались пассажиры, приехавшие утром из Москвы. «Скрябина» не было. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича. — Что вы переживаете? — спросил Остап. — Вообразите себе, что «Скрябин» здесь. Ну, как вы на него попадете? Если бы у нас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет. Остап еще в поезде успел побеседовать с завгидропрессом, монтером Мечниковым, и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный Наркомфином, должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение — тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов. До Царицына театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался на свой страх и риск совершить большую гастрольную поездку по Кавказу со своей «Женитьбой». «Скрябин» опоздал. Обещали, что он придет из затона, где делались последние приготовления, только к вечеру. Поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани. Нежные девушки с чемоданчиками и портпледами сидели на бунтах проволоки, сторожа свои ундервуды и с опасением поглядывая на крючников. На жернове примостился гражданин с фиолетовой эспаньолкой. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. На верхней из них любопытный мог бы прочесть:ОТДЕЛ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ
Письменные столы на тумбах и другие столы, более скромные, — стояли друг на друге. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой. Корреспондент ТАСС уже удалился на край пристани и, свесив ноги за борт, удил рыбу. Рыба не шла, и корреспондент досадливо крякал, меняя наживку. Представитель «Станка» Персицкий смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки, потом потоптался, выяснил, что до прихода «Скрябина» остается еще часов пять, и на кремлевском «элеваторе» поднялся в город. За пять часов можно было набрать уйму материалов — дать очерк о городе, о радиолаборатории Бонч-Бруевича и о последствиях наводнения… Под сенью гидравлического пресса на воробьяниновском стуле сидела Агафья Тихоновна и флиртовала с виртуозом-балалаечником, корректным молодым человеком с европейской выправкой. Виртуоз чувствовал себя в родственной среде прекрасно. Он грациозно уселся на один из воробьяниновских стульев, совершенно не обращая внимания на то, что Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд вынуждены были все впятером довольствоваться только двумя стульями. Вокруг стульев, как шакалы, расхаживали концессионеры. Остапа особенно возмущал виртуоз-балалаечник. — Что это за чижик? — шептал он Ипполиту Матвеевичу. — Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это плоды вашего пошлого кобелирования. — Что вы ко мне пристали? — захныкал Воробьянинов. — Я даже такого слова не знаю — кобелировать. — Напрасно. Кобелировать — это значит ухаживать за молодыми девушками с нечистыми намерениями. Отпирательства ваши безнадежны. Лиза мне все рассказала. Вся Москва покатывается со смеху. Все знают о вашем кобеляже. Компаньоны, тихо переругиваясь, кружили вокруг стульев. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд делали прогнозы в будущее. Малкин не верил в доброкачественность тиражных обедов. — В контракте, — говорил он, — надо было указать число блюд и количество калорий. По правилу, мы должны приравниваться к металлистам — не меньше 4000 калорий в обед. Галкин и Палкин держались более оптимистических взглядов. — Зато здесь икра дешева, — сообщили они, — и рыба. — А воздух какой! — закричал Чалкин. — Морской воздух! — Тем более, — сказал тонкий, как кнут, Залкинд. — При таком воздухе беспрерывно хочется есть. Мне уже сейчас хочется. — До Царицына мы не пропадем. Кормить будут. — А на Кавказе что будет? Если Сестрин сейчас уже заграбастал себе двадцать марок. — А нам по полторы марки на каждого. Если еще пьеса провалится… — Да. Копеек по пятнадцать в день будем зарабатывать. Виртуоз-балалаечник пригласил Агафью Тихоновну обедать на теплоход «Парижская коммуна», стоявший у дебаркадера № 4. — А нас пустят? — Конечно, пустят. На стоянках кухня этим живет. Тут очень хорошие и дешевые обеды. Звуковое оформление завздыхало и поплелось в трактир «Плот». Концессионеры оживились. — Может быть, рискнем? — сказал вдруг Остап, невольно приближаясь к стульям. — Вы — два, и я — два, и — ходу! А? Хорошо бы было, черт возьми! Он осмотрелся. Бежать надо было бы по насыпи до Рождественской улицы, забитой обозами. Да и сквозь толпу крючников продраться было бы нелегко. Кроме того, Кочкарев с Подколесиным маячили поблизости. Они, конечно, подняли бы страшный рев, заметив покушение на мебель, якобы изготовленную в древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе имени Валтасара. Остап скис. — Придется ехать! Но как? В крайнем случае, можно было бы сесть на «Парижскую коммуну», доехать до Царицына и там ждать труппу, но деньги, деньги! Ах, Киса, Киса, что б вас черт забрал! Осознали ли вы уже свою пошлость? Компаньоны решили хотя бы посидеть на стульях. Они подпрыгивали на пружинах и пересаживались со стула на стул. Ипполит Матвеевич ерзал. — Ирония судьбы! — говорил Остап. — Нищие миллионеры! Вы еще ничего не нащупали? Подколесин с Кочкаревым подошли к учрежденскому курьеру и, мотая головами в сторону концессионеров, справились, кто такие осмелились сесть на их вещественное оформление. — Ну, сейчас погонят! — заключил Остап. Подошел сторож. — Вы, товарищи, из какого отдела будете? — Из отдела взаимных расчетов, — сказал наблюдательный Остап. Но и это не помогло. Курьер ушел и сейчас же вернулся с товарищем Людвигом. Товарищ Людвиг отогнал концессионеров от стульев. Друзья побежали на дебаркадер, к которому уже приближался, разворачиваясь против течения, пароход «Скрябин». На бортах своих он нес фанерные щиты, с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть, и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену. Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие. В облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон Плащук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот». Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходням. Симбиевич-Синдиевич, в заботах о вещественном оформлении, простирал руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории. В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям и, будучи вне себя, поволок было один стул в сторонку. — Бросьте стул! — завопил Бендер. — Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда! Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход! По дебаркадеру прошли музыканты, опоясанные медными трубами. Они с отвращением смотрели на саксофоны, флексатоны, пивные бутылки и кружки Эсмарха, которыми было вооружено звуковое оформление. — Клистирная шайка! — сказал кларнет, поравнявшись с могучей пятеркой. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд ничего не ответили, но затаили в груди месть. Тиражные колеса были привезены на фордовском фургончике. Это была сложная конструкция, составленная из шести вращающихся цилиндров, сверкающая медью и стеклом. Установка ее на нижней палубе заняла много времени. Топот и перебранка продолжались до позднего вечера. Колумбовцы, обиженные тем, что их поместили во втором классе, экспансивно набросились на автора спектакля и режиссера Ник. Сестрина. — Ну стоит ли волноваться, — мычал Ник. Сестрин, — прекрасные каюты, товарищи. Я считаю, что все хорошо. — Это вы потому считаете, — запальчиво выкрикнул Галкин, — что сами устроились в первом классе. — Галкин! — зловеще сказал режиссер. — Что Галкин? — Вы уже начинаете разлагать! — Я? А Палкин? А Малкин? А Чалкин и Залкинд разве вам не скажут то же самое? Наконец, где мы будем репетировать? И вся могучая кучка в один голос потребовала отдельную каюту для репетиций, а, кстати, хотя бы немного денег вперед. — Идите к черту! — завопил Ник. Сестрин. — В такой момент они пристают со своими претензиями! Не объяснив, какой такой момент, автор спектакля перегнулся через борт и воззвал: — Симбие-эвич! Синдие-эвич! Симбие-эвич! Мура! Вы не видели Симбиевича-Синдиевича? В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивали электропровода с тиражными колесами. Письменные столы разместили на корме, а из каюты машинисток, вперемежку со смехом, слышалось цоканье пишущих машинок. Бледный человек с фиолетовой эспаньолкой ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблицы:
ОТДЕЛ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ ЛИЧНЫЙ СТОЛ ОБЩАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
К большим табличкам человек с эспаньолкой присобачивал таблички поменьше:
БЕЗ ДЕЛА НЕ ВХОДИТЬ ПРИЕМА НЕТ ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВСЕ СПРАВКИ В РЕГИСТРАТУРЕ
Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон. Это вызвало новый взрыв негодования у Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. — Где же мы будем обедать? — волновались они. — А если дождь? — Ой, — сказал Ник. Сестрин своему помощнику, — не могу!.. Как ты думаешь, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления? — Что вы, Николай Константинович! Артисты к ритму привыкли! Тут поднялся новый галдеж. Пятерка пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту. — Так, так, — говорила пятерка с иронией, — а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен. С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров. — Почему же вы мне раньше не сказали?! — кричал член комиссии. — Откуда же я мог знать, что он заболеет. — Это черт знает что! Тогда поезжайте в рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника. — Куда же я поеду? Сейчас шесть часов. Рабис давно закрыт. Да и пароход через полчаса уходит. — Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, — извольте отдуваться, как хотите. Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали. — Пропуск! — Товарищ! — заорал Бендер. — Вы! Вы! Толстенький! Которому художник нужен! Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы. — Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее: исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь в больнице. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем предупреждаю — работы много. — Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу. — И вы можете сейчас же ехать с нами? — Это будет трудновато, но я постараюсь. Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом. — Ваши условия? — спросил Остап дерзко. — Имейте в виду, я не похоронная контора. — Условия сдельные. По расценкам Рабиса. Остап поморщился, что стоило ему большого труда. — Но, кроме того, еще бесплатный стол, — поспешно добавил толстунчик, — и отдельная каюта. — В каком же классе? — Во втором. Впрочем, можно и в первом. Я вам это устрою. — А обратный проезд? — На ваши средства. Не имеем кредитов. — Ну, ладно, — сказал Остап со вздохом, — соглашаюсь. Но со мною еще мальчик, ассистент. — Насчет мальчика вот не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет — пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте. — Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке. Кормить вы его будете? — Пусть приходит на кухню. Там посмотрим. Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же, рядом, в стульях. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиною к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса в трюм. Делались последние приготовления к отвалу. Агафья Тихоновна, она же Мура, постукивая ножками, бегала из своей каюты на корму, смотрела в воду, громко делилась своими восторгами с виртуозом-балалаечником и всем этим вносила смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. С рынка в Почаевском овраге донеслись хрипы граммофонов, состязавшихся перед последними покупателями. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. — Что же вы стоите, как засватанный. Я думал, что вы уже давно на пароходе! Сейчас сходни снимают! Бегите скорей! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск! Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. — Вот это ваш мальчик? — спросил завхоз подозрительно. — Мальчик, — сказал Остап, — разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень! Толстяк угрюмо отошел. — Ну, Киса, — заметил Остап, — придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом вот что: я художник, окончил ВХУТЕМАС, а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег. Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Пароход дрогнул, всплеснули медные тарелки, флейты, корнеты, тромбоны и басы затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый борт. Продолжая дрожать, пароход стал по течению и быстро побежал в темноту. Позади качались звезды, лампы и портовые разноцветные знаки. Через минуту пароход отошел настолько, что городские огни стали казаться застывшим на месте ракетным порошком. Еще слышался ропот работающих ундервудов, а природа и Волга брали свое. Нега охватила всех плывующих на пароходе «Скрябин». Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. На первом заседании месткома, происходившем на носу, царила нежность. Так шумно дышал теплый ветер, так мягко полоскалась у бортов водичка, так быстро пролетали по бокам парохода черные очертания берегов, что председатель месткома, человек вполне положительный, открывший рот для произнесения речи об условиях труда в необычной обстановке, неожиданно для всех и для самого себя запел:
Пароход по Волге плавал,
Волга русская река…
Сире-энь цвяте-от…
Глава XXXIV НЕЧИСТАЯ ПАРА
Наутро первым на палубе оказался репортер Персицкий. Он успел уже принять душ и посвятить десять минут гимнастическим экзерсисам. Люди еще спали, но река жила, как днем. Шли плоты — огромные поля бревен с избами на них. Маленький злой буксир, на колесном кожухе которого дугой было выписано его имя — «Повелитель бурь», тащил за собой три нефтяные баржи, связанные в ряд. Пробежал снизу быстрый почтовик «Красная Латвия». «Скрябин» обогнал землечерпательный караван и, промеряя глубину полосатеньким шестом, стал описывать дугу, заворачивая против течения. Персицкий приложился к биноклю и стал обозревать пристань. — Бармино, — прочел он пристанскую вывеску. На пароходе стали просыпаться. На пристань «Бармино» полетела гирька со шпагатом. На этой леске пристанские потащили к себе толстый конец причального каната. Винты завертелись в обратную сторону. Полреки облилось шевелящейся пеной. «Скрябин» задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано. Поэтому тираж решили начать в десять часов. Служба на «Скрябине» начиналась, словно бы и на суше, аккуратно в девять. Никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. К новому укладу походные штаты Наркомфина привыкли довольно быстро. Курьеры подметали каюты с тем же равнодушием, с каким подметали канцелярии в Москве. Уборщицы разносили чай, бегали с бумажками из регистратуры в личный стол, ничуть не удивляясь тому, что личный стол помещается на корме, а регистратура на носу. Из каюты взаимных расчетов несся кастаньетный звук счетов и скрежетанье арифмометра. Перед капитанской рубкой кого-то распекали. Великий комбинатор, обжигая босые ступни о верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, малюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке: «Все на тираж. Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма». Великий комбинатор очень старался, но отсутствие способностей все-таки сказывалось. Надпись поползла вниз, и кусок кумача, казалось, был испорчен безнадежно. Тогда Остап, с помощью мальчика Кисы, перевернул дорожку наизнанку и снова принялся малевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов. Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту. Проходивший мимо капитан, человек спокойный, с обвислыми запорожскими усами, остановился и покрутил головой. — А это уже не дело, — сказал он, — зачем гвоздями к перилам прибивать? На какие средства после вас пароход ремонтировать? Капитан был удручен. Еще никогда на его пароходе не висели таблички «Без дела не входить» и «Приема нет», никогда на палубе не стояли пишущие машинки, никогда не играли на кружках Эсмарха, один вид которых приводил застенчивого капитана в состояние холодного негодования. Из кают вышел заспанный кинооператор Полкан. Он долго пристраивал свой аппарат, оглядывал горизонты и, отвернувшись от толпы, уже собравшейся у пристани, накрутил метров десять с заведующего личным столом. Заведующий, для пущей натуральности, пытался непринужденно прогуливаться перед аппаратом, — но Полкан этому воспротивился. — Вы, товарищ, не выходите за рамку. Стойте на месте. И руками не шевелите, пожалуйста. Заведующий сложил руки на груди и в таком монументальном виде был заснят. После этого Полкан удалился в свою лабораторию. Толстячок, нанявший Остапа, сбежал на берег и оттуда смотрел работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в стороны. Толстяк подумал, что новый художник, при его самоуверенности, мог бы приложить больше стараний, но выхода не было — приходилось довольствоваться и этим. На берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего Бармина сбежались дети, а за ними из яблоневых садов двинули мужики и бабы. Оркестр гремел до тех пор, покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. Начался митинг. С крыльца чайной Коробкова полились первые звуки доклада о международном положении. Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка. Оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням. За ним повалила толпа. — Одну минуту! — закричал с борта толстячок. — Сейчас, товарищи, мы будем производить тираж выигрышного займа. Присутствовать могут все. Поэтому просим всех на пароход. По окончании тиража состоится концерт. А потому просьба по окончании тиража не расходиться, а собраться на берегу и оттуда смотреть. Артисты будут играть на палубе! Оркестр заиграл снова и, толкая друг друга, все побежали на пароход и спустились в прохладный тиражный зал. Тиражная комиссия и включенные в нее представители села Бармина разместились на эстраде. Члены комиссии сделали это с достоинством, выработанным привычкой к подобного рода церемониям. Представители же села (их было двое), в лаптях и полосатых синих рубашках, серьезно, с таким видом, как будто бы они шли молотить, направились к столу и сели с краю. — Прошу представителя РКИ, — сказал председатель комиссии, — осмотреть печати, наложенные на тиражную машину. Представитель РКИ нагнулся, осторожно потрогал печати рукой и заявил: — Печати в полном порядке! — Желающие могут удостовериться в целости печатей. После осмотра из публики был затребован ребенок. — И вот, товарищи, ребенок на глазах у всех будет вынимать из этих шести цилиндров по одному билету. На каждом из них есть одна цифра. Все шесть цифр вместе составят цифру той облигации, которая выиграла. Сейчас, товарищи, будет производиться розыгрыш двадцатирублевых выигрышей. Имеющие облигации — пускай следят. Не имеющие — могут приобрести их тут же на пароходе. Колеса завертелись, моргая стеклянными своими окошечками. Потом остановилась. Босой мальчик с каменным лицом опускал руку поочередно в каждый цилиндр, вынимал оттуда похожие на папиросы билетные трубочки и отдавал их членам комиссии. — Выиграла облигация номер 0703418 во всех пяти сериях. Тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. Колеса оборачивались, оглашались номера, барминцы смотрели и слушали. Звуковое оформление, возбужденное процессом розыгрыша, обзавелось вскладчину одной облигацией и после каждого возглашения облегченно вздыхало. — Слава богу, не наш номер! — Чему же вы радуетесь? — удивился Ник. Сестрин. — Ведь вы же не выиграли! — Охота получать двадцать рублей! — кричала могучая пятерка. — На эту же облигацию можно выиграть пятьдесят тысяч. Прямой расчет. — Вы вот что, друзья мои, — сказал режиссер, — до крупных выигрышей еще далеко, и делать вам здесь нечего. Идите готовиться к выступлению. Прибежал на минуту Остап, убедился в том, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале и снова убежал на палубу. — Воробьянинов! — шепнул он. — Для вас срочное дело по художественной части. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить — пойте погромче. Старик опешил. — Что же мне петь? — Уж во всяком случае не «Боже, царя храни». Что-нибудь страстное — «Яблочко» или «Сердце красавицы». Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву. Великий комбинатор, пришлепывая босыми пятками, вбежал в коридор, обшитый вишневыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило его фигуру. Он читал табличку на двери:НИК. СЕСТРИН. Режиссер театра Колумба
Зеркало очистилось. Затем в нем снова появился великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, вышел на палубу и, переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем, понес стул наверх к рубке рулевого. В стеклянной рубке рулевого не было никого. Остап отнес стул на корму и наставительно сказал: — Стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал. Здесь почти никто не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет — спокойно ознакомимся с его содержимым. Через минуту стул, заваленный фанерными листами и кумачом, перестал быть виден. Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка. — А почему бы не отнести его в нашу каюту? — спросил он нетерпеливо. — Мы б его вскрыли сейчас же. И если бы нашли брильянты, то сейчас же на берег… — А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать? Или, может быть, отнести его назад к гражданину Сестрину и вежливо сказать: «Извините, мол, мы у вас стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде!» Так бы вы поступили? Великий комбинатор был прав, как всегда. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры, исполняемой на кружках Эсмарха и пивных батареях. Тиражные операции на этот день были закончены. Зрители разместились на береговых склонах и, сверх всякого ожидания, шумно выражали свое одобрение аптечно-негритянскому ансамблю. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд гордо поглядывали, как бы говоря: «Вот видите! А вы утверждали, что широкие массы не поймут. Искусство, оно всегдадоходит!» Затем на импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пеньем и танцами, содержание которого сводилось к тому, как Вавила выиграл пятьдесят тысяч рублей и что из этого вышло. Артисты, сбросившие с себя путы никсестринского конструктивизма, играли весело, танцевали энергично и пели милыми голосами. Берег был вполне удовлетворен. Вторым номером выступил виртуоз-балалаечник. Берег покрылся улыбками. Его визитка и пробор, рассекающий волосы, вызывали в зрителях недоумение и иронические возгласы. Виртуоз сел на скамейку, расправил фалды и медленно начал венгерскую рапсодию Листа. Постепенно ускоряя ритм, виртуоз достиг вершин балалаечной техники. Скептики были сражены, но энтузиазма не чувствовалось. Тогда виртуоз заиграл «Барыню». «Барыня, барыня, — вырабатывал виртуоз, — сударыня-барыня». Балалайка пришла в движение. Она перелетела за спину артиста, и из-за спины слышалось: «Если барин при цепочке, значит, барин без часов». Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций. Наступил черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах. Концерт закончился русскими плясками. Пока «Скрябин» готовился к дальнейшему плаванью, пока капитан переговаривался в трубу с машинным отделением и пароходные топки пылали, грея воду, — духовой оркестр снова сошел на берег и к общему удовольствию стал играть танцы. Образовались живописные группы, полные движения. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. Наступил идеальный час для киносъемки. И действительно, оператор Полкан, позевывая, вышел из каюты. Воробьянинов, который уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика, осторожно нес за Полканом съемочный аппарат. Полкан подошел к борту и воззрился на берег. Там на траве танцевали солдатскую польку. Парни топали босыми ногами так, будто хотели расколоть нашу планету. Девушки плыли. На террасах и съездах берега расположились зрители. Французский кинооператор из группы «Авангард» нашел бы здесь работы на трое суток. Но Полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчас же отвернулся, рысью подбежал к председателю комиссии, поставил его к белой стенке, сунул в его руку книгу и, попросив не шевелиться, долго вертел ручку аппарата. Потом он увел стесненного председателя на корму и снял его на фоне заката. Закончив съемку, Полкан важно удалился в свою каюту и заперся. Снова заревел гудок, и снова солнце в испуге убежало. Наступила вторая ночь. Пароход был готов к отходу. По коридорам и лесенкам бегал Персицкий, разыскивая исчезнувшего корреспондента ТАСС. Корреспондента нигде не было. Только тогда, когда уже убирали сходни, корреспондент объявился. Он бежал вдоль берега, спотыкаясь, гремя баночками и размахивая удочкой. — Человека забыли! — кричал он протяжно. — Человека забыли! Пришлось подождать. — Чтоб вас черт побрал! — сказал Персицкий, когда истомленный корреспондент прибыл. — Рыбу ловили? — Ловил. — Где же ваши осетры, налимы и раки? — Нет, это черт знает что! — заволновался корреспондент. — Распугали всю рыбу своими оркестрами! И даже наконец, когда одна рыба уже клюнула, заревел этот ужасный гудок, и рыба тоже убежала. Нет, товарищи, в таких условиях работать совершенно невозможно!.. Совершенно!.. Разгневанный корреспондент пошел к капитану справляться о ближайшей остановке. — Сначала Юрино, — сказал капитан, — потом Козьмодемьянск, потом Васюки, Мариинский посад, Козловка. Потом Казань. Идем по расписанию тиражной комиссии. Узнав то, что узнают все: сколько, приблизительно, такой пароход может стоить и как он назывался до революции, — корреспондент перешел на не менее тривиальные расспросы о волжских перекатах и мелях. — Ну, это дело темное, — вздохнул капитан, — когда как. Каждый день дно может перемениться. На это обстановка есть. — Какая обстановка? — удивился корреспондент. — Маяки, буи, семафоры на берегах. Это и называется обстановкой. А главное — практика. Вот сынишка мой… Капитан показал на двенадцатилетнего мальчугана, сидевшего у поручней и глядевшего на проплывающие берега. — Настоящий волгарь будет. Лучше меня фарватер знает. С шести лет его с собой вожу. Разговор с корреспондентом прервал заведующий хозяйством. За ним шел несколько растерянный директор бриллиантовой концессии. — Это наш художник, — сказал завхоз, — мы тут делаем транспарант. Так вот, нельзя будет прикрепить его к капитанскому мостику? Оттуда его будет видно со всех сторон. Капитан категорически отказался от украшения мостика. — Ну, тогда рядом! — Рядом — пожалуйста! Завхоз обратился к Остапу. — А вам, товарищ художник, удобно будет сбоку от капитанского мостика? — Удобно, — со вздохом сказал Бендер. — Так смотрите же! С утра приступайте к работе. Остап со страхом помышлял о завтрашнем утре. Ему предстояло вырезать в картоне фигуру сеятеля, разбрасывающего облигации. Этот художественный искус был не по плечу великому комбинатору. Если с буквами Остап кое-как справлялся, то для художественного изображения сеятеля уже не оставалось никаких ресурсов. — Так имейте в виду, — предостерегал толстяк, — с Васюков мы начинаем вечерние тиражи, и нам без транспаранта никак нельзя. — Пожалуйста, не беспокойтесь, — заявил Остап, надеясь больше не на завтрашнее утро, а на сегодняшний вечер, — транспарант будет. После ужина, на качество которого не могли пожаловаться даже такие гурманы, как Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, после таких разговоров на корме: — А как будет со сверхурочными? — Вам хорошо известно, что без разрешения инспекции труда мы не можем допустить сверхурочных. — Простите, дорогой товарищ, наша работа протекает в условиях ударной кампании… — А почему же вы не запаслись разрешением в Москве? — Москва разрешит постфактум. — Пусть тогда постфактум и работают. — В таком случае я не отвечаю за работу комиссии. После всех этих и иных разговоров наступила звездная ветреная ночь. Население тиражного ковчега уснуло. Львы из тиражной комиссии спали. Спали ягнята из личного стола, козлы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро. Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного Кисы. Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки, сжав челюсти, вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье. Ветер бегал по верхней палубе. В небе легонько пошевеливались звезды. Под ногами глубоко внизу плескалась черная вода. Берегов не было видно. Ипполита Матвеевича трясло. — Есть! — сказал Остап придушенным голосом.
ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,
писанное им в Баку
из меблированных комнат «Стоимость»
жене своей в уездный город N.
Дорогая и бесценная моя Катя! С каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Пишу я тебе из меблированных комнат «Стоимость», после того как побывал по всем делам. Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. Живописный город омывается Каспийским морем. Оно действительно очень велико по размерам. Жара здесь страшная. На одной руке ношу пальто, на другой пиджак — и то жарко. Руки преют. То и дело балуюсь чайком. А денег почти что нет. Но не беда, голубушка Катерина Александровна, скоро денег у нас будет во множестве. Побываем всюду, а потом осядем по-хорошему в Самаре подле своего заводика и наливочку будем распивать. Впрочем, ближе к делу. По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. Однако уступает городу Харькову по своему движению. Инородцев здесь множество. А особенно много здесь армяшек и персиян. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко. Был я и на базаре и видел я много тюрецких вещей и шалей. Захотел тебе в подарок купить мусульманское покрывало, только денег не было. И подумал я, что когда мы разбогатеем (а до этого днями нужно считать), — тогда и мусульманское покрывало купить можно будет. Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, происшедших со мною в городе Баку: 1) уронил пиджак брата твоего булочника в Каспийское море и 2) в меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное — пощекотал хворостинкой в ноздре. А пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в керосине. Уж я и не знаю, что скажу брату твоему булочнику. Ты, голубка, пока что держи язык за зубами. Обедает ли еще Евстигнеев. Перечел письмо и увидел, что о деле ничего не успел тебе рассказать. Инженер Брунс действительно работает в Азнефти. Только в городе Баку его сейчас нету. Он уехал в отпуск в город Батум. Семья его имеет в Батуме постоянное местожительство. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно в Батуме у Брунса вся меблировка. Живет он там на даче, на Зеленом мысу, такое там есть дачное место (дорогое, говорят). Пути отсюда до Батума — на 15 рублей с копейками. Вышли двадцать сюда телеграфом, а из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже. Твой вечно муж Федя.Постскриптум: Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах «Стоимость» пальто брата твоего булочника. Я в таком горе! Хорошо, что теперь лето. Ты брату ничего не говори.
Глава XXXV ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ
Между тем как одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет, время шло обычным своим порядком. За пыльным московским маем пришел пыльный июнь. В уездном городе N автомобиль Гос. № 1, повредившись на ухабе, стоял уже две недели на углу Старопанской площади и улицы имени товарища Губернского, время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. Из старгородского допра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора «Меча и орала» — у них была взята подписка о невыезде. Вдова Грицацуева (знойная женщина, мечта поэта) возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на пятнадцать рублей за то что не вывесила на видном месте прейскурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары, — забывчивость, простительная женщине с большим сердцем!За день до суда, назначенного на двадцать первое июня кассир Асокин пришел к Агафону Шахову, сел на диван и заплакал. Писатель в купальном халате полулежал и кресле и курил самокрутку. — Пропал я, Агафон Васильевич, — сказал кассир, засудят меня теперь. — Как же это тебя угораздило? — наставительно спросил Шахов. — Из-за вас пропал, Агафон Васильевич. — А я тут при чем, интересно знать? — Смутили меня, товарищ Шахов. Клеветы про меня написали. Никогда я таким не был. — Чего же тебе, дура, надо от меня? — Ничего не надо. Только через вашу книгу я пропала, завтра судить будут. А главное — место потерял. Куда теперь приткнешься? — Неужели же моя книга так подействовала? Подействовала, Агафон Васильевич. Прямо так подействовала, что и сам не знаю, как случилось все. — Замечательно! — воскликнул писатель. Он был польщен. Никогда еще не видел он так ясно воздействия художественного слова на интеллект читателя. Жалко было лишь, что этот показательный случай остается неизвестным критике и читательской массе. Агафон запустил пальцы в свою котлетообразную бороду и задумался. Асокин выбирал слезу из глаза темным носовым платком. — Вот что, братец, — вымолвил писатель задушевным голосом, — в чем, собственно, твое дело? Чего ты боишься? Украл? Да, украл сто рублей, поддавшись неотразимому влиянию романа Агафона Шахова «Бег волны», издательство «Васильевские четверги», тираж 10 000 экземпляров, Москва, 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек. — Очень понимаю-с. Так оно и было. Полагаете, Агафон Васильевич, условно дадут? — Ну, это уж обязательно. Только ты все как есть выкладывай. Так и так, скажи, писатель Агафон Шахов, мол, моральный мой убийца. — Да разве ж я посмею, Агафон Васильевич, осрамить автора!.. — Срами! — Да разве ж я вас выдам?! — Выдавай, голубчик. Моя вина. — Ни в жизнь на вас тень я не брошу! — Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек, про Фенечку не забудь. Помнишь, как там сказано? — Как же, Агафон Васильевич! «Пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер». — Вот, вот, вот. И Эсмеральдочка. Хищные зубы, какая-то там линия бедер. — Наташка у вас красивенькая получилась. Раз меня уволили, я вашу книжку каждый день читаю. — И тем лучше. Почитай ее еще сегодня вечером, а завтра все выкладывай. Про меня скажи, что, мол, я деморализатор общества, скажи, что взрослому мужчина после моей книжки прямо удержу нет. Захватывающий, скажи, книжка, и описаны, мол, в ней сцены невыразимой половой распущенности. — Так и говорить? — Так и говори: роман Агафона Шахова «Бег волны». Не забудешь? Издательство «Васильевские четверги», тираж 10 000 экземпляров, Москва, 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек. Скажи, что, мол, во всех магазинах, киосках и на станциях железных дорог продается. — Вы мне, Агафон Васильевич, лучше запишите, a то забуду. Писатель опустился в кресло и набросал полную исповедь растратчика. Тут были, главным образом, бедра, несколько раз указывалась цена книги, несомненно невысокая для такого большого количества страниц, размер тиража и адрес склада издательства «Васильевские четверги» — Кошков переулок, дом № 21, квартира 17а. Обнадеженный кассир выпросил на прощанье новую книгу Шахова под названием «Повесть о потерянной невинности, или В борьбе с халатностью». — Так ты иди, братец, — сказал Шахов, — и не греши больше. Нечистоплотно это. — Так я пойду, Агафон Васильевич. Значит, вы думаете, дадут условно? — Это от тебя зависит. Ты больше на книгу вали. Тогда и выкрутишься. Выпроводив кассира, Шахов сделал по комнате несколько танцевальных движений и промурлыкал: — Бейте в бубны, пусть звенят гита-ары… Потом он позвонил в издательство «Васильевские четверги». — Печатайте четвертое издание «Бега волны», печатайте, печатайте, не бойтесь! Это говорит вам Агафон Шахов!
— Есть! — повторил Остап сорвавшимся голосом. — Держите. Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле. Блеснул береговой маячок. На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом. — Что за черт! — сказал Остап. — Больше ничего нет! — Н-н-не может быть. — пролепетал Ипполит Матвеевич. — Ну, вы тоже посмотрите! Воробьянинов, не дыша, пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье. Между пальцами он ощутил основание пружины. Больше ничего твердого не было. От стула шел сухой мерзкий запах потревоженной пыли. — Нету? — спросил Остап. — Нет. Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Послышался тяжелый всплеск. Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту. — Так, — сказал Бендер. — Что-то мы, во всяком случае, нашли. Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек и осовело посмотрел на него. — Давайте, давайте! Чего глаза пялите! Ящичек открыли. На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью:
Этимъ полухресломъ мастер Гамбсъ начинаетъ новую партiю мебели. 1865 г. Санкть-Петербургъ
Надпись эту Остап прочел вслух. — А где же брильянты? — спросил Ипполит Матвеевич. — Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками! Брильянтов, как видите, нет. На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам. Холодный, рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал. — Молчи, грусть, молчи. Киса! Когда-нибудь мы по смеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь. Тут есть еще три стула — девяносто девять шансов из ста! За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича выскочил вулканический прыщ. Все страдания, все неудачи, вся мука погони за брильянтами — все это, казалось, ушло в прыщ и отливало теперь перламутром, закатной вишней и синькой. — Это вы нарочно? — спросил Остап. Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул и, высокий, чуть согнутый, как удочка, пошел за красками. Началось изготовление транспаранта. Концессионеры трудились на верхней палубе. И начался третий день плаванья. Начался он короткой стычкой духового оркестра со звуковым оформлением из-за места для репетиций. После завтрака к корме, одновременно с двух сторон, направились здоровяки с медными трубами и худые рыцари эсмарховских кружек. Первым на кормовую скамью успел усесться Галкин. Вторым прибежал кларнет из духового оркестра. — Место занято, — хмуро сказал Галкин. — Кем занято? — зловеще спросил кларнет. — Мною, Галкиным. — А еще кем? — Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиндом. — А Елкина у вас нет? Это наше место. С обеих сторон приблизились подкрепления. Трижды опоясанный медным змеем-горынычем стоял геликон — самая мощная машина в оркестре. Покачивалась похожая на ухо валторна. Тромбоны стояли в полной боевой готовности. Солнце тысячу раз отразилось в боевых доспехах. Темно и мелко выглядело звуковое оформление Там мигало бутылочное стекло, бледно светились клистирные кружки, и саксофон — возмутительная пародия на духовой инструмент, семенная вытяжка из настоящей духовой трубы, — был жалок и походил на носогрейку. — Клистирный батальон, — сказал задира-кларнет, — претендует на место. — Вы, — сказал Залкинд, стараясь подыскать наиболее обидное выражение, — вы — консерваторы от музыки! — Не мешайте нам репетировать! — Это вы нам мешаете! — На ваших ночных посудинах чем меньше репетируешь, тем красивше выходит. — А на ваших самоварах репетируй не репетируй, ни черта не получится. Не придя ни к какому соглашению, обе стороны остались на месте и упрямо заиграли каждая свое. Вниз по реке неслись звуки, какие мог бы издать только трамвай, медленно проползающий по битому стеклу. Духовики исполняли марш Кексгольмского лейб-гвардии полка, а звуковое оформление — негрскую пляску: «Антилопа у истоков Замбези». Скандал был прекращен личным вмешательством председателя тиражной комиссии. В этот день пароход останавливался два раза. У Козьмодемьянска простояли до сумерек. Обычные операции были произведены: вступительный митинг, тираж выигрышей, выступление театра Колумба, балалаечник и ганцы на берегу. Все это время концессионеры работали в поте лица. Несколько раз прибегал завхоз и, получая заверения, что к вечеру все будет готово, успокоенно возвращался к исполнению прямых своих обязанностей. В одиннадцатом часу великий труд был закончен. Пялясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Перед ними, воздев руки к звездам, бежал толстячок, заведующий хозяйством. Общими усилиями транспарант был привязан к поручням. <)н высился над пассажирской палубой, как экран. В полчаса электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки. Оставалось повернуть выключатель. Впереди, вправо по носу, уже сквозили огоньки городи Васюки. На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. Ипполит Матвеевич и великий комбинатор смотрели на собравшихся сверху, стоя по бокам темной еще скрижали. Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Машинистки, курьеры, ответственные работники, колумбовцы и пароходная команда столпились, задрав головы, на пассажирской палубе. — Давай! — скомандовал толстячок. Транспарант осветился. Остап посмотрел вниз, на толпу. Розовый свет лег на лица. Зрители засмеялись. Потом наступило молчание И суровый голос снизу сказал: — Где завхоз? Голос был настолько ответственный, что завхоз, иг считая ступенек, кинулся вниз. — Посмотрите, — сказал голос, — полюбуйтесь на нашу работу! — Сейчас вытурят! — шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу. И точно, на верхнюю палубу, как ястреб, вылетел толстячок. — Ну, как транспарантик? — нахально спросил Остап. — Доходит? — Собирайте вещи! — закричал завхоз. — К чему такая спешка? — Со-би-рай-те вещи! Вон! Вы под суд пойдете! Наш начальник не любит шутить! — Гоните его! — донесся снизу ответственный голос. — Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это самом деле неважный транспарант? Продолжать игру не имело смысла. «Скрябин» уже пристал к Васюкам, и с парохода можно было виден, ошеломленные лица васюкинцев, столпившихся на пристани. В деньгах категорически было отказано. На сборы было дано пять минут. — Сучья лапа, — сказал Симбиевич-Синдиевич, когда компаньоны сходили на пристань. — Поручили бы кормление транспаранта мне. Я б его так сделал, что никакой Мейерхольд за мной бы не угнался. На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант. — М-да, — сказал Остап, — транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение. Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук. Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, на высоком берегу, был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка. — Резюмирую положение, — сказал Остап жизнерадостно — Пассив: ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив: путеводитель по Волге издания тысяча девятьсот двадцать шестого года (пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте). Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани. Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя:
«На правом высоком берегу — город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыко, рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8000 жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленький чугунолитейный, пивоваренный и кожевенный заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум». — Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал, — сказал Остап. — Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей А денег нам нужно не менее тридцати рублей. Во-первых, нам нужно питаться и, во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше, в Сталинграде. Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником — кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон. Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.
Глава XXXVI МЕЖДУПЛАНЕТНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КОНГРЕСС
С утра по Васюкам ходил высокий, худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши:22 июня 1927 г. в помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему:
«Плодотворная дебютная идея» и сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках
гроссмейстера (старший мастер) О. Бендера
Все приходят со своими досками. Плата за игру — 50 коп. Плата за вход — 20 коп. Начало ровно в 6 час. вечера Администрация К. Михельсон
Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством. В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в пантелеевском издании. — Гроссмейстер О. Бендер! — заявил Остап, присаживаясь на стол. — Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. — Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! — крикнул одноглазый. — Присядьте, пожалуйста. Я сейчас. И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская мига с заголовком: «Достижения Васюкинской шахсекцми за 1925 год». Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, навали фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. — Проездом в Казань, — говорил Остап отрывисто, — да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира. Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. — Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуриривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве. Гроссмейстер перешел на местные темы. — Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется: шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом и не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию: «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно! Идея имела успех. — И в самом деле, — сказали васюкинцы, — почему бы не переименовать нашу секцию в «Клуб четырех ко ней»? Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переймем» вали в «Шахклуб четырех коней». Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками «Скрябина», художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью. Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках. — Шахматы! — говорил Остап. — Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру но и экономику! Знаете ли вы, что ваш «Шахклуб четырех коней» при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно. — Да! — кричал он. — Шахматы обогащают страху! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром десяти губерний! Что вы ранее слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там там организован международный турнир. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир. — Как? — закричали все. — Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер, мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароцци, Тарраша, Видмар и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие! — Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять? — Все учтено могучим ураганом, — сказал О. Бендер — деньги дадут сборы. — Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы… — Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей по все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы ни инкрустированных малахитом досках… Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. Ни реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот — все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского «Клуба четырех коней». Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные крики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным. Вдруг на горизонте была усмотрена черкни точка. Она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком. — Это он! — закричал одноглазый. — Ура! Ура! Ура! Я узнаю великого философа-шахматиста, доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые но сочки. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера снова поморщился. Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за татю. подвел его к чемпиону и сказал: — Помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс! Помиритесь! Хозе-Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал: — Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на с4. — Ура! — воскликнул одноглазый. — Просто и убедительно, в стиле чемпиона! И вся невообразимая толпа подхватила: — Ура! Виват! Банзай! Просто и убедительно, в стиле чемпиона!!! Энтузиазм дошел до апогея. Завидя маэстро Дуз-Хотмирского и маэстро Перекатова, плывших над городом в яйцевидном оранжевом дирижабле, одноглазый взмахнул рукой. Два с половиной миллиона человек в одном воодушевленном порыве запели:
Чудесен шахматный закон и непреложен:
Кто перевес хотя б ничтожный получил
В пространстве, массе, времени, напоре сил.
Лишь для того прямой к победе путь возможен.
ДЕЛО ПОМОЩИ УТОПАЮЩИМ — ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ
Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая не заслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду. — Товарищи! — сказал он прекрасным голосом. — Товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал, и, должен признаться, не без успеха, в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — плодотворная дебютный идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, — это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, — это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо… Блондин в третьем ряду зарделся. — А вон тот брюнет, допустим, хуже. Все повернулись и осмотрели также брюнета. — Что же мывидим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждым индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк… то есть я хотел сказать — в шахматах. А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучи тельных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева. Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, почерпнутых еще в детстве из «Синего журныла», и этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены. И одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви. Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть тридцать любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после двадцать второго ходи. Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки е2 на клетку е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело: — Гроссмейстер сыграл е2 — е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию: перетащил королевскую пешку с е2 и е4 Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собрался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал. — Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли! «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке. Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя. Негодующее шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографа даже выперли из помещения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сперва любители, и первый среди них — одноглазый, пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью и безусловно ехидничая и душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры ни право и налево. Обхаянному на лекции брюнету он по жертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через пять минут. — Мат! — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. — Вам мат, товарищ гроссмейстер. Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнет с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. — Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер, — залебезил одноглазый. — Конь так не ходи! — Пардон, пардон, извиняюсь, — ответил гроссмейстер, — после лекции я несколько устал. В течение ближайших десяти минут гроссмейстер проиграл еще десять партий. Удивленные крики раздавались в помещении клуби «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд пятнадцать партий, а вскоре еще три. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделим множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающих, украл доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. — Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь ее уже нет! — Нет, значит, и не было! — грубовато ответил Остап. — Как же не было? Я ясно помню! — Конечно, не было! — Куда же она девалась? Вы ее выиграли? — Выиграл. — Когда? На каком ходу? — Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите! — Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны! — Контора пишет, — сказал Остап. — Это возмутительно! — заорет одноглазый. — Отдайте мою ладью. — Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие! — Отдайте ладью! С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур швырнул их в голову одноглавого противника. — Товарищи! — заверещал одноглазый. — Смотрите же! Любителя бьют! Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним. Был лунный вечер. Остап несся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители. — Держите гроссмейстера! — ревел одноглазый. — Жулье! — поддерживали остальные. — Пижоны! — огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость. — Караул! — кричали изобиженные шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать четыреста ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было. Поэтому Остап побежал вперед. — Вот я вас сейчас, сволочей! — гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки. Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен. — Держите гроссмейстера! — катилось сверху. Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары. Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором. Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал. — Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали, и и ничего: бодр и весел. А если принять во внимание сим пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове — гонорар довольно приличный. Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк. — Держи гроссмейстера! — вопили в перегруженной барке. — Ходу, Киса! — сказал Остап. — Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне. Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил. — Не уйдете, сволочи! — кричали из барки. Остап не отвечал: было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку. — Валяй, — шептал Остап самому себе. Ипполит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея-гроссмейстера. — Берегите пенсне. Киса! — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. — Сейчас начнется! — Господа! — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. — Неужели вы будете нас бить? — Еще как! — загремели васюкинские любители, собираясь дрыгать в лодку. Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка невиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду. — Осторожней! — пискнул одноглазый капитан. Но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась. Общий вопль нарушил спокойствие реки. — Уау! — протяжно стонали шахматисты. Целых тридцать любителей очутились в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый. — Пижоны! — в восторге кричал Остап. — Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить? Остап описал вокруг потерпевших крушение круг. — Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане! Только, ради создателя, не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх вы, пижоны, пижоны… Едем, Ипполит Матвеевич, дальше. Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что Васюки центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует «Клуб четырех коней»!
Глава XXXVII И ДР
Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлело. Овальные стекла его заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двояковогнутом стекле. Синие купола Чебоксар плыли словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая дужка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце. Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреня лодку и треща костями. — С добрым утром, Киса, — сказал он, давясь зевотой. — Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по чему-то там затрепетало… — Пристань, — доложил Ипполит Матвеевич. Остап вытащил путеводитель и справился. — Судя по всему — Чебоксары. Так, так…
Обращаем внимание на очень красиво расположенный город Чебоксары…
— Киса, он в самом деле красиво расположен?..
В настоящее время в Чебоксарах семь тысяч семьсот два жителя.
— Киса! Давайте бросим погоню за брильянтами и увеличим население Чебоксар до семи тысяч семисот четырех человек. А? Это будет очень эффектно… Откроем «Птишво» и с этого «Пти-шво» будем иметь верный гран-кусок хлеба… Ну-с, дальше.
Основанный в тысяча пятьсот пятьдесят пятом году город сохранил несколько весьма интересных церквей. Помимо административных учреждений Чувашской республики, здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы второй ступени, музей, научное общество и библиотека. На чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом…
Но, еще прежде чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть чувашей и черемис, их внимание было привлечено предметом, плывшим по течению впереди лодки. — Стул! — закричал Остап. — Администратор! Наш стул плывет. Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо. Это был стул, вскрытый на «Скрябине» и теперь медленно направляющийся в Каспийское море. — Здорово, приятель! — крикнул Остап. — Давненько не виделись! Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать Уголовного розыска, который, впрочем, тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить, от нас остался бы только один протокол осмотра трупов: «Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием». Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое… «Труп первый принадлежит мужчине лет пятидесяти пяти, одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича гр. Михельсона…» Вот, Киса, что о вас написали бы. — А о вас бы что написали? — сердито спросил Воробьянинов. — О! Обо мне написали бы совсем другое. Обо мне написали бы так: «Труп второй принадлежит мужчине двадцати семи лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным иссиня-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романса: «Прощай ты, новая деревня». Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного двадцать третьего августа двадцать четвертого года кустарной артелью «Пегас и Парнас» за номером восемьдесят шесть дробь тысяча пятьсот шестьдесят два». И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: «Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендербей, отец которого был турецко-подданным и умер, не оставив сыну своему Остапу-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами». Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к чебоксарскому берегу. Вечером, увеличив капитал на пять рублей продажей васюкинской лодки, друзья погрузились на теплоход «Урицкий» и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде. Светящийся гигант понес компаньонов вниз по реке. Миновали Мариинский посад, Казань, Тетюши, Ульяновск, Сенгилей, село Новодевичье — и перед вечером второго дня пути подошли к Жигулям. Сто раз в этом романе наступал вечер, падало солнце и сияла звезда, но ни разу еще в этом романе вечер не был наполнен такой кротостью и предчувствием великих событий, как этот. Палубы «Урицкого» наполнились оранжевой, под заходящим солнцем, толпой пассажиров. Невысокие Жигулевские горы мощно зеленели с правой стороны. Волнение охватило души пассажиров. Остап, чудом пробившийся из своего третьего класса к носу парохода, извлек путеводитель и узнал из него, что путь вдоль Жигулей представляет исключительное удовольствие. — «Пароход, — прочел Остап вслух, — проходит близ самого берега, разрезая падающие в реку тени береговых вершин. Густой ковер зеленой в различных оттенках растительности манит путника углубиться в девственную толщу лесов, чтобы насладиться прекрасным воздухом, полюбоваться открывающимися далями и мощной здесь красавицей Волгой и вспомнить далекое прошлое, когда неорганизованные бунтарские элементы…» Пассажиры сгрудились вокруг Остапа. — «Неорганизованные бунтарские элементы, бессильные переустроить сложившийся общественный уклад, «гуляли» тут, наводя страх на купцов и чиновников, неизбежно стремившихся к Волге, как важному торговому пути. Недаром народная память до сих пор сохранила немало легенд, песен и сказок, связанных с бывавшими в Жигулях Ермаком Тимофеевичем, Иваном Кольцом, Степаном Разиным и др». — И др! — повторил Остап, очарованный вечером. — И др! — застонала толпа, вглядываясь в сумеречные очертания «Молодецкого кургана». — И др-р! — загудела пароходная сирена, взывая к пространству, к легендам, песням и сказкам, покоящимся на вершинах Жигулей. Луна поднялась, как детский воздушный шар. «Девья гора» осветилась. Это было свыше сил человеческих. Из недр парохода послышалось желудочное урчание гитары, и страстный женский голос запел:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны, —
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны…
Свадьбу но-о-о-овую справля-а-а-а…
Он весе-о-о-олый и хмельно-о-о-ой.
Позади их слышен ропот,
Нас на бабу променял.
Только ночь с ней провозжа-а-ался…
Что ж вы, черти, приуныли?
Эй ты, Филька, черт, пляши!
Грянем, бра-а-а-атцы, удалу-у-ую…
Грянем, бра-а-атцы, удалу-у-ую
На помин ее души!
Не вида-а-али вы пода-арка
От донско-ого ка-а-зака-а-а…
«Скрябин» пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши. Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персицкого. Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики: — Да! Моментально еду в Москву! Телеграмму уже послал! И знаете какую? «Ликую с вами». Пусть догадываются! Потом Персицкий сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал, провожаемый почему-то криками «Ура!». После того как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять пароконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал. — Кажется, в Сталинграде они играть не будут, — сказал Ипполит Матвеевич. Это озадачило Остапа. — Придется ехать, — решил он, — а на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет. На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую — Минеральные Воды. Денег у концессионеров хватило только на один билет. — Вы умеете ездить зайцем? — спросил Остап Воробьянинова. — Я попробую, — робко сказал Ипполит Матвеевич. — Черт с вами! Лучше уж не пробуйте! Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я. Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых кадках станцию «Минеральные Воды» Северо-Кавказских железных дорог и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа. Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новеньких дачных вагончиках, а Остапа все не было. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве. — Где вы были? — простонал предводитель. — Я так измучился! — Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане? А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой? Это, значит, не я сидел там три часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками? Вы — свинья, гражданин предводитель! Где театр? — В Пятигорске. — Едем! Я кое-что накропал по дороге. Чистый доход выражается в трех рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит. Дачный поезд, бренча, как телега, в пятьдесят минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау концессионеры прибыли к подножию Машука.
Глава XXXVIII ВИД НА МАЛАХИТОВУЮ ЛУЖУ
Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже Машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежеталя. Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону: штаны из рогожки, чертовой кожи, коломянки, парусины и нежной фланели. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках апаш. Концессионеры, в тяжелых, грязных сапожищах, тяжелых пыльных брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках, чувствовали себя чужими. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции. На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными галунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку. Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорске театра Колумба и выпив два пятикопеечных стакана нарзана, путешественники проникли в город на трамвае линии Вокзал — «Цветник». За вход в «Цветник» взяли десять копеек. В «Цветнике» было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине «Пляску комаров». В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и вразнос. Никому не было дела до двух грязных искателей брильянтов. — Эх, Киса, — сказал Остап, — мы чужие на этом празднике жизни. Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Только здесь, в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою «Женитьбу», компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице. Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусей и соглашался. — Можно, — говорил он, — это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся. Остап сразу же понял, что монтер великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись. — Ну, — сказал Остап, — за все дело десятку! — Дуся! — удивился монтер. — Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном. — Сколько же вы хотите? — Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный. — Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны. — Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. — Хорошо излагает, собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, — учитесь. — Когда же вы стулья принесете? — Стулья против денег. — Это можно, — сказал Остап, не думая. — Деньги вперед, — заявил монтер, — утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья. — А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги? — пытал Остап. — Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает. — Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу. — Тогда и разговаривать будем, — заключил упрямый монтер, — а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь? И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился. Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. — Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк. Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова. — Снимите пиджак, предводитель, поживее, — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его наземь и принялся топтать пыльными штиблетами. — Что вы делаете? — завопил Воробьянинов. — Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый! — Не волнуйтесь! Он скоро не будет как новый! Дайте шляпу! Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо! Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. — Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом. — Что же я должен делать? — слезливо спросил Воробьянинов. — Французский язык знаете, надеюсь? — Очень плохо. В пределах гимназического курса. — Гм… Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу: «Господа, я не ел шесть дней»? — Мосье, — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, — мосье, гм, гм… же не, что ли, же не манж па… шесть, как оно: ен, де, труа, катр, сенк… сис… сис… жур. Значит, же не манж па сис жур. — Ну и произношение у вас, Киса! Впрочем, что от нищего требовать! Конечно, нищий в европейской России говорит по-французски хуже, чем Мильеран. Ну, Кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык? — Зачем мне это все? — воскликнул Ипполит Матвеевич. — Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к «Цветнику», станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли? Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься. — Ай-яй-яй, — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись, — посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок! — Никогда, — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, — никогда Воробьянинов не протягивал руки. — Так протянете ноги, старый дуралей! — закричал Остап. — Вы не протягивали руки? — Не протягивал. — Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он… Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз… — Да, — пробормотал предводитель. — В таком случае повторите заклинание. — Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы. — Еще раз. Жалостнее! Ипполит Матвеевич повторил. — Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто — вечером больше подают. — А вы, — спросил Ипполит Матвеевич, — куда пойдете? — Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте. Друзья разошлись. Остап сбегал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них. — Прежде всего система, — бормотал он, — каждая общественная копейка должна быть учтена. Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха. Обгоняемый автобусами и пароконными экипажами, Остап вышел к Провалу. Небольшая, высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне Провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей. «Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение». И Остап поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: — Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза — тридцать копеек! Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе: — Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может быть. Правда, товарищ? — Совершеннейшая правда, — подтвердил Остап, — этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам профсоюза — десять копеек и не членам профсоюза — тридцать копеек. Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом: — Членам профсоюза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек. Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки. — С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком провалился. В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы: — Мсье, же не манж па… Гебен зи мир битте… Подайте что-нибудь депутату Государственной думы… Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело. Однако, играя на чистом парижском произношении слова «манж» и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медяков рубля на три. Под ногами гуляющих трещал гравий. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига. Светлая толпа, лепеча, катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими мацони на веранде буфета. Пахло одеколоном и нарзанными газами. — Подайте бывшему члену Государственной думы, — бормотал предводитель. — Скажите, вы в самом деле были членом Государственной думы? — раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. — И вы действительно ходили на заседания? Ах! Ах! Высокий класс! Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробышек, толстенький Авессалом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполита Матвеевича Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами: — Скажите, вы в самом деле видели Родзянко? Пуришкевич в самом деле был лысый? Ах! Ах! Какая тема! Высокий класс! Продолжая вертеться, Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в «Цветнике» мелькали его толстенькие ляжки и чуть не с деревьев сыпалось: — Ах! Ах! «Не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной!» Ах! Ах! «Напоминают мне оне иную жизнь и берег дальний!..» Ах! Ах! «А поутру она вновь улыбалась!» Высокий класс!.. Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого. В чудном мраке пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на Кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова. — Хо-хо! — раздавалось в ночной тиши. — Знаменито, Эрнестуля! Кр-р-расота! В буфете, освещенном лампами, сидел голубой воришка Альхен со своей супругой Сашхен. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским № 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины. После ликвидации второго дома собеса (было продано все, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу») Альхен решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в Провал, но не успел. Это спасло его. Остап выдоил бы из робкого завхоза никак не меньше тридцати рублей. Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях «Цветника». — Сколько насбирали? — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника. — Семь рублей двадцать девять копеек. Три рубля бумажкой. Остальные — медь и немного серебра. — Для первой гастроли дивно! Ставка ответственного работника! Вы меня умиляете, Киса! Но какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать? Может быть, вы сдачи давали? — Изнуренков дал. — Да не может быть! Авессалом? Ишь ты, шарик! Куда закатился! Вы с ним говорили? Ах, он вас не узнал! — Расспрашивал о Государственной думе! Смеялся! — Вот видите, предводитель, нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса! А вы еще кобенились, лорда хранителя печати ломали! Ну, Кисочка, и я провел время недаром. Пятнадцать рублей, как одна копейка. Итого — хватит. На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты. Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Ниже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горячеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.Глава XXXIX ЗЕЛЕНЫЙ МЫС
Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом Мысу под большой пальмой, накрахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамбсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые, наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: — Му-у-усик! Дача молчала. Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям. Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал: — Му-у-у-усик! Му-у-у-усик! Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и, не в силах сдержать себя, завопил: — Мусик!!! Готов гусик?! — Андрей Михайлович! — закричал женский голос из комнаты. — Не морочь мне голову! Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил: — Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика! — Пошел вон, обжора! — ответили из комнаты. Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, которые он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанной потертым витым шнурком с густыми кистями, и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом: — Где здесь находится инженер Брунс? — Я инженер Брунс, — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. — Чем могу? Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор. — Вы с ума сошли! — воскликнул инженер, вскакивая. — Встаньте, пожалуйста! — Невстану, — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. — Встаньте! — Не встану! И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий. — Мусик! Иди сюда! — закричал испуганный инженер. — Смотри, что делается. Встаньте, я вас прошу. Ну, умоляю вас! — Не встану, — повторил отец Федор. На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа. Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил: — На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю. Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и, натужась, поднял его, чтобы поставить на ноги, но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло (гамбсовское, отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой). — Не смею, — забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника, — не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ. И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи. — Мусик, — сказал он, тяжело дыша, — поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение. Мусик сразу взяла деловой тон. — В моем доме, — сказала она грозно, — пожалуйста, не становитесь ни на какие колени! — Голубушка! — умилился отец Федор. — Матушка! — Никакая я вам не матушка. Что вам угодно? Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитур из двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит. Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал почерепашьи гоняться за инженером. — Почему, — кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора, — почему я должен продать свои стулья? Сколько вы ни бухайтесь на колени, я ничего не могу понять! — Да ведь это мои стулья, — простонал отец Федор. — То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно! Это явный псих! — Мои, — униженно твердил отец Федор. — Что ж, по-вашему, я у вас их украл? — вскипел инженер. — Украл? Слышишь, Мусик! Это какой-то шантаж! — Ни боже мой, — шепнул отец Федор. — Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума! Слышишь, Мусик! До чего доходит нахальство. Пообедать не дадут по-человечески! Нет, отец Федор не хотел требовать «свои» стулья судом. Отнюдь. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О нет! У него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору, и они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться к гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О нет! Он достаточно обеспечен (небольшой свечной заводик в Самаре), чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать. — Что? — крикнул инженер, багровея. — Двадцать рублей? За прекрасный гостиный гарнитур? Мусик! Ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих! — Я не псих. А единственно выполняя волю пославшей мя жены… — О ч-черт, — сказал инженер, — опять ползать начал! Мусик! Он опять ползает! — Назначьте же цену, — стенал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии. — Не портите дерева, чудак вы человек! Мусик, он, кажется, не псих. Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья, а? Отвяжется, а? А то он лоб разобьет! — А мы на чем сидеть будем? — спросила Мусик. — Купим другие. — Это за двадцать-то рублей? — За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести… А за двести пятьдесят продам. Ответом послужил страшный удар головой о драцену. — Ну, Мусик, это мне уже надоело. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум: — Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на три шага; во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше. — Не корысти ради, — пропел отец Федор, — а токмо во исполнение воли больной жены. — Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы вы… ну… продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек. — Возьмите даром! — воскликнул отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал: — Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки. — Пятьдесят, — предложил отец Федор. — Мусик! — сказал инженер. — Позови Багратиона. Пусть проводит гражданина! — Не корысти ради… — Багратион! Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться. В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора. — Не корысти ради, — сказал мягкий голос. — Пятьдесят пять рублей. Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к Ботаническому саду. Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора. — Сто тридцать восемь! — кричал он откуда-то с неба. А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова. — Сто сорок один, — предлагал отец Федор, — не корысти ради, господин Брунс, а токмо… Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать: — Черт с вами! Двести рублей! Только отвяжитесь. Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло. В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом. — Ну и гусики теперь пошли, — пробормотал инженер, входя в комнаты. Между тем отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов. В этот же вечер отец Федор отправил в город N жене своей Катерине Александровне такую телеграмму:ТОВАР НАШЕЛ ВЫШЛИ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ТЕЛЕГРАФОМ ПРОДАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ ФЕДЯ
Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками: — Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги! На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой:
ПРОДАЛА ВСЕ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОДНОЙ КОПЕЙКИ ЦЕЛУЮ И ЖДУ ЕВСГИГНЕЕВ ВСЕ ОБЕДАЕТ КАТЯ
Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый Мыс. Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. Чорох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до шести баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берега. Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел вознице-аджарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью. — Принес деньги я, — сказал отец Федор, — уступили бы малость. — Мусик, — застонал инженер, — я не могу больше! — Да нет, я деньги принес, — заторопился отец Федор, — двести рублей, как вы говорили. — Мусик! Возьми у него деньги! Дай ему стулья. И пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень. Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Брильянты сыпались в карманы, как семечки. Двенадцать стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с тою только разницей, что обивка их была не ситцевая, в цветочках, а репсовая, синяя, в розовую полосочку. Нетерпение охватывало отца Федора. Под полою у него за витой шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз, на шоссейную дорогу, мимо ресторанчика «Финал», по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишенного в этот хмурый денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавало солеными брызгами. Отбитые массивами от берега, волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали. Толчки и взрывы прибоя накаляли смятенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджаури. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки. — Стой! — закричал вдруг отец Федор вознице. — Стой, мусульманин! И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой, сухой еще кусок пляжа и вынул топорик. Минуту он находился в сомнении, не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись. — Ага! — крикнул отец Федор. — Я т-тебе покажу! И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки. — Ага! Aгa! Aгa! — приговаривал отец Федор, рубя сплеча. Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора. От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар. А на батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь по̀том, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома с двадцатью рублями в кармане доехать в родной город было положительно невозможно. Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру «Коти», шелковые чулки и необандероленный сухумский табак, потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.
Глава XL ПОД ОБЛАКАМИ
Через три дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержанием вскрытых на Машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти в бутафорской. — Вот вам и Кислые Воды! — заявил Остап, узнав об отъезде театра. — Сучья лапа этот монтер! Имей после этого дело с теаработниками! Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно. — Нужны деньги на поездку во Владикавказ, — сказал Остап. — Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по Военно-Грузинской дороге. Очаровательные виды! Захватывающий пейзаж! Чудный горный воздух! И в финале всего — сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Есть смысл продолжать заседание. Но выехать из Минеральных Вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около «Цветника» в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех. Два рубля за двенадцать часов тяжелой и унизительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ. В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем не виновному Ипполиту Матвеевичу кулаком. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму Кавказской горной цепи. Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу. — Слишком много шику, — сказал он. — Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь. У владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус Закавтопромторга, и ласковые люди говорили: — Кто поедет по Военно-Грузинской дороге, тех в город везем бесплатно. — Куда же вы, Киса? — сказал Остап. — Нам в автобус. Пусть везут нас бесплатно. Подвезенный автобусом к конторе Закавтопромторга, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаком Столовой горой и, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился. Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по Военно-Грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взимать с граждан гривенники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо «Трека», за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принес за два дня тринадцать копеек. Тогда Остап извлек из тайников своего походного пиджака колоду карт и, засев у дороги при выезде из города, затеял игру в три карты. Рядом с ним стоял проинструктированный Ипполит Матвеевич, который должен был играть роль восторженного зрителя, удивленного легкостью выигрыша. Позади друзей в облаках рисовались горные кряжи и снежные пики. — Красненькая выиграет, черненькая проиграет! — кричал Остап. Перед собравшейся толпой соплеменных гор, ингушей и осетинов в войлочных шляпах Остап бросал рубашками вверх три карты, из которых одна была красной масти и две — черной. Любому гражданину предлагалось поставить на красненькую карту любую ставку. Угадавшему Остап брался уплатить на месте. — Красненькая выиграет, черненькая проиграет! Заметил — ставь! Угадал — деньги забирай! Горцев тешила простота игры и легкость выигрыша. Красная карта на глазах у всех ложилась направо или налево и не было никакого труда угадать, куда она легла. Зрители постепенно стали втягиваться в игру, и Остап для блезира уже проиграл копеек сорок. К толпе присоединился всадник в коричневой черкеске, в рыжей барашковой шапочке и с обычным кинжалом на впалом животе. — Красненькая выиграет, черненькая проиграет! — запел Остап, подозревая наживу. — Заметил — ставь! Угадал — деньги забирай! Остап сделал несколько пассов и метнул карты. — Вот она! — крикнул всадник, соскакивая с лошади. — Вон красненькая! Я хорошо заметил! — Ставь деньги, кацо, если заметил, — сказал Остап. — Проиграешь! — сказал горец. — Ничего. Проиграю — деньги заплачу, — ответил Остап. — Десять рублей ставлю. — Поставь деньги. Горец распахнул полы черкески и вынул порыжелый кошель. — Вот красненькая! Я хорошо видел. Игрок приподнял карту. Карта была черная. — Еще карточку? — спросил Остап, пряча выигрыш. — Бросай. Остап метнул. Горец проиграл еще двадцать рублей. Потом еще тридцать. Горец во что бы то ни стало решил отыграться. Всадник пошел на весь проигрыш. Остап, давно не тренировавшийся в три карточки и утративший былую квалификацию, передернул на этот раз весьма неудачно. — Отдай деньги! — крикнул горец. — Что?! — закричал Остап. — Люди видели! Никакого мошенства! — Люди видели, не видели — их дело. Я видел, ты карту менял, вместо красненькой черненькую клал! Давай деньги назад! С этими словами горец подступил к Остапу. Великий комбинатор стойко перенес первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Тогда на Остапа набросилась вся толпа. Ипполит Матвеевич убежал в город. Вспыльчивые ингуши били Остапа недолго. Они остыли так же быстро, как остывает ночью горный воздух. Через десять минут горец с отвоеванными общественными деньгами возвращался в свой аул, толпа возвратилась к будничным своим делам, а Остап, элегантно и далеко сплевывая кровь, сочившуюся из разбитой десны, поковылял на соединение с Ипполитом Матвеевичем. — Довольно, — сказал Остап, — выход один: идти в Тифлис пешком. В пять дней мы пройдем двести верст. Ничего, папаша, очаровательные горные виды, свежий воздух… Нужны деньги на хлеб и любительскую колбаску. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз, это уж как хотите, но к вечеру вы должны насобирать не меньше двух рублей!.. Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы! Плохие шансы!.. Спозаранку концессионеры перешли мостик через Терек, обошли казармы и углубились в зеленую долину, по которой шла Военно-Грузинская дорога. — Нам повезло, Киса, — сказал Остап, — ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте. Вспоминайте кавказские стихи. Ведите себя, как полагается!.. Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в боку, тяжестью в ногах, а любительская колбаса — постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись набок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завернутый во владикавказскую газету, и чуть волоча левую ногу. Опять идти! На этот раз в Тифлис, на этот раз по красивейшей в мире дороге. Ипполиту Матвеевичу было все равно. Он не смотрел по сторонам, как Остап. Он решительно не замечал Терека, который начинал уже погромыхивать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали — не то блеск бриллиантов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука. До первой почтовой станции — Балты — путники шли в сфере влияния Столовой горы. Ее плотный слоновый массив с прожилками снега шел за ними верст десять. Путников обогнал сначала легковой автомобиль Закавтопромторга, через полчаса — автобус, везший не менее сорока туристов и не больше ста двадцати чемоданов. — Кланяйтесь Казбеку! — крикнул Остап вдогонку машине. — Поцелуйте его в левый ледник! После автомобилей долго еще в горах пахло бензинным перегаром и разогретой резиной. Звонко бренча, обгоняли путников арбы горцев. Навстречу из-за поворота выехал фаэтон. В Балте Остап выдал Ипполиту Матвеевичу вершок колбасы и сам съел вершка два. — Я кормилец семьи, — сказал он, — мне полагается усиленное питание. После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларс в тысяче метров над уровнем моря. Переночевали в бедном духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами. Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена Бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился все мрачнее, а надписи на скалах многочисленнее. Там, где скалы так сдавили течение Терека, что пролет моста равен всего десяти саженям, концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека: — Великие люди! Обратите внимание, предводитель. Видите, чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.» Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! Где вы сейчас, Коля и Мика? Задумался и Ипполит Матвеевич. Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете? Разжирели, наверное, постарели? Небось, теперь и на четвертый этаж не подыметесь, не то что под облака — имена свои рисовать. Где же вы, Коля, служите? Плохо служится, говорите? Золотое детство вспоминаете? Какое же оно у вас золотое? Это пачканье-то ущелий вы считаете золотым детством? Коля, вы ужасны! И жена ваша Мика противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свое имя, вися на скале, Мика стояла внизу на шоссе и глядела на вас влюбленными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй Печорин. Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак! Да, да, все вы такие — ползуны по красотам! Печорин, Печорин, а там, гляди, по глупости отчета сбалансировать не можете! — Киса! — продолжал Остап, — давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб. В это время в двух верстах от концессионеров, со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом. На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброхотными даяниями. При переходе через Крестовый перевал (2345 метров над уровнем моря) его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал: — Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены! Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуме, после того как все надежды рухнули, новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: — Куда девал сокровища убиенной тобой тещи? Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. — Говори! — приказывал отец Федор. — Покайся, грешник! Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание. Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло:Дробясь о мрачные скалы,
Кипят и пенятся валы…
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.
И будешь ты царицей ми-и-и-и-рра,
Подр-р-руга ве-е-чная моя!
Глава XLI ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
— Как вы думаете, предводитель, — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, — чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте? Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого. Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое — альпийское: к каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича: — Давай денги! Денги давай! Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу. — Святое дело, — сказал Остап, — капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны. К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. — Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись. Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье. Повеселевшие концессионеры пошли быстрее. В Пассанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом. Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремневому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К «Франции» подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул Персицкий. За ним вышел «Суд и быт», расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок». — Привал! — закричал Персицкий. — Хозяин! Пятнадцать шашлыков! Во «Франции» заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню. — Вы не узнаете этого молодого человека? — спросил Остап. — Это репортер со «Скрябина», один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали! Что это значит? Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персицким. — Бонжур! — сказал репортер. — Где это я вас видел, дорогой товарищ? А-а-а! Припоминаю. Художник со «Скрябина»! Не так ли? Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился. — Позвольте, позвольте, — продолжал Персицкий, обладавший цепкой памятью репортера. — Не на вас ли это в Москве, на Свердловской площади, налетела извозчичья лошадь? — Как же, как же! И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом. — А вы тут как, по художественной части орудуете? — Нет, я с экскурсионными целями. — Пешком? — Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по Военно-Грузинской дороге на автомобиле — просто глупость. — Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда! Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю — свои, коллективные. Прямое сообщение Москва — Тифлис. Бензину уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа! — Откуда у вас все это? — завистливо спросил Остап. — Сто тысяч выиграли? — Сто не сто, а пятьдесят выиграли. — В девятку? — На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу. — Да, — сказал Остап, — и на эти деньги вы купили автомобили? — Как видите! — Так-с. Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека. Непьющий. — Какой старшой? — Ну, такой… Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу… А? — Я вас понимаю. Нет, не нужен. — Не нужен? — Нет. К сожалению. И художник также не нужен. — В таком случае дайте десять рублей. — Авдотьин, — сказал Персицкий. — Будь добр, выдай этому гражданину за мой счет три рубля. Расписки не надо. Это лицо не подотчетное. — Этого крайне мало, — заметил Остап, — но я принимаю. Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку. Но ведь вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Во всяком случае — благодарю! Бендер учтиво снял шляпу. Персицкий учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персицкий ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персицкий, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персицкий уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком компаньоном. — Видали вы этот блеск? — спросил Остап Ипполита Матвеевича. — Закавтопромторг или частное общество «Мотор»? — деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. — Я хотел было подойти к ним потанцевать. — Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это Закавтопромторг? Эти люди, слышите, Киса, выи-гра-ли пятьдесят тысяч рублей! Вы сами видите, Кисуля, как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни! Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее. Не правда ли? И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны: не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах. На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места Ананур, Душет и Цилканы, путники подошли к Мцхету — древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису. Вечером путники миновали ЗАГЭС — Земо-Авчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей Куре. Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на арбе в Тифлис к одиннадцати часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы. — Городок не плох, — сказал Остап, выйдя на проспект Шота Руставели, — вы знаете, Киса… Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок. — Знаете, кто это? — шепнул он быстро. — Это «Одесская бубличная артель — Московские баранки», гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Они, кстати, уже порядочно отросли. Ах, черт возьми! Какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей, плюньте мне в глаза! Идем! Идем! Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучовом костюме и канотье. — Вы, кажется, знакомы, — сказал Остап шепотом, — вот особа, приближенная к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм. Это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно. Нам нужно поговорить. Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам. Ресторанные столы были расставлены на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка, под счастливыми взглядами родителей, по собственному почину танцевала между столиками лезгинку. — Прикажите чего-нибудь подать, — втолковывал Бендер. По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр. — И поесть чего-нибудь, — сказал Остап. — Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству. «Опять! — с отчаянием подумал Кислярский. — Опять начинаются мои мученья. И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым! И Генриетта советовала!» Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. — Так вот, — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, — в двух словах. За нами следят уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться. У Кислярского посеребрились щеки. — Мы рады, — продолжал Остап, — встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину. — Гм… да! — гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони. — Да, — шептал Остап. — Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум. — Не надо, — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии (сам он старый октябрист) готов оказать возможную финансовую помощь. — Вы верный друг Отечества! — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. — Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли. — Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли? Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой. — Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен! Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!» Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу пятьсот рублей. Затем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму:ЕДУ ТВОЕМУ СОВЕТУ КРЫМ ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ГОТОВЬ КОРЗИНКУ
Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь по̀том. Воробьянинову в магазине готового платья Тифкооперации быликуплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой. — Ах! — говорил Бендер. — Высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, восемь процентов скидки с обычной цены. Ах! Ах! В таком виде мы можем вращаться! Вы умеете вращаться, Киса? — Товарищ Бендер, — твердил Воробьянинов, — как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром. — Хо-хо! — возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориант». — Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен. Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города! Я — как Суворов!.. Грабьте город, Киса! Веселитесь! И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе:
Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр Колумба. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.— Ага! Я вам говорил! — сказал Воробьянинов. — Что вы мне говорили! — окрысился Остап. Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени. В ночь с десятого на одиннадцатое сентября, когда «Пестель», не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу приснился сон. Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал: — Эх, туды его в качель! Разве «Нимфа» кисть дает! В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу брильянты. Они прыгали и стучали все громче. И под конец их стук стал невыносим и страшен. Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор. К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу, возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крымкурсо» и товарищества «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал чесучового гражданина. — Подождите, Воробьянинов! — крикнул Остап. И он бросился вперед так быстро, что настиг чесучового мужчину в десяти шагах от выхода. Остап моментально вернулся со ста рублями. — Не дает больше. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой. И действительно, Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой, в Старгород. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасенья. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море. К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Шла «Женитьба». Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного: холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, а может быть, и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился. Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул, совместно с тремя новыми пышными полукреслами рококо, был на месте. Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Публика наконец разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу, под хлынувший наконец свежий дождь. — За мной, Киса, — скомандовал Остап. — В случае чего мы — не нашедшие выхода из театра провинциалы. Они пробрались на сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице, в бутафорскую. — Идите сюда! — крикнул он. Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх. — Видите? — сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гамбсовского стула и сектор зонтика с надписью: «…хочу…» — Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте, Киса, спички. Я его вскрою. И Остап полез в карман за инструментами. — Ну-с, — сказал он, протягивая руку к стулу, — еще одну спичку, предводитель. Вспыхнула спичка, и, странное дело, стул сам собою скакнул в сторону и вдруг, на глазах изумленных концессионеров, провалился сквозь пол. — Мама! — крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать. Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью «Я хочу Подколесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров. — Товарищ Бендер! Что это такое? — кричал Ипполит Матвеевич в ужасе. Остап был вне себя: землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. — Что это? — вопил Воробьянинов. С улицы доносились крики, звон и топот. — Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной. Скорей! Скорей! Дайте руку, шляпа. И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамбсовский стул. Издав собачий визг, Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой. — Давайте плоскогубцы! — крикнул он Остапу. — Идиот вы паршивый! — застонал Остап. — Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит! Скорее на воздух! — Плоскогубцы! — ревел обезумевший Ипполит Матвеевич. — Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога как память! С этими словами Остап кинулся к двери. Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса. — Ну, теперь давайте стул, — хладнокровно сказал Бендер. — Вам, я вижу, уже надоело его держать. — Не дам! — взвизгнул Ипполит Матвеевич. — Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул. Слышите? — Это мой стул! — заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшийся отовсюду. — В таком случае получайте гонорар, старая калоша! И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул. — Ну, теперь хорошо, — сказал Остап, переводя дыхание, — бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в пятьдесят баллов, стул должен быть сохранен! Поняли? — Понял. Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов. На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула. Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком. Непосредственно вслед за этим раздался третий удар, земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамбсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу. Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич был без сознания. — В конце концов, — сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного, — теперь у нас осталось сто шансов из ста. Последний стул (при слове «стул» Ипполит Матвеевич очнулся) исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается. Где-то с грохотом падали кирпичи. Протяжно кричала пароходная сирена.
Глава XLII СОКРОВИЩЕ
В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака, в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванопуло. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова, а сам целый почти месяц, со времени приезда в Москву, кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе брильянты мадам Петуховой. Наморщив лоб, Ипполит Матвеевич трафаретил железные дощечки. За полгода брильянтовой скачки он потерял свои привычки. По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед глазами Изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич и разверзшаяся земля пускала в глаза серный дым. Остап, пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем Ипполит Матвеевич переменился необыкновенно. И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и отросший ус торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота. Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне. В характере появились не свойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства: чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей, первый дебют по части нищенства у пятигорского «Цветника», наконец, землетрясение, после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть. В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровища, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно, сидя у окна и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, Ипполит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет, и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором. Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его. В коридоре раздался топот ног, кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой, щеки его горели, как яблоки. Он тяжело дышал. — Ипполит Матвеевич! — закричал он. — Слушайте, Ипполит Матвеевич! Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял… — Есть? — выдохнул он. — В том-то и дело, что есть. Ах, Киса, черт вас раздери! — Не кричите, все слышно. — Верно, верно, могут услышать, — зашептал Остап быстро. — Есть, Киса, есть, и, если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе железнодорожников, новом клубе… Вчера было открытие… Как я нашел? Чепуха? Необыкновенно трудная вещь! Гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца! Античное приключение!.. Одним словом, высокий класс! Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай. — Вы одеты как сапожник! — радостно болтал Остап. — Кто так ходит, Киса? Вам необходимы крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное! Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства? Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гамбсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам. — Через это окошечко, — сказал он, — мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, Киса, — третье окно от парадного подъезда. Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО и не могли надивиться прекрасным залам и комнатам. Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО и не могли надивиться прекрасным залам и комнатам. Клуб был не велик, но построен ладно. Концессионеры несколько раз заходили в шахматную комнату и с видимым интересом следили за развитием нескольких шахматных партий. — Если бы я играл в Васюках, — сказал Остап, — сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок, у меня двадцать пять рублей подкожных. Мы должны выпить пива и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве. Идя из пивной на Сивцев Вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорил с нежностью: — Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Киса, но больше десяти процентов я вам не дам. Ей-богу, не дам. Ну зачем вам, зачем вам столько денег? — Как зачем? Как зачем? — кипятился Ипполит Матвеевич. Остап чистосердечно смеялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии. — Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцать тысяч вам за глаза хватит… Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны… Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня… А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах… А? Подходит вам это предложение? Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до исступления. Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок. — Вы в самом деле на меня обиделись? — спросил Остап. — Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите. Ей-богу, вам трех процентов достаточно, Киса. Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату. — А? Киса, — резвился Остап, — соглашайтесь на три процента! Ей-богу, соглашайтесь! Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванопуло уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте в камердинеры… Теплое местечко. Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку, и сказал: — Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть. Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил: — А то камердинером!.. Приличное жалованье… Харчи… Чаевые… Ну, ну, пошутил… Заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и не отягощенным сновидениями. Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам. Мокрые решетки особняков жирно блестели. Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились. Из пивной «Орел» вытолкнули пьяного. Пьяный заорал. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. У него было одно желание: поскорее все кончить. Он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наиязвительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Какуев умел шевелить ушами. Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт извозчичьей лошади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа двадцать пять рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая и выдыхая воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами к комнатным расстояниям, повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. — Тем лучше, — прошептал Ипполит Матвеевич. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа, сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по черной луже, образовавшейся на полу. «Что это за лужа? — подумал Ипполит Матвеевич. — Да, да, кровь… Товарищ Бендер скончался». Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь. Великий комбинатор умер на пороге счастья, которое он себе вообразил. Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился и, бормоча: «Брильянты все мои, а вовсе не шесть процентов», — пошел на Каланчевскую площадь. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом Вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожка свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями. «Сейчас же на автомобиль, — подумал Ипполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, — на вокзал. И на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там…» И, желая поскорее увидеть, что будет «там», Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины, и набивка, замечательная набивка, довоенного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Ипполит Матвеевич машинально разворошил обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя: — Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть! Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было, в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало вылез через окно на улицу. — Этого не может быть, — повторил он, отойдя на квартал. — Этого не может быть! И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами: — Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть! Изредка он вскрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Брильянтовое возбуждение оказалось слишком сильным средством: он одряхлел в пять минут. — Ходют тут, ходют всякие, — услышал Воробьянинов над своим ухом. Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Сторож был очень стар и, как видно, добр. — Ходют и ходют, — общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество, — и вы тоже, товарищ, интересуетесь. И верно. Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный. Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика. — Да, — сказал старик, — необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету. — А что же в нем такого необыкновенного? — спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями. Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять. — Ну, и вот, — начал старик, — я тут в сторожах хожу десятый год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик. Ну, и вот, был здесь постоянно клуб, известно какой, первого участка службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб… Топили его, топили и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает: «Куда, мол, дрова у тебя идут?» А я их разве что ем, эти дрова? Бился товарищ Красильников с клубом — там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету, и в театр играть одно мучение: господа артисты мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб, да не знаю, что там выходило. Дорпрофсож кредита не утверждал. Только весною товарищ Красильников стул для сцены купил, стул хороший, мягкий… Ипполит Матвеевич, налегая всем корпусом на сторожа, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампочку, да и покатился. — С этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю — из-под обшивки стеклушки сыплются и бусы белые на ниточке. — Бусы, — проговорил Ипполит Матвеевич. — Бусы! — визгнул старик восхищенно. — И смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал. А пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек и не трогал. И хорошо, солдатик, сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятанная буржуазией… — Где же драгоценность? — закричал предводитель. — Где, где, — передразнил старик, — тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они! — Где? Где? — Да вот они! — закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту. — Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, пташки с часами, буфет, театр, в калошах не пускают!.. Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам. Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой! Вот оно! Все тут! Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер. Брильянты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий — крик простреленной навылет волчицы, — вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.
ФЕЛЬЕТОНЫ И РАССКАЗЫ
(1929–1932)


Здесь нагружают корабль
Синий дьявол
В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы ездивший туда по торговым делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком. Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше. — Я попал под автомобиль, — сказал доктор Гром радостно, — потом судился. И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья. В Москве, у Тверской заставы, фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил испачкавшиеся брюки и закричал: — Убили! Из остановившегося синего «паккарда» выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля. — Убили! — твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам. — А я его знаю, — сказал чей-то молодецкий голос. — Это посол страны Клятвии. Клятвийский посол. Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по сто двадцать рублей в месяц. По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске три дня и три ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич. Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского посольства и привез приговор суда. На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по сто сорок рублей в месяц как обремененному большой семьей. На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения. Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пенья Синдик-Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик-Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и сторублевую пенсию по гроб жизни. Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый, счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием. На отхожий промысел в Москву потянулись все — умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму. Между тем в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалованье государственным чиновникам и уменьшить армию с трехсот человек до пятнадцати. Зашевелилась оппозиционная правительству партия христианских социалистов. Председатель совета министров, господин Эдгар Павиайнен, беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Суупа. Когда под клятвийскую машину попал тридцатый по счету гражданин города Колоколамска, Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики. В палату был внесен запрос: — Известно ли господину председателю совета министров, что страна находится накануне краха? На это господин председатель совета министров ответил: — Нет, неизвестно. Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца. Шофер клятвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского дьякона три квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину. Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала. С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели «Личтруд» мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал. Но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала: — Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд. Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали: — Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку! Подлинник вернулся через два дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел. — Сколько? — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клятвийского казначейства. Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рассказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом. Вид мосье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили. И только этот случай спас Клятвию от окончательного разорения. Город снова заскучал…1929
Призрак-любитель
В акционерном обществе «Насосы» создалось напряженное положение. Говорили только о чистке, рассказывали пугающие истории из практики бывших ранее чисток и вообще волновались свыше меры. Незаметно насосовцы перешли на страшные рассказы. Инструктор из отдела поршней, товарищ Быдто-Стерегущий, поведал обществу грустный случай. Ему, Быдто-Стерегущему, в молодости явился призрак покойного деда. Призрак размахивал руками и призывал на племянника кары небесные. Быдто-Стерегущего осмеяли, и он сознался, что призрак этот явился, собственно говоря, не ему лично, а одному очень хорошему знакомому, которому верить можно безусловно. Все же разговор о выходцах с того света продолжался. Все насосовцы оказались сознательными и с презрением отметали даже самую мысль о возможности появления призраков в наше трезвое материалистическое время. Заклейменный всеми, Быдто-Стерегущий отмежевался от своего рассказа и уже собирался было удалиться в свой отдел поршней, когда внезапно заговорил Культуртригер, старый работник отдела шлангов. — Легко сказать, — заметил он, — а призрак такая вещь, что душу леденит. — Стыдно, товарищ Культуртригер! — закричали все. — Стыдно и глупо верить в привидения. — Да, если бы мне в руки попался призрак, — сказал товарищ Галерейский, — уж я бы ему… И Галерейский самодовольно улыбнулся. — Чудес на свете нет, — сказали два брата, работавшие в обществе «Насосы» под разными фамилиями — Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. — Чудес на свете нет, а гением творения их является человек. — Материалистам призрак нипочем, — подтвердил Галерейский. — Тем более мне как марксисту. — Может быть, — тихо сказал дряхлый Культуртригер. — Все может быть. На свете много загадочного и непостижимого. — Высадят вас на чистке по второй категории, тогда будете знать, как мистику разводить при исполнении служебных обязанностей, — сказал Лев Рубашкин. — Гнать таких стариков надо, — поддержал Ян Скамейкин, поглядывая на своего брата Рубашкина. На этом разговор кончился. На другой день в акционерном обществе «Насосы» появилось привидение. Оно вышло из уборной и медленным шагом двинулось по длинному темному коридору. Это было обыкновенное, пошленькое привидение во всем белом, с косой в правой руке. Привидение явно шло вровень с веком, потому что в левой руке держало вместо песочных часов новенький будильник. Спугнув проходившую машинистку, которая с визгом умчалась, привидение вошло в кабинет товарища Галерейского. — Вам чего, товарищ? — спросил Галерейский, не поднимая головы. Привидение заворчало. Галерейский глянул и обомлел. — Кто? Что? — завопил он, опрокинув стул и прижавшись к стене. Привидение взмахнуло косой, словно собираясь в корне подсечь молодую жизнь своей жертвы. Галерейский не стал терять ни минуты. Он бросился к конторскому шкафу, всхлипывая, вполз туда и заперся на ключ. Призрак нагло постучал в дверцу шкафа, после чего изнутри донесся истерический крик. — Тоже материалист! — озабоченно сказало привидение, переходя в следующую комнату, где сидел ничего не подозревавший Быдто-Стерегущий. Стерегущий сразу упал, как сбитая шаром кегля, громко стукнувшись головой об пол. Привидение с презрением пихнуло его ногой и, тихо смеясь, вышло в коридор. В отделе шлангов Лев Рубашкин и Ян Скамейкин невинно развлекались игрою в шашки. — У-лю-лю! — негромко сказало привидение, вваливаясь в отдел, треща будильником и как бы подчеркивая этим, что дни братьев сочтены. — Мама! — сказал Лев Рубашкин шепотом и выпрыгнул в окно. Ян Скамейкин ничего не сказал. Он свалился под стол, лязгая зубами, как собака. Дальнейшая работа привидения дала поразительные результаты. Из шестидесяти насосовцев: Испытали ужас — тридцать шесть. Упали в обморок — восемь. Заболели нервным тиком — девять. Остальные отделались легким испугом. Галерейский совершенно поседел, Быдто-Стерегущий взял бюллетень, Рубашкин при падении со второго этажа вывихнул руку, а Скамейкин помешался в уме и целую неделю после этого на всех бумагах ставил подпись вверх ногами. На чистке все сидели молча и слушали биографию Галерейского. — Все это хорошо, — сказал с места старый Культуртригер. — Но какой же товарищ Галерейский материалист, ежели он привидения убоялся? Гнать таких надо по второй категории. И даже по первой. Какой же он, товарищи, марксист? — Это клевета! — закричал Галерейский. — А кто в шкафу прятался? — ехидно спросил Культуртригер. — Кто поседел от страха? У меня про всех записано. Старик вынул записную книжку и стал читать. — Вел себя также недостойно материалиста Лев Рубашкин, каковой при виде призрака выпрыгнул в окно. А еще считается общественным работником. А равно и товарищ Скамейкин. Ноги мне целовал от ужаса. У меня все записано. Культуртригер схватил председателя комиссии за рукав и, брызгая слюной, стал быстро изобличать насосовцев в мистике.1929
Под знаком Рыб и Меркурия
Иван Антонович Филиппиков, сотрудник Палаты мер и весов, очень любил свое учреждение. Он хотел бы даже, чтобы Палате принадлежала высшая власть в стране. Уж очень ему нравилась Палата, существующий в ней порядок, блестящие цилиндрические гири, метры и литры, одним своим видом говорящие о точности и аккуратности. В таких приятных мыслях гражданин Филиппиков прогуливался однажды по городу. Подойдя к оживленному перекрестку, Иван Антонович увидел плакат:ПЕРЕХОДЯ УЛИЦУ, ОГЛЯНИСЬ ПО СТОРОНАМ
Для пущей внушительности на плакате был изображен милиционер с улыбкой манекена и с красной палкой в руке. Иван Антонович добросовестно кинул взгляд на запад. Потом глянул на восток. Потом покосился на юг и, наконец, повернулся к северу. И на севере, у магазина наглядных пособий, где веселые скелеты обменивались дружественными рукопожатиями, он увидел мальчика, на плече которого сидел попугай. — Грияждане, — скучным голосом говорил мальчик, — американский попугай-прорицатель Гаврюшка докладает тайны прошедшего, настоящего и будущего. Пакет со счастьем — десять копеек! Попугай-прорицатель строго смотрел на Филиппикова. «Разве в виде шутки попробовать!» — сказал себе Иван Антонович. И уже через минуту вестник счастья с ворчаньем вручил ему розовый конверт. Иван Антонович надел очки и вынул из конверта предсказание своей судьбы. «Вы родились, — прочел он, — под знаком Рыб и Меркурия. Вы испытали много превратностей, но не теряйте мужества. Судьба вам будет благоприятствовать. Скоро вы получите приятное известие. Счастье и выгоды в изобилии выпадут на вашу долю. Вы получите большие имения, которые вам будут приносить большие доходы. Оракул предвещает вам, что ваша жизнь будет цепью счастливых дней». — Оракул! — с удовольствием произнес Филиппиков. — Оракул! Моя жизнь будет цепью счастливых дней. Скоро я получу приятное известие. Лучезарно улыбаясь, Иван Антонович поглядел на витрину магазина наглядных пособий, где рядами возлежали лошадиные черепа, и поплелся домой. — Слышишь, Агния, — сказал он жене, — наша жизнь будет цепью счастливых дней. — Почему цепью? — испуганно спросила жена. — Да вот оракул сказал, Агнесса. И гражданин Филиппиков, член многих добровольных обществ, передал своей жене, гражданке Филиппиковой, пакет со счастьем. Агнессу ничуть не смутило то, что ее дорогой муж родился под знаком Рыб и Меркурия. Она любила Ивана Антоновича и никогда не сомневалась в том, что он родился именно под этими знаками. Но с практичностью домашней хозяйки она обратила все свое внимание на фразу, сулящую непосредственные реальные блага. «Вы получите большие имения, которые принесут вам большие доходы». — Вот хорошо, — сказала Агния. — Большие имения! Большие доходы! Как приятно! До самого вечера Иван Антонович почему-то чувствовал себя скверно, а за ужином не вытерпел и сказал жене: — Знаешь, Агнесса, мне не нравится… то есть не то чтоб не нравится, а как-то странно. Какие же могут быть теперь имения, а тем более доходы с них? Ведь время-то теперь советское. — Что ты, — сказала жена. — Я уже забыть успела, а ты все про своего оракула. Однако ночь Филиппиков провел дурно. Он часто вставал, пил воду и смотрел на розовый листок с предсказанием. Нет, все было в порядке, по новой орфографии. Листок, несомненно, был отпечатан в советское время. — Какое же имение? — бормотал он. — Совхоз, может быть? Но за доходы с совхоза мне не поздоровится. Хороша же будет эта цепь счастливых дней, нечего сказать. А под утро приснился Ивану Антоновичу страшный сон. Он сидел в полосатом архалуке и дворянской фуражке на веранде помещичьего дома. Сидел и знал, что его с минуты на минуту должны сжечь мужики. Уже розовым огнем полыхали псарня и птичий двор, когда Филиппиков проснулся. На службе, в Палате мер и весов, Иван Антонович чувствовал себя ужасно, не подымал головы от бумаг и ни с кем не беседовал. Прошло две недели, прежде чем Филиппиков оправился от потрясения, вызванного предсказанием попугая Гаврюшки.
Так радикально изменилось представление о счастье. То, что в 1913 году казалось верхом благополучия (большие имения, большие доходы), теперь представляется ужасным (помещик, рантье). Оракул, несмотря на свою новую орфографию, безбожно отстал от века и зря только пугает мирных советских граждан.
1929
Мореплаватель и плотник
Неслыханный кризис, как леденящий все живое антициклон, пронесся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек и с базарных лотков совершенно исчезла кожа. Исчез хром, исчезло шевро, иссякли даже запасы подошвы. В течение целой недели колоколамцы недоумевали. Когда же, в довершение несчастья, с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли. К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества «Геть рукопожатие» гражданина Долой-Вышневецкого по поводу пятилетнего его служения делу изжития рукопожатий. Торжество открылось в лучшем городском помещении — анкетном зале курсов декламации и пения. Один за другим по красному коврику всходили на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки. Шесть сотрудников общества «Геть рукопожатие» преподнесли любимому начальнику шесть шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками. Дружественное общество «Геть неграмотность» в лице председателя Балюстрадникова одарило взволнованного юбиляра двенадцатью хромовыми портфелями крокодильей выделки. Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов беспрерывно исполнял туш. Начальник милиции Отмежуев, молодецки хрипя, отрапортовал приветствие и выдал герою четыре брезентовых портфеля с мечами и бантами. Не ударил лицом в грязь и брандмайор Огонь-Полыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем: он разрезал большой шланг и соорудил из него бесподобный резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения. Долой-Вышневецкий плакал. Речь гражданина Подлинника, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через тысячу лет речь Подлинника наряду с речами Цицерона и правозаступника Вакханальского будет почитаться образцом ораторского искусства. — Вы! — воскликнул Подлинник, тыча указательным пальцем в юбиляра. — Вы — жрец науки, мученик идеи, великой идеи отмены рукопожатий в нашем городе! Вот я плачу перед вами! Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось. — Я глухо рыдаю! — закричал он. И сделал знак рукой. Немедленно распахнулась дверь, и по боковому проходу в залу вкатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями. — Я не могу говорить! — проблеял Подлинник. И, захватив в руки груду портфелей, ловко стал метать их в юбиляра, дружелюбно покрикивая: — Вы академик! Вы герой! Вы мореплаватель! Вы плотник! Я не умею говорить! Горько! Горько! Он сделал попытку поцеловать юбиляра, но это было невозможно. Долой-Вышневецкий по самое горло был засыпан портфелями, и к нему нельзя было подобраться. Такого юбилея Колоколамск еще никогда не видал. На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку. У мясных рядов вилась длинная очередь. Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой-Вышневецкий. Пять лет посвятил он великому делу истребления рукопожатий в пределах города Колоколамска, а первый день шестого года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них. — А вот кому хорошие портфели! — зазывал юбиляр. — А вот кому кожа на штиблеты, на сапоги, на дамские лодочки! Ремни на упряжь! Есть портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! Лучший оригинальный детский забавный подарок детям на Пасху — мечи и банты! А вот кому мечи и банты на детские игрушки! Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их сапожникам. Гражданин Подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене. — Я не оратор! — говорил он. — Но десять рублей за этот портфель, с ума сойти! Тоже мореплаватель! — У нас без торгу! — отвечал мореплаватель и плотник. — А вот кому портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! На сапоги! На дамские лодочки! Торговал он и на другой день. В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей былой научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием. Так погиб для колоколамской общественности лучший ее представитель — глава общества «Геть рукопожатие».1929
Гелиотроп
Ни в одном городе Союза нельзя найти такого количества представительств, как в Москве. Они помещаются в опрятных особнячках, за зеркальными стеклами которых мерещится яичная желтизна шведских столов и зелень абажуров. Особнячки отделены от улицы садиками, где цветет сирень и хрипло поет скворец. У подъезда между двумя блестящими от утренней росы львами обычно висит черная стеклянная досточка с золотым названием учреждения. В таком учреждении приятно побывать, но никто туда не ходит. То ли посетителей там не принимают, то ли представительство не ведет никаких дел и существует лишь для вящего украшения столицы. Рассказывают, что в Котофеевом переулке издавна помещалось представительство тяжелой цветочной промышленности «Гелиотроп», занявшее помещение изгнанного из Москвы за плутни представительства общества «Узбекнектар». Штат «Гелиотропа» состоял из двух человек: уполномоченного по учету газонов товарища Абукирова и уполномоченного по учету вазонов товарища Женералова. Они были присланы в «Гелиотроп» из разных городов и приступили к работе, не зная друг друга. Как только товарищ Абукиров в первый раз уселся за свой стол, он сразу же убедился в том, что делать ему абсолютно нечего. Он передвигал на столе пресс-папье, подымал и опускал шторки своего бюро и снова принимался за пресс-папье. Убедившись наконец, что работа от этого не увеличилась и что впереди предстоят такие же тихие дни, он поднял глаза и ласково посмотрел на Женералова. То, что он увидел, поразило его сердце страхом. Уполномоченный по учету вазонов товарищ Женералов с каменным лицом бросал костяшки счетов, иногда записывая что-то на больших листах бумаги. «Ой, — подумал начальник газонов, — у него тьма работы, а я лодырничаю. Как бы не вышло неприятностей». И так как товарищ Абукиров был человеком семейным и дорожил своей привольной службой, то он сейчас же схватил счеты и начал отщелкивать на них несуществующие сотни тысяч и миллионы. При этом он время от времени выводил каракули на узеньком листе бумаги. Конец дня ему показался не таким тяжелым, как его начало, и в установленное время он собрал исписанные бумажки в портфель и с облегченным сердцем покинул «Гелиотроп». И вот все о нем. Что же касается начальника вазонов товарища Женералова, то в день поступления на службу он был чрезвычайно удивлен поведением Абукирова. Начальник газонов часто открывал ящики своего стола и, как видно, усиленно работал. Женералов, которому решительно нечем было заняться, очень испугался. «Ой! — подумал он. — У него работы тьма, а я бездельничаю. Не миновать неприятностей!» И хотя Женералов был человеком холостым, но он тоже боялся потерять покойную службу. И поэтому он бросился к счетам и начал отсчитывать на них какую-то арифметическую чепуху. Боязнь его в первый же день дошла до того, что он решил уйти из «Гелиотропа» позже своего деятельного коллеги. Но на другой день он слегка расстроился. Придя на службу минута в минуту, он уже застал Абукирова. Начальник газонов решил показать своему сослуживцу, что работы с газонами, в конце концов, гораздо больше, чем с вазонами, и пришел на службу не в десять, а в девять. И вот оба они, не осмеливаясь даже обменяться взглядами, просидели весь рабочий день. Они гремели счетами, рисовали зайчиков в блокнотах большого формата и без повода рылись в ящиках, не осмеливаясь уйти один раньше другого. На этот раз нервы оказались сильнее у Женералова. Томимый голодом и жаждой, Абукиров ушел из «Гелиотропа» в половине седьмого вечера. Женералов, радостно взволнованный победой, убежал через минуту. Но третий день дал перевес начальнику газонов. Он принес с собой бутерброды и, напитавшись ими, свободно и легко просидел до восьми часов. Левой рукой он запихивал в рот колбасу, а правой рисовал обезьяну, притворяясь, что работает. В восемь часов пять минут начальник вазонов не выдержал и, надевая на ходу пальто, кинулся в общественную столовую. Победитель проводил его тихим смешком и сейчас же ушел. На четвертый день оба симулировали до десяти часов вечера. А дальше дело развивалось в продолженном обоими чрезвычайно быстром темпе. Женералов сидел до полуночи. Абукиров ушел в час ночи. И наступило то время, когда оба они засиделись в «Гелиотропе» до рассвета. Желтые, похудевшие, они сидели в табачных тучах и, уткнув трупные лица в липовые бумажонки, трепетали один перед другим. Наконец их потухшие глаза случайно встретились. И слабость, овладевшая ими, была настолько велика, что оба они враз признались во всем. — А я-то дурак! — восклицал один. — А я-то дурак! — стонал другой. — Никогда себе не прощу! — кричал первый. — Сколько мы с вами времени потеряли зря? — жаловался второй. И начальники газонов и вазонов обнялись и решили на другой день вовсе не приходить, чтобы радикально отдохнуть от глупого соревнования, а в дальнейшем, не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами. Но уже через час после этого мудрого решения Абукиров проснулся в своей квартире от ужасной мысли. «А что, — подумал он, — если Женералов облечен специальными полномочиями на предмет выявления бездельников и вел со мной адскую игру?» И, натянув на свои отощавшие в борьбе ножки москвошвейные штаны из бумажного бостона, он побежал в «Гелиотроп». Дворники подметали фиолетовые утренние улицы, молодые собаки рылись в мусорных холмиках. Сердце Абукирова было сжато предчувствием недоброго. И действительно, между мокрыми львами «Гелиотропа» стоял Женералов со сморщенным от бессонных ночей пиджаком и жалко глядел на подходящего Абукирова, в котором он уже ясно видел лицо, облеченное специальными полномочиями на предмет выявления нерадивых чиновников. И едва дворник открыл ворота, как они кинулись к своим столам, бессвязно бормоча: — Тьма работы, срочное требование на вазоны! — Работы тьма. Новые газоны! И рассказывают (но один лишь Госплан всемогущий знает все), что эти глупые люди до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро. И сильный свет штепсельных ламп озаряет их костяные лица.1929
Процедуры Трикартова
Чем пышнее светит солнце, чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя сослуживцы. Молодая трава вырастает за ночь на вершок, ртутная палочка термометра поднимается кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа, а служивым делается все горше и горше. Им хочется лечиться, лечиться от чего угодно и как угодно, лишь бы это были в санатории и по возможности на юге. Михаил Александрович Трикартов, пожилой, но еще прыткий человек, был подвержен лечебной лихорадке в особенно сильной степени. — Все лечатся, — восклицал он, держась обеими руками за пухлую грудь, — а я должен погибать. Я тоже хочу лечиться! — Что же с вами? — участливо спрашивали сослуживцы. — Откуда мне знать! — визжал Михаил. — Ну колит, ну катар. Порок сердца. Я не доктор, но я чувствую. И Михаил побежал к профессору. Он считал, что лечиться можно только у профессоров. Профессор долго прикладывал ухо к голому Трикартову и прислушивался к работе его органов с тою внимательностью, с какою кошка прислушивается к движениям мыши. Во время осмотра трусливый Михаил Александрович смотрел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. — Ну что? — выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки. Он хотел спросить, «есть ли надежда», но губы у него задрожали и насчет надежды не вышло. — Вы здоровы, — сказал профессор. — Абсолютно. — У меня порок сердца! — вызывающе сказал Трикартов. Профессор рассердился. — А вы знаете, что такое порок сердца? За визит к профессору Трикартов уплатил семь рублей, и поэтому он тоже рассердился. — Знаю, — сказал он. — Порок сердца — это когда сердце стучит. Кроме того, у меня еще колит, катар и невроз. — Вы дурак, — ответил профессор. Тем не менее Трикартов решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счет государства. Но государство этого не захотело. Тогда Михаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, как и профессора, занимающиеся частной практикой, от знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечат, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев. Погода благоприятствовала поездке Трикартова. Он поселился среди роз. Он занимал чудную комнату. Но все это не радовало его. Он завидовал. С рассвета в санатории начиналась хлопотливая жизнь. Часть больных, как стадо антилоп, направлялась к источнику, где упивалась нарзаном. Других под руки вели к грязевым ваннам. Некоторых пытали душами Шарко. Были и такие, которых заворачивали в мохнатые простыни и заставляли потеть. Со всеми что-то делали, с одним лишь Трикартовым ничего не делали. И Михаил очень страдал от этого. Но однажды увидел он нечто такое, чего перенести уже не смог. Гуляя по санаторию, он забрел во флигелек в саду. Там посреди комнаты на возвышении сидел человек, из волос которого бойко выскакивали синие электрические искры. Гудели какие-то машины. — А мне почему этого не делают? — спросил Трикартов санитара. — Я тоже хочу, чтобы у меня искры. Я Трикартов. — Вас нет в списке, — равнодушно ответил санитар. Трикартов понял, что эта процедура самая дорогая и ее нарочно скрывают от него в саду. Вечером, на террасе, в присутствии больных и гостей, он учинил главврачу большой скандал. — Дайте мне мои процедуры, — кричал Михаил Александрович, прыгая. — Где мои процедуры? Что это за кузница здоровья! Я деньги платил. — Вы здоровы, — сконфуженно говорил главврач. — Вам не нужны процедуры. Отдыхайте. Старайтесь поменьше волноваться! Но Трикартов не спал всю ночь и решил лечиться своею собственной рукой. На рассвете, пугливо озираясь по сторонам, он поскакал к источнику и вдоволь напился нарзану. — Я им покажу, — сказал он, возвращаясь в санаторий. — Я уже чувствую себя лучше. Днем он бегал по опрятным аллейкам, крича: — Где горное солнце? Не добившись солнца, Михаил Александрович забрался в электрический флигелек и, приложив к груди цинковую пластинку со шнурами, включил ток. До самого вечера он содрогался от сдерживаемой радости, потому что медный вкус во рту не покидал его и создавал уверенность в быстром выздоровлении. Ночью, при свете луны, он снова пробрался к источнику и, отрыгиваясь, выпил шестнадцать стаканов газового напитка. — Я им покажу! — шептал он, пробираясь через окно в свою комнату. Остаток времени он провел с большой пользой. Вынув из-под кровати выкраденную синюю лампу, он возлег на постель, озарив себя гробовым светом, — лечился всю ночь. Здоровье Михаила заметно улучшилось, но почему-то пропал аппетит. Души Шарко, нарзанные и грязевые ванны пришлось принимать конспиративно и большей частью по ночам. — Плохо вы что-то выглядите, — сказал ему однажды врач. — Вы бы яичек побольше ели. «Знаем! — подумал опытный Михаил. — Хочет мне сплавить дешевые яички, а дорогое горное солнце уже месяц как от меня прячет!» Перед самым отъездом Трикартову удалось забраться к заветному солнцу. Но наслаждаться им пришлось всего лишь один час. Спугнула няня. По дороге в Москву, на станции Скотоватая, Михаилу сделалось плохо. Пришлось вызвать врача, который установил порок сердца, катар желудка и общее отравление неизвестными газами. Когда Трикартов предстал перед сослуживцами, вид у него был пугающий. — Что с вами? — спрашивали друзья. — Залечили, сукины дети! — ответил Михаил. — Кварцевой лампы пожалели. Горное солнце давали в недостаточном количестве. Для наркомов берегли. Тоже кузница здоровья!1929
Авксентий Филосопуло
Необъяснима была энергия, с которой ответственный работник товарищ Филосопуло посещал многочисленные заседания, совещания, летучие собеседования и прочие виды групповых работ.
Ежедневно не менее десяти раз перебегал Филосопуло с одного заседания на другое с торопливостью стрелка, делающего перебежку под неприятельским огнем.
— Лечу, лечу, — бормотал он, вскакивая на подножку автобуса и рукой посылая знакомому воздушное «пока».
— Лечу! Дела! Заседание! Сверхсрочное!
«Побольше бы нам таких! — радостно думал знакомый. — Таких бодрых, смелых и юных душой!»
И действительно, Филосопуло был юн душой, хотя и несколько тучен телом. Живот у него был, как ядро, вроде тех ядер, какими севастопольские комендоры палили по англо-французским ложементам в Крымскую кампанию. Было совершенно непостижимо, как он умудряется всюду поспевать. Он даже ездил на заседания в ближайшие уездные города.
Но как это ни печально, весь его заседательский пыл объяснялся самым прозаическим образом. Авксентий Пантелеевич Филосопуло ходил на заседания, чтобы покушать. Покушать за счет учреждений.
— Что? Началось уже? — спрашивал он курьера, взбегая по лестнице. — А-а! Очень хорошо!
Он протискивался в зал заседания, где уже за темно-зеленой экзаменационной скатертью виднелись бледные от табака лица заседающих.
— Привет! Привет! — говорил он, хватая со стола бутерброд с красной икрой. — Прекрасно! Вполне согласен. Поддерживаю предложение Ивана Семеновича.
Он пережевывал еду, вытаращив глаза и порывисто двигая моржовыми усами.
— Что? — кричал он, разинув пасть, из которой сыпались крошки пирожного. — Что? Мое мнение? Вполне поддерживаю.
Наевшись до одурения и выпив восемь стаканов чая, он сладко дремал. Длительная практика научила его спать так, что храп и присвист казались окружающим словами: «Верно! Хр-р… Поддерживаю! Хх-р. Пр-р-равильно! Кр-р. Иван Семеныча… Хр-р-кх-х-х…»
Неожиданно разбуженный громкими голосами спорящих, Филосопуло раскрывал блестящие черные глаза, выхватывал из жилета карманные часы и испуганно говорил:
— Лечу! Лечу! У меня в пять комиссия по выявлению остатков. Уж вы тут без меня дозаседайте! Привет!
И Авксентий Пантелеевич устремлялся в комиссию по выявлению. Он очень любил эту комиссию, потому что там подавали бутерброды с печеночной колбасой.
Управившись с колбасой и вполне оценив ее печеночные достоинства, Авксентий под прикрытием зонтика перебегал в Утильоснову и с жадностью голодающего принимался за шпроты, которыми благодушные утильосновцы обильно уснащали свои длительные заседания.
Он тонко разбирался в хозяйственных вопросах. На некоторые заседания, где его присутствие было необходимо, он вовсе не ходил. Там давали пустой чай, к тому же без сахара. На другие же, напротив, старался попасть, набивался на приглашение и интриговал. Там, по его сведениям, хорошо кормили. Вечером он делился с женой итогами трудового дня.
— Представь себе, дружок, в директорате большие перемены.
— Председателя сняли? — лениво спрашивала жена.
— Да нет! — досадовал Филосопуло. — Пирожных больше не дают! Сегодня давали бисквиты «Делегатка». Я съел четырнадцать.
— А в этом вашем, в синдикате, — из вежливости интересовалась жена, — все еще пирожки?
— Пирожки! — радостно трубил Авксентий. — Опоздал сегодня. Половину расхватали, черти. Однако штук шесть я успел.
И, удовлетворенный трудовым своим днем, Филосопуло засыпал. И молодецкий храп его по сочетанию звуков походил на скучную служебную фразу: «Выслушав предыдущего оратора, я не могу не отметить…»
Недавно с Авксентием Пантелеевичем стряслось большое несчастье.
Ворвавшись на заседание комиссии по улучшению качества продукции, Филосопуло сел в уголок и сразу же увидел большое аппетитное кольцо так называемой краковской колбасы. Рядом почему-то лежали сплющенная гайка, кривой гвоздь, полуистлевшая катушка ниток и пузырчатое ярко-зеленое ламповое стекло. Но Филосопуло не обратил на это внимания.
— Поддерживаю, — сказал Авксентий, вынимая из кармана перочинный ножик.
Пока говорил докладчик, Филосопуло успел справиться с колбасой.
— И что же мы видим, товарищи! — воскликнул оратор. — По линии колбасы у нас не всегда благополучно. Не все, не все, товарищи, благополучно. Возьмем, к примеру, эту совершенно гнилую колбасу. Колбасу, товарищи… Где-то тут была колбаса…
Все посмотрели на край стола, но вместо колбасного кольца там лежал только жалкий веревочный хвостик.
Прежде чем успели выяснить, куда девалась колбаса, Филосопуло задергался и захрипел.
На этот раз его храп отнюдь не походил на обычное «согласен, поддерживаю», а скорее на «караул! доктора!».
Но спасти Филосопуло не удалось.
Авксентий в тот же день умер в страшных мучениях.
1929
Чарльз-Анна-Хирам
Американский инженер Чарльз-Анна-Хирам Фост подписал договор на год работы в СССР. Родственники и знакомые господина Фоста считали, что Чарльз-Анна-Хирам сделал хороший бизнес. — Хотя смотрите, дружище Фост, — сказал ему знакомый фабрикант резиновых грущ — за свои денежки большевики заставят вас поработать. Чарльз-Анна-Хирам объяснил, что работы не боится и давно уже искал широкого поприща для применения своих обширных познаний. Потом уложил чемоданы, сел на пароход и отплыл в Европу. — Вы едете работать в Москву? — спросили его на пароходе на третий день плавания. — Еду, — сказал Хирам. — Там много работать придется. Пищать будете. — Для этого и еду. Раз подписал договор — буду пищать. Когда инженер Фост в поезде пересекал Европу, к нему подошел любопытствующий пассажир и, узнав о цели поездки Хирама, воскликнул: — Все соки из вас выжмут в Москве! Эти мрачные предсказания навеяли грусть на впечатлительную душу Хирама. Ему показалось даже, что он сделал не столь уж блестящий бизнес. Управделами треста, кренясь набок, взошел в кабинет директора и доложил: — Приехал иностранный специалист. — Это тот, на которого мы договор заключали? Прекрасно! Он нам нужен до зарезу. Вы куда его девали? — Пока в гостиницу. Пусть отдохнет с дороги. Директор забеспокоился. — Какой там может быть отдых! Столько денег за него плачено! Он нам нужен сию минуту. Жалко вот, что мне сейчас нужно ехать… Тогда отложим на завтра. Вызовите его ко мне ровно в десять часов утра. Ровно в десять Чарльз-Анна-Хирам Фост, распаляемый мыслью о широчайшем поприще, на котором он сейчас же начнет применять свои знания, сидел в директорской приемной. Директора еще не было. Не было его также через час и через два. Хирам начал томиться. Развлекал его только управделами, который время от времени появлялся и вежливо спрашивал: — Что, разве еще не приходил директор? Странно, странно! В два часа дня управделами поймал в коридоре инженера Румянцева-Дунаевского и начал с ним шептаться. — Прямо не знаю, что делать! Иван Павлович назначил американцу на десять часов утра, а сам уехал в Ленинград для увязки сметных неполадок. Раньше недели не вернется. Посидите с ним, Адольф Николаевич, неудобно, все-таки иностранец. Деньги плачены. Румянцев-Дунаевский выхватил из приемной раздраженного ожиданием Фоста и повел его в Третьяковскую галерею смотреть картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына». В течение недели господин Фост, руководимый Румянцевым-Дунаевским, успел осмотреть три музея, побывать на балете «Спящая красавица» и просидеть часов десять на торжественном заседании, устроенном в его честь. «Дорогая Цецилия, — писал он невесте в Филадельфию, — вот уже около десяти дней я сижу в Москве, но к работе еще не приступал. Боюсь, что эти дни мне вычтут из договорных сумм». Однако 15-го числа артельщик-плательщик вручил Фосту полумесячное жалование. — Не кажется ли вам, — сказал Фост своему новому другу Румянцеву-Дунаевскому, — что мне заплатили деньги зря? — Почему зря? — удивился Румянцев. — Вы же ездите к нам каждый день! — Но ведь вы не поручили мне никакой работы! Я не работаю. — Оставьте, коллега, эти мрачные мысли! — вскричал Дунаевский. — Впрочем, если вы хотите, мы можем поставить вам специальный стол в моем кабинете! После этого Хирам сидел за специальным собственным столом и писал письма невесте. «Дорогая крошка! Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я абсолютно ничего не делаю, но деньги мне платят аккуратно. Все это меня удивляет». Приехавший из Ленинграда директор узнал, что у Фоста уже есть стол, и успокоился. — Ну вот и прекрасно! — сказал он. — Пусть Румянцев-Дунаевский введет американца в курс дела. Через два месяца к директору явился Фост. Он был очень взволнован. — Я не могу получать деньги даром, — выпалил он. — Дайте мне работу! Я считаю такое положение нетерпимым! Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону. Конец речи Хирама не понравился директору. Он вызвал к себе Румянцева-Дудаевского. — Что с американцем? — спросил он. — Чего он бесится? — Знаете что, — сказал Румянцев, — по-моему, он просто склочник. Ей-богу. Сидит человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется. Вот, действительно, склочная натура. Вот что, Иван Павлович, к нему надо применить репрессии. Через две недели инженер Фост, видный американский специалист, писал своей невесте уже не из Москвы, а из какого-то Средне-Удинска. «Дорогая крошка! Наконец-то я на заводе. Работы много и работа очень интересная. Сейчас я разрабатываю проект полной механизации всех работ. Но вот что меня поражает, дорогая Цецилия, это то, что сюда меня послали в наказание! Можешь ли ты себе это представить?..»1929
Московские ассамблеи
— Пей, собака! — Пей до дна, пей до дна! — подхватил хор. Раздались звуки цевниц и сопелей. Граф Остен-Бакен уже лежал под столом.В тот вечерний час, когда в разных концах Москвы запевают граммофоны-микифоны, на улицах появляются граждане, которых не увидишь в другое время. Вот идет тощий юноша в лаковых штиблетах. Это не баритон, не тенор и даже не исполнитель цыганских романсов. Он не принадлежит к той категории трудящихся (рабис, рабис, это ты!), коим даже в эпоху реконструкции полагается носить лаковую обувь. Это обыкновенный гражданин, направляющийся на вечеринку. Третьего дня вечеринка была у него, вчера у товарища Блеялкина, а сейчас он идет на ассамблею к сослуживцу Думалкину. Есть еще товарищ Вздох-Тушуйский. У него будут пировать завтра. У всех — Думалкина, Блеялкина, Вздох-Тушуйского и у самого лакового юноши Маркова — есть жены. Это мадам Думалкина, мадам Блеялкина, мадам Вздох и мадам Маркова. И все пируют. Пируют с такой ошеломляющей дремучей тоской, с какою служат в различных конторах, кустах и объединениях. Уже давно они ходят друг к другу на ассамблеи, года три. Они смутно понимают, что пора бы уже бросить хождение по ассамблеям, но не в силах расстаться с этой вредной привычкой. Все известно заранее. Известно, что у Блеялкиных всегда прокисший салат, но удачный паштет из воловьей печени. У пьяницы Думалкина хороши водки, но все остальное никуда. Известно, что скупые Вздохи, основываясь на том, что пора уже жить по-европейски, не дают ужина и ограничиваются светлым чаем с бисквитами «Баррикада». Также известно, что Марковы придут с граммофонными пластинками, и известно даже, с какими. Там будет вальс-бостон «Нас двое в бунгало», чарльстон «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и старый немецкий фокстрот «Их фаре мит майнер Клара ин ди Сахара», что, как видно, значит: «Я уезжаю с моей Кларой в одну Сахару». Надо заметить, что дамы ненавидят друг друга волчьей ненавистью и не скрывают этого. Пока мужчины под звуки «Нас двое в бунгало, и больше никого нам не надо» выпивают и тревожат вилками зеленую селедку, жены с изуродованными от злобы лицами сидят в разных углах, как совы днем. — Почему же никто не танцует? — удивляется пьяница Думалкин. — Где пиршественные клики? Где энтузиазм? Но так как кликов нет, Думалкин хватает мадам Блеялкину за плечи и начинает танец. На танцующую пару все смотрят с каменными улыбками. — Скоро на дачу пора! — говорит Марков подумав. Все соглашаются, что действительно пора, хотя точно знают, что до отъезда на дачу еще осталось месяцев пять. К концу вечера обычно затевается разговор на политические темы. И, как всегда, настроение портит Вздох-Тушуйский. — Слышали, господа, — говорит он, — через два месяца денег не будет. — У кого не будет? — Ни у кого. Вообще никаких денег не будет. Отменят деньги. — А как же жить? — Да уж как хотите, — легкомысленно говорит Вздох. — Ну, пойдем, Римма. До свиданья, господа. — Куда же вы? — говорит испуганная хозяйка. — Как же насчет денег? — Не знаю, не знаю! В Госплане спросите. Наобедаетесь тогда на фабрике-кухне. Значит, назавтра я вас жду. Марковы принесут пластиночки — потанцуем, повеселимся. После ухода Вздохов водворяется неприятная тишина. Все с ужасом думают о тех близких временах, когда отменят деньги и придется обедать на фабрике-кухне. Так пируют они по четыре раза в неделю, искренне удивляясь: — Почему с каждым разом ассамблеи становятся все скучнее и скучнее?(Гуго Глазиус, «История Руси»)
1929
Шкуры барабанные
Тревожная весть пронеслась по служебным комнатам обширной конторы, ведающей учетом и распределением «дедушкина кваса». Сотрудники «Дедкваса» скоплялись группами по три и четыре человека, что само по себе уже указывало на крайнее неблагополучие в конторе. — Скатывается! — грустно шептались отдельные сотрудники «Дедкваса». Сползает! — испуганно бормотали в группах. — Скатывается на рельсы делячества! — говорил старый дедквасовец Выводов. — Сползает в болото оппортунизма! — хныкал сотрудник Распопов. — Он нас всех погубит, — откровенно сказала женщина-архивариус. — Я знаю по опыту. Года четыре тому назад был уже у нас прецедент. Начальником конторы служил тогда один партийный товарищ. За ним все держались, как за каменной стеной, а он возьми и разложись. — И что же? — наивно спросил Выводов. — А вы как думаете? — с горечью сказала женщина-архивариус. — Его куда-то бросили. Я уцелела только потому, что была в то время беременна и меня нельзя было уволить по кодексу. Из этого рассказа дедквасовцы быстро уяснили себе участь всех прочих сотрудников, кои не находились в то время в интересном положении. — И затем была чистка с песочком? — спросил Распопов, дрожа всем телом. — С наждаком! — грубо ответила женщина-архивариус, уходя к себе в подвал. Все увидели ее сильно расширенную талию. — Ей хорошо! — молвил Выводов. — Ее и сейчас нельзя будет уволить. Кодекс не допустит. Но что будет с нами? Скатывается наш любимый начальник, сползает, собака. И это нас погубит. Он полетит — и мы полетим. — А у меня жена, у меня кредит на мебель, — сказал Распопов, — долги у меня. И все смолкли в немом отчаянии. Положение дедквасовцев было весьма щекотливым. Время было бурное — любой мог пострадать. Взволновавшую дедквасовцев весть разнес курьер. — Заглядываю я вчера в кабинет, а он, товарищ Избаченков, сидит в креслице, и глаза у него бегают. Ну, думаю, так и есть. Впал и, конечно, в разложение. Я их много видел. Которые в креслице сидят и в глаза не смотрят, те конечно, в разложение впадают. Отборные дедквасовцы, цепко державшиеся за товарища Избаченкова, понимали, что если выставят начальника, то и любимым подчиненным дышать недолго. — Его нужно упредить, — сказал, наконец Распопов. — Повлиять на него. Что за безобразие — заниматься делячеством! Ему что? Перебросят. А нам куда идти? Где мы такую кормушку найдем? — Как на него повлиять? — вопрошал Выводов. — Ведь я политически слабограмотный. Надо спасти его от идеологических шатаний. — Он должен признать свои ошибки, — сказал Распопов, тяжело дыша. — Свои принципиальные ошибки, — поправил его Выводов. И оба они осторожно пробрались в кабинет любимого шефа. Избаченков сидел перед американским шкафом, за стеклами которого церковным золотом мерцали корешки энциклопедического словаря, и работал. У самого его лица блистали полированные черные уши телефонных трубок. — Здравствуйте, товарищ Избаченков, — решительно сказал Выводов. — Как вы себя чувствуете? — Да так себе. Неважно, — ответил шеф. — Присядьте пока. — Ах, товарищ Избаченков, — продолжал Выводов, — я только что видел одного делягу. У него был такой идеологически опустошенный вид, что просто жалко было на него смотреть. Несчастные люди. Избаченков поднял голову. — Вот как, — сказал он. — Интересно! — Да, — хорохорился Выводов, — история безжалостно ломает всех несогласных с нею. — Вы сами подумайте, — подхватил Распопов, — остаться за бортом жизни! Все живут, работают, а ты сидишь где-то в углу со вскрытыми корнями, и всем противно на тебя смотреть. — Да, да, — горячился Выводов, — кошмар! Главное, ты сбит с идеологических позиций. Моральное состояние ужасное. Чувствуешь себя каким-то изгоем. И надо вам сказать всю правду. Вы меня извините, товарищ Избаченков, но нет пророка в своем отечестве, ей-богу, нет пророка. — Зачем же быть пророком? — взмолился Распопов. — Товарищ Избаченков, не будьте пророком! Мы — старые служащие, мы знаем, чем кончаются все эти штуки. — Позвольте, в чем дело? — изумился Избаченков. — Что это вы там бормочете? Кто морально опустошен? Какие такие пророки? Выводов толкнул локтем Распопова и, сильно побледнев, пропел: — Товарищ Избаченков, мы вас очень просим… Мы люди семейные. У Распопова кредит на мебель. На улице мороз. Не губите! Не разлагайтесь под влиянием мещанского окружения… — Ничего не понимаю, — сказал Избаченков. — Ради детей… Берегите свою партийную репутацию. — Почему же партийную? — спросил Избаченков, улыбаясь. — Вы, вероятно, хотели сказать — беспартийную? — Не шутите с огнем! — закричал Выводов. — Вас уже вычистили? Тогда вам нужно немедленно покаяться. — Да меня не вычистили. Я — старый беспартийный. Неужели вы не видели, что меня никогда нет на ячейке? — Мы думали, что вы приписаны к другому предприятию, — закричал Распопов, почуяв совершенно новую ситуацию. — Это меняет дело! А старый Выводов, трясясь от счастливого смеха, подошел к беспартийному начальнику и прошептал: — В таком случае я вам расскажу такой анекдот про одного еврея — сдохнете! Гроза, нависшая над «Дедквасом», миновала.1930
Каприз артиста
Однажды, проснувшись рано утром, товарищ Сорокин-Белобокий понял, что весна вступила в свои права. По небу катились сдобные облака. Пели птицы. «Мы, — подумал Сорокин-Белобокин, — молодой весны гонцы». Он почувствовал, что этот день прекраснее прочих и что его необходимо как-нибудь отметить. Обычно Сорокин-Белобокин и летом и зимой носил одну и ту же черную волосатую кепку. Но в этот раз кепка, тяжелая, как подкова, внушала ему отвращение. Число головных уборов в гардеробе товарища Сорокина было невелико — упомянутая кепка и оставшийся после дедушки-артиста новый вороной котелок. И сам черт дернул Белобокина в первый весенний день надеть этот странный и даже неприличный в наши дни головной убор. День был так хорощ что трамвайные пассажиры не кусали друг друга, как обычно, а напротив — обменивались улыбками. И путешествие «гонца весны» к месту службы прошло вполне благополучно, если не считать радостного замечания одного из пассажиров: — Давить надо таких гадов в котелках! Тем не менее товарищ Сорокин-Белобокин умудрился донести к месту службы чашу весенней радости почти не расплескав ее. — Здравствуйте, товарищи! — крикнул Сорокин-Белобокин звонким, майским голосом, входя в секцию брючного кризиса, в коей служил. И странно, сослуживцы, которые обычно отвечали ему бодрыми восклицаниями, как-то замедлили с ответом. — Весна-то какая! — сказал Сорокин. На это также не последовало ответа. Все служащие расширенными глазами смотрели на котелок. — Что случилось? — спросил Сорокин-Белобокин с тревогой в голосе. — Почему вы все молчите? И тут он увидел на стене плакат о чистке, на котором с волнующей краткостью было написано:ВОН ИЗ АППАРАТА героев 20-го числа головотяпов и головотяпок
— Как? Разве уже началось? — пробормотал Сорокин и, притихший, уселся за стол. Поводив несколько минут карандашом по бумаге, он не выдержал и обратился к деловоду Носкевичу: — Прямо умора какая-то. Открываю я сегодня утром гардероб и вижу — котелок висит, — остался от дедушки-артиста. Что за черт? Отличный венский котелок на белой шелковой подкладке. Я и надел. Ничего плохого тут нет. — Да, — сказал деловод Носкевич, ни к кому не обращаясь, — а был еще и такой случай. Юрисконсульта одного, Пружанского, вычистили по второй. За ревность, за чванство и за бюрократизм. Одним словом, за старый быт. — И правильно, — сказал Сорокин-Белобокин, — за бюрократизм следует гнать. Но при чем тут кода к, товарищи? Если уж на то пошло, то мой дедушка играл главным образом для народа, в садах трезвости. А котелок, что ж, котелок — каприз артиста, веяние эпохи. Не больше. — Каприз артиста! — завизжал Носкевич. — Плакат вы видите — «Вон героев двадцатого числа»? И ведь плакат в нашей комнате повесили недаром. Вот нас восемь человек. Значит, есть среди нас герой двадцатого числа. Кто же этот герой? Я, например, котелков не ношу. — И я не ношу! — быстро сказала девушка Заикина. — Никто из нас не носит! Сорокин-Белобокин обомлел. Вороной котелок лежал на его столе как вещественное доказательство неблагонадежности. — Это же голословное обвинение, — сказал Сорокин-Белобокин плачущим голосом. — Вы все меня знаете. Какой же я герой двадцатого числа? Тем более что и жалованье мы получаем первого и пятнадцатого. — Чужая душа — потемки! угрожающе сказал Носкевич. — Ходят тут всякие в котелках. Сорокин-Белобокин не выдержал и, схватив котелок, кинулся в местком. — Вот котелок, — крикнул он, — возьмите в культфонд! Может, для Драмкружка пригодится. Котелок взяли. Домой товарищ Сорокин-Белобокин шел без шапки. он счастливо улыбался.
1930
Пошлый объектив
Журналист Иван Кишечников, сотрудник многих журналов и газет, где он обычно подписывался псевдонимами «Марк Тираспольский» или «Андрей Пасмурный», всю жизнь мечтал о фотоаппарате. Рассматривая иллюстрированные журналы. Кишечников думал: — Ах, до чего ж хорошо показывать жизнь, как она есть! Фиксировать бытовые моменты! Отображать факты! Как, должно быть, интересно покачивать в ванночке пластинку, на которой постепенно выявляется лицо современности!.. И очень хотелось Ивану Кишечникову и живущим душа в душу с ним Марку Тираспольскому или Андрею Пасмурному купить фотоаппарат. Но очень долго Кишечникову не удавалось осуществить свою заветную мечту, то есть отображать, фиксировать и показывать жизнь, как она есть. То надо было ехать в Батум отдыхать, то жена требовала денег на покупку лимитрофных чулок. А жизнь блистала многообразием, какое, по мнению журналиста, безусловно надо было бы зафиксировать. — Смотри, — говорил Ивану Кишечникову Марк Тираспольский. — Видишь? Вот идут пионеры. Как громко зовет этот барабан к борьбе. Хорошо бы заснять эту бодрую жанровую картинку. — Хорошо бы! — поддерживал Андрей Пасмурный. — А еще хорошо бы сфотографировать какой-нибудь производственный процесс или индустриальный мотив. И фотогенично, и воспитательно. А главное, какие это будут прекрасные иллюстрации к моим очеркам и зарисовкам заводских будней. И солнце, верный друг фотографов, улыбалось Ивану Кишечникову. И великий день настал. Шатаясь от волнения. Кишечников вынес из магазина случайных вещей аппарат «бебе», наделенный отличнейшими данными. — Светосила 4,5! — шептал Кишечников, прижимая к вздымающейся груди свое чудо оптики. — Затвор «компур»! Тессар! Компур-р! Отображать! Фиксировать! Придя домой. Кишечников грубо схватил жену за руку, посадил ее на диван и заснял подругу своей жизни на фоне кавказского ковра. Проделал он эту операцию 12 раз — по числу купленных кассет. Потом он быстро сбегал в ванную комнату, снова зарядил кассеты и избрал жертвой единственного своего ребенка — трехмесячного Афанасия Кишечникова. Утомив младенца Фасю, Кишечников-Тираспольский погрузил квартиру во мрак и долго пыхтел над ванночкой. Результаты фотоработы вполне его удовлетворили. Кишечникову приятно было видеть хотя и несколько искаженные, но все же родные лица. Ранним утром деятельный журналист, мечтавший о засъемке индустриальных мотивов, подкрался к люльке безмятежно почивавшего Афанасия, вытащил его во двор и заснял снова 12 раз, по числу кассет. Посиневшего младенца с трудом вырвали из цепких рук Ивана. — Лучше сними меня, — говорила жена. Кишечникову только этого и нужно было. Жена сидела в кресле, покачивая ножкой в лимитрофном чулке, а Кишечников щелкал. По числу кассет. Снимал жену и на другой день. Снимал и на третий. Прошло полгода. Иван Кишечников уже бодро управлял аппаратом, бойко говорил о проработке негативов и пускался в длительные беседы о преимуществах затвора «компур» перед прочими затворами, но снимал по-прежнему жену и ребенка. Зачастую он разнообразил свои занятия фотографированием друзей и близких родственников. Иногда Марк Тираспольский шептал Ивану Кишечникову: — Где же индустриальные мотивы? Где фиксирование производственных процессов, которое блестяще помогло бы очеркам и зарисовкам заводских будней? — Где, — со слезами в голосе поддерживал его Андрей Пасмурный, — где жизнь, как она есть?1930
Довесок к букве «щ»
Во вкусовом комбинате «Щи да каша» никто так ничего и не узнал о замечательном событии, происшедшем в стенах этого почтенного пищевого учреждения. Глава «Щей да каши» товарищ Аматорский, оказавшийся виновником происшедшего, засекретил все до последней степени. Не быть ему, Аматорскому, главою учреждения, если какой-нибудь злой контрольный орган пронюхает о совершившемся. У Аматорского были самые благие намерения. Хотелось ему одним взмахом определить способности своих подчиненных, выделить способных и оттеснить на низшие ступени служебной лестницы глупых и нерадивых. Но как в массе служащих отыщешь способных? Все сидят, все пишут, все в мышиных толстовках. Однажды, прогуливаясь в летнем саду «Террариум», товарищ Аматорский остановился у столика, где под табличкой «Разоблачитель чудес и суеверий, графолог И. М. Кошкин-Эриванский» сидел волосатый молодой человек в очках с сиреневыми стеклами и определял способности граждан по почерку. Помедлив некоторое время, товарищ Аматорский своим нормальным почерком написал на клочке бумаги: «Тов. Кошк. — Эриванскому. На заключение». Когда графолог получил эту бумажку, глаза его под сиреневыми стеклами засверкали. Определить характер Аматорского оказалось пустяковым делом. Через пять минут глава «Щей и каши» читал о себе такие строки: «Вы, несомненно, заведуете отделом, а вернее всего, являетесь главою большого учреждения. Особенности вашего почерка позволяют заключить, что вы обладаете блестящими организаторскими способностями и ведете ваше учреждение по пути процветания. Вам предстоит огромная будущность». — Ведь до чего верно написано! — прошептал товарищ Аматорский. — Какое тонкое знание людей! Насквозь проницает, собака. Вот кто мне нужен. Вот кто поможет мне определить способности щи-да-кашинцев! И Аматорский пригласил И. М. Кошкина-Эриванского к себе в учреждение, где задал ему работу. Кошкин должен был определить по почерку служащих, кто к чему способен. Расходы (по полтиннику за характеристику) были отнесены за счет ассигнований на рационализацию. Три дня и три ночи корпел И. М. Кошкин-Эриванский над почерками ничего не подозревавших служащих. И, совершив этот грандиозный труд, он открыл перед товарищем Аматорским книгу судеб. Все раскрылось перед начальником ЩДК. Добрый Кошкин-Эриванский никого не «закопал». Большинство служащих, по определению разоблачителя чудес и суеверий, были людьми хотя и средних способностей, но трудолюбивыми и положительными. Лишь некоторые внушали опасение («Способности к живописи», «Наклонность к стихам», «Будущность полководцев»). И один лишь самый мелкий служащий — Кипяткевич получил триумфальный отзыв. По мнению Эриванского, это был выдающийся человек. «Трудно даже представить себе, — писал Кошкин каллиграфическим почерком, — каких вершин может достигнуть данный субъект. Острый, проницательный ум, ум чисто административный характеризует этого индивидуума. Оригинальный наклон букв свидетельствует о бескорыстии. Довесок к букве «щ» говорит о необыкновенной работоспособности, а завиток, сопровождающий букву «в», — о воле к победе. Нельзя не ждать от этого индивидуума крупных шагов по службе». Когда Кошкин-Эриванский покидал гостеприимное ЩДК, на лестнице его догнал Кипяткевич и спросил: — Ну как? — Такое написал, — ответил Кошкин, — что пальчики оближешь. Кипяткевич вынул кошелек и честно выдал разоблачителю чудес и суеверий обусловленные пять рублей. Немедленно вслед за этим Кипяткевича позвали в кабинет самого Аматорского. Кипяткевич бежал в кабинет весело, справедливо ожидая отличия, повышения и награды. Из кабинета он вышел, шатаясь. Аматорский почему-то распек его и пообещал уволить, если он не исправится. Прочтя о гениальном индивидууме с необыкновенным довеском к букве «щ», Аматорский очень обрадовался. Наконец-то он сыскал змею, которая таилась в недрах учреждения и могла когда-нибудь занять его место. «Теперь, — сказал он самому себе, — и в отпуск можно ехать спокойно. Прищемил гада!»1930
На волосок от смерти
Теперь как-то не принято работать в одиночку. Многие наконец поняли, что ум — хорошо, а два все-таки лучше. Поэтому, когда редакции серьезного трехдекадника «Кустарь-невропатолог» понадобился художественный очерк о психиатрической больнице, то послали туда не одного журналиста, а сразу двух — Присягина и Девочкина. Поочередно поглядывая на беспокойного Присягина и на круглое, глобусное брюхо Девочкина, секретарь «Невро-кустаря» предупреждал: — Имейте в виду, что это не предприятие какое-нибудь, где вы можете безнаказанно всем надоедать. В больнице имени Титанушкина нужно держаться очень осторожно. Больные, сами понимаете, люди немного нервные, просто сумасшедшие. Среди них много буйных, и раздражаются они очень легко. Не противоречьте им, и все пройдет благополучно. Сговорившись с секретарем относительно пределов художественности очерка, Девочкин и Присягин немедленно отправились выполнять задание. На круглой, как тарелка, окраинной площади чета очеркистов справилась у милиционера о дальнейшем пути. — Прямо, — сказал милиционер, — и налево, в переулок. Там только два больших серых здания. В одном психиатрическая, а в другом учреждение «Силостан». Там спросите. — Мне страшно, — признался Присягин, когда друзья подходили к серым воротам. — Вдруг они на нас нападут! — Не нападут, — рассудительно ответил Девочкин. — Ты только не приставай к ним насчет душевных переживаний. Я уже бывал в сумасшедших домах. Ничего страшного, тем более что теперь режим в таких больницах совсем свободный. Сумасшедшим предоставлено право заниматься любимым делом. Я буду тебе все объяснять. В это время на каменное крылечко ближайшего серого дома с визгом выкатился очень расстроенный гражданин. Шершавым рукавом пиджака он отирал потное лицо. — Скажите, пожалуйста, — спросил Девочкин, — это сумасшедший дом? — Что? — закричал гражданин. — Вот это? Конечно, сумасшедший дом. И, размахивая портфелем, гражданин умчался, что-то каркая себе под нос. Друзья, бессмысленно покашливая, вступили на цементные плиты вестибюля. Швейцар в глупой фуражке с золотым околышем степенно говорил какой-то женщине с подносом, по-видимому сиделке: — Новый-то — буен! Как начал сегодня с девяти утра бушевать, так никакого с ним сладу нет. Одно слово — псих. Патрикеев уже к нему и так и этак — и ничего. Уперся на своем. «Всех, говорит, повыгоняю. Начальник я или не начальник?» — Чай я ему носила, — грустно сказала сиделка, — не пьет. Все пишет. Каракули свои выводит. — Наверно, опасный экземпляр, — шепнул Присягину опытный Девочкин. — Может, вернемся? — трусливо пробормотал Присягин. Девочкин с презрением посмотрел на коллегу и обратился к швейцару: — У кого можно получить пропуск для осмотра заведения? — Какой пропуск? — строго сказал золотой околыш. — У нас вход свободный. — Как видишь, — разглагольствовал Девочкин, когда друзья поднимались по лестнице, — совершенно новая система лечения. Ничто внешне не напоминает сумасшедший дом. Вход свободный. Врачи не носят халатов. И даже больные без халатов. Халат угнетает больного, вызывает у него депрессию. В первой же комнате очеркисты увидели пожилого сумасшедшего. Он сидел за большим столом и бешено щелкал на окованных медью счетах. При этом он напевал на какой-то церковный мотив странные слова: «Аванс мы удержим, удержим, удержим». — Этого лучше не трогать, — сказал осторожный Присягин. — Стукнет счетами по башке, а потом ищи с него. — Ты трус, Вася, — отвечал Девочкин. — Он совсем не буйный. Иначе ему не дали бы счетов. Просто шизофреник. Но, увидев, что в этой же комнате урна для окурков прикована цепью к стене, сам побледнел и далеко обошел больного. — Черт их знает! Может, они лупцуют друг друга урнами. — Очень свободно. Оттого урна и прикована. Толкаясь в дверях, друзья быстро вывалились из комнаты в длинный коридор. Там сумасшедшие прогуливались парочками, жуя большие бутерброды. — Это, кажется, тихие, — облегченно сказал Присягин. — Давай послушаем, что они говорят. — Вряд ли это что-нибудь интересное, — авторитетно молвил Девочкин. — Какое-нибудь расстройство пяточного нерва или ерундовая психостения. Однако когда до уха Девочкина долетело: «Он из меня все жилы вытянул», то очеркист насторожился и стал внимательно прислушиваться. — Все жилы, — сказал один больной другому. — Он ко мне придирается. Хочет сжить со свету. А почему — неизвестно. И такая меня охватывает тоска, так хочется подальше из этого сумасшедшего дома. Куда-нибудь на юг, на южный берег… — Против меня плетутся интриги, — хрипло перебил второй. — Малороссийский хочет меня спихнуть. И каждое утро я слышу, как в коридоре повторяют мою фамилию. Это не зря. Но еще посмотрим, кто кого! Негодяй! — Обрати внимание, — шепнул Девочкин, — типичный бред преследования. — Ужас-то какой! — простонал Присягин. — Знаешь, эта обстановка меня гнетет. — То ли еще будет! — сказал бесстрашный Девочкин. — Войдем в эту палату номер шестнадцать. Там, кажется, сидит только один сумасшедший, и если он на нас набросится, мы сможем его скрутить. В большой палате, под плакатом: «Не задавайте лишних вопросов», сидел человек с бумажными глазами и в длинной синей толстовке, из кармана которой высовывались какие-то никелированные погремушки. — Вам кого? — раздражительно крикнул больной. — Можно у вас узнать… — начал оробевший Девочкин. — Молчи, — шепнул Присягин, вцепившись в руку своего друга. — Разве ты не видишь, что ему нельзя задавать лишних вопросов? — Что же вы молчите? — сказал больной, смягчаясь. — Я вас не укушу. «Это еще не известно, — подумал Девочкин. — Скорее всего, что именно укусишь». — Да кто же вам нужен наконец? — завизжал сумасшедший. — Если вам нужен начканц, то это я — Патрикеев. Я — начальник канцелярии. Ну-с, я вас слушаю. Садитесь, я вам рад. — В-ва-ва-ва! — задребезжал Присягин, оглядываясь на дверь. — Ради бога, не волнуйтесь, — начал Девочкин. — Да, да, вы — начальник канцелярии, прошу вас, успокойтесь. Однако больной раздражался все больше и больше. Багровея, он начал: — Если вы пришли к занятому челове… — Бежим! — крикнул Присягин. Но тут из соседней палаты, на дверях которой висела стеклянная табличка: «М. Ф. Именинский», раздался леденящий душу крик. Раскрылась дверь, и из палаты выбежал новый больной. — Тысячу раз повторял я вам, — кричал он на больного, называвшегося Патрикеевым, — чтобы машину не давали кому попало. Мне ехать, а машины нет! — Бежим! — повторил Присягин, увлекая за собой Девочкина. Их догнал безумный крик: — Мне на дачу, а машины нет! Скатившись по лестнице в вестибюль, очеркисты ошалело присели на скамейку. — Ну и ну! — сказал Присягин, отдуваясь. — Убей меня, во второй раз не пойду в сумасшедший дом. Мы просто были на волосок от смерти. — Я это знал, — ответил храбрый Девочкин. — Но не хотел говорить тебе об этом, не хотел пугать. Часы в вестибюле пробили четыре. И сразу же сверху, как стадо бизонов, ринулись больные с портфелями. Сбивая друг друга с ног, они побежали к вешалке. Девочкин и Присягин в страхе прижались к стене. Когда больные выбежали на улицу, Девочкин перевел дух и сказал: — На прогулку пошли. Прекрасная постановка дела. Образцовый порядок. На улице друзья увидели вывеску, на которую они не обратили внимания при входе:СИЛОСТАН ТРЕСТ СИЛОВЫХ АППАРАТОВ
Ввиду того что время было позднее, а очерк о сумасшедшем доме надо было написать сегодня же, друзья честно описали все, что видели, назвав очерк «В мире душевнобольных». Очерк этот был напечатан в «Невро-кустаре» и очень понравился. «Как отрадно, — писал в редакцию видный психиатр Титанушкин, — читать очерк, в котором с такой исчерпывающей полнотой и правильностью описаны нравы и повадки душевнобольных».
1930
Обыкновенный икс
О несправедливости судьбы лучше всех на свете знал Виталий Капитулов. Несмотря на молодые сравнительно годы, Виталий был лысоват. Уже в этом он замечал какое-то несправедливое к себе отношение. — У нас всегда так, — говорил он, горько усмехаясь. — Не умеют у нас беречь людей. Довели культурную единицу до лысины. Живи я спокойно, разве ж у меня была бы лысина? Да я же был бы страшно волосатый! И никто не удивлялся этим словам. Все привыкли к тому, что Виталий вечно жаловался на окружающих. Утром, встав с постели после крепкого десятичасового сна, Виталий говорил жене: — Удивительно, как это у нас не умеют ценить людей, просто не умеют бережно относиться к человеку. Не умеют и не хотят! — Ладно, ладно, — отвечала жена. — И ты такая же, как все. Не даешь мне договорить, развить свою мысль. Вчера Огородниковы до одиннадцати жарили на гармошке и совершенно меня измучили. Ну конечно, пока жив человек, на него никто внимания не обращает. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли! — Не говори так, Виталий, — вздыхала жена. — Не надо. — Умру, умру, — настаивал Капитулов. — И тогда те же Огородниковы будут говорить: «Не уберегли мы Капитулова, замучили мы его своей гармошкой, горе нам!» И ты скажешь: «Не уберегла мужа, горе мне!» Жена плакала и клялась, что убережет. Но Виталий не верил. — Люди — звери, — говорил он, — и ты тоже. Вот сейчас ты уже испугалась ответственности и навязываешь мне на шею свой шарф. А вчера небось не навязывала, не хотела меня уберечь от простуды. Что ж, люди всегда так. Простужусь и умру. Только и всего. В крематории только поймут, что, собственно говоря, произошло, какую силу в печь опускают. Ну, я пошел!.. Да не плачь, пожалуйста, не расстраивай ты мою нервную систему. Рассыпая по сторонам сильные удары, Капитулов взбирался на трамвайную площадку первым. Навалившись тяжелым драповым задом на юную гражданку, успевшую захватить место на скамье, Виталий сухо замечал: — Какая дикость! Средневековье! И таким вот образом меня терзают каждый день. Замечание производило обычный эффект: вагон затихал, и все головы поворачивались к Виталию. — Люди — звери, — продолжал он печально. — Вот так в один прекрасный день выберусь из трамвая и умру. Или даже еще проще — умру прямо в вагоне. Кто я сейчас для вас, граждане? Пассажир. Обыкновенный икс, которого можно заставлять часами стоять в переполненном проходе. Не умеют у нас беречь людей, этот живой материал для выполнения пятилетки в четыре и даже в три с половиной года. А вот когда свалюсь здесь, в проходе, бездыханный, тогда небось полвагона освободят. Ложитесь, мол, гражданин. Найдется тогда место. А сейчас приходится стоять из последних сил. Тут обыкновенно юная гражданка багровела и поспешно вскакивала: — Садитесь, пожалуйста, на мое место. — И сяду, — с достоинством отвечал Капитулов. — Спасибо, мой юный друг. Добившись своего, Капитулов немедленно разворачивал «Известия» и читал похоронные объявления, время от времени крича на весь вагон: — Вот полюбуйтесь! Еще один сгорел на работе. «Местком и администрация с глубокой скорбью извещают о преждевременной смерти…» Не уберегли, не доглядели. Теперь объявлениями не поможешь!.. Прибыв на место службы и грустно поздоровавшись, Капитулов садился и с глубоким вздохом поднимал штору шведского стола. — Что-то Виталий сегодня бледнее обыкновенного, — шептали служащие друг другу, — ведь его беречь надо. — В самом деле, у нас такое хамское отношение к людям, что только диву даешься. — Вчера мне Виталий жаловался. Столько, говорит, работы навалили, что не надеется долго прожить. Ну, я по человечеству, конечно, пожалел. Взял его работу и сам сделал. — Как бы не умер, в самом деле. А то потом неприятностей не оберешься. Скажут, не уберегли, не доглядели. Просто ужас. Капитулов задремал над чистой бухгалтерской книгой. — Тише! — бормотали сослуживцы. — Не надо его беспокоить. Опять он, наверно, всю ночь не спал, соседи гармошкой замучили. Вчера он жаловался. Действительно, люди — типичные звери. К концу служебного дня Виталий смотрел на календарь и с иронией говорил: — У нас всегда так. Где же нам догнать и перегнать при таком отношении к людям? Не умеют у нас беречь человека. Видите, опять пятнадцатое число. Нужно отрываться от дела, бежать в кассу, стоять в очереди за жалованьем, терять силы. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли…1930
Граф Средиземский
Старый граф умирал. Он лежал на узкой грязной кушетке и, вытянув птичью голову, с отвращением смотрел в окно. За окном дрожала маленькая зеленая веточка, похожая на брошь. Во дворе галдели дети. А на заборе противоположного дома бывший граф Средиземский различал намалеванный по трафарету утильсырьевой лозунг: «Отправляясь в гости, собирайте кости». Лозунг этот давно уже был противен Средиземскому, а сейчас даже таил в себе какой-то обидный намек. Бывший граф отвернулся от окна и сердито уставился в потрескавшийся потолок. До чего ж комната Средиземского не была графской! Не висели здесь портреты екатерининских силачей в муаровых камзолах. Не было и обычных круглых татарских щитов. И мебель была тонконогая, не родовитая. И паркет не был натерт, и ничто в нем не отражалось. Перед смертью графу следовало бы подумать о своих предках, среди которых были знаменитые воины, государственные умы и даже посланник при дворе испанском. Следовало также подумать и о боге, потому что граф был человеком верующим и исправно посещал церковь. Но вместо всего этого мысли графа были обращены к вздорным житейским мелочам. — Я умираю в антисанитарных условиях, — бормотал он сварливо. — До сих пор не могли потолка побелить. И, как нарочно, снова вспомнилось обиднейшее происшествие. Когда граф еще не был бывшим и когда все бывшее было настоящим, в 1910 году, он купил себе за шестьсот франков место на кладбище в Ницце. Именно там, под электрической зеленью хотел найти вечный покой граф Средиземский. Еще недавно он послал в Ниццу колкое письмо, в котором отказывался от места на кладбище и требовал деньги обратно. Но кладбищенское управление в вежливой форме отказало. В письме указывалось, что деньги, внесенные за могилу, возвращению не подлежат, но что если тело месье Средиземского при документах, подтверждающих право месье на могильный участок, прибудет в Ниццу, то оно будет действительно погребено на ниццском кладбище. Причем расходы по преданию тела земле, конечно, целиком ложатся на месье. Доходы графа от продажи папирос с лотка были очень невелики, и он сильно надеялся на деньги из Ниццы. Переписка с кладбищенскими властями причинила графу много волнений и разрушительно подействовала на его организм. После гадкого письма, в котором так спокойно трактовались вопросы перевозки графского праха, он совсем ослабел и почти не вставал со своей кушетки. Справедливо не доверяя утешениям районного врача, он готовился к расчету с жизнью. Однако умирать ему не хотелось, как не хотелось мальчику отрываться от игры в мяч для того, чтобы идти делать уроки. У графа на мази было большое склочное дело против трех вузовцев — Шкарлато, Пружанского и Талмудовского, квартировавших этажом выше. Вражда его к молодым людям возникла обычным путем. В домовой стенгазете появилась раскрашенная карикатура, изображавшая графа в отвратительном виде — с высокими ушами и коротеньким туловищем. Под рисунком была стихотворная подпись:В нашем доме номер семь
Комната найдется всем.
Здесь найдешь в один момент
Классово чуждый элемент.
Что вы скажете, узнав,
Что Средиземский — бывший граф?!
ШКАРЛАТО, ПРУЖАНСКИЙ, ТАЛМУДОВСКИЙ
Вечером в переулке стало тепло и темно, как между ладонями. Кушеточные пружины скрипели. Беспокойно умирал граф. Уже неделю тому назад у него был разработан подробный план мести молодым людям. Это был целый арсенал обычных домовых гадостей: жалоба в домоуправление на Шкарлато, Пружанского и Талмудовского с указанием на то, что они разрушают жилище, анонимное письмо в канцелярию вуза за подписью «Друг просвещения», где три студента обвинялись в чубаровщине[14] и содомском грехе, тайное донесение в милицию о том, что в комнате вузовцев ночуют непрописанные подозрительные граждане. Граф был в курсе современных событий. Поэтому в план его было включено еще одно подметное письмо — в университетскую ячейку с туманным намеком на то, что партиец Талмудовский вечно практикует у себя в комнате правый уклон под прикрытием «левой фразы». И все это еще не было приведено в исполнение. Помечала костлявая. Закрывая глаза, граф чувствовал ее присутствие в комнате. Она стояла за пыльным славянским шкафом. В ее руках мистически сверкала коса. Могла получиться скверная штука: граф мог умереть неотмщенным. А между тем оскорбление надо было смыть. Предки Средиземского всевозможные оскорбления смывали обычно кровью. Но залить страну потоками молодой горячей крови Шкарлато, Пружанского и Талмудовского граф не мог. Изменились экономические предпосылки. Пустить же в ход сложную систему доносов было уже некогда, потому что графу оставалось жить, как видно, только несколько часов. Надо было придумать взамен какую-нибудь сильно действующую быструю месть.
Когда студент Талмудовский проходил дворик дома, озаренный жирной греческой луной, его окликнули. Он обернулся. Из окна графской комнаты манила его костлявая рука. — Меня? — спросил студент удивленно. Рука все манила, послышался резкий павлиний голос Средиземского: — Войдите ко мне. Умоляю вас. Это необходимо. Талмудовский приподнял плечи. Через минуту он уже сидел на кушетке в ногах у графа. Маленькая лампочка распространяла в комнате тусклый бронзовый свет. — Товарищ Талмудовский, — сказал граф, — я стою на пороге смерти. Дни мои сочтены. — Ну, кто их считал! — воскликнул добрый Талмудовский. — Вы еще поживете не один отрезок времени. — Не утешайте меня. Своей смертью я искуплю все то зло, которое причинил вам когда-то. — Мне? — Да, сын мой! — простонал Средиземский голосом служителя культа. — Вам. Я великий грешник. Двадцать лет я страдал, не находя в себе силы открыть тайну вашего рождения. Но теперь, умирая, я хочу рассказать вам все. Вы не Талмудовский. — Почему я не Талмудовский? — сказал студент. — Я Талмудовский. — Нет. Вы никак не Талмудовский. Вы — Средиземский, граф Средиземский. Вы мой сын. Можете мне, конечно, не верить, но это чистейшая правда. Перед смертью люди не лгут. Вы мой сын, а я ваш несчастный отец. Приблизьтесь ко мне. Я обниму вас. Но ответного прилива нежности не последовало. Талмудовский вскочил, и с колен его шлепнулся на пол толстый том Плеханова. — Что за ерунда? — крикнул он. — Я Талмудовский! Мои родители тридцать лет живут в Тирасполе. Только на прошлой неделе я получил письмо от моего отца Талмудовского. — Это не ваш отец, — сказал старик спокойно. — Ваш отец здесь, умирает на кушетке. Да. Это было двадцать два года тому назад. Я встретился с вашей матерью в камышах на берегу Днестра. Она была очаровательная женщина, ваша мать. — Что за черт! — восклицал длинноногий Талмудовский, бегая по комнате. — Это просто свинство! — Наш полк, — продолжал мстительный старик, — гвардейский полк его величества короля датского, участвовал тогда в больших маневрах. А я был великий грешник. Меня так и называли Петергофский Дон-Жуан. Я соблазнил вашу мать и обманул Талмудовского, которого вы неправильно считаете своим отцом. — Этого не может быть! — Я понимаю, сын мой, ваше волнение. Оно естественно. Графу теперь, сами знаете, прожить очень трудно. Из партии вас, конечно, вон! Мужайтесь, сын мой! Я предвижу, что вас вычистят также из университета. А в доме про вас будут стихи сочинять, как про меня написали: «Что вы скажете, узнав, что Талмудовский бывший граф?» Но я узнаю в вас, дитя мое, благородное сердце графов Средиземских, благородное, смелое и набожное сердце нашего рода, последним отпрыском коего являетесь вы. Средиземские всегда верили в бога. Вы посещаете церковь, дитя мое? Талмудовский взмахнул рукой и с криком «к чертовой матери!» выскочил из комнаты. Тень его торопливо пробежала по дворику и исчезла в переулке, А сирый граф тихо засмеялся и посмотрел в темный угол, образованный шкафом. Костлявая не казалась ему уже такой страшной. Она дружелюбно помахивала косой и позванивала будильником. На стене снова зажглись фосфорические слова, но слова «Талмудовский» уже не было. Пылали зеленым светом только две фамилии:
ШКАРЛАТО, ПРУЖАНСКИЙ
В это время во дворике раздался веселый голос: — По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там! По моря-ам, морям, морям, морям! То возвращался домой с карнавала на реке веселый комсомолец Пружанский. Его узкие белые брюки сверкали под луной. Он торопился. Дома ждал его маринованный судак в круглой железной коробочке. — Товарищ Пружанский! — позвал граф, с трудом приподняв к окну свою петушиную голову. — А, товарищ Пружанский! — Это ты, Верка? — крикнул комсомолец, задрав голову. — Нет, это я, Средиземский. У меня к вам дело. Зайдите на минуточку. Через пять минут пораженный в самое сердце Пружанский вертелся в комнате, освещенной бронзовым светом. Он так суетился, словно на него напали пчелы. А старый граф, придерживая рукой подбородок, длинный и мягкий, как кошелек, плавно повествовал: — Я был великий грешник, сын мой. В то время я был блестящим офицером гвардейского его величества короля датского полка. Мой полк участвовал тогда в больших маневрах у Витебска. И там я встретил вашу мать. Это была очаровательная женщина, хотя и еврейка. Я буду краток. Она увлеклась мною. А уже через девять месяцев в бедной квартире портного Пружанского зашевелился маленький красный комочек. И этот комочек были вы, Пружанский. — Почему вы думаете, что этот красный комочек был именно я? — слезливо спросил Пружанский. — То есть я хочу спросить, почему вы думаете, что отцом этого красного комочка были именно вы? — Эта святая женщина любила меня, — самодовольно ответил умирающий. — Это была чистая душа, хотя и еврейка. Она рассказала мне, кто настоящий отец ее ребенка. Этот отец — я. И этот сын — вы. Вы мой сын, Яша. Вы не Пружанский. Вы — Средиземский. Вы граф! А я великий грешник, меня даже в полку так и называли — Ораниенбаумский Дон-Жуан. Обнимите меня, молодой граф, последний отпрыск нашего угасающего рода. Пружанский был так ошеломлен, что с размаху обнял старого негодяя. Потом опомнился и с тоской сказал: — Ах, гражданин Средиземский, гражданин Средиземский! Зачем вы не унесли этот секрет с собой в могилу? Что же теперь будет? Старый граф участливо смотрел на своего второго, единственного, сына, кашляя и наставляя: — Бедное благородное сердце! Сколько вам еще придется испытать лишений! Из комсомола, конечно, вон. Да я надеюсь, что вы и сами не останетесь в этой враждебной нашему классу корпорации. Из вуза — вон. Да и зачем вам советский вуз? Графы Средиземские всегда получали образование в лицеях. Обними меня, Яшенька, еще разок! Не видишь разве, что я здесь умираю на кушетке? — Не может этого быть, — отчаянно сказал Пружанский. — Однако это факт, — сухо возразил старик. — Умирающие не врут. — Я не граф, — защищался комсомолец. — Нет, граф. — Это вы граф. — Оба мы графы, — заключил Средиземский. — Бедный сын мой. Предвижу, что про нас напишут стихами: «Что вы скажете, узнав, что Пружанский просто граф?» Пружанский ушел, кренясь набок и бормоча: «Значит, я граф. Ай-ай-ай!» Его огненная фамилия на стене потухла, и страшной могильной надписью висело в комнате только одно слово:
ШКАРЛАТО
Старый граф работал с энергией, удивительной для умирающего. Он залучил к себе беспартийного Шкарлато и признался ему, что он, граф, великий грешник. Явствовало, что студент — последний потомок графов Средиземских и, следовательно, сам граф. — Это было в Тифлисе, — усталым уже голосом плел Средиземский. — Я был тогда гвардейским офицером… Шкарлато выбежал на улицу, шатаясь от радости. В ушах его стоял звон, и студенту казалось, что за ним по тротуару волочится и гремит белая сабля. — Так им и надо, — захрипел граф. — Пусть не пишут стихов. Последняя фамилия исчезла со стены. В комнату влетел свежий пароходный ветер. Из-за славянского шкафа вышла костлявая. Средиземский завизжал. Смерть рубанула его косой, и граф умер со счастливой улыбкой на синих губах.
В эту ночь все три студента не ночевали дома. Они бродили по фиолетовым улицам в разных концах города, пугая своим видом ночных извозчиков. Их волновали разнообразные чувства. В третьем часу утра Талмудовский сидел на гранитном борту тротуара и шептал: — Я не имею морального права скрыть свое происхождение от ячейки. Я должен пойти и заявить. А что скажут Пружанский и Шкарлато? Может, они даже не захотят жить со мной в одной комнате. В особенности Пружанский. Он парень горячий. Руки, наверно, даже не подаст. В это время Пружанский в перепачканных белых брюках кружил вокруг памятника Пушкину и горячо убеждал себя: — В конце концов я не виноват. Я жертва любовной авантюры представителя царского, насквозь пропитанного режима. Я не хочу быть графом. Рассказать невозможно, Талмудовский со мной просто разговаривать не станет. Интересно, как поступил бы на моем месте Энгельс? Я погиб. Надо скрыть. Иначе невозможно. Ай-ей-ей! А что скажет Шкарлато? Втерся, скажет, примазался. Он хоть и беспартийный, но страшный активист. Ах, что он скажет, узнав, что я, Пружанский, бывший граф! Скрыть, скрыть! Тем временем активист Шкарлато, все еще оглушаемый звоном невидимого палаша, проходил улицы стрелковым шагом, время от времени молодецки вскрикивая: — Жаль, что наследства не оставил. Чудо-богатырь. Отец говорил, что у него имение в Черниговской губернии. Хи, не вовремя я родился! Там теперь, наверно, совхоз. Эх, марш вперед, труба зовет, черные гусары! Интересно, выпил бы я бутылку рома, сидя на оконном карнизе? Надо будет попробовать! А ведь ничего нельзя рассказать. Талмудовский и Пружанский могут из зависти мне напортить. А хорошо бы жениться на графине! Утром входишь в будуар… Первым прибежал домой Пружанский. Дрожа всем телом, он залег в постель и кренделем свернулся под малиновым одеялом. Только он начал согреваться, как дверь раскрылась, и вошел Талмудовский, лицо которого имело темный, наждачный цвет. — Слушай, Яшка, — сказал он строго. — Что бы ты сделал, если бы один из нас троих оказался сыном графа? Пружанский слабо вскрикнул. «Вот оно, — подумал он, — начинается». — Что бы ты все-таки сделал? — решительно настаивал Талмудовский. — Что за глупости? — совсем оробев, сказал Пружанский. — Какие из нас графы! — А все-таки? Что б ты сделал? — Лично я? — Да, ты лично. — Лично я порвал бы с ним всякие отношения! — И разговаривать не стал бы? — со стоном воскликнул Талмудовский. — Нет, не стал бы. Ни за что! Но к чему этот глупый разговор? — Это не глупый разговор, — мрачно сказал Талмудовский. — От этого вся жизнь зависит. «Погиб, погиб», — подумал Пружанский, прыгая под одеялом, как мышь. «Конечно, со мной никто не будет разговаривать, — думал Талмудовский. — Пружанский совершенно прав». И он тяжело свалился на круглое, бисквитное сиденье венского стула. Комсомолец совсем исчез в волнах одеяла. Наступило длительное, нехорошее молчание. В передней раздались молодцеватые шаги, и в комнату вошел Шкарлато. Долго и презрительно он оглядывал комнату. — Воняет, — сказал он высокомерно. — Совсем как в ночлежном доме. Не понимаю, как вы можете здесь жить. Аристократу здесь положительно невозможно. Эти слова нанесли обоим студентам страшный удар. Им показалось, что в комнату вплыла шаровидная молния и, покачиваясь в воздухе, выбирает себе жертву. — Хорошо быть владельцем имения, — неопределенно сказал Шкарлато, вызывающе поглядывая на товарищей. — Загнать его и жить на проценты в Париже. Кататься на велосипеде. Верно, Талмудовский? Как ты думаешь, Пружанский? — Довольно! — крикнул Талмудовский. — Скажи, Шкарлато, как поступил бы ты, если бы обнаружилось, что один из нас тайный граф? Тут испугался и Шкарлато. На лице его показался апельсиновый пот. — Что ж, ребятки, — забормотал он. — В конце концов нет ничего особенно страшного. Вдруг вы узнаете, что я граф. Немножко, конечно, неприятно… но… — Ну, а если бы я? — воскликнул Талмудовский. — Что ты? — Да вот… оказался графом. — Ты, графом? Это меня смешит. — Так вот я граф… — отчаянно сказал член партии. — Граф Талмудовский? — Я не Талмудовский, — сказал студент. — Я Средиземский. Я в этом совершенно не виноват, но это факт. — Это ложь! — закричал Шкарлато. — Средиземский — я. Два графа ошеломленно меряли друг друга взглядами. Из угла комнаты послышался протяжный стон. Это не выдержал муки ожидания, выплывая из-под одеяла, третий граф. — Я ж не виноват! — кричал он. — Разве я хотел быть графским сынком? Любовный эксцесс представителя насквозь прогнившего… Через пятнадцать минут студенты сидели на твердом, как пробка, матраце Пружанского и обменивались опытом кратковременного графства. — А про полчок его величества короля датского он говорил? — Говорил. — И мне тоже говорил. А тебе, Пружанский? — Конечно. Он сказал еще, что моя мать была чистая душа, хотя и еврейка. — Вот старый негодяй! Про мою мать он тоже сообщил, что она чистая душа, хотя и гречанка. — А обнимать просил? — Просил. — А ты обнимал? — Нет. А ты? — Я обнимал. — Ну и дурак! На другой день студенты увидели из окна, как вынесли, в переулок желтый гроб, в котором покоилось все, что осталось земного от мстительного графа. Посеребренная одноконная площадка загремела по мостовой. Закачался на голове смирной лошади генеральский белый султан. Две старухи с суровыми глазами побежали за уносящимся гробом. Мир избавился от великого склочника.
<1929/1931>
Халатное отношение к желудку
На берегу реки N живописно раскинулся город N. Впрочем, не будем делать загадочного лица… Скажем прямо. На берегу реки Волги живописно раскинулся город Ярославль. Но это еще полбеды. Дело в том, что на одной из его улиц живописно раскинулась кооперативная столовая, вывесившая на стене большой плакат:ПИЩА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Конечно, принципиальных возражений против этой концепции быть не может. Даже сам Маркс не смог бы привести никаких доводов против такой железной установки. Между тем отдельные ярославцы, побывавшие в этой столовой, с сумасшедшим упорством настаивают на том, что пища ведет к прекращению жизни человека. Тут, как видно, все дело в том, какая пища… Именно этого недоучел ярославский коопзаведующий, который уделил слишком много внимания идейно-теоретическому обоснованию своей должности, позабыв о чисто практических ее задачах. Забыл он о том, что обед должен быть съедобным. Иной начстоловой, человек в теле и с философским уклоном, никогда не забудет вывесить анонс: «Перед едой обязательно мой руки», забывая в то же время поставить в столовой рукомойник. Где ему помнить о скучных мелочах! Он человек возвышенных мыслей и широкого кругозора. Как это ни удивительно, но такие люди большей частью командуют большими рабочими столовыми, фабриками-кухнями и сверхмощными пищевыми комбинатами. Они никогда не говорят «еда» или «кушанье». Они говорят «питание». Не «накормить посетителя», а «охватить едока». Блюда у них не «порционные», а«учебно-показательные». Но все-таки основной своей задачей они ставят обеспечение столовой достаточным количеством плакатов и таблиц. И перед глазами охваченного ужасом едока появляются строгие увещевания в стихах и прозе.
ВВОДИ В ОРГАНИЗМ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ И РАЗНЫЕ ЗАКУСКИ
НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ РАЗГОВОРОМ, ЭТО МЕШАЕТ ПРАВИЛЬНОМУ ВЫДЕЛЕНИЮ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА
ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ СУЛЯТ НАМ УГЛЕВОДЫ
ПРОСЯТ О СКАТЕРТИ РУКИ НЕ ВЫТИРАТЬ
А скатертей и вовсе нет. Столы накрыты липкой нечистой клеенкой. Ножи и вилки прикованы цепями к ножке стола (чтоб не украли). И при взгляде на заповедь о желудочном соке не только не хочется вводить в организм горячую пищу и разные закуски, но совершенно наоборот. Что же касается слова «углевод», то хотя всем известно, что углевод нужен для продления жизни, но почему-то по ассоциации вспоминается водопровод, а вслед за ним и канализация. Так что фруктовую воду тоже не хочется вводить в организм. Хочется поскорее уйти, выбраться на свежий воздух, посмотреть на солнце, которое еще не успели снабдить надписью:
ГЛЯДЯ НА СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, НЕ ЗАБУДЬ ПРОИЗВЕСТИ АНАЛИЗ МОЧИ
В обеденные часы заведующий-мыслитель сочиняет отчетный доклад, в коем точно указано, сколько калорий содержал поданный потребителям суп рыбный, сколько витаминов «А» пришлось на одну едоцкую единицу и в какой связи находятся все эти цифровые данные с такими же данными за первый квартал прошлого бюджетного года. А в это время сама едоцкая единица глядит на еле теплую котлету и отчаянно тоскует: — Почему эти калории такие невкусные! И витамины какие-то неудобоваримые! О многом размышляет едоцкая единица и подводит печальный итог: — Почему такое халатное отношение к желудку? Почему костюм принято шить по росту? Почему ботинки изготовляются разных размеров, от мальчиковых до дедушковых? Даже воротнички — и те выделываются в зависимости от толщины потребительской шеи! А еда единообразна и явно рассчитана на какой-то отвлеченный, обезличенный желудок. Хотелось бы подчеркнуть фундаментальность жалоб на обезличенное меню. Судя по тому, как часто люди едят, можно смело, не боясь впасть в ошибку, заключить, что они придают вопросам принятия пищи большое значение. Едят везде. Едят дома, на улице, на работе, в театре, в кино, едят на стадионах и пароходах, в вагонах и на вокзалах, помаленьку стали есть даже в воздухе. До сих пор в воздухе не ели, не было подходящего помещения, но теперь, с выпуском сорокаместного гиганта, где будет буфет, начнут питаться и на высоте трех тысяч метров над уровнем моря. Говоря кратко, человек ест, где только возможно, подсознательно чуя, что прав ярославский заведующий, что пища действительно источник жизни человека. Таким образом, мы опять возвращаемся к проклятому вопросу, каким же должен быть этот источник? Эта задача имеет лишь одно решение. Пища не должна быть только механическим сцеплением калорий, витаминов, крахмалов и щелочей. Она обязательно должна быть вкусной, горячей или холодной, если ее принято вводить в организм именно в таком виде. Но в кино и театрах, в кафе и учрежденческих буфетах ситро подается по возможности горячим, а чай соответственно холодным. На вокзалах дело обстоит еще строже. Там не боятся того, что потребитель начнет жаловаться. Он обычно торопится на поезд и ввиду этого пуглив, как овца. И вот ему подсовывают все, что попадается под руку. Чай пассажиру дают без блюдечка, и он уносит его к своему столику, обжигая пальцы и жалобно подвывая. Впрочем, чаю он так и не пьет. Его горло сжимает тоска. Полными слез глазами он смотрит на жену. Она стоит за дверью перед двумя контролерами и посылает мужу прощальные взгляды. По железнодорожным правилам в буфет пускают только пассажиров дальнего следования по предъявлении ими билетов или плацкарт. Провожающих не пускают. И стоит жена у входа, глотая слезы, большие, как аптекарские пилюли. Это жестоко. Но там, где дело касается вопросов принятия пищи внутрь, там и без того злой чиновник превращается в барса. Как-то незаметно выработалось не писанное и никакими общественными или хозяйственными организациями не утвержденное правило, по которому обыкновенная вывеска, висящая над нарпитовским предприятием, играет неожиданно решающую роль. Если на вывеске написано «Ресторан», то обязательно в помещении чисто, есть скатерти, салфетки, солонки и цветы, перевязанные лентами из розовых стружек. Там есть выбор из пяти-шести блюд, обращение корректное, на стене висят приглашения: «Требуйте горячие пирожки» или «Перед едой мойте руки — первая дверь направо». Кроме того, на эстраде, среди взъерошенных пальм, большой симфонический ансамбль из трех человек играет «Турецкий марш» Моцарта. Если же на вывеске написано «Столовая», то в помещении не чисто, высоко под потолком горит слабая электрическая лампочка, меню состоит из двух блюд, рассчитанных все на тот же отвлеченный, обезличенный желудок, в каждом посетителе видят жулика, и деньги с оскорбительной настойчивостью требуют вперед. На стенах висят раскрашенные картинки с изображениями детских глистов и трахомных глаз. Летают большие мясные мухи. Оркестра нет — музыку здесь считают выпадом против общественности. И можно не сомневаться, что заведующий здесь занимается главным образом философским обоснованием своей работы, совершенно позабыв о кооперативной заповеди, по которой пища все же источник жизни человека.
1931
Горю — и не сгораю
Спокойно и величаво жила в своей квартире стандартная дореволюционная бабушка. Дверь квартиры была обита войлоком и блестящей зеленой клеенкой. Была на двери еще большая гербовая бляха с надписью: «Горю — и не сгораю». Застраховано от огня в об-ве «Саламандра». Больше всего в жизни бабушка боялась, что ее мебель сгорит. Бабушка уважала свою мебель. Здесь царил буфет, огромный дубовый буфет с зеркальными иллюминаторами, с остроконечными шпилями-башенками, нишами, с барельефными изображениями битой дичи, виноградных гроздьев и лилий. Цоколь буфета был рассчитан на такую неимоверную тяжесть, что на нем без опасения можно было бы установить конный памятник какому-нибудь Скобелеву. Буфет походил на военный собор, какие обычно строили при кадетских корпусах и юнкерских училищах, и был разукрашен цветными пупырчатыми стеклами. Грандиозен был буфет, и тем не менее его полки и ящики были так малы, что вмещали только чайный сервиз. Остальная посуда стояла на буфетной крыше, за шпилями и башенками, и покрывалась пылью. На большом столе лежала парадная бархатная скатерть с бомбошками по углам. Вообще у бабушки все было с бомбошками. Драпри с бомбошками, гардины с бомбошками, пуфы с бомбошками. Эти разноцветные плюшевые шарики приводили котов в ярость. Они постоянно их подстерегали, хватали когтями и раскачивали. Стол был так же величествен и бесполезен, как буфет. За него никак нельзя было сесть. Коленки постоянно сталкивались с какими-то острыми дубовыми украшениями, и смельчак, пытавшийся было использовать стол по его прямому назначению, тотчас же отскакивал от него, яростно растирая ладонью ушибленное место. Был еще стол — малый, бамбуковый — зыбкое сооружение, предназначенное для семейного альбома с толстой плюшевой крышкой и медными застежками величиной в складские засовы. Но достаточно было сдвинуть альбом хотя бы на миллиметр вправо или влево от геометрического центра, как равновесие нарушалось, и столик валился на атласную козетку. Бабушке очень нравилась козетка, нравилась главным образом красотой форм, так сказать гармоничностью линий. Странная это была штука! Для лежания она не годилась — была слишком коротка. Не годилась она и для сидения. Сидеть мешали главным образом гармоничность линий и красота форм. Мастер предназначил ее для полулежания, совершенно не учтя, что такое небрежно-аристократическое положение тела допустимо только в великосветских романах и в жизни не встречается. Так что на козетке обычно лежала кошка, да и то только в те редкие минуты, когда бомбошки не раскачивались. Повсюду стояли длинные, вытянутые в высоту, и узкие вазочки для цветов с толстой стеклянной пяткой. Они походили на берцовую кость человека и вмещали только по одному цветку. Цветки были бумажные Висели картинки неизвестных старателей-акварелистов в рамках в виде спасательных кругов, в рамках из ракушек, бамбуковых палочек или из багета с золотыми листочками. На шатких этажерках могли помещаться только фарфоровые слоны, мал-мала меньше. Удивительная это была мебель! Она не только не приносила пользы человеку, но даже ставила его в подчиненное, унизительное положение. В своих резных выступах, углах, барельефах и загогулинах она собирала чертову уйму пыли я паутины. Постоянно надо было за мебелью ухаживать, просить гостей на нее не садиться. Кроме того, ее надо было страховать от огня. Не ровен час — сгорит! — Никогда я не буду жить, как моя бабушка! — восклицал иной внук, больно ударяясь о стол большой или опрокидывая стол малый. — Вырасту — заведу совсем другую мебель, удобную, простую, а эта дрянь— хорошо, если бы сгорела. И она действительно сгорела. Случилось то, чего бабушка боялась больше всего на свете. В восемнадцатом и девятнадцатом и даже в двадцатом году внук обогревался бабушкиной мебелью. С наслаждением отрубал он от стола его львиные лапы и беспечно кидал в «буржуйку». Он особенно хвалил соборный буфет, которого хватило на целую зиму. Все пригодилось: и башенки, и шпили, и разные бекасы, а в особенности многопудовый цоколь. Горели в печке бамбуковые столики, этажерки для семи слонов, кои якобы приносят счастье, дурацкие лаковые полочки, украшенные металлопластикой, и прочая дребедень, которую внук для краткости называл «гаргара» или «бандура». С тех пор ушли годы, внук вырос, сделался сперва молодым, а потом уж и не очень молодым человеком, обзавелся комнатой в новом доме и наконец решил приобрести мебель, о которой мечтал в детстве, — удобную и простую. Он стоял перед огромной мебельной витриной универмага Мосторга, по замыслу заведующего изображавшей, как видно, идеальную домашнюю обстановку благонамеренного советского гражданина. Если бы внук не сжег в свое время бабушкину мебель собственными руками, то подумал бы, что это именно она и стоит за зеркальной стеной магазина. Здесь царил буфет, коренастый буфет, с вырезанными на филёнках декадентскими дамскими ликами, с дрянными замочками и жидкими латунными украшениями. Были на нем, конечно, и иллюминаторы, и ниши, и колонки. А на самом верху, куда человек не смог бы дотянуться, даже став на стул, неизвестно для чего помещалось сухаревское волнистое зеркало. Перпендикулярно буфету стояла кровать, сложное сооружение из толстых металлических труб, весьма затейливо изогнутых, выкрашенных под карельскую березу и увенчанных никелированными бомбошками. (Бабушка была бы очень довольна, — она так любила всякие бомбошки!) Кровать была застлана стеганым одеялом. Одеяло было атласное, розовое, цвета бедра испуганной нимфы. Оно сразу превращало кровать, эту суровую постромку из дефицитного металла, в какое-то ложе наслаждений. Был здесь и диванчик для аристократического полулежания, в чем, несомненно, можно было бы усмотреть особенную заботу о потребителе. Был и адвокатский диван «радость клопа» со множеством удобных щелей и складок, с трясущейся полочкой, на которой лежал томик Карла Маркса (дань времени!), и этажерка на курьих ножках, и стол, под который никак нельзя подсунуть ноги. Была бы жива бабушка, она сейчас же с радостным визгом поселилась бы в этой витрине. Так здесь было хорошо и старорежимно. Все как прежде. Вот только Маркс! Впрочем, Маркса можно заковать в плюшевый переплет с медными засовами и показывать гостям вместо семейного альбома. — А это вот Маркс! Видите! Тут он еще молодой, даже без усов. А вот тут — уже в более зрелых годах. — Смотрите, довольно прилично одевался. А это что за старичок? — Это один его знакомый. Энгельс по фамилии. — Ничего, тоже приличный господин. И текла бы за мосторговской витриной тихая, величавая бабушкина жизнь. С поразительным упорством работает наша мебельная промышленность на ветхозаветную дуру бабушку! На рынок с непостижимой методичностью выбрасывается мебель того нудного, неопределенного, крохоборческого стиля, который можно назвать банковским ампиром, — вещи громоздкие, неудобные и чрезвычайно дорогие. Из существующих в мире тысяч моделей шкафов древтресты облюбовали самую тоскливую, так называемый «славянский шкаф». Заходящие в магазины «советские славяне», а именно: древляне, поляне, кривичи и дреговичи, а также представители нацменьшинств, советские половцы, печенеги, хозары и чудь белоглазая, первым долгом тревожно спрашивают: — Скажите, а других шкафов у вас нету? — Других не работаем, — равнодушно отвечает древтрестовский витязь. — А что, разве плохо? Типа «гей, славяне!» Все равно возьмете. Ведь выбора нету. Выбора действительно нет. Потребитель вынужден уродовать новое жилье безобразной мебелью. Он покупает низкорослые ширмы, которые ничего не заслоняют, но зато ежеминутно падают. Он везет на извозчике гадкий, рассыхающийся уже по дороге комодик с жестяными ручками. Письменные столы изготовляются или только канцелярские, сверхъестественно скучные, или крохотные дамские, больше всего пригодные для маникюрши. Обыкновенных полок для книг достать нельзя. Их не делают. Но зато есть полочки, предназначенные для предметов, которые должны украшать жилье. Вот, кстати, эти предметы искусства:1. Гипсовая статуэтка «Купающаяся трактористка» (при бабушке эта штука называлась «Утренняя нега»). 2. Толстолицый немецкий пастушок, вымазанный линючими красками. Гипс. 3. Кудреватый молодой человек с хулиганской физиономией играет на гармонике. Гипс. 4. Пепельница с фигурками: а) охотник, стреляющий уток; б) бегущая собака; в) лошадиная морда. __________ луженный чугун 5. Чернильный прибор, могучий агрегат, сооруженный из уральского камня, гранитов, хрусталя, меди, никеля и высококачественных сталей. Имеет название: «Мы кузнецы, и дух наш молод». Лучший подарок уезжающему начальнику. Цена — 625 рублей 75 копеек.
И когда слышатся робкие протестующие голоса, начальники древтрестов и командующие статуэтками и чернильными приборами отчаянно вопят: — Вы не знаете потребителя! Вы не знаете условий рынка! Рынок этого требует! А кричат они потому, что привыкли работать на стандартную дореволюционную старуху, законодательницу сухаревских вкусов и мод. И в силу этой пошлейшей инерции новому человеку приходится жить среди свежепостроенных бабушкиных мебелей и украшений.
1932
Здесь нагружают корабль
Когда восходит луна, из зарослей выходят шакалы.Ежедневно собиралось летучее совещание, и ежедневно Самецкий прибегал на него позже всех. Когда он, застенчиво усмехаясь, пробирался к свободному стулу, собравшиеся обычно обсуждали уже третий пункт повестки. Но никто не бросал на опоздавшего негодующих взглядов, никто не сердился на Самецкого. — Он у нас крепкий, — говорили начальники отделов, их заместители и верные секретари. — Крепкий общественник. С летучего совещания Самецкий уходил раньше всех. К дверям он шел на цыпочках. Краги его сияли. На лице выражалась тревога. Его никто не останавливал. Лишь верные секретари шептали своим начальникам: — Самецкий пошел делать стеннуху. Третий день с Ягуар Петровичем в подвале клеят. — Очень, очень крепкий работник, — рассеянно говорили начальники. Между тем Самецкий озабоченно спускался вниз. Здесь он отвоевал комнату, между кухней и месткомом, специально для общественной работы. Для этого пришлось выселить архив, и так как другого свободного помещения не нашли, то архив устроился в коридоре. А работника архива, старика Пчеловзводова, просто уволили, чтоб не путался под ногами. — Ну, как стенновочка? — спрашивал Самецкий, входя в комнату. Ягуар Петрович и две девушки ползали по полу, расклеивая стенгазету, большую, как артиллерийская мишень. — Ничего стеннушка, — сообщал Ягуар Петрович, поднимая бледное отекшее лицо. — Стеннуля что надо, — замечал и Самецкий, полюбовавшись работой. — Теперь мы пойдем, — говорили девушки, — а то нас и так ругают, что мы из-за стенгазеты совсем запустили работу. — Кто это вас ругает? — кипятился Самецкий. — Я рассматриваю это как выпад. Мы их продернем. Мы поднимем вопрос. Через десять минут на третьем этаже слышался голос Самецкого: — Я рассматриваю этот возмутительный факт не как выпад против меня, а как выпад против всей нашей советской общественности и прессы. Что? В служебное время нужно заниматься делом? Ага. Значит, общественная работа, по-вашему, не дело? Товарищи, ну как это можно иначе квалифицировать, как не антиобщественный поступок! Со всех этажей сбегались сотрудники и посетители. Кончалось это тем, что товарищ, совершивший выпад, плачущим голосом заверял всех, что его не поняли, что он вообще не против и что сам всегда готов. Тем не менее справедливый Самецкий в следующем номере стенгазеты помещал карикатуру, где смутьян был изображен в самом гадком виде — с большой головой, собачьим туловищем и надписью, шедшей изо рта: «Гав, гав, гав!» И такая принципиальная непримиримость еще больше укрепляла за Самецким репутацию крепкого работника. Всех, правда, удивляло, что Самецкий уходил домой ровно в четыре. Но он приводил такой довод, с которым нельзя было не согласиться. — Я не железный, товарищи, — говорил он с горькой усмешкой, из которой, впрочем, явствовало, что он все-таки железный, — надо же и Самецкому отдохнуть. Из дома отдыха, где измученный общественник проводил свой отпуск, всегда приходили трогательнейшие открытки: «Как наша стеннушечка? Скучаю без нее мучительно. Повел бы общественную работу здесь, но врачи категорически запретили. Всей душой стремлюсь назад». Но, несмотря на эти благородные порывы души, тело Самецкого регулярно каждый год опаздывало из отпуска на две недели. Зато по возвращении Самецкий с новым жаром вовлекал сотрудников в работу. Теперь не было прохода никому. Самецкий хватал людей чуть ли не за ноги. — Вы слабо нагружены! Вас надо малость подгрузить! Что? У вас партийная нагрузка, учеба и семинар на заводе? Вот, вот! С партийного больше и спрашивается. Пожалуйте, пожалуйте в кружок балалаечников. Его давно надо укрепить, там очень слабая, прослойка. Нагружать сотрудников было самым любимым занятием Самецкого. Есть такая игра. Называется она «нагружать корабль». Играют в нее только в часы отчаянной скуки, когда гостей решительно нечем занять. — Ну, давайте грузить корабль. На какую букву? На «М» мы вчера грузили. Давайте сегодня на «Л», Каждый говорит по очереди, только без остановок. И начинается галиматья. — Грузим корабль лампами, — возглашает хозяин. — Ламбрекенами! — подхватывает первый гость, — Лисицами! — Лилипутами! — Лобзиками! — Локомотивами! — Ликерами! — Лапуасцами! — Лихорадками! — Лоханками! Первые минуты нагрузка корабля идет быстро. Потом выбор слов становится меньше, играющие начина ют тужиться. Дело движется медленнее, а слова вспоминаются совсем дикие. Корабль приходится грузить: — Люмпен-пролетариями! — Лимитрофами! — Лезгинками! — Ладаном! Кто-то пытается загрузить корабль Лифшицами. И на этом игре конец. Возникает дурацкий спор: можно ли грузить корабль собственными именами? Самецкий испытывал трудности подобного же рода. Им были организованы все мыслимые на нашей планете самодеятельные кружки. Помимо обыкновенных, вроде кружка профзнаний, хорового пения или внешней политики, числились еще в отчетах: Кружок по воспитанию советской матери. Кружок по переподготовке советского младенца. Кружок — «Изучим Арктику на практике». Кружок балетных критиков. Достигнув таких общественных высот, Самецкий напрягся и неожиданно сделал еще один шаг к солнцу. Он организовал ночную дежурку под названием: «Скорая помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности. Прием с двенадцати часов ночи до шести часов утра». Диковинная дежурка помещалась в том же подвале, где обычно клеили стенгазету. Здесь дежурили по ночам заметно осунувшиеся, поблекшие девушки и Ягуар Петрович. Ягуар Петрович совсем сошел на нет. Щек у него уже почти не было. В ночной профилакторий никто не приходил. Там было холодно и страшно. Все-таки неугомонный Самецкий сделал попытку нагрузить корабль еще больше. Самецкий изобрел карманную стенгазету, которую ласкательно назвал «Стеннушка-карманушка». — Понимаете, я должен довести газету до каждого сотрудника. Она должна быть величиной в визитную карточку. Она будет роздана всем. Вынул газету из жилетного кармана, прочел, отреагировал и пошел дальше. Представляете себе реагаж!.. Вся трудность заключалась в том, как уместить на крошечном листке бумаги полагающийся материал: и статью о международном положении, и о внутриучрежденской жизни, и карикатуру на одного служащего, который сделал выпад, одним словом — все. Спасти положение мог только главный бухгалтер, обладавший бисерным почерком. Но главный бухгалтер отказался, упирая на то, что он занят составлением годового баланса. — Ну, мы это еще посмотрим, — сказал Самецкий, — я это рассматриваю как выпад. Но здесь выяснилось, что Самецкий перегрузил свой корабль. — Чем он, собственно, занимается? — спросили вдруг на летучем совещании. — Ну, как же! Крепкий общественник. Все знают. — Да, но какую работу он выполняет? — Позвольте, но ведь он организовал этот… ну, ночной колумбарий, скорая помощь, своего рода профсоюзный Склифасовский… И потом вот… переподготовка младенцев. Даже в «Вечерке» отмечали… — А должность, какую он занимает должность? Этого как раз никто не знал. Кинулись к ведомости на зарплату. Там было весьма кратко и неопределенно: «Самецкий — 360 рублей». — Туманно, туманно, — сказал начальник, — ах, как все туманно! Конечно, Склифасовский Склифасовским, но для государства это не подходит. Я платить не буду. И судьба Самецкого решилась. Он перегрузил свой корабль. И корабль пошел ко дну.Стенли. Как я нашел Ливингстона
1932
Мне хочется ехать
Человек внезапно просыпается ночью. Душа его томится. За окном качаются уличные лампы, сотрясая землю, проходит грузовик; за стеной сосед во сне вскрикивает: «Сходите? Сходите? А впереди сходят?» — и опять все тихо, торжественно. Уже человек лежит, раскрыв очи, уже вспоминается ему, что молодость прошла, что за квартиру давно не плачено, что любимые девушки вышли замуж за других, как вдруг он слышит вольный, очень далекий голос паровоза. И такой это голос, что у человека начинает биться сердце. А паровозы ревут, переговариваются, ночь наполняется их криками — и мысли человека переворачиваются. Не кажется ему уже, что молодость ушла безвозвратно. Вся жизнь впереди. Он готов поехать сейчас же, завернувшись в одно только тканьевое одеяло. Поехать куда попало, в Сухиничи, в Севастополь, во Владивосток, в Рузаевку, на Байкал, на озеро Гохчу, в Жмеринку. Сидя на кровати, он улыбается. Он полон решимости, он смел и предприимчив, сейчас ему сам черт не брат. Пассажир — это звучит гордо и необыкновенно! А посмотреть на него месяца через два, когда он трусливой рысью пересекает Каланчевскую площадь, стремясь к Рязанскому вокзалу. Тот ли это гордый орел, которому сам черт не брат! Он до тошноты осторожен. На вокзал пассажир прибегает за два часа до отхода поезда, хотя в мировой практике не было случая, чтобы поезд ушел раньше времени. (Позже — это бывает.) К отъезду он начинает готовиться за три дня. Все это время в доме не обедают, потому что посуду пассажир замуровал в камышовую дорожную корзину. Семья ведет бивуачную жизнь наполеоновских солдат. Везде валяются узлы, обрывки газетной бумаги, веревки. Спит пассажир без подушки, которая тоже упрятана в чемодан-гармонию и заперта на замок. Она будет вынута только в вагоне. На вокзале он ко всем относится с предубеждением. Железнодорожного начальства он боится, а остальной люд подозревает. Он убежден, что кассир дал ему неправильный билет, что носильщик убежит с вещами, что станционные часы врут и что его самого спутают с поездным вором и перед самым отъездом задержат. Вообще он не верит в железную дорогу и до сих пор к ней не привык. Железнодорожные строгости пассажир поругивает, но в душе уважает, и, попав в поезд, сам не прочь навести порядок. Иной раз в вагоне на верхней полке обнаруживается великий паникер. — Почему вы поете? — говорит он, свешивая голову вниз. — В вагоне петь нельзя. Есть такое правило. — Да я не пою. Я напеваю, — оправдывается пассажир. — Напевать тоже нельзя, — отвечает паникер. — И вообще, если хотите знать, то к пению приравнивается даже громкий разговор. Через пять минут снова раздается голос паникера. — Если открыть тормоз Вестингауза, то за это двадцать пять рублей штрафа и, кроме того, показательный суд. — Но ведь я не собираюсь открывать тормоз! — пугается девушка, отворачиваясь от змеиного взгляда паникера. — Не собираетесь, а все-таки убрали бы локоть подальше. Сорвется пломба, тут вам и конец. Да и весь вагон по головке не погладит, такое правило. Этот же голос спустя минуту: — Нет, нет, гражданин, раму спускать нельзя. С завтрашнего дня вступает в силу осеннее расписание. — Но ведь погода замечательная. Двадцать два градуса тепла. — Тепло теплом, а расписание своим порядком. — Позвольте, но ведь вы сами говорите, что новое расписание только завтра начнет действовать! — А мы его сегодня применим. На всякий случай. Закройте, закройте! Не задохнетесь! Через два часа в вагоне говорят уже только шепотом, сидят, выпрямив плечи и сложив руки на коленях. А с верхней полки раздается равномерное ворчанье. — Не курить, не плевать, не собирать в житницы! Есть такое правило! Уборную свыше трех минут не занимать, в тамбурах не стоять, в Девятый вал не играть! Есть такое правило! Но какой реванш берут пассажиры, когда паникер, побежав за кипятком, опаздывает на поезд и гонится за ним, размахивая чайником. Пассажиры радостно опускают рамы и кричат несчастному: — Ходить по шпалам строго воспрещается! Есть такое правило! Но больше всего правил на вокзалах. Правила были придуманы на все случаи жизни, но применялись они как-то странно. Пассажира уговаривали не пить сырой воды, но не предлагали кипяченой. Запрещали сорить на пол, но не указывали, куда бросать мусор. И когда вокзалы превратились в грязные сараи, долго жаловались на пассажиров: — Вот людоеды! Сидят на полу, когда рядом висит правило: «Сидеть на полу строго воспрещается». Положение коренным образом изменилось, когда чудное правило сняли, а вместо него поставили длинные деревянные диваны. И странно — никто уже не сидел на полу, хотя правило исчезло. Все прочие повелительные изречения заменили предметами материальной культуры, и дикий, казалось, пассажир превратился в чистенького кроткого ягненка с розовым галстуком на шее. Удивительное превращение! И теперь ночью, заслыша паровозный гудок и воображая себе блеск и грохот высокого вокзала, видишь не взбудораженные толпы мечущихся по перрону людей, а чинно шествующих людей, которых познакомили наконец с самым важным и нужным правилом:ПЛОХО ОТНОСИТЬСЯ К ПАССАЖИРАМ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ
1932
Секрет производства
Побежденный Оскар («Негр» в Камерном театре)
Тень Оскара Уайльда в глухом сюртуке и высоком, колючем воротничке витала над Камерным театром больше десяти лет. Как появилась тень этого благородного англичанина в день премьеры «Саломеи», так и прижилась. Она своевольно вмешивалась в дела режиссера Таирова, стучалась в уборные актеров и читала им певучие нотации. — Ты как ножку ставишь? Видел, немецкие солдаты маршируют? Так и ходи, как в «Саломее» ходил. И все покорялись придирчивой тени. По лицу режиссера Таирова катились перламутровые слезы. Он хотел освободиться от тени. Но тень была сильнее, и каждая новая постановка была похожа на «Саломею», как походит иной ответственный работник на родителя своего — служителя культа. Катерину из «Грозы» нельзя было отличить от страстной дочери царя Ирода, краснозадые туземцы из «Багрового острова» рычали, как Иоканааны, и где-то за кулисами рыдал Булгаков в насильно напяленном на него глухом уайльдовском сюртуке и остром, как бритва, воротничке, подпирающем склеротические щечки. Но вдруг, воспользовавшись тем, что тень Уайльда вышла на минуту из театра по своей надобности, режиссер Таиров запер двери и не пустил англичанина назад. Освобожденный от докучливой тени, Таиров поставил новую пьесу О'Нейла «Негр». И в первый раз за 10 лет в театре не пахло Уайльдом. Чтобы узнать, стоит ли идти на новую пьесу, нужно обратиться к первому знакомому драматургу. Если он скажет, что пьеса плохая, — значит, пьеса хорошая. Если же он выразится о пьесе одобрительно, то это значит, что пьеса — его собственная или еще хуже. «Негра» знакомый драматург обязательно выругает. — Какая же это пьеса? — скажет драматург, сияя. — Там в первой картине 154 реплики, а у Бомарше в первой картине «Женитьбы Фигаро» — 279. А кто классик? Бомарше! Кстати, в моей пьесе «О чем рычала трансмиссия» в первой картине ровно 279 ре… Достаточно хотя бы бегло взглянуть на четвертую картину «Негра», чтобы убедиться в неправоте автора «О чем рычала». В картине этой есть одна реплика — и какая реплика! Жалкая, она тонет в грохоте аплодисментов. Да и вообще О'Нейл в своей короткой и мужественной пьесе скуп на реплики. Пьеса настолько коротка, что Таирову для услаждения капризных москвичей пришлось выпускать на просцениум плохих тенорков, которые в соответствии со своими не столь голосовыми, сколь носовыми данными, исполняли перед занавесом сладковатые песенки. Но даже и это мероприятие не могло убить пьесу. Режиссер Таиров ввел еще и такое нововведение. Во время сумасшествия героини декорации сдвигаются и раздвигаются, как гармоника. Придумав это, режиссер радовался, как дитя, и все время возвращался к своей игрушке. Публике игрушка тоже понравилась. — Сейчас, сейчас сдвинется! — восклицали прозорливцы. И декорации действительно сдвигались. — А сейчас раздвинется! Ой, раздвинется! — утверждали пророки. И декорации действительно раздвигались. Теперь несколько слов о титулах. В наше время длинные, высокопарные и гремучие титулы сохранились только у деятелей искусства. Нет больше князей и баронов. Но есть князья оперы, герцог драмы и баронессы оперетки. Некоторые знатоки генеалогии из Главискусства утверждают, что князь равен теперь народному артисту республики, граф — заслуженному артисту и так далее. Иногда даже суфлер бывает заслуженным бароном. Тогда он особенно громко подает реплики. В таком аристократическом окружении публика чувствует себя стесненной. Многим просто неловко. Они простые счетоводы, а не заслуженные, они простые монтеры, а не народные монтеры республики. В «Негре» занята была только одна заслуженная артистка — Коонен, да и той аплодировали не за чин, а за хорошую игру.1929
Пташечка из Межрабпомфильма
В городе Бобруйске произошло несчастье. Местный фотограф Альберт написал киносценарий. А так как Альберт был тонким ценителем изящного и по рассказам бобруйских старожилов превосходно знал все детали великосветской жизни, то сценарий вышел полнокровный. Однако Альберт понимал, что в наше суровое время без идеологии — труба. Поэтому, кроме аристократов, в сценарии действовали и лица, совершающие трудовые процессы. Об этом можно было судить уже из одного названия сценария.НАС ТРИ СЕСТРЫ. ОДНА ЗА ГРАФОМ, ДРУГАЯ ГЕРЦОГА ЖЕНА, А Я, ВСЕХ КРАШЕ И МИЛЕЕ, ПРОСТОЙ БЕДНЯЧКОЙ БЫТЬ ДОЛЖНА.
СЦЕНАРИЙ ГАРРИ АЛЬБЕРТА.
Дописав последнюю строку, Альберт запер свое фотографическое заведение на висячий замок, отдал ключи шурину и, запаковав сценарий в корзинку, выехал в Москву. Зная по картинам «Кукла с миллионами» и «Медвежья свадьба», что с постановкой «Нас три сестры, одна за графом, другая герцога жена…» сможет справиться только фабрика Межрабпомфильм, Альберт направился прямо туда. Прождав шесть дней в коридорах, по которым прогуливались молодые люди в развратных шерстяных жилетках и приставских штанах, Альберт попал в литчасть. — Длинное название! — сразу сказал толстый человек с превосходными зубами, принявший у Альберта его рукопись. — Надо сократить. Пусть будет просто «Три сестры». Как вы думаете, Осип Максимович? — Было уже такое название… — сумрачно отозвался Осип Максимович. — Кажется, у Тургенева. Актуальнее будет назвать «Герцога жена». Как вы думаете, Олег Леонидович? Но Олег Леонидович уже читал вслух сценарий Гарри Альберта.
1. Граф Суховейский в белых штанах наслаждается жизнью на приморском бульваре. 2. Батрачка Ганна кует чего-то железного. 3. Крупно. Голые груди кокотки Клеманс. 4. Крупно. Белой акации ветки душистые или какая-нибудь панорама покрасивше. 5. Надпись: «Я всех краше и милее». 6. Кующая Ганна, по лицу которой капают слезы. 7. Граф опрокинул графиню на сундук и начал от нее добиваться.
В середине чтения в литчасть вошел лысый весельчак. — Уже, уже, уже! — закричал он, размахивая короткими руками. — Что уже, Виктор Борисович? — спросили Олег Леонидович с Осипом Максимовичем. — Уже есть у нас точно такая картина, — называется «Веселая канарейка», сам Лев Кулешов снимал. — Вот жалко, — сказал Олег Леонидович. — А сценарий хорош. До свидания, господин Альберт. И автор сценария «Нас три сестры, одна за графом…» с разбитым сердцем уехал на родину. А «Веселая канарейка», как правильно заметил Виктор Борисович, уже шла на терпеливых окраинах всего Союза. Был в Одессе кабак «Веселая канарейка», был он при белых. Тут есть все, что нужно Межрабпомфильму для создания очередного мирового боевика: ресторан для коммерции, а белые для идеологии. (Без идеологии нынче — труба.) В ресторане: Голые ножки — крупно. Бокалы с шампанским — крупно. Джаз-банд (которого, кстати сказать, в то время в Одессе не было) — крупно. Погоны — крупно. Чья-нибудь грудь «покрасивше» — крупно. Монтаж — перечисленное выше. Но были в Одессе также и пролетарии. Однако Межрабпому показывать их в обычном виде скучно. Поэтому режиссер Кулешов пролетариев переодел. Один в революционных целях приобрел облик князя (визитка, лакированные туфли, цилиндр). Другой в тех же целях ходит в виде блестящего казачьего офицера (шпоры, кинжалы, аромат гор, черные усы). Таких пролетариев можно показать и крупно. Действие разворачивается примерно тем же мощным темпом, что и у Гарри Альберта:
1. Отрицательные персонажи наслаждаются жизнью на приморском бульваре. 2. Пролетарии говорят чего-то идеологического. 3. Крупно. Голые груди кокотки. 4. Крупно. Белой акации ветки душистые. 5. Надпись: «Это есть наш последний…» 6. По лицу жены положительного персонажа текут слезы протеста против французского империализма. 7. Кокотка в ванне — крупно. Она же в профиль, сверху, снизу, сбоку, с другого боку. 8. Надпись: «…и решительный…» 9. Чего-то идеологического. Можно копыта лошадей — крупно. 10. Надпись: «…бой»!!! 11. Отрицательный персонаж хочет расстрелять положительного. 12. Князь в визитке и цилиндре спасает его.
После этого на экране показывают фабричную марку Межрабпомфильма — голый рабочий поворачивает маховое колесо. Мы предлагаем эту марку поскорее заменить. Пусть будет так: голая девушка поворачивает колесо благотворительной лотереи. Это по крайней мере будет честно. Это будет без очковтирательства.
1929
Ваша фамилия?. (Мюзик-Холл. Обозрение «С неба свалились» Автор неизвестен)
В большом городе встречаются люди, которые скрывают свою профессию. Это беговые жучки, бильярдные чемпионы, поставщики анекдотов для календарей и старушки, обмывающие покойников. Все они почему-то выдают себя за членов профсоюза нарпит. Одеваются они скромно, и лица у них серенькие. Но среди таких, стыдящихся своей профессии, людей есть прекрасные фигуры. Это еще молодые граждане в котиковых шапочках и розовых кашне. Обедают они в ресторане Союза писателей, а ужинают в артистическом кружке. Они точно знают, с кем и как живет администратор Принципиального театра, скоро ли дадут «заслуженного» резонеру Небесову, а также куда и на каких условиях «покончил» конферансье Саша Бибергал. Это мародеры, следующие по пятам наступающей или отступающей театральной армии. Это сочинители диких романсов, в которых клеймятся фашисты, песенок шута, где подвергаются осмеянию король и королева. Это поставщики отбросов в неприхотливые театры малых форм. Свои произведения они не подписывают, будучи людьми осторожными. Но их, как и всех скрывающих свою профессию, быстро находят те, которые в них нуждаются. Старушки сами появляются в тех домах, где лежит покойник. Бильярдные короли тихими голосами предлагают вам сыграть по маленькой, а потом обыгрывают вас дотла. Беговой жучок издали приветствует вас радостными жестами и за двадцать копеек обещает указать лошадь, которая наверное придет первой и сделает вас богатым и счастливым. Молодые люди в котиковых шапочках порхают за кулисами и готовы в кратчайший срок обогатить портфель театра любым произведением — агитдрамой, сельхозводевилем, синтетическим монтажом, предвыборной интермедией или идеологическим обозрением. С недавнего времени котиковые молодые люди, пробавлявшиеся до сих пор антифашистскими элегиями и агрономическими скетчами, вышли на большую дорогу, теперь они пишут обозрения для московского Мюзик-Холла. Таинственные анонимы остались верны своей привычке угождать всем господам — Главреперткому, который борется с мещанством, и мещанству, которое борется с Главреперткомом. Репертком ублажают видом положительных крестьянок в шелковых юбчонках, а соответствующую публику голыми ножками, самодельным джазом и опереточной звездой. Репертком сначала хмурится. Голые ножки, джаз и звезда пугают его. Но крестьянки в шелковых юбчонках вызывают у реперткома радостную улыбку и одобрительные слова: — Наконец-то родной наш Мюзик-Холл выходит на широкую дорогу общественности! Что же касается зрителя, то положительные крестьянки, тоненькими голосками проклинающие внешних и внутренних врагов, приводят его в замешательство. Это же самое, но в более осмысленном исполнении, он мог бы услышать даром в своем жилтовариществе на вечере самодеятельности! И только голые ножки, звезда и джаз спасают положение. — Еще можно жить и работать, — говорит зритель. — Совсем как у людей. Если порядочному драматургу предложат написать пьесу при том условии, что в ней главными действующими лицами должны явиться: зебра из зоосада, два трамвайных пассажира и предводитель сирийского племени друзов, а в качестве вещественного оформления фигурировать: фрезерный станок, полдюжины пуговиц и изба-читальня, — то порядочный драматург немедленно ответит: — Нет. Занимательного и полезного зрелища, то есть зрелища, на котором широкая масса могла бы отдохнуть душой и телом, я сделать не могу. Полагаю, что этого не могли бы сделать также ни Шекспир, ни Чехов, ни Шкваркин. Но то, что не под силу мастерам сцены, вполне доступно котиковым молодым людям. С цыганским смаком они принимают любые заказы. — Что? Идеологическое обозрение? Прекрасно! Из чего делать? Тридцать девушек? Конечно, голые? Хорошо! Разложение? Два роликобежца? Отлично! Бар? Опереточная звезда? Великолепно! Песенка поэкзотичней? И для комика отрицательный персонаж? Превосходно! Можно типичного бюрократа, —знаете с портфелем… И котиковые молодые люди, не теряя ни секунды, принимаются за работу. Через два дня великолепное обозрение готово. Называется оно: «С неба свалились». Советский гад и бюрократ (Поль) попадает за границу, где взору его представляется тридцать голых фигуранток, одна американка (голая), артистка Светланова и джаз. Затем действие переносится на территорию нашего отечества, куда гад и бюрократ (Поль) привозит тридцать фигуранток, одну американку (голую), артистку Светланову и джаз. На этом бессмысленное обозрение обрывается. Во время перерывов, вызванных тем, что ни режиссер, ни актеры не знают, что делать дальше, на сцену выходит конферансье в своем обычном репертуаре, повторяя изо дня в день излюбленные публикой экспромты. Дирижер, до которого дошли туманные слухи о том, что за границей дирижеры якобы подпевают оркестру, время от времени начинает петь так, как не позволил бы себе петь даже дома с целью досаждения вредным соседям. Если Мюзик-Холлу не стыдно и он собирается ставить свои «марксистские» обозрения и впредь, то это должно быть обусловлено двумя пунктами: 1. Фамилия автора(ов) широко опубликовывается(ются). 2. Фотографические их карточки анфас и в профиль вывешиваются в вестибюле театра. Надо знать, с кем имеешь дело!1929
1001-я деревня («Старое и новое», фильма Совкино Работа режиссеров Эйзенштейна и Александрова)
Еще каких-нибудь три года тому назад, в то розовое обольстительное утро, когда Эйзенштейн и Александров в сопровождении ассистентов, экспертов, администраторов, уполномоченных и консультантов выехали на первую съемку «Старого и нового», уже тогда было отлично известно, что нет ничего омерзительнее и пошлее нижеследующих стандартов: 1. Деревенский кулак, толстый, как афишная тумба, человек с отвратительным лицом и недобрыми, явно антисоветскими глазами. 2. Его жена, самая толстая женщина в СССР. Отвратительная морда. Антисоветский взгляд. 3. Его друзья. Толстые рябые негодяи. Выражение лиц контрреволюционное. 4. Его бараны, лошади и козлы. Раскормленные твари с гадкими мордами и фашистскими глазами. Известно было также, что стандарт положительных персонажей в деревне сводился к такому незамысловатому облику: худое благообразное лицо, что-то вроде апостола Луки, неимоверная волосатость и печальный взгляд. По дороге в деревню, вспоминая о стандартах, киногруппа Эйзенштейна заливалась смехом. Они думали о том, каких пошлых мужичков наснимал бы в деревне режиссер Протазанов, и это их смешило. — Счастье, что послали нас! — восклицал Эйзенштейн, добродушно хохоча. — Чего бы тут Эггерт наделал! Небось толстого кулака заснял бы! — И жену его толстую! — поддержал Александров. — И осла его, и вола его, — закричали ассистенты, консультанты, эксперты, администраторы и хранители большой печати Совкино, — и всякого скота его. Все это толстое, стремящееся к ниспровержению существующего строя. — Да что тут говорить! — заключил Эйзенштейн. — Пора уже показать стране настоящую деревню! Об этом своем благом намерении показать настоящую деревню Эйзенштейн оповестил газеты и сам любезно написал множество статей. И страна, измученная деревенскими киноэксцессами Межрабпомфильма и ВУФКУ, с замиранием сердца принялась ждать работы Эйзенштейна. Ждать ей пришлось не так уже долго — годика три. За это время некие торопливые люди успели построить в Туапсе новый город и два гигантских нефтеперегонных завода, Балахнинскую бумажную фабрику, совхоз «Гигант», Турксиб и прочие многометражные постройки. А деревенского фильма все еще не было. По Москве ходит слух ужасный. Говорят, что каждый год один из руководителей Совкино, обеспокоенный тем, что стоимость фильма все увеличивалась, тревожно спрашивал Эйзенштейна: — А что будет, если картина провалится? И ходит также слух, что режиссер неизменно отвечал: — Ничего не будет. Вас просто снимут с работы. И, дав такой ответ, режиссер с новым жаром принимался за картину, которая должна была изобразить настоящую деревню. И вот картина появилась на экране. Настоящая деревня была показана так: 1. Кулак — афишная тумба с антисоветскими буркалами. 2. Жена — чемпионка толщины с антисоветскими подмышками. 3. Друзья — члены клуба толстяков. 4. Домашний скот — сплошная контра. И — венец стандарта: деревенская беднота, изображенная в виде грязных идиотов. Сюжет — на честное слово. Ничего не показано. Всему приходится верить на слово. Дело идет о возникновении колхоза, но как он возникает — не показано. Говорится о классовой борьбе в деревне, но не показано из-за чего она происходит. Утверждается, что трактор вещь полезная. Но эйзенштейновские тракторы бегают по экрану без всякого дела, подобно франтам, фланирующим по Петровке. Кончается картина парадом сотни тракторов, не производящих никакой работы. Как же случилось, что замечательный режиссер, сделавший картину «Броненосец Потемкин», допустил в своей новой работе такой штамп? Конечно, Эйзенштейн знал, что не все кулаки толстые, что их классовая принадлежность определяется отнюдь не внешностью. Знал он и то, что собрание ультрабородатых людей в одном месте не обязательно должно быть собранием бедноты. Несомненно, все это сделано намеренно. Картина нарочито гротескна. Штампы чудовищно преувеличены. Этим Эйзенштейн хотел, вероятно, добиться особенной остроты и резкости и обнажить силы, борющиеся в деревне. Но штамп оказался сильнее режиссеров, ассистентов, декораторов, администраторов, экспертов, уполномоченных и хранителей большой чугунной печати Совкино. Фокус не удался. Картина, на которой остались, конечно, следы когтей мастера, оказалась плохой. Оправдались самые худшие опасения помянутого выше одного из руководителей Совкино. Картина провалилась. Что-то теперь будет с одним из руководителей Совкино?1929
Три с минусом (Отчет о диспуте «Писатель и политграмота» Состоялся 7.Х в Театре Революции)
Некоторые скептики утверждают, что наши писатели пишут плохо. Это преувеличено. Пишут они хорошо. А вот говорят, действительно, неважно. Объясняется это тем, что большинство из них обучались в гимназиях и до сих пор при в кафедры, к которой их вызывают, испытывают непобедимый страх. Между прочим, в своем быту они очень разговорчивы. Как гимназисты на большой перемене. С жаром и жестикуляцией они набрасываются друг на друга, дергают за пуговицы, кричат об «установках», целеустремленности, о смысле жизни. Но стоит им только собраться в одном месте, усесться за стол под взглядами публики и подчиниться воле диспутного регламента, как гимназический страх вселяется в их робкие души. — О чем сегодня будет спрашивать Суслин? Ты не знаешь? — О реках и озерах Южной Америки. Я ничего не выучил. И вызванный к доске ученик вместо того, чтобы плавно повествовать о реках и озерах Южной Америки, пытается рассказать о флоре и фауне Соломоновых островов (сведения, почерпнутые у Жюля Верна). На этот раз писателям был задан урок о Пильняке. — Что будет? — трусливо шептала Вера Инбер. — Я ничего не выучила. Олеша испуганно написал шпаргалку. Всеволода Иванова грызло сомнение: точно ли река Миссури является притоком Миссисипи. Зозуля, согнувшись под партой, лихорадочно перелистывал подстрочники, решебники и темники. И один только Волин хорошо знал урок. Впрочем, это был первый ученик. И все смотрели на него с завистью. Он вызвался отвечать первым и бойко говорил целый час. За это время ему удалось произнести все свои фельетоны и статьи, напечатанные им в газетах по поводу антисоветского выступления Пильняка. На него приятно было смотреть. Кроме своих собственных сочинений, Волин прочел также несколько цитат из «Красного дерева». Публика насторожилась. Посыпались записки. Одни требовали ареста Пильняка. Другие просили прочесть «Красное дерево» целиком и полностью, якобы для лучшего ознакомления с проступком писателя. Кроме того, поступила записка с вопросом: «Будут ли распространяться норвежские сельди, поступившие в кооператив № 84, и по какому талону?» После Волина говорил Зозуля. Нежным голосом он сообщил, что писатели вообще люди мало сведущие и что им нужно учиться, учиться и учиться. При этом Мих. Левидов покраснел. Он, как видно, совсем не знал урока и рассчитывал только на то, что его не вызовут. Ученику Шкловскому, как всегда, удалось обмануть учителя. Он все-таки произнес речь о флоре и фауне Соломоновых островов, хотя были заданы реки и озера Южной Америки. Легко обойдя вопрос о Пильняке, Шкловский заявил что писателю нужна вторая профессия и только тогда он будет хорошим писателем. На брошенную ему записку ученик Шкловский Виктор не ответил. Записка была гадкого содержания: «Вторая ваша профессия известна — вы непременный участник диспутов. Но какая же ваша первая профессия?» Всеволод Иванов боязливо пробрался к кафедре. Ему мучительно хотелось сказать, что он не оратор, но, вспомнив, что это выражение уже принадлежит Горькому, он совсем растерялся и урока не ответил. Вера Инбер наполнила зал меланхолическими стонами. — Вы жалеете птичку? — сказала она тоненьким голоском. — Жалеем, — хрипло ответили сидевшие в первых рядах контрамарочники. — А овечку вы жалеете? — допытывалась писательница. Зал видимо жалел овечку. — Так пожалейте же и писателя, — заключила Вера Инбер. — Ему очень, очень трудно писать! Так как это не имело никакого отношения к Пильняку, то зал сочувственно похлопал писательнице. Юрий Олеша читал свою речь по бумажке. Громовым голосом он опубликовал популярный афоризм о том, что если дать овцам свободу слова, то они все равно будут блеять. — Пильняк проблеял, — заявил Олеша. Справедливость этого положения никто не оспаривал. Левидов осуществил заветную мечту публики. Он не говорил и радовался этому, как дитя. В общем, писатели отвечали по политграмоте на три с минусом. Но так как пишут они на три с плюсом, то публика была очень довольна, что увидела всех в лицо.1929
К барьеру!
В робкое подражание состоявшейся недавно в Москве смычке русских писателей с украинскими, редакции ЧУДАКА удалось организовать еще одно культурное празднество — встречу классиков с современными беллетристами. Наиболее любезным и отзывчивым оказался Лев Николаевич Толстой, немедленно ответивший на приглашение телеграммой: «Выезжаю. Вышлите к вокзалу телегу». Гоголь, Пушкин, Достоевский и Лермонтов прибыли с похвальной аккуратностью. Из современных беллетристов пришли — Лидин, Малашкин, Леонов и Пильняк. Приходили еще Шкловский и Катаев. Катаев, узнав, что ужина не будет, — ушел, Шкловский вздохнул и остался. Когда все собрались, наступило естественное замешательство. Лев Толстой, заправив бороду в кушак, с необыкновенной подозрительностью рассматривал писателя Малашкина. Лермонтов посвистывал. Пильняк растерянно поправлял очки на своем утином носу и, вспоминая, какую ерунду он написал про Лермонтова в своем рассказе «Штосс в жизнь», уже пятый раз бормотал Шкловскому: — Но при советской власти он не может вызвать меня на дуэль? Как вы думаете? Мне совсем не интересно стреляться с этим забиякой! На это Шкловский отвечал: — Я формалист и как формалист могу вам сообщить, что дуэль является литературной традицией русских писателей. Если он вас вызовет, вам придется драться. И вас, наверное, убьют. Это тоже в литературных традициях русских писателей. Я говорю вам это как формалист. И Пильняк горестно склонялся на плечо Лидина. Леонов с восторгом на пухлом лице заглядывал в глаза Достоевскому. Гоголь сутулился где-то на диване. Жизнерадостен был лишь Александр Сергеевич Пушкин, немедленно усвоивший себе всю мудрость висевшего на стене плаката «Долой рукопожатие» и не подавший на этом основании руки Лидину. Наконец, вошел Горький. Пользуясь тем, что, с одной стороны, он классик, а с другой — современный беллетрист, собрание единогласно избрало его председателем. В короткой речи Алексей Максимович объявил, что целью предстоящих дебатов является обнаружение недостатков в произведениях собравшихся. — Одним словом, — добавил быстро освоившийся Пушкин, — выявление недочетов! Прекрасно! Но я хочу на данном отрезке времени выявить также и достижения. В книге моего уважаемого собрата по перу, Малашкина, под названием «Сочинения Евлампия Завалишина о народном комиссаре», на 120 стр., я прочел: «Кухарка остановилась, оттопырила широкий зад, так что обе половинки отделились друг от друга». Это блестяще, собрат мой! Какой выпуклый слог! Малашкин, багровея, отошел к подоконнику и оттуда забубнил: — А Лидин-то! Написал в романе «Отступник», что «пахло запахом конского аммиака». А никакого конского нет. И коровьего нет. Есть просто аммиак. А конского никакого нет. Все повернулись в сторону Лидина и долго на него смотре- ли. Наконец, автора «Отступника» взял под свою защиту Шкловский. — Лидин, конечно, писатель нехороший. Но вот что написал хороший писатель Гоголь в повести «Ночь перед Рождеством». Написал он так: «Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи (которые одни только вместе со степенными отцами оставались в избах) высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога». Что это за рука, выросшая на руке же у старухи? — А кто написал, что «Прусская пехота, по-эскадронно гоняясь за казаками…», — раздался надтреснутый голос Гоголя. — Написано сие в «Краткой и достоверной повести о дворянине Болотове», в сочинении Шкловского. Вот, где это написано, хотя пехота в эскадронах не ходит. От неожиданности лысина Шкловского на минуту потухла, но потом заблистала с еще большей силой. — Позвольте, позвольте! — закричал он. — Не позволю! — решительно отвечал Гоголь. — Если уж на то пошло, то и наш уважаемый председатель Алексей Максимович чего понаписал недавно в журнале «Наши достижения»! Рассказал он, как некий тюрк-публицист объяснял «…интересно и красиво историю города Баку. «Бакуиэ» называл он его и, помню, объяснял: «Бад» — по-персидски гора, «Ку» — ветер. Баку — город ветров». А оно как раз наоборот: «ку» — гора, «бад» — ветер. Вот какие у вас достижения! Назревал и наливался ядом скандал. Шкловский рвался к Льву Толстому, крича о том, что не мог старый князь Болконский лежать три недели в Богучарове, разбитый параличом, как это написано в «Войне и мире», если Алпатыч 6-го августа видел его здоровым и деятельным, а к 15 августа князь уже умер. — Не три недели, значит, — вопил Шкловский, — а 9 дней максимум он лежал, Лев Николаевич! Лермонтов гонялся за Пильняком, пронзительно крича: — Вы, кажется, утверждали в своем «Штоссе в жизнь», что мои и ваши сочинения будут стоять на книжных полках рядом? К барьеру! Дуэль! — Позволь мне! — просил Пушкин, — я сам его ухлопаю. Иначе он про меня тиснет какой-нибудь пасквильный рассказик. — Телегу мне! — мрачно сказал Толстой. За Толстым, который уехал, не попрощавшись, переругиваясь, повалили все остальные. Культурное празднество, к сожалению, не удалось.1929
Бледное дитя века
Поэт Андрей Бездетный, по паспорту значившийся гражданином Иваном Николаевичем Ошейниковым, самым счастливым месяцем в году считал ноябрь. Происходило так не потому, что Андрей Бездетный родился именно в этом месяце и верил в свою счастливую звезду. А также не потому, что эта пора, богатая туманами и дождями, подносила ему на своих мокрых ладонях дары вдохновенья. Андрей Бездетный просто был нехорошим человеком и уважал даже не весь ноябрь, а только седьмое его число. К этому дню он готовился с лета. — Богатое число, — говаривал Бездетный. В этот день даже «Эмиссионно-балансовая газета», обычно испещренная цифрами и финансовыми прогнозами, — даже она печатала стихи. Спрос на стихи и другие литературные злаки ко дню Октябрьской годовщины бывал настолько велик, что покупался любой товар, лишь бы подходил к торжественной теме. И нехороший человек Андрей Бездетный пользовался вовсю. В этот день на литбирже играли на повышение: «Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы «заря — Октября» вместо двугривенного идут по полтора рубля. С лирикой слабо». Но Бездетный лирикой не торговал. Итак, с июля месяца он мастерил эпос, романтику и другие литературные завитушки. И в один октябрьский день Андрей вышел на улицу, сгибаясь, как почтальон, под тяжестью ста шестидесяти юбилейных опусов. Накануне он подбил итоги. Выяснилось, что редакций десять все-таки останутся без товара. Нагруженное октябрьскими поэмами, кантатами, одами, поздравительными эпиграммами, стихотворными пожеланиями, хоралами, псалмами и тропарями, бледное дитя века вошло в редакцию, первую по составленному им списку, редакцию детского журнала под названием «Отроческие ведомости». Не теряя времени, поэт проник в кабинет редакторши и, смахнув со стола выкройки распашонок и слюнявок, громким голосом прочел:Ты хотя и не мужчина,
А совсем еще дитя,
Но узнаешь годовщину,
Все по пальцам перечтя.
Пальцев пять да пальцев пять
Ты сумеешь сосчитать,
К ним прибавить только три —
Годовщину ты сочти.
Пальцев три и пальцев семь —
Десять пальцев будет всем,
К ним прибавь всего один —
Все узнаешь ты, мой сын.
1929
Великий лагерь драматургов
И он присоединился к великому лагерю драматургов, разбивших свои палатки на мостовой проезда имени Художественного театра.Число заявок на золотоносные драматические участки увеличивается с каждым днем. Это можно легко увидеть, прочитав газетные театральные отделы. « закончил для одного из московских театров новую пьесу, трактующую борьбу с бюрократизмом в разрезе борьбы с волокитой».«Летопись Всеросскомдрама»
« работает над пьесой «Легкая кавалерия». Пьеса вскоре будет закончена и передана в портфель одного из московских театров». « переделал для сцены исторический роман «Овес». Пьеса в ближайшем будущем пойдет в одном из московских театров».
Пойдет ли? Ой ли? Сколько лет мы читаем о новых пьесах Пахома Глыбы, Веры Пиджаковой и М. Чтоли. Мы узнаем, что пьесы эти закончены, отделаны, переработаны и приняты. Но где этот «один из московских театров», где «Легкая кавалерия», где историческое действо «Овес», с каких подмостков раздаются страстью диалоги, вырвавшиеся из-под пера т. Глыбы? Нет таких подмостков, нет «одного из московских театров», ничего этого нет. Есть великий лагерь драматургов, которые разбили свои палатки у подъездов больших и малых московских театров. И в этом лагере еще больше неудачников, чем в любом лагере золотоискателей на берегах Юкона в Аляске. Под драматургом мы подразумеваем всякого человека, написавшего сочинение, уснащенное ремарками: «входит», «уходит», «смеется», «застреливается». Первичным видом драматурга является гражданин, никогда не писавший пьес, чувствующий отвращение к театру и литературе. На путь драматурга его толкают тяжелые удары судьбы. После длительного разговора с женой гражданин убеждается, что жить на жалованье трудновато. А тут еще надо внести большой пай в жилстроительную кооперацию. — Не красть же, черт возьми! И гражданин, прослышавший от знакомых, что теперь за пьесы много платят, не теряет ни минуты и в два вечера сочиняет пятиактную пьесу. (Он, собственно говоря, задумал пьесу в четырех действиях, но, выяснив в последний момент, что авторские уплачиваются поактно, приписал пятое.) Заломив шляпу и весело посвистывая, первичный вид драматурга спускается вниз по Тверской, сворачивает в проезд Художественного театра и в ужасе останавливается. Там, у входа в театр, живописно раскинулись палатки драматургов. Слышен скрип перьев и хриплые голоса. — Заявки сделаны! Свободных участков нет! Те же печальные картины наблюдает новый драматург и у прочих театров. И уже готов первичный вид драматурга завопить, что его затирают, как вдруг, и совершенно неожиданно для автора, выясняется, что пьеса его никуда не годится. Об этом ему сообщает знакомый из балетного молодняка. — С ума вы сошли! — говорит знакомый. — Ваша пьеса в чтении занимает двое суток. Кроме того, в третьем акте у вас участвуют души умерших. Бросьте все это! Все драматурги второго, более живучего вида находятся под влиянием легенды о некоем портном, который будто бы сказал: — Когда-то я перешивал одному графу пиджак. Граф носил этот пиджак четырнадцать лет и оставил его в наследство сыну, тоже графу. И пиджак все еще был как новый. Драматурги второго рода перелицовывают литературные пиджаки, надеясь, что они станут как новые. В пьесы переделываются романы, повести, стихи, фельетоны и даже газетные объявления. Как всегда, карманчик перелицованного пиджака с левой стороны перекочевывает на правую. Все смущены, но стараются этого не замечать и притворяются, будто пиджак совсем новый. Переделки все же держатся на сцене недолго. Третий, самый законченный вид драматурга — драматург признанный. В его квартире висят театральные афиши и пахнет супом. Это запах лавровых венков. Не успевает он написать и трех явлений, как раздаются льстивые телефонные звонки. — Да, — говорит признанный драматург, — сегодня вечером заканчиваю. Трагедия! Почему же нет? А Шекспир? Вы думаете разработать ее в плане монументального неореализма? Очень хорошо. Да, пьеса за вами. Только о пьесе ни гугу. — Да, — говорит драматург через пять минут, отвечая режиссеру другого театра, — откуда вы узнали? Да, пишу, скоро кончаю. Трагедия! Конечно, она за вами. Только не говорите никому. Вы поставите ее в плане показа живого человека? Это как раз то, о чем я мечтаю. Ну, очень хорошо! Обещав ненаписанную пьесу восьми театрам, плутоватый драматург садится за стол и пишет с такой медлительностью, что восемь режиссеров приходят в бешенство. Они блуждают по улице, где живет драматург, подсылают к нему знакомых и звонят по телефону. — Да, — неизменно отвечает драматург, — моя пьеса за вами. Не беспокойтесь, будет готова к открытию. Да, да, в плане трагедии индивидуальности с выпячиванием линии героини. Но вот наступает день расплаты. Рассадив режиссеров по разным комнатам и страшась мысли, что они могут встретиться, автор блудливо улыбается и убегает в девятый театр, которому и отдает свою трагедию для постановки в плане монументального показа живого человека с выпячиванием психологии второстепенных действующих лиц. Признанного драматурга не бьют только потому, что избиение преследуется законом. В таком плане и проходит вся жизнь юконских старателей.
1929
Праведники и мученики («Обломок империи» — фильм режиссера Эрмлера «Турксиб» — фильм режиссера Турина)
Это компания праведников, страстотерпцев, мучеников. Одним словом, это были кинорежиссеры. Их было много, человек десять. Они попивали чай и, горько улыбаясь, говорили о судьбах советского кино. — Ужас! Ужас! — воскликнул маленький и толстый режиссер. — Что им нужно? Чего от нас хотят? И чего требуют? — От нас требуют советскую картину. — Но ведь я все время ставлю картины с идеологией, — завизжал толстяк. — Кто поставил картину «Грешники монастыря»? Я. Абсолютно советская картина, а они говорят, что порнография. — Да, — сумрачно заявил режиссер с вытаращенными глазами. — Порнографии теперь нельзя. — Вот и скучища выходит, — закричал кинотолстяк. — Какая же это картина без порнографии? Но не было ответа на этот вопрос. Молчали киноправедники, киномученики, кинострастотерпцы. — Тяжело! — сказал режиссер с боярской бородой. — Порнография воспрещается, а мистика разве не воспрещается? — И мистики нельзя. — Какой кошмар! — Фокстрота нельзя. — А детектив разве позволяют? — И детектива нельзя. — Просто бедлам. — До чего докатились! — Докатились до того, что даже честного комсомольского поцелуя в диафрагму нельзя. — За поцелуйчик в диафрагму месяца два в газетах шельмуют. — И тайны минаретов не дозволяются. — С отчаяния стряпаешь злой агит, но и тут общее недовольство. Говорят — примитив. Невыразительно. — Умереть хочется. Лечь и умереть. Как Петроний умер. — Кстати о Петроний. Намедни я фильмик поставил. Из римской жизни. Мистики нет, порнографии нет, фокстрота нет, поцелуя в диафрагму нет. Ничего нет, сплошная история, граничащая с натурализмом, — у меня Нерон на пиру блюет. И что же? Нельзя! Говорят, убого. Это что же? Исторических фильмов уже нельзя? До сердца добираются? За горло хватают? Говоривший это седовласый халтурщик в изнеможении опустился на плюшевый диван. — И разлагающейся Европы тоже нельзя, — добавил молодой человек, как видно, подающий надежды ассистент. На молодого человека все набросились. — Открыли Америку. Если б нам разрешили разлагающуюся Европу! О-о-о! Наговорившись вдоволь, режиссеры разошлись по своим шатрам. Для них все было ясно: — Конечно. Загубили кинематографию. Амба. Работать невозможно. Но оказалось, что нет никаких признаков амбы. В двух последних картинах «Турксиб» и «Обломок империи» нет ни мистики, ни порнографии, ни разлагающейся Европы, ни тайн минаретов, ни блюющих цезарей, ни длиннометражных поцелуев в диафрагму, ни всего того, что компания киноправедников считает элементами, придающими фильму интерес. И если сказать постановщикам бесконечного числа хламных картин, что именно поэтому и хороши «Турксиб» и «Обломок империи», то они никогда не поверят. В самом деле: вместо наложницы хана главную роль в «Турксибе» играют рельсы. Изящного молодого человека с профилем Рамон Наварро в «Обломке империи» заменяет давно небритый унтер-офицер Филимонов. Здесь есть то, о чем забыли праведники и мученики. Здесь талант, настоящая тема и обыкновенная политическая грамотность. И на вопли кинорежиссеров, на скорбные вопросы «что же наконец требуется», ответ есть только один: — Талантливость и уменье не отставать от века.1929
Театр на улице
Это исследование нами предпринято для того, чтобы осветить тот участок театра, насчет которого не распинаются критики, не говорят пламенных речей на заседаниях Главискусства, который не рекламируется в газетах, не дает дефицита, но тем не менее имеет контрамарочников. Кто из вас, граждане, не присутствовал задарма на уличных спектаклях? Этот театр содержит в себе все виды сценического искусства. Улица оглашается пронзительным пением, куплетами, зву флейты и трагическими монологами. Земля дрожит от топота танцующих людей и медведей. Все есть на улице.Старушка с герцогом
На Кузнецком, у витрины трикотаж-ой лавки, на фоне розовых сорочек и дамских фетровых колпачков, стоит старая девушка в шляпке с вуалеткой. Старая помахивает большим рыжим ридикюлем и жалобно поет:Бегите во Фландрию, герцог де Линь,
Бегите во Фландрию, герцог!
За вами сомкнётся безбрежная синь
И хлопнут железные дверцы.
Московские Эсмерадьды
Сказавший «а», должен сказать «б». Там, где опера, там без балета невозможно. Академический балет представлен на улице двумя цыганочками лет по семи. Цыганочки работают в двухстах шагах от певицы. Они богато украшены малахитовыми серьгами и изумрудными соплями. Выпучив животики и тряся многочисленными юбками, цыганочки откалывают мессереровские антраша с уклоном в «танцы народностей». Танцы их еще короче, чем на понедельничных сборных халтур-абендах. Неделовых людей, которые и тут хотят ускользнуть от уплаты денег, балетчицы грубо оскорбляют словами и даже действиями.Настоящий персимфанс
Какой же порядочный театр, насчитывающий не менее пяти ярусов и ста колонн, мешающих зрителю смотреть на сцену, может обойтись без хорошей классической музыки? Хромой скрипач-флейтист в черных очках — уличный персимфанс (передвижной симфонический оркестр без дирижера) — выгодно отличается от понедельничного персимфанса тем, что он действительно: 1. Передвижной (настоящий персимфанс предпочитает отсиживаться в Большом зале консерватории). 2. Симфонический (работает без участия именитых гастролеров). 3. Без дирижера (в настоящем персимфансе, говорят, профессор Цейтлин нет-нет, а взмахнет смычком и строго глянет на музыкантов, посильно заменяя дирижера). На улице дело чистое. Дирижера действительно нет, если не считать постового милиционера, дирижирующего уличным движением. Да и то взмах его палочки подает музы кантам сигнал убираться подобру-поздорову, пока их не свели в отделение.В лапу с эпохой
В области цирка и эстрады уличные артисты совершенно заткнули рабисовских коллег. Никогда в мюзик-холле не увидеть фокусника, работающего с такой отчетливостью и блеском, как ц дающий свои волшебные представления на бульваре. Всемирно известный загадочный индивидуум и загадка лабораторий (500 аншлагов в Нью-Йорке и Минске) мосье Касфикис приезжает с 15 вагонами аппаратуры. Во время работы ему помогает дюжина индусов со скрещенными руками и десяток отечественных верзил, снующих за сценой. И нет-нет, а номер не удается. То испортится астральный фонтан, то заест блок, и воздушная посылка остается висеть в воздухе, то с галерки раздается крик оскорбленного ребенка: — Мама, у него птица позади привязана на веревочке! Но китайца с Тверского бульвара не поймаешь. 300 отчаянных любителей фокусов заглядывают в самую его душу и все же не могут открыть секрета. Беспризорный аккомпанирует своим куплетам на ложках, унесенных из нарпитовской столовой. И текст и исполнение гораздо свежее, чем у всяческих музыкальных споунов. Даже в танцах дрессированных медведей отразилась современность. В то время, как на цирковой арене медведи отплясывают фокстрот, их уличные собратья идут в ногу с эпохой. — А покажи, Миша, — говорит вожак, дергая цепь, — покажи, Миша, как у нас поднимают производительность труда. — А ну, покажи, Миша, как супруги из загса идут. И Миша показывает все, что требует эпоха.Великие артисты
Это нищие. Играют они великолепно. Играют по методу Станиславского. Переживают. Натурально кашляют. Идеально хромают. В ролях слепых играют так, что никакому королю Лиру не угнаться. Тут вы увидите Фирса. — Уехали, — говорит Фирс, — кхе-кхе. А меня забыли, кхе-кхе. Подайте бедному старичку. Три дня старичок не ел. Совсем старичок отощал. Юродивые из «Царя Федора Иоанновича» стоят в уголку с кроткими лицами, робко протягивая ручку. И дядя Ваня, тряся своей великолепной бородой, конфиденциально шепчет: — Подайте бывшему землевладельцу и крупному собственнику. Хорошо играют. И, казалось бы, рольки крохотные, а как сделаны! Великие артисты!1929
Полупетуховщина
Время от времени, но не реже, однако, чем раз в месяц, раздается истошный вопль театральной общественности: — Нужно оздоровить советскую эстраду! — Пора уже покончить! — Вон! Всем известно, кого это «вон» и с кем «пора уже покончить». — Пора, пора! — восклицают директора и режиссеры театров малых форм. — Ох, давно пора, — вздыхают актеры этих же театров. — Скорее, скорее вон! — стонет Главискусство. Решают немедленно, срочно, в ударном порядке приступить к оздоровлению советской эстрады и покончить с полупетуховщиной. Всем ясно, что такое полупетуховщина. Исчадие советской эстрады, халтурщик Полупетухов, наводнил рынок пошлыми романсами («Пылали домны в день ненастья, а ты уехала в ландо»), скетчами («Совслужащий под диваном»), сельскими частушками («Мой миленок не дурак, вылез на акацию, я ж пойду в универмаг, куплю облигацию»), обозрениями («Скажите — А!»), опереттами («В волнах самокритики») и др. и пр. Конечно, написал все это не один Сандро Полупетухов, писали еще Борис Аммиаков, Луврие, Леонид Кегельбан, Леонид Трепетовский и Артур Иванов. Однако все это была школа Сандро и все деяния поименованных лиц назывались полупетуховщиной. Действительно, отвратительна и пошла была полупетуховщина. Ужасны были романсы, обозрения, частушки, оперетты и скетчи. И желание театральной общественности оздоровить эстраду можно только приветствовать. Оздоровление эстрады обычно начинается с созыва обширного, сверхобщего собрания заинтересованных лиц. Приглашаются восемьсот шестьдесят два писателя, девяносто поэтов, пятьсот один критик, около полутора тысяч композиторов, администраторов и молодых дарований. — Не много ли? — озабоченно спрашивает ответственное лицо. — Ну, где же много? Всего около трех тысяч пригласили. Значит, человек шесть приедет. Да больше нам и не нужно. Создадим мощную драмгруппу, разобьем ее на подгруппы, и пусть работают. И действительно, в назначенный день и час в здании цирка, где пахнет дрессированными осликами и учеными лошадьми, наверху, в канцелярии, открывается великое заседание. Первым приходит юный Артур Иванов в пальто с обезьяньим воротником. За ним врываются два Леонида, из коих один Трепетовский, а другой Кегельбан. После Луврие, Бориса Аммиакова является сам Сандро Полупетухов. Вид у него самый решительный, и можно не сомневаться, что он вполне изготовился к беспощадной борьбе с полупетуховщиной. — Итак, товарищи, — говорит ответлицо, — к сожалению, далеко не все приглашенные явились, но я думаю, что можно открывать заседание. Вы разрешите? — Валяй, валяй, — говорит Аммиаков. — Время не терпит. Пора уже наконец оздоровить. — Так вот я и говорю, — стонет председатель. — До сих пор наша работа протекала не в том плане, в каком следовало бы. Мы отстали, мы погрязли… В общем, из слов председателя можно понять, что на театре уже произошла дифференциация, а эстрада безбожно отстает. До сих пор Луврие писал обозрения вместе с Артуром Ивановым, Леонид Трепетовский работал с Борисом Аммиаковым, а Сандро Полупетухов — с помощью Леонида Кегельбана. — Нужно перестроиться! — кричит председатель. — Если Луврие будет писать с Трепетовским, Сандро возьмет себе в помощники Иванова, а Кегельбан Аммиакова, то эстрада несомненно оздоровится. Все соглашаются с председателем. И через неделю в портфель эстрады поступают оздоровленные произведения. Романс («Ты из ландо смотрела влево, где высилось строительство гидро»), скетч («Радио в чужой постели»), колхозные частушки («Мой миленок идеот, убоялся факта, он в колхозы не идет, не садится в трактор»), обозрение («Не морочьте голову»), оперетта («Фокс на полюсе») и др. и пр. И на месяц все успокаиваются. Считается, что эстрада оздоровлена.1929
Волшебная палка (Диспут о советской сатире в Политехническом музее)
Уже давно граждан Советского Союза волновал вопрос: «А нужна ли нам сатира?» Мучимые этой мыслью, граждане спали весьма беспокойно и во сне бормотали: «Чур меня! Блюм меня!» На помощь гражданам, как и всегда, пришло Исполбюро 1 МГУ. Что бы ни взволновало граждан: проблема ли единственного ребенка в семье, взаимоотношения ли полов, нервная ли система, советская ли сатира — Исполбюро 1 МГУ уже тут как тут и утоляет жаждущих соответствующим диспутом. «А не перегнули ли мы палку? — думали устроители. — Двадцать пять диспутантов! Не много ли?» Оказалось все-таки, что палку не перегнули. Пришла только половина поименованных сатириков. И палка была спасена. Потом боялись, что палку перегнет публика. Опасались, что разбушевавшиеся толпы зрителей, опрокидывая моссельпромовские палатки и небольшие каменные дома, ворвутся в Политехнический музей и слишком уже переполнят зал. Но и толпа не покусилась на палку. Публика вела себя тихо, чинно и хотела только одного: как можно скорее выяснить наболевший вопрос — нужна ли нам советская сатира? Любопытство публики было немедленно удовлетворено первым же оратором: — Да, — сказал режиссер Краснянский, — она нам нужна. Чувство облегчения овладело залом. — Вот видите, — раздавались голоса, — я вам говорил, что сатира нужна. Так оно и оказалось. Но спокойная, ясная уверенность скоро сменилась тревогой. — Она не нужна, — сказал Блюм, — сатира. Удивлению публики не было границ. На стол президиума посыпались записочки: «Не перегнул ли оратор тов. Блюм палку?» В. Блюм растерянно улыбался. Он смущенно сознавал, что сделал с палкой что-то не то. И действительно. Следующий же диспутант писатель Евг. Петров назвал В. Блюма мортусом из похоронного бюро. Из его слов можно было заключить, что он усматривает в действиях Блюма факт перегнутия палки. Засим диспут разлился широкой плавнойрекой. После краткой, кипучей речи В. Маяковского к эстраде, шатаясь, подошла девушка с большими лучистыми глазами и швырнула на стол голубенькую записку: «Почему Вл. Маяковский так груб и дерзок, точно животное, с выступавшим т. Блюмом. Это непоэтично и весьма неприятно для уха». Записка подействовала на Маяковского самым удручающим образом. Он немедленно уехал с диспута в Ленинград. Кстати, ему давно уже нужно было туда съездить по какому-то делу. Писатель Е. Зозуля выступил весьма хитро. Все диспутанты придерживались такого порядка: одни говорили, что сатира нужна, и награждались аплодисментами; другие утверждали, что сатира не нужна, и тоже получали свою порцию рукоплесканий. Своенравный Зозуля с прямотой старого солдата заявил, что плохая сатира не нужна (аплодисменты), а потом с тою же прямотой отметил, что хорошая сатира нужна (аплодисменты). Потом снова выступал В. Блюм. И снова он утверждал, что сатира нам не нужна и что она вредна. По его словам, не то Гоголь, не то Щедрин перегнули палку. Услышав о знакомом предмете, зал оживился, и с балкона на стол свалилась оригинальная записка: «Не перегнул ли оратор палку?» Председатель Мих. Кольцов застонал и, чтобы рассеять тяжелые тучи, снова сгущавшиеся над залом, предоставил слово писателю и драматургу В. Ардову. — А вот и я, — сказал писатель и драматург. — Я за сатиру. И тут же обосновал свое мнение несколькими веселыми анекдотами. За поздним временем перегнуть палку ему не удалось, хотя он и пытался это сделать. — Лежачего не бьют! — сказал Мих. Кольцов, закрывая диспут. Под лежачим он подразумевал сидящего тут же В. Блюма. Но, несмотря на свое пацифистское заявление, немедленно начал добивать лежачего, что ему и удалось. — Вот видите! — говорили зрители друг другу. — Ведь я вам говорил, что сатира нужна. Так оно и оказалось.1930
Мала куча — крыши нет
— Любите ли вы критиков? — спросили как-то одну девицу в Доме Герцена. — Да, — ответила девица. — Они такие забавные. Девица всех считала забавными: и кроликов, и архитекторов, и птичек, и академиков, и плотников. — Ах, кролики! Они такие забавные! — Ах, академики! Они такие забавные! Не соглашаясь в принципе с огульной оценкой дом-герценовской девицы, мы не можем не согласиться с нею в частном случае. Критики у нас по преимуществу действительно весьма забавные. Они бранчливы, как дети. Трехлетний малютка, сидя на коленях у матери, вдруг лучезарно улыбается и совершенно неожиданно говорит: — А ведь ты, мама, стерва! — Кто это тебя научил таким словам? — пугливо спрашивает мать. — Коля, — отвечает смышленый малютка. Родители бросаются к Коле. — Кто научил? — Пе-етя. После Пети след теряется в огромной толпе детишек, обученных употреблению слова «стерва» каким-то дореформенным благодетелем. И стоит только одному критику изругать новую книгу, как остальные критики с чисто детским весельем набрасываются на нее и принимаются в свою очередь пинать автора ногами. Начало положено. Из разбитого носа автора показалась первая капля крови. Возбужденные критики начинают писать. «Автор, — пишет критик Ив. Аллегро, — в своем романе «Жена партийца» ни единым словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нужны ли нам такие романы, где нет ни слова о мелиоративных работах в Средней Азии?» Критик Гав. Цепной, прочитав рецензию Ив. Аллегро, присаживается к столу и, издав крик: «Мала куча — крыши нет», — пишет так: «Молодой, но уже развязный автор в своем пошловатом романе «Жена партийца» ни единым, видите ли, словом не обмолвился о мелиоративных работах в Средней Азии. Нам не нужны такие романы». Самый свирепый из критиков т. Столпнер-Столпник в то же время и самый осторожный. Он пишет после всех, года через полтора после появления книги. Но зато и пишет же! «Грязный автор навозного романа «Жена партийца» позволил себе в наше волнующее время оклеветать мелиоративные работы в Средней Азии, ни единым словом о них не обмолвившись. На дыбу такого автора!» Столпник бьет наверняка. Он знает, что автор не придет к нему объясняться. Давно уже автор лежит на веранде тубсанатория в соломенном кресле и кротко откашливается в платочек. Синее небо и синие кипарисы смотрят на больного. Им ясно, что автору «Жены партийца» долго не протянуть. Но бывает и так, что критики ничего не пишут о книге молодого автора. Молчит Ив. Аллегро. Молчит Столпнер-Столпник. Безмолвствует Гав. Цепной. В молчании поглядывают они друг на друга и не решаются начать. Крокодилы сомнения грызут критиков. — Кто его знает, хорошая эта книга или это плохая книга? Кто его знает! Похвалишь, а потом окажется, что плохая. Неприятностей не оберешься. Или обругаешь, а она вдруг окажется хорошей. Засмеют. Ужасное положение! И только года через два критики узнают, что книга, о которой они не решались писать, вышла уже пятым изданием и рекомендована главполитпросветом даже для сельских библиотек. Ужас охватывает Столпника, Аллегро и Гав. Цепного. Скорей, скорей бумагу! Дайте, о, дайте чернила! Где оно, мое вечное перо? И верные перья начинают скрипеть. «Как это ни странно, — пишет Ив. Аллегро, — но превосходный роман «Дитя эпохи» прошел мимо нашей критики». «Как это ни странно, — надсаживается Гав. Цепной, — но исключительный по глубине своего замысла роман «Дитя эпохи» прошел мимо ушей нашей критики». Последним, как и всегда, высказывается Столпнер-Столпник. И, как всегда, он превосходит своих коллег по силе критического анализа. «Дитя эпохи», — пишет он, — книга, которую преступно замолчали Ив. Аллегро и Гав. Цепной, является величайшим документом эпохи. Она взяла свое, хотя и прошла мимо нашей критики». Случай с «Дитятей эпохи» дает возможность критикам заняться любимым и совершенно безопасным делом: визгливой семейной перебранкой. Она длится целый год и занимает почти всю бумагу, отпущенную государством на критические статьи и рецензии о новых книгах. И целый год со страниц газет и журналов шлепаются в публику унылые слова: «передержка», «подтасовка фактов», «нет ничего легче, как…» и «пора оставить эти грязные маневры желтой прессы». Однако самым забавным в работе критиков является неписаный закон, закон пошлый и неизвестно кем установленный. Сводится этот закон к тому, чтобы замечать только то, что печатается в толстых журналах. Отчаянная, потная дискуссия развивается вокруг хорошего или плохого рассказа, напечатанного в «Красной нови» либо в «Новом мире». Но появись этот самый рассказ в «Прожекторе», «Огоньке» или «Красной ниве», ни Столпнер-Столпник, ни Ив. Аллегро, ни Гав. Цепной не нарушат своего закона — не напишут о нем ни строки. Эти аристократы духа не спускаются до таких «демократических» низин, как грандиозные массовые журналы. А может быть, Столпнер-Столпник ждет, чтобы за это дело взялся Ив. Аллегро? А Аллегро с опаской глядит на Гав. Цепного? Разве не забавные люди — критики?1930
Пьеса в пять минут
В вестибюле некоего московского учреждения висят две таблички. Одна висит на левой двери, другая на правой двери. Других дверей в вестибюле нет. И тем не менее на табличке, украшающей левую дверь, написано:ЛЕВАЯ СТОРОНА
Что же касается таблички на правой двери, то и там в свою очередь строго указано:
ПРАВАЯ СТОРОНА
Черт знает что такое! Непостижимая вещь! Кому эти надписи нужны? Младенцам? Но младенцы в это учреждение не ходят. Может быть, эти надписи должны помочь неграмотным разобраться, правая — левая где сторона? Но неграмотные не смогут оценить этой заботы. Они не умеют читать. А если бы даже и умели, то свободно ориентировались бы и без этих надписей. Удивление растет еще и потому, что вышеназванное учреждение является издательством и посещается исключительно титанами и гениями, то есть писателями и критиками. Если бы эта статья предназначалась для серьезной профсоюзной газеты под названием «Голос Председателя», то нам не осталось бы ничего, как воскликнуть: — О чем сигнализирует этот жизненный факт? И хотя эта статья так и не появится в «Голосе Председателя», но факт все же кое о чем сигнализирует. Сигнализирует он о том, что учрежденский администратор в безумном стремлении выделиться из пестрой толпы завхозов дошел до так называемой ручки. Можно биться об заклад, что он уже объявил себя сверхударзавхозом и в настоящую минуту, трусливо мигая белыми ресницами, сочиняет новую серию табличек, коими собирается оборудовать учрежденскую лестницу.
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА ВТОРАЯ СТУПЕНЬКА ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬКА
И так далее, по числу ступенек, всего сто сорок девять табличек. Деятельность сверхударного завхоза глупа, но особенного вреда не приносит. На каждую хорошую мысль неизбежно находится свой дурак, аккуратно доводящий ее до абсурда. Не страшен, конечно, какой-нибудь вокальный квартет, объявляющий всем и вся, что отныне он становится ударным квартетом имени «Непрерывки и Пятидневки». Пусть называется. От пошляков не отобьешься. Но болезненно пугает суперударничество, охватившее некоторых драматургов. То и дело в газетах появляются телеграммы-молнии о громовых успехах драмударников: «Драматург-ударник Константин Ваалов в порядке соцсоревнования написал за последний месяц пять актуальных пьес для клубного театра и вызывает на написание такого же количества пьес драматурга Е. Едокова». «Ударная бригада писателей при доме «Общества по внедрению культурных навыков в слои бывш. единоличников имени М. В. Коленова» в течение последних трех дней выпустила одиннадцать пьес для деревенской сцены. Пьесы трактуют разные актуальные вопросы и называются: «Фанька-забойщица» (Деревенский водевиль с танцами). «С миру по нитке» (Крестьянский лубок). «Шея» (Народная трагедия в семи актах). «Голому — рубашку!» (Хороводное действо). «Овин» (Драма). «Колесо» (Драма в четырех частях). «Пахота» (Драма с прологом и апофеозом). «Железный конь» (Деревенская опера). «Кулак Евтюхин» (Сцены из жизни). «Поп Федор нашел помидор» (Вечер затейников)». И каждый день приносит все новые грозные вести. Уже Е. Едоков откликнулся на зов Константина Ваалова и в восемнадцать ударчасов написал и успел перепечатать на машинке четыре пьесы, трактующие отход инженерства от нейтральности, а также вопросы использования отходов пряжи на текстильном производстве и вопросы колхозного движения в СССР. Чтобы окончательно прижать к земле Ваалова, драматург Едоков заявил, что эта работа нисколько его не утомила, и в этот же день сочинил трехактную оперетту, к коей написал и музыку, хотя до сих пор никогда музыкой не баловался. Уже и ударная бригада при «Обществе по внедрению культурных навыков в слои бывш. единоличников имени М. В. Коленова» превзошла свои темпы и увеличила производительность труда на семьдесят три процента. Уже и в газете появилось радостное сообщение: «Пьеса в пять минут — комедия «Неполадки в пробирной палатке». Речь шла о последних достижениях драматурга Василия Готентодта. Одним словом, халтурщики бьют в тимпаны. Тимпан им попался на этот раз очень удобный — идея ударничества. Под прикрытием этого тимпана изготовляются сотни бешеных халтур. Но если плакаты завхоза вызывают смех, то ударничество «готентодтов» страшит. Ведь пьесы эти ставятся! Ведь где-то идет народная трагедия в семи актах «Шея». Ведь по радио уже передают вечер затейников под названием «Поп Федор нашел помидор». Идет и «Фанька-забойщица», идет и «Овин», и «Пахота». Спасите, кому ведать надлежит! Защищайте социализм! Гоните пошляков!
1930
Секрет производства
Начинается это так. Старый халтуртрегер Многопольский получает письмо, отпечатанное на узкой полоске папиросной бумаги. Многопольского приглашают срочно пожаловать на кинофабрику для ведения переговоров. Подсознательно чуя, что за папиросной бумажкой скрываются другие бумажки, значительно большей плотности и даже снабженные водяными знаками, литератор быстро является в соответствующий кабинет, где его уже поджидает задумчивая коллегия из девяти человек. В кабинете имеется только один стул, на котором сидит начальник сценарной части. Остальные начальники разместились на батареях центрального отопления. В комнате грязно, а на столе почему-то стоит чучело филина об одном глазу. На кинофабриках всегда имеются какие-то странные предметы: то медведь с резным блюдом на вытянутых лапах, то автомат для выбрасывания перронных билетов, а то бюст Мазепы. Коллегия сообщает Многопольскому, что ему пора уже включиться в работу кино и написать сценарий. Многопольский отвечает, что и сам давно хочет включиться и, так сказать, подойти вплотную. Посему, ввиду отсутствия разногласий по творческим вопросам, стороны, улыбаясь, приступают к подписанию типового договора. — Аванс вы сможете получить уже сегодня, — ласково говорит начальник сценарной части, — но сначала вы нам напишите краткое либретто. — Видите, — морщится Многопольский, — либретто у меня еще как-то не сложилось. — Ну, так примерную тему напишите. — Тема тоже как-то еще не сложилась, не отлилась… — Ну, что-нибудь напишите! — То есть как что-нибудь? — Ну, что-нибудь, чтоб, одним словом, была бумажка, оправдательный документ. Многопольский наваливается животом на стол и проворно набрасывает краткую заметку, в которой очень часто встречаются выражения: «в плане» и «в разрезе». Одноглазый филин печально смотрит на халтуртрегера. Он знает, чем все это кончится. В первый месяц совесть не слишком мучит Многопольского. Он не включается и не подходит вплотную к кинодеятельности и в последующие четыре месяца. И только, когда ему приносят на тонкой папиросной бумаге приглашение в двадцать четыре часа сдать сценарий или в тот же срок вернуть полученный аванс, Многопольский чувствует, что спасения нет. Но он крепится. Даже опись имущества не толкает его к исполнению договора. Он надеется на чудо. Но чудо не приходит. Вместо него, стуча сапогами по лестнице, в квартиру литератора подымаются возчики. Они приехали за мебелью. Тут больше нельзя тянуть ни одной секунды. Многопольский запирает дверь на ключ и, покуда возчики стучатся и грозят милицией, пишет со сверхъестественной быстротой:ЕЕ БЕТОНОМЕШАЛКА Сценарий в 8 актах.
1. Из диафрагмы: Трубы и колеса. 2. Крупно: Маховое колесо. 3. Крупно: Из мелькающих спиц колеса выплывает лицо молодой ударницы Авдотьюшки. 4. Надпись: «На фоне все усиливающегося кризиса капитализма цветет и наполняется индустриальным содержанием красавица Дуня».
Пишется легко и быстро, к тому же подбадривают крики и ругательства возчиков на лестничной площадке. В ту минуту, когда силами подоспевшей милиции взламывается дверь, сценарий «Ее бетономешалка» готов. На киноколлегию сценарий производит двойственное впечатление. Им, собственно, сценарий нравится, но они, собственно, ожидали чего-то другого. Чего они ждали, они и сами не знают, но чего-то ждали, чего-то большего. Начальники отделов тоскливо мычат, маются, не находят себе места. Однако тот факт, что перед ними лежит рукопись, бумажка, какой-то оправдательный документ, их удовлетворяет. — Все-таки есть от чего оттолкнуться, — говорит начальник сценарного отдела, стараясь не смотреть на мудрого филина. — Но, безусловно, надо кое-что добавить. — Что ж, можно, — с готовностью отвечает Многопольский. — А что именно? — Ну, что-нибудь такое. Чтоб все-таки было видно, что над сценарием работали, исправляли, переделывали. — Тут, например, — раздается равнодушный голос с подоконника, — недостаточно отражена проблема ликвидации шаманизма в калмыцких степях. — Шаманизма? — бормочет Многопольский, сильно напуганный возчиками. — У меня, между прочим, действие развертывается в ЦЧО, но вопросы шаманизма можно вставить. Я вставлю. Литератора просят также вставить еще вопросы весенней путины и разукрупнения домовых кустов, а также провернуть проблему вовлечения одиноких пожилых рабочих в клубный актив. — Можно и пожилых, — соглашается Многопольский, — можно и одиноких. При виде сценария, изготовленного в плане индустриальной поэмы и в разрезе мобилизации общественного внимания на вопросах борьбы с шаманизмом и жречеством в калмыцких степях, режиссер зеленеет. Немеющей рукой он отталкивает сочинение. — Душечка, — шепчет ему начальник производственного отдела, — так нельзя. За сценарий деньги плачены. Надо ставить. — Но ведь это написано в плане бреда, — лепечет режиссер. Все же в конце концов ставить картину он соглашается. Как-никак оправдательный документ у него есть. Дали ему ставить, он и ставит. Кроме того, прельщает возможность съездить в калмыцкие степи, подобрать интересный экзотический типаж. Через год в маленьком просмотровом зале задумчивая коллегия принимает картину. Когда зажигается свет, озаряя перекошенные ужасом лица, начальник всей фабрики сурово говорит: — Картину надо спасать! В таком виде она, конечно, показана быть не может. — Я думаю, что сюда надо что-нибудь вставить, — говорит молодой человек, которого видят здесь в первый раз и который неизвестно как сюда попал. Коллегия с надеждой смотрит на молодого человека. — Конечно, переработать, — продолжает неизвестный. — Во-первых, нужно выкинуть весь мотив бетономешалки. Дуня должна заняться соевой проблемой. Это теперь модно, и картина определенно выиграет. И потом, почему активист Федосеич не перевоспитал шамана? В чем дело? — Так его сразу и перевоспитаешь! — бурчит режиссер. — А очищающий огонь революции вы забыли? — торжествующе спрашивает молодой человек. После такого неотразимого аргумента спасать картину поручают именно ему. Спасение продолжается долго, очень долго и почему-то влечет за собой экспедицию в Кавказскую Ривьеру. После нового просмотра (картина называется теперь «Лицо пустыни») члены коллегии боятся смотреть друг другу в глаза. Ясно одно — картину надо снова спасать. Несуразность событий, развертывающихся в картине, настолько велика, что ее решают трактовать в плане гротескного обозрения — ревю с введением мультипликации и юмористических надписей в стихах. — Вот кстати, — кричит заведующий какой-то частью, — я как раз получил циркуляр о необходимости культивировать советскую комедию. И все сразу успокаиваются. Бумажка есть, все в порядке, можно и комедию. Два выписанных из Киева юмориста быстро меняют характер индустриально-соевой поэмы. Все происходящее в картине подается в плане сна, который привиделся пьяному несознательному Федосеичу. Наконец, устав бороться с непонятным фильмом, его отправляют в прокат. Его спихивают куда-то в дачные кино, в тайной надежде, что пресса до него не докопается. И долго коллегия сидит в печальном раздумье: «Почему же все-таки вышло так плохо? Уж, кажется, ничего не жалели, все отразили, проблемы все до одной затронули! И все-таки чего-то не хватает. В чем же дело?»
1931
Король-солнце
Каждую весну в кругах, близких к малым формам искусства, начинает обсуждаться вопрос о Молоковиче. — Куда девался Молокович? — Действительно, был человек и вдруг исчез! — Что могло случиться с Молоковичем? Неужели и его успели проработать и загнать в бутылку? А уж такой был бодрый, такой живучий. — Может быть, он умер? — Все возможно. И в кругах, близких к малым формам искусства, качают головами. — А какой был халтурщик! Прямо скажу — не халтурщик, а король-солнце, царь-кустарь! Помните, как он впихнул в птицеводческий журнал «Куриные ведомости» стишок про путину, героический стих о рыбе? И когда редактор стал упираться и кричать, что ему нужно о птицах, Молокович сразу нашелся. «Я, говорит, написал не про обычную рыбу, а про летающую. Так что это по вашему ведомству». В общем, схватил деньги и убежал. — Да. Невероятный был человек! И нельзя понять: говорятся эти слова с порицанием или с тайным восхищением. Подходит лето. О Молоковиче начинают забывать. А осенью всем уже кажется, что никогда такого человека и не было, что все это журналистские басни, веселая сказка о чудо-богатыре. И вдруг к 7-му ноября Молокович неожиданно возникает из небытия. И не просто возникает. Блеск, сопровождающий его появление, так ослепителен, что в кругах, близких к малым формам, только ахают. Имя Валерьяна Молоковича появляется сразу в шестидесяти изданиях. Тут и еженедельники, и полудекадники, и двухнедельники, и ведомственные газеты, выходящие через день, и праздничные альманахи, и сборники молодежных песен, и бюллетени, и руководства для затейников. И во всех этих органах Валерьян Молокович уверенным голосом поет хвалу Октябрю и неустрашимо заявляет себя сторонником мировой революции. — Да, этот умрет, — шепчут работники малых форм. — Дождешься. Смотрите, что он написал в альманахе «Гусляр-коллективизатор». Смотрите:Призадумались ужи,
Нет у них родной межи,
Сдул Октябрь межей преграду.
Плохо нонче стало гаду.
Мы, трубочисты, поздравляем
Вас с новым годом, господа,
И с новым счастием желаем
Отдохновенья вам всегда.
Я, Молокович, поздравляю
Вас с новым годом Октября,
Отдохновенья вам желаю
На дивном поприще труда, —
1931
Так принято
С необыкновенным упорством цепляется цирк за свои стародавние традиции. В этом смысле он может сравниться разве только с английским парламентом. Как уже сотни лет заведено, парламентский спикер носит длинный парик и сидит на мешке с шерстью. Так принято! И до сих пор шпрехшталмейстер выходит на арену в визитке и произносит свои реплики неестественным насморочным голосом. Так полагается! Приезжая в парламент, король троекратно стучит в дверь и просит позволения войти, а члены палаты общин делают вид, что очень заняты и не имеют времени для разговора с королем. Так тоже принято! Клоун в цирке, закончив свой номер, устраивает эффектный уход с арены — ползет на четвереньках, оглушительно стреляя из наиболее возвышенной в эту минуту части тела. Так тоже полагается! Вообще задавать цирковым деятелям вопросы, почему делается так, а не иначе, — бессмысленно. Делается потому, что полагается. А почему полагается? Очень просто! Так принято. А вот почему принято — этого уже никто не знает. И течет традиционная цирковая жизнь. С сумерками зажигаются у входа электрические лампы, освещая огромный плакат. Здесь нарисован бледный красавец с черными усиками, который держит в вывернутой руке бич. Чудные лошади с русалочьими гривами пляшут перед ним на задних ногах. Это называется «Табло 30 лошадей». Когда лошадиное табло под звуки туша предстает перед зрителем, все знающие счет могут засвидетельствовать, что лошадей всего лишь восемь. Однако тут нет никакого жульничества. Просто так принято. На афише пишется тридцать, а на арену выводится восемь. И если бы появились внезапно все тридцать лошадей, то это было бы прямым нарушением традиций. По этой же цирковой арифметике сорок пожилых львов называются: «100 львов 100», а пятнадцать крокодилят именуются: «60 нильских крокодилов, кайманов и аллигаторов». Когда же на афише возвещается: «48 дрессированных попугаев. Чудо психотехники!» — то всем вперед известно, что будет только один дрессированный попугай, который умеет говорить два слова: «люблю» и «фининспектор». Остальные четыре попугая будут сидеть на металлической этажерочке с блестящими шариками, изредка переворачиваясь вниз головой для собственного удовольствия. В антракте шпрехшталмейстер напыщенно сообщает публике, что желающие могут сходить в конюшню посмотреть зверей. За вход двадцать копеек. Дети бесплатно. Почему надо платить еще по двадцати копеек, когда за билеты уже заплачено сполна, — неизвестно. Дирекция и сама этого не знает. Ей двугривенные, собственно, не так уж и нужны. Но традиция! Приходится брать. С детей, например, не берут. В традициях цирка — дружить с детьми. В цирке есть некий военно-морской чин. Это капитан. Далеко не каждый может назваться капитаном. Акробаты, жонглеры, клоуны, наездники или роликобежцы никогда не бывают капитанами. О, капитан — это тонкая штучка! Капитан — это укротитель львов, или тигров, или крокодилов. Но это еще не главный капитан. Главный капитан совершает полет смерти. Уже в начале представления зрители замечают какие-то новые, невиданные до сих пор приспособления: подвешенные к куполу рельсовые пути, решетчатые башенки и загадочный предмет, завернутый в брезент, который обычно висит над оркестром. В антрактах капитан в розовом купальном халате ходит по балкону, собственноручно проверяя крепость тросов и других снастей. Капитан никому не доверяет. Капитан надеется только на самого себя. К его номеру готовятся целый час. Стучат молотки, слышится иногда треск мотора, наконец появляется жена капитана, его братья и другие родственники. Моторы гудят еще сильнее, дается полный свет, и капитан мужественно выходит на арену. На нем кожаный костюм, авиационный шлем и страшные мотоциклетные очки. Тут начинается прощанье. Так полагается. Капитан целует жену. Жена сдерживает рыданья и жестами (по-русски говорить она не умеет) показывает, что она против этого смертельного номера. Она предчувствует, что сегодня произойдет несчастье. Капитан трясет руки братьям и родственникам. Братья качают головами. О, если бы они умели говорить по-русски! Они громко крикнули бы, что капитана нужно удержать от его безумного намерения. Даже шпрехшталмейстер подносит к глазам платок. Каждый вечер он наблюдает полет смерти и все же не может удержаться от слез. Но капитан неумолим. Он делает публике прощальный жест рукой, отталкивает жену и садится в свой снаряд. В общем, совместными усилиями дирекции и родственников капитана на публику нагоняют такой ужас, что многие бегут из цирка, чтобы не быть очевидцами гибели славнейшего из капитанов. Самый номер занимает шесть секунд и в сравнении с подготовительными душераздирающими сценами кажется не таким уже страшным. Полет, конечно, трудный и опасный, но можно было бы обойтись и без пугания зрителя. Однако это не в традициях цирка. Разговорный жанр оказался наиболее слабым местом в цирковых твердынях. Под напором худполитсоветов, печати и месткома традиция дала трещину. В репертуар просочилась современность. Музыкальные сатирики приобщились к эпохе. Но здесь произошло нечто весьма недоброе. Одна плохая традиция сменилась другой плохой традицией. Цирку почему-то достались объедки со стола сатиры и юмора, и без того не блещущего обилием блюд. И когда в программе появляется извещение о том, что выступят «авторы-юмористы и певцы-сатирики в современном репертуаре», то сомневаться не приходится — рефрен будет старый, так сказать, «доходящий» до публики, а куплеты некоторым образом идеологически выдержанные. Все это делается по заведенному порядку. Сначала на колесиках выезжает пианино, а за ним в блестках и муке выходят певцы-сатирики и начинают громить различные неполадки.Первый сатирик:
Вчера зашел я в Лигу наций,
Там звали всех разоружаться…
Второй сатирик:
А ты не видел? У Бриана
Торчали пушки из кармана!
Публика печально слушает. Тогда сатирики выкладывают второй куплет, непосредственно относящийся к внутреннему положению.
Первый сатирик:
Вчера зашел я к нам в сберкассу
И видел там народа массу…
Второй сатирик:
А ты бы к Мейерхольду побежал,
Там публики ты б не застал.
В цирке очень любят обличать Мейерхольда. Там всегда про него поют обидные вещи. Отдав долю современности и послужив кое-как отечеству, сатирики громко и радостно запевают, аккомпанируя себе на бычьих пузырях:
Первый сатирик:
Были ноги, как полено,
Стали юбки до колена…
Второй сатирик:
Теперь другой фасон взяли —
Носят юбки до земли.
Из-за этого куплета у певцов-сатириков были большие стычки с общественностью. Общественность требовала уничтожения этих строк ввиду отсутствия в них идейной направленности. Но сатирики стали на колени и со слезами заявили, что без куплетов о коварности наших дам они не берутся рассмешить зрителя и ни за что не выйдут на арену. Такие уж они люди — сатирики. Пришлось разрешить в порядке эксперимента. Среди закулисных историй пользуется успехом такой анекдот. Знаменитому оперному артисту сказали: — Послушайте, N., ведь вы форменный идиот. — А голос? — ответил оперный артист. И все развели руками. Возражать было нечего. Голос действительно был прекрасный. Теперь, когда цирковым руководителям говорят: — Послушайте, почему вы так вяло перестраиваетесь? Ведь это же форменный скандал! — А доходы? — отвечают они. И наиболее слабохарактерные люди разводят руками. Доходы действительно большие.
1931
«Несчестьалмазоввкаменных»
В театрах готовятся премьеры. В полутемных залах за столиками сидят режиссеры. Артисты вполголоса бормочут свои роли. В фойе шьются костюмы и новый занавес. Месяц стоит декабрь. Идет сотая репетиция. А премьеры все нет, и афиши по-прежнему приглашают организованного и неорганизованного зрителя на «Садко», «Воскресение», «Сенсацию» и «Джонни наигрывает». И покуда актеры по системе Станиславского, Мейерхольда, Таирова и другим системам, хорошим и подозрительным, вживаются в текст, покуда режиссеры чиркают карандашами под зелеными абажурами, а драматург добавляет новую сцену, где сознательный племянник перевоспитывает дядю, колеблющегося мракобеса из люмпен-ннтеллигенции, покуда все это происходит, по улицам мчатся в такси теаадминистраторы и устроители сборных концертов. У них нет никакой системы. И не за системой они гонятся, а за помещением. И даже к помещению они не предъявляют особенных требований. Оно должно быть большое и по возможности с колоннами. — Публика любит, чтобы было с колоннами, — говорят они. — А мы публику знаем, будьте покойны. Закончив хлопотливые и сложные дела с помещением, электричеством, билетами и буфетом, устроители приступают к составлению программы. Программа одна и та же вот уже десять лет, и составить ее совсем не трудно. Знать необходимо только одно — какого актера нужно поставить в афише с именем-отчеством, какого с одними только серенькими инициалами, а какого назвать просто по фамилии без инициалов, без имени и без отчества. Просто — у рояля Левиафьян. Это нужно знать твердо, как таблицу умножения. Иначе неприятностей не оберешься. Поставишь неполный титул оперного певца, и все пропало. Он обидится и вместо «Несчестьалмазоввкаменных» будет петь романсы Шумана. А этого публика ужас как не любит. — Она любит «Не счесть алмазов в каменных», — говорят администраторы, задыхаясь. — Мы публику знаем. И действительно, на всех сборных концертах поют песню индийского гостя. Даже если это вечер норвежской музыки. Даже если это спектакль, посвященный памяти Достоевского. Все равно. Администратор хватает толстенького тенора за атласную ревьеру и шепчет: — Знаете, идеология и психология это, конечно, хорошо, но уж вы, пожалуйста, спойте им «вкаменных». К арии добавляется художественное чтение актера с именем-отчеством, песни народностей в исполнении тоже имени-отчества, опереточный дуэт (инициалы), а для затравки — квартет имени такого-то. Иногда добавляется арфа, иногда — художественный свист. Получается очень мило, а если помещение удалось выцыганить с колоннами, то к несомненному художественному успеху прибавляется также успех материальный. Однако помпезность сборных гала-концертов, несомненно, падает. Нет в них прежней блистательности и красоты. Фантазия иссякла. Была, правда, идея устроить грандиозный спектакль на стадионе «Динамо», с полетами смерти, чудесами пиротехники, столкновением поездов и с одновременным исполнением сразу двадцатью тенорами во фраках знаменитой арии «Несчестьалмазоввкаменных». Чудесная была идея, но увяла где-то в коридорах ГОМЭЦ. Мельчает жизнь, мельчает сборное дело! А ведь еще так недавно в 1 Госцирке был вечер шахматной мысли, так называемые живые шахматы. Было так. В двух ложах друг против друга сидели два шахматных маэстро в залатанных пиджачках. На арене в своих квадратиках стояли живые шахматы (сплошь имена-отчества, цвет человечества). Королями, королевами и ладьями были народные артисты. В конях и слонах состояли заслуженные. И даже пешки — и те были знаменитые балерины и месереры. По гениальной мысли устроителя вечера, съеденная фигура должна была исполнять свой номер. Шахматные маэстро приняли все дело всерьез и затеяли затяжную сицилианскую партию. К удивлению администратора, оказалось, что в шахматах фигуры выбывают из строя крайне медленно. Номера исполнялись с большими промежутками, и публика начала стучать ногами. Поэтому уже через десять минут после начала партии в ложу маэстро ворвался администратор, крича: — Идите с2. — Что вы, — сказал маэстро, подымая затуманенную голову. — Гроссмейстер Акиба Рубинштейн в таких случаях советует с5. — А я вам говорю, ставьте эту штуку на с2, — завизжал устроитель. — Сейчас Дмитрий Николаевич должен петь «вкаменных». — Но я тогда открываю пешечный фланг. — Ну и открывайте. Подумаешь, Капабланка! Сбор шестнадцать тысяч, а вы… И он побежал к другому маэстро, чтобы убедить его подставить как можно скорее под удар своего короля (художественное чтение). Замечательный был вечер. Шахматная мысль так и кипела. Маэстро махнули на все рукой, и вместо них доигрывали сицилианскую партию пом. администратора с кассиром, летал фейерверк, народная артистка выезжала на ученом ослике, месереры лихо отплясывали — вообще хорошо было, теперь такого уж нет. Иссякла фантазия. А ведь есть великие возможности. Можно в цирке поставить «Аиду». Партия Рамзеса исполняется в клетке со львами. Партию Аиды поет ученая зебра. В оперу можно вмонтировать лекцию проф. Канабиха «Проблема единственного ребенка», беседу писателя Б. Пильняка с читателями о том, как он жил в нью-йоркской гостинице, сцены из «Красного мака» и пьесы «Ярость» и, конечно, арию индийского гостя в исполнении математика Араго. И если все это залить, как полагается в цирке, тремя миллионами литров воды так, чтобы профессор плавал в купальном костюме, то все было бы очень хорошо. Администраторы говорят, что публика это очень любит.1931
В золотом переплете
Когда по радио передавали «Прекрасную Елену», бархатный голос руководителя музыкальных трансляций сообщил: — Внимание, товарищи, передаем список действующих лиц:1. Елена — женщина, под прекрасной внешностью которой скрывается полная душевная опустошенность. 2. Менелай — под внешностью царя искусно скрывающий дряблые инстинкты мелкого собственника и крупного феодала. 3. Парис — под личиной красавца скрывающий свою шкурную сущность. 4. Агамемнон — под внешностью героя скрывающий свою трусость. 5. Три богини — глупый миф. 6. Аяксы — два брата-ренегата.
Удивительный это был список действующих лиц. Все что-то скрывали под своей внешностью. Радиослушатели насторожились. А руководитель музыкальных трансляций продолжал: — Музыка оперетты написана Оффенбахом, который под никому не нужной внешней мелодичностью пытается скрыть полную душевную опустошенность и хищные инстинкты крупного собственника и мелкого феодала. Распаленные радиослушатели уже готовы были броситься с дрекольем на всех этих лицемеров, чуть было не просочившихся в советское радиовещание, а заодно выразить свою благодарность руководителю музыкальных трансляций, столь своевременно разоблачившему менелаев, парисов и аяксов, когда тот же бархатный голос возвестил: — Итак, слушайте оперетту «Прекрасная Елена». Через две-три минуты зал будет включен без предупреждения. И действительно, через две-три минуты зал был включен без всякого предупреждения. И послышалась музыка, судя по вступительному слову диктора: а) никому не нужная, б) душевно опустошенная, в) что-то скрывающая. Удивлению простодушного радиолюбителя не было конца. Вообще трудно приходится потребителю художественных ценностей. Когда от радио он переходит к книге, то и здесь ждут его неприятности. Налюбовавшись досыта цветной суперобложкой, золотым переплетом и надписью «Памятники театрального и общественного быта — мемуары пехотного капитана и актера-любителя А. М. Сноп-Ненемецкого», читатель открывает книгу и сразу же сталкивается с большим предисловием. Здесь он узнает, что А. М. Сноп-Ненемецкий; а) никогда не отличался глубиной таланта; б) постоянно скользил по поверхности; в) мемуары написал неряшливые, глупые и весьма подозрительные по вранью; г) мемуары написал не он, Сноп-Ненемецкий, абездарный журналист, мракобес и жулик Танталлов; д) что самое существование Сноп-Ненемецкого вызывает сомнение (может, такого Снопа никогда и не существовало) и е) что книга тем не менее представляет крупный интерес, так как ярко и выпукло рисует нравы дореволюционного актерского мещанства, колеблющегося между крупным феодализмом и мелким собственничеством. Вслед за этим идет изящная гравюра на пальмовом дереве, изображающая двух целующихся кентавров, а за кентаврами следует восемьсот страниц текста, подозрительных по вранью, но тем не менее что-то ярко рисующих. Читатель растерянно отодвигает книгу и бормочет: — Говорили, говорили и — на тебе — опять включили зал без предупреждения! Постепенно образовалась особая каста сочинителей предисловий, покуда еще не оформленная в профессиональный союз, но выработавшая два стандартных ордера. По первому ордеру произведение хулится по возможности с пеной на губах, а в постскриптуме книжка рекомендуется вниманию советского читателя. По второму ордеру автора театральных или каких-либо иных мемуаров грубо гримируют марксистом и, подведя таким образом идеологическую базу под какую-нибудь елизаветинскую старушку, тоже рекомендуют ее труды вниманию читателя. К этой же странной касте примыкают бойкие руководители трансляций и конферансье, разоблачающие перед сеансом таинственные фокусы престидижитаторов, жрецов и факиров. И потребитель художественного товара с подозрением косится на книгу. Сноп-Ненемецкий разоблачен и уже не может вызвать интереса, а в елизаветинскую старушку, бодро поспешающую под знамя марксизма, поверить трудно. И потребитель со вздохом ставит книжку на полку. Пусть стоит. Все-таки, как-никак, золотой переплет.
1932
Человек в бутсах
Человек, пробиравшийся по учрежденскому коридору, не был похож на обыкновенного посетителя. И взгляд у него был не робкий, и одежда была какая-то не совсем обыкновенная — пальто с желтым кожаным воротником, каракулевая кепка и голубоватые футбольные бутсы, однако без шипов. Высокомерно расталкивая секретарей, он без доклада вошел в кабинет главы учреждения. Вошел как раз в ту минуту, когда там происходило летучее совещание. Все недовольно повернули головы, а глава учреждения даже издал некий гневный звук — не то «пошел вон», не то «прошу садиться». — Может быть, я помешал? — спросил человек в бутсах. — У нас летучка, — грубо заметил глава. — Тогда я могу уйти. — Хорошо. Идите. Человек поправил на голове каракулевую кепку и, грозно улыбаясь, молвил: — Я ухожу. Но, уж будьте любезны, всю ответственность берите на себя. Возлагаю ее на вас. Это было сказано так торжественно, словно незнакомец собирался возложить на главу учреждения жестяной могильный венок с муаровыми лентами. Глава испугался. Он терпеть не мог ответственности, а потому торопливо сказал: — В чем же дело? Садитесь, товарищ. Человек выбрал стул получше и начал: — Как, по-вашему? Нужно проводить технику в массы? — Нужно. — Может быть, не нужно? Вы скажите откровенно. Тогда я уйду. — Почему же не нужно! Я ведь с вами согласился сразу. — Нет, — сказал незнакомец. — Я вижу, что вы против технической пропаганды. На словах вы все за, а на деле… Положительно придется возложить ответственность на вас. Он подумал и прибавил: — А также на летучее совещание. Я ухожу. И тут всем сидевшим в кабинете явственно представился страшный могильный венок. Так было хорошо, все тихо сидели, обменивались мнениями, пили чай, никому не причиняли зла — и вдруг пришел ужасный незнакомец. — Честное слово, — сказал глава, — мы всей душой… — Всем сердцем, — беспокойно подтвердили члены летучего совещания. Однако незнакомец с кожаными отворотами долго еще капризничал и ломался. — Нужно организовать театр технической пропаганды, — сказал он наконец. — Понимаете? Никто ничего не понял, но пришелец быстро все растолковал. Это будет театр, построенный на совершенно новых началах. Пьеса уже есть. То есть не совсем еще есть, но скоро будет. Замечательная пьеса о моторах. Пишет ее он сам, человек в бутсах. Актеров не будет. Декораций тоже не будет. Вообще ничего не будет, и поэтому беспокоиться совершенно не о чем. Нужно только помещение и немного денег, тридцать тысяч. Всю ответственность он, человек в каракулевой кепке, берет на себя. (Вздох облегчения.) — Одно меня только смущает, — сказал глава, — где взять помещение и тридцать тысяч? — Нет, вижу, мне придется уйти, — сухо молвил незнакомец. — У меня не может быть ничего общего с людьми, которые смазывают важнейший вопрос о технической пропаганде. А ответственность возлага… Все бросились за незнакомцем, лепеча различные жалкие слова. Сразу нашлось и помещение, и тридцать тысяч, и еще какие-то четыре тысячи для выдачи аванса артели гардеробщиков при будущем театре. В панике забыли даже узнать фамилию незнакомца. Долгое время считали, что его фамилия Лютиков, но потом оказалось, что вовсе не Лютиков, а Коперник, только не тот, а совершенно неизвестно кто. Лютиков-Коперник в течение трех месяцев приходил к главе, садился на его стол и, покачивая ножками, обутыми уже не в бутсы, а в штиблеты на каучуковом ходу, требовал денег. — Скоро премьеру покажем, — говорил он. — Будет замечательно. Декораций нет, актеров нет, ничего нет. Спектакль идет без суфлера. — Как же это без суфлера? — страдальчески вопрошал глава. — Нет, Яков, недооцениваешь ты технической пропаганды, — отвечал Коперник. — Что-то ты смазываешь. — А пьеса как называется? — Без названия. В этом весь трюк. Названия не будет, реквизита не будет, ни черта не будет. Замечательно будет. Первый такой театр в мире. Гордись, Яков. Тебя театральная общественность на руках носить будет. Тебя сам Литовский заметит. — А ответственность? — Беру на себя. Постановка немножко затянулась против поставленных сроков, но все же через семь месяцев от начала великой борьбы за новое начинание в области техпропагаыды Лютиков-Коперник объявил премьеру. Пригласительные билеты он принес лично. На этот раз он был в розовом пальто с кенгуровым воротником и почему-то держал в руке чемоданчик. Премьера началась ровно в восемь часов вечера. Занавеса не было. Реквизита не было. Декораций не было. Актеров не было. На пустой, грязноватой сцене стояло деревянное веретено. — Скоро начнем, — объявил Лютиков. — Вы тут посидите, товарищи, а я сейчас приду. Поглядев минут десять на веретено, глава учреждения зажмурился и вспомнил, что этот прибор он видел недавно в опере «Фауст», музыка Гуно. Тогда за этим веретеном сидела Гретхен, а где-то неподалеку трепался Фауст. Теперь к веретену никто не подходил. Внезапно на сцену вышла старушка в очках и сказала: — Итак, ребята, это веретено употреблялось в феодальную эпоху и является прообразом современного ткацкого станка. Сейчас, ребята, мы пойдем в фойе и посмотрим чертежи этого прообраза нынешней техники. Кашляя и сморкаясь, все учреждение повалило в коридор и уставилось на чертеж ручной швейной машинки. Но старушка, вместо того чтобы продолжать объяснения, подошла к главе и, заливаясь слезами, объявила, что ей еще ни разу не платили жалованья и замучили репетициями. — А как же Лютиков? — оторопело спросил глава. — Где он? Организатора неслыханного театра бросились искать. Глава учреждения вдруг вспомнил, что последние дни Лютиков не расставался с чемоданом. От страха глава даже покачнулся. — Может, поискать его среди декораций? — спросил секретарь. — Найдешь его теперь! Ведь декораций нет. А Лютиков-Коперник уже стоял в здравотдельском кабинете и говорил: — Медицину в массы. Путем театрального воздействия. Понимаете? Актеров нет, суфлера нет, гардероба нет. Театр инфекции и фармакологии. Можно сокращенно назвать «Тиф». Нужно только помещение и немного денег. Что? Тогда я уйду. Но уж ответственность… Заведующий ошалело слушал и таращил добрые глаза.1932
Пятая проблема
Есть неумирающие темы, вечные, всегда волнующие человечество. Например, наем дачи или обмен получулана без удобств в Черкизове на отдельную квартиру из трех комнат с газом в кольце «А» (телефон обязательно), или, скажем, проблема взаимоотношений главы семейства со свояченицей, или покупка головки для примуса. И никак нельзя разрешить все эти важные проблемы. Дачник всем сердцем стремится на Клязьму, поближе к электропоезду, а дачный трест грубо посылает его на реку Пахру, в бревенчатую избушку, добраться до которой труднее, чем до Харькова. Горемычный хозяин получулана никак не может сговориться с обитателем отдельной квартиры в кольце «А», хотя переговоры с необыкновенным упрямством ведутся через «Вечернюю Москву». Что касается свояченицы, то половые разногласия здесь настолько велики, что их не удается разрешить даже отдельным представителям ВАПП. А головка для примуса — это вообще глупая фантазия домашней хозяйки, которой кооперация дает вежливый, но чрезвычайно холодный отпор. Несколько лет назад к даче, получулану, свояченице и примусным частям прибавилась новая неразрешимая проблема — кинохроника. Это была странная проблема. Вокруг нее было много шума. Но никогда она не вызывала споров. Напротив, трудно найти проблему, по поводу которой существовало бы столь редкое единодушие. Все были за кинохронику. «Давно пора», — писала пресса. — О, — говорили председатели киноправлений, — кинохроника! — Жизнь отдам за кинохронику, — обещал директор фабрики. Консультанты тоже были за и даже без оговорок, что с их стороны нельзя не признать большой жертвой. Об операторах и говорить нечего. Они рвались в бой. Зрители же вели себя выше всяких похвал. Они требовали хронику. Они стучали ногами, свистели, писали письма в редакции газет, посылали делегации. Одно время казалось, что в результате всех этих усилий стране грозит опасность наводнения хроникой. Боялись даже, что кинохроника вытеснит все остальные жанры киноискусства. Однако обнаружилось, что эти жанры благополучно существуют. Афиши бесперебойно объявляли о новых художественно-показательных боевиках с минаретами, медвежьими свадьбами, боярышнями и хромыми барами. А хроники не было. А годы шли. Стали искать врага хроники. Раздавались голоса, что не худо бы дать кой-кому по рукам. Впопыхах дали по рукам какому-то кинодеятелю в расписной заграничной жилетке, случайно проходившему по коридору Союзкино. Но тут же выяснилось, что это страшная ошибка, что человек в жилетке всей душой за хронику, в доказательство чего он представил пятнадцать собственных статей и еще большее количество протоколов на папиросной бумаге. Тогда набросились на администрацию кинотеатров. Ее обвинили в том, что из вредного коммерческого расчета она тормозит дело показа кинохроники. Но администраторы в тот же день доказали, что именно они и являлись главными борцами за кинохронику и даже застрельщиками всего этого дела. — Ничего не понимаю, — сказал новый председатель правления. — И мой предшественник, и я, мы оба всегда были горячими защитниками хроники. А ее нет. — Ведь я жизнь обещал отдать за кинохронику, — удивлялся директор фабрики, — и вот на тебе! Правда, это был не тот директор, а пятый по счету, но он уже в день приема дел обещал отдать жизнь. — По линии хроники, — печально говорили консультанты, — у нас большое отставание. Но мы не виноваты. Мы всегда были за. И они привезли на трех извозчиках такую кучу оправдательных документов, что правление ахнуло и с перепугу перевело этих консультантов в высший разряд тарифной сетки. Даже те отдельные работники кинематографии, которых судебные органы на некоторое время изолировали от общества за различные плутни, — и те из своих жилищ, снабженных на всякий случай решетками, слали письма: «Что было, то было. Но чего не было, того не было. Мы всегда были горой за хронику». Все стало как-то так непонятно и удивительно, что о хронике на время даже перестали говорить. Иногда вдруг на экране проскакивали кусочки хроники. А потом и это прекратилось. И так как все были за, то оказалось, что бороться не с кем и можно перейти к очередным делам. Остались только горячие доклады и протоколы на папиросной бумаге. Сейчас в кинопрессе снова раздался трезвый голос: — Товарищи, где же все-таки кинохроника? И мы уже знаем, что будет. Начнется суета, пойдут клятвы, обнаружится полное единодушие, и все это закончится тем, что хроники никто не увидит. А работу надо поставить так: бросить разговоры о хронике и начать ее делать. Это, конечно, странно, непривычно и, может быть, на первый взгляд даже диковато. Но другого средства нет. Если же продолжать систему болтовни вхолостую, то хроника по-прежнему останется в ряду «вечных проблем», вроде найма дачи или обмена плохой квартиры на хорошую, с уплатой какой-то подозрительной задолженности и с согласием идти на какие угодно варианты.1932
Когда уходят капитаны
Заказчик хочет быть красивым. От портного он требует, чтобы брюки ниспадали широкими мягкими трубами. От парикмахера он добивается такой распланировки волос, чтобы лысина как бы вовсе не существовала в природе. От писателя он ждет жизненной правды в разрезе здорового оптимизма. Таков заказчик. Ему очень хочется быть красивым. Он мучится. — Кто отобразит сахароварение в художественной литературе? — задумчиво говорит сахарный командующий. — О цементе есть роман, о чугуне пишут без конца, даже о судаках есть какая-то пьеса в разрезе здорового оптимизма, а о сахароварении, кроме специальных брошюр, — ни слова. Пора, пора включить писателей в сахароваренческие проблемы. Секретарю поручают подработать вопрос и в двадцать четыре часа (иногда в сорок восемь) мобилизовать писательскую общественность. — Я полагаю, — сообщает секретарь, — что нам надо идти по линии товарищеского ужина. Форма обычная. Дорогой товарищ… то да се… ваше присутствие необходимо. Решают пойти именно по этой линии, тем более что сахар свой, а остальные элементы ужина можно добыть при помощи натурального обмена с другими учреждениями. Список приглашенных составляется тут же. — Значит, так: Алексей Толстой, Гладков, Сейфуллина, потом на Л… ну, который «Сотьсаранчуки»… да, Леонов. Еще Олеша, он это здорово умеет. Парочку из пролетарских поглавнее, Фадеева и Афиногенова на предмет пьесы. Для смеха можно Зощенко, пусть сочинит чего-нибудь вроде «Аристократки», но в разрезе сахарной свеклы. Хорошо бы еще критика вовлечь. Они пусть пишут, а он их пусть тут на месте критикует. — И подводит базу. — Да, и, конечно, базу. Пишите какого-нибудь критика. Явка обязательна. И вот плетется курьерша с брезентовой разносной книгой. И солнце светит ей в стриженый затылок. И весна на дворе. И все хорошо. Еще немножко — и загадочный процесс сахароварения будет наконец отображен в художественной литературе. Но на земле нет счастья. Вечером выясняется, что произошел тяжелый, непонятный прорыв. Стоит длинный стол, на столе — тарелочки, вокзальные графинчики, бутерброды, незаконно добытые при помощи натурального обмена, семейные котлеты и пирожные. Все есть. А писателей нет. Не пришли. Подло обманули. Дезертировали с фронта сахароварения. Секретарь корчится под уничтожающими взглядами начальства. Мерцают бутерброды с засохшим сыром. Ах, как плохо! — Кто ж так делает? — неожиданно говорит заведующий хозяйством. — Кто ж так мобилизует творческий актив? Вы сколько человек пригласили? Тридцать? И никто не пришел? Значит, нужно пригласить триста. И придет человек десять. Как раз то, что нам нужно. А бутерброды можно спрыснуть кипятком. Будут как живые. — Позвольте, откуда же взять триста? Разве есть так много… художников слова? — Ого! Вы не знаете, что делается! Один горком писателей может выставить три тысячи сабель! А Всеросскомдрам? А малые формы? Это же Золотая орда! Нашествие Батыя! А Дом самодеятельности имени Крупской? Это же неиссякаемый источник творческой энергии! Они вам все чисто отобразят. Идите прямо в Дом Герцена и кройте приглашения по алфавиту. А о бутербродах не беспокоитесь. Подадим как новенькие. Так и делают. Искусство требует жертв. На этот раз в уютном конференц-зале сахарного заведения становится довольно людно. Правда, Алексей Толстой, Фадеев и многие другие опять подло обманули, но все-таки кое-кто пришел. Имен что-то не видно, но все-таки имеется здоровяк в капитанской форме с золотыми шевронами. Да и другие как-то вызывают доверие. Они еще не очень знаменитые, но среди них есть один в пенсне, — как видно, писатель чеховского толка. В общем, можно начинать прения. — Вот вы тут сидите и ни черта не делаете, — сразу начинает здоровяк в капитанской форме, — а между тем происходят события огромной важности. Мейерхольд сползает в мелкобуржуазное болото! Если я человек живой, так сказать, сделанный из мяса, я этого так не оставлю. Он говорит долго и убедительно. Главным образом о Мейерхольде. Ему аплодируют. — А сахароварение? — робко спрашивает секретарь. — Какое к черту сахароварение, — сердится писатель, — когда, с моей точки зрения, сейчас главное — это маринизацня литературы! И он уходит, злой, коренастый и симпатичный. Как-то незаметно ускользают и другие. Остаются только трое, в том числе писатель в пенсне, чеховского толка. Их мало, но зато это не люди, а клад. Они со всем соглашаются. Да. Их интересует сахароварение. Да. Они уже давно мечтали включиться. Мало того. Они желают сейчас же, немедленно приступить к разрешению практических вопросов. Например: а) куда ехать (хорошо бы поюжнее); б) сколько за это дадут (вы понимаете, специфика вопроса); в) можно ли получить натурой (сахаром, патокой и малясом). Это чудные, отзывчивые люди. Уж эти отобразят. Непонятно только, зачем им сахар. Впрочем, — может быть, они хотят получше изучить самую, так сказать, продукцию. Это интересно. Пусть изучают. Писатель чеховского толка требует еще сапоги, теплые кальсоны и пятьсот штук папирос «Норд». Это уже труднее, но завхоз обещает устроить. Они очаровательные люди — Ж. Н. Подпругин, Ал. Благословенный и Самуил Децембер (Новембер). Тихо смеясь, они покидают банкетный зал. И в то время как добрые сахаровары обмениваются впечатлениями, хвалят литературу и толкуют об идеалах, Подпругин, Благословенный и Децембер (Новембер) катят в трамвае. Держась за ремни и раскачиваясь, они кричат друг другу: — Знатная малина! — Мировая кормушка! — Ну! Кормушка не кормушка, а лежбище глупых тюленей. Только и знай, что ходи и глуши их гарпуном! — Ах, какого маху дал! Можно было сорвать еще бобриковое пальто «реглан ВЦСПС». Ах, забыл! Ах, дурак! Они бы дали! — Глубинный лов я уже отобразил. Отображу и сахарный песок. А роман можно назвать «Герои рафинада». И все трое смеются журчащим русалочьим смехом. Они все понимают. Это промышленники, зверобои, гарпунщики. Пусть другие кипятятся, говорят о мировоззрении, о методе, о метафоре, даже о знаках препинания. Гарпунщику все равно. Он сидит на очередном товарищеском ужине в очередном учреждении и, достойно улыбаясь, помешивает ложечкой чай. Пусть литературные капитаны говорят высокие слова. Это размагниченные интеллигенты. Гарпунщик знает их хорошо. Они поговорят и уйдут. А он останется. И, оставшись, сразу приступит к практическому разрешению вопроса. Уж на этот раз он возьмет «реглан типа ВЦСПС» и еще кое-что возьмет. Не дадут маху ни Децембер (Новембер), ни Ж. Н. Подпругин, ни Ал. Благословенный. Осенью они разносят по учреждениям свой литературный товар. Больше всего тут очерков («Герои водопровода», «В боях за булку», «Стальное корыто», «Социалистическая кварта»). Однако попадаются и крупные полотна: «Любовь в штреке» (роман, отображающий что-то антрацитное, а может быть, и не антрацитное), «Соя спасла» (драматическое действо в пяти актах. Собственность Института сои), «Веселый колумбарий» (малая форма. По заказу кладбищенского подотдела). Чудную, тихую жизнь ведут гарпунщики. Печатают они свой товар в таких недосягаемых для общественности местах, в таких потаенных бюллетенях, журналах и балансовых отчетах, что никому никогда не докопаться до «Веселого колумбария» или «Стального корыта». Но есть у гарпунщика слабое место. Сквозь продранный носок видна его Ахиллесова пята. Ежегодно возникает страшный слух, что из горкома писателей будут вычищать всех, кто не напечатался отдельной книгой. Тогда не будут приглашать на товарищеские ужины, тогда будет плохо. Тут гарпунщик собирает свои разнокалиберные опусы, склеивает их воедино и, дав общее незатейливое название, везет рукопись на извозчике в ГИХЛ. Вокруг рукописи начинается возня. Ее читают, перетаскивают из комнаты в комнату, над ней кряхтят. — Ну что? — Ах, — говорит утомленный редактор, — Исбах далеко не Бальзак, но этот Подпругин такой уже не Бальзак! — Что ж, забракуем? — Наоборот. Напечатаем. Отображены актуальнейщие темы. Язык суконноватый, рабочие схематичны, но настроение бодрое, книга зовет. Потом вот в конце ясно написано: «Это есть наш последний». — «И решительный» написано? — «И решительный». — Тогда надо печатать. Книжка, конечно, — заунывный бред, но зато не доставит нам никакого беспокойства. Никто не придерется. Это — роковая ошибка. Как только книга гарпунщика появляется в свет и ведомственная литература предстает глазам всех, подымается ужасный крик. Критика не стесняется в выражениях. Автора называют пиратом, жуликом, крысой, забравшейся в литературный амбар, шарлатаном. Редактора книги снимают с занимаемой должности и бросают в город Кологрив для ведения культработы среди местных бондарей. «Веселый колумбарий» изымают из продажи и сжигают в кухне Дома Герцена (после чего котлеты долго еще имеют препротивный вкус). Разнос происходит страшнейший. В то же утро бледный, серьезный гарпунщик хватает чемодан, жену и еще одну девушку и уезжает в Суук-Су. Оттуда он возвращается через три месяца, отдохнувший, покрытый колониальным загаром, в полном расцвете творческих сил. О нем уже все забыли. И в первый же вечер он отправляется на товарищеский варенец, имеющий быть в конференц-зале Москоопклоопкустсоюза. Жизнь продолжается. Заказчиков много. Все хотят, чтобы их отобразили в плане здорового оптимизма. Все хотят быть красивыми.1932
Сквозь коридорный бред
Обыкновенный мир. Смоленский рынок. Аптека (молочные банки с красными крестами, зубные щетки, телефон-автомат). Тесная булочная. Лоточники. Милиционер на маленькой трибуне поворачивает рычажок светофора. Все в порядке. Ничто особенно не поражает. Но в пяти шагах от всего этого, у начала Плющихи, тесно сомкнувшись, стоит кучка людей из другого мира. Они ждут автобуса № 7. Какие странные разговоры ведут они между собой! — Да. Ему вырвали двенадцать зубов. Так надо было по режиссерской экспликации. Вставили новые. Фабрике это стоило массу денег, потому что в гослечебнице заявили, что здоровых зубов они не рвут. А частник… Можете себе представить, сколько взял частник?.. — Ну как, обсуждали вчера короткометражку «Чресла недр»? — Провалили. — А в чем дело? — Подача материала при объективно правильном замысле субъективно враждебна. И потом там тридцать процентов нейтрального смеха и процентов двенадцать с половиной не нашего. — В АРРКе не любят нейтрального смеха. Там за нейтральный смех убивают. — В общем, Виктору Борисовичу поручили «Чресла» доработать. — Ну вот, приходит он с новыми зубами в павильон сниматься. Ничего. Начали. Пошли. Улыбнитесь. Улыбнулся. И тут — стоп! Отставить! Не понравилась улыбка. — Ай-яй-яй! — Да, да. Говорят — не та улыбка. Не чисто пролетарская. Есть, говорят, в этой улыбке процентов двадцать восемь нейтральности и даже какого-то неверия. Со старыми зубами у вас, говорят, выходило как-то лучше. А где их теперь взять, старые зубы? — А я знаю случай… — Подождите. Я же еще не сказал самого интересного. По поводу этих самых «Чресл недр» завязался принципиальный спор. Стали обсуждать творческий метод режиссера Славься-Славского. А зима между тем проходит, а по сценарию надо снимать снег, а промфинплан весьма и весьма недовыполнен. Тут Иван Васильевич не выдержал: «Раз так, то ваш творческий метод мы будем обсуждать в народном суде». — А зубы? — При чем тут зубы? Зубы — это по фильму «И дух наш молод». Какие странные разговоры! Расхлестывая весеннюю воду, подходит автобус, и в поднявшемся шуме теряются горькие фразы о чреслах, зубах и прочих кинематографических новостях. Ехать надо далеко. По элегантному замыслу строителей московская кинофабрика воздвигалась с таким расчетом, чтобы до нее было как можно труднее добраться. Нужно прямо сказать, что замысел этот блестяще осуществлен. Автобус доставляет киноработников и посетителей к мосту Окружной железной дороги и, бросив их посреди обширной тундры, уезжает обратно в город. Киноработники, размахивая руками и продолжая интересную беседу о «Чреслах», совершают дальнейший путь пешком и вскоре скрываются между избами деревни Потылихи. Они долго идут по деревне, сопровождаемые пеньем петухов, лаем собак и прочими сельскими звуками, берут крутой подъем, проходят рощу, бредут по проселку, и очень-очень нескоро открываются перед ними величественные здания кинофабрики, обнесенные тройным рядом колючей проволоки. Впечатление таково, будто фабрика Союзкино ожидает неожиданного ночного нападения Межрабпомфильма и приготовилась дать достойный отпор. Мимо павильона-сторожки, по фасаду которого выведена большая гранитная надпись «Выдача пропусков», все проходят не останавливаясь, так как пропусков здесь не выдают. Выдают их в другой сторожке, на полкилометра дальше, где, однако, о пропусках ничего не сказано. Нет ни гранитной надписи, ни даже извещения, нацарапанного химическим карандашом. В вестибюле равнодушный швейцар предлагает снять калоши. Посетители с неудовольствием выполняют это требование, но калоши внизу не оставляют, а с независимым видом несут их в руках, чтобы за первым же лестничным поворотом снова их надеть. Так, в калошах, они и бродят весь день по фабрике. Почему они так любят свои калоши? Почему обманывают бедного швейцара и не сдают калоши в гардероб — непонятно. Впрочем, многое странно на кинофабрике. В коридоре, куда выходит много дверей, стоит, согнувшись, пожилой почтенный человек и смотрит в замочную скважину. Ему хорошо известно, что подглядывать стыдно, но другого выхода у него нет. На двери, над его головой трепещет бумажонка:ЗДЕСЬ ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ. НЕ СТУЧИ! НЕ МЕШАЙ!
Войти в комнату нельзя, а в ответ на стук раздается недовольный рев. Как же узнать, здесь ли находится нужный работник, из-за которого почтенный посетитель долго ехал в автобусе № 7, шел по деревне, пересекал тундру, останавливался на подъеме, чтобы схватиться за сердце, нес в руках калоши и обманывал бедного швейцара? И стоит он, прильнув к замочной скважине, далеко отставив зад, как водевильный герой, в шубе и шапке. И кашне ниспадает с шеи до самого пола. И все проходящие с проклятиями натыкаются на него. В коридоре тоже идет своеобразное заседание. Сюда, в коридор, люди приходят с утра и уходят отсюда только вечером. Здесь любят и умеют поговорить. Высказываются смелые суждения, критикуются начинания, кого-то ругают, что-то хвалят, без конца обсуждают неудобства географического положения фабрики. — Говорят, что паводок в этом году будет что надо! — Опять нас отрежет от города. — Вот увидите, как только пойдет можайский лед и нас отрежет, бухгалтерия объявит выплату гонорара. Они хитрые. Знают, что никто за ним не сможет приехать из города. — Ну, я вплавь доберусь! — Скажите, что же наконец произошло с «Чреслами недр»? — Очень просто. Автора законсультировали. — Что это значит? — Одним словом, залечили. — Не понимаю. — Сразу видно, что в кино вас перебросили недавно. Ну, заболевает человек ангиной, а его лечат от тифа. Не помогает. Ставят банки. Не помогает. Делают операцию аппендицита. Плохо. Тогда вскрывают череп. Как будто лучше. Но больной вдруг умирает. Так и с «Чреслами недр». Законсультировали. — Между нами говоря… В коридоре неожиданно наступает тишина. Все начинают шептаться. И что же в конце концов произошло с «Чреслами», так и остается невыясненным. Стены коридора дрожат от слухов и киноанекдотов. Иногда кажется даже, что заседание за закрытой дверью будет продолжаться вечно и что человек в шубе и кашне никогда в жизни не найдет нужного ему работника. Но есть на фабрике другие коридоры, где никто не толчется, где в комнатах постановочных групп идет работа. Есть огромные павильоны. Там деловой воздух. Он очищен от коридорного бреда. Там не шепчутся, не стоят в сторонке, саркастически обсуждая, справится ли новое руководство с прорывом или не справится. Там хотят, чтобы прорыва не было. Замысел обрастает декорациями, идет проба актеров, фильм начинает жить. И когда, выходя оттуда, снова попадаешь в порочный коридор, уже без особенного испуга слушаешь неустанную трескотню неудачников, склочников, маломощных гениев и разобиженных авторов актуального сценария, где изобретатель что-то изобрел, у него это что-то кто-то украл и что из этого вышло. День кончается. В полутьме коридора ослепительно сверкает чья-то улыбка. Надо полагать, что улыбается тот самый актер, которому вставили казенные зубы. Черт возьми! Как будто улыбка в самом деле не на все сто. Есть в ней действительно какой-то небольшой процент нейтральности. Но это не важно, не страшно. Важно миновать болтовню в коридоре и начать работать. Как говорят на киноязыке: «Начали, пошли». Вот это — самое главное.
1932
Детей надо любить
Вечер и ветер. У всех подъездов прощаются влюбленные. Они прощаются бесконечно долго, молчаливо, нежно. Это весна. И когда влюбленные наконец расстаются, она подымается к себе в бедную комнату (так принято по литературной традиции), а он, поправив на голове фуражечку с лакированным козырьком, бредет домой, и губы его по забавной инерции все еще сложены для поцелуя (это уже новость! Как говорит Олеша, распад романной формы). На мокрых садовых скамейках, где перочинным ножом вырезаны сердца, пробитые аэропланными стрелами, сидят окаменевшие парочки. Как их много! Они сидят на ступеньках музеев, на гранитных бортах тротуаров, в трамвайных павильонах. И в тишине по всему городу слышится мерное причмокивание, как будто бесчисленные извозчики подгоняют своих лошадок. И в эти весенние минуты особенно горько думать о детской литературе. Что ожидает детей, которые, надо полагать, родятся в результате таких вот законных действий населения? Что они будут читать? Как они начнут познавать мир? Что предложит им чадолюбивый Огиз? Сейчас папа сажает на колени дошкольное чадо (пусть знают холостые редакторы и авторы, что дошкольное чадо — очень маленькое чадо) и говорит: — Ну, пигмей, я купил тебе книжку про пожарных. Интересно. Правда? Пламя, факелы, каски. Слушай. И он, сюсюкая, начинает: — «Пожарное дело в СССР резко отличается от постановки пожарного дела в царской России…» Ай, кажется, я совсем не то купил. Почему же в магазине мне говорили, что это для пятилетнего возраста? Родитель ошеломленно смотрит на обложку. Он ожидает увидеть марку Учтехиздата, фирмы солидной, известной изданием специальных трудов. Но нет. «Молодая гвардия». Да и по картинкам видно, что книжка для детей. Пожарные нарисованы в виде каких-то палочек, а из окон горящего здания высовывается желтое пламя, имеющее форму дыни. Между тем чадо ждет. Оно хочет познать мир. И, странно улыбаясь, папа откладывает книжку в сторону и быстро произносит старое, проверенное веками заклинание: — Жилбылубабушкисеренькийкозлик. Услышав про козлика, дитя смеется каким-то вредным биологическим смехом и машет пухлыми ручонками (не сердитесь на пухлые ручонки — литературная традиция). Папа чувствует, что творит какое-то темное дело, что воспитывает не в том плане. Он начинает исправлять сказочку кустарным образом: — Видишь ли, пигмейчик, эта бабушка не простая. Она колхозница. И козлик тоже не простой, а обобществленный. Однако в душе папа знает, что козлик старорежимный, может быть даже с погонами. Но что делать? Не читать же сыну тяжеловесный доклад о пожарном деле. — Теперь про котика, — неожиданно требует чадо. Тут папа шалеет. Что это еще за котик? Какими словами говорить о котике? Обобществленный котик? Это уже левый загиб. Просто котик? Беспредметно. Бесхребетно. Непедагогично. Ужасно трудно! Ужасно! Или попадется вдруг весело раскрашенная книжонка, где большими детскими буквами напечатано:Не шалите, ребятишки,
Уважайте тракторишки.
Трактор ходит на врага,
Обрабатывает га,
га, га.
Га, га, га!
Вот так штука,
Ха, ха, ха!
Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас?
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс.
1932
ИЛЬФ БЕЗ ПЕТРОВ
Рассказы и фельетоны
1923–1930

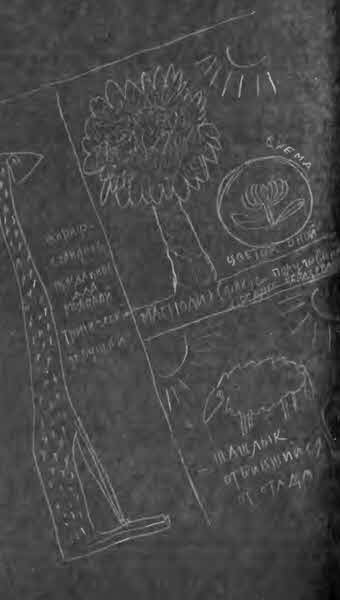
Стеклянная рота
Весна и война наступили сразу. Снежные валы разваливались. Светлая вода затопила тротуары. Собачки стали покушаться друг на друга. Газетчики что есть силы орали: — Капитан Садуль французов надуль! Были новости еще трескучей. На Украину шли большевики. Была объявлена мобилизация и отменена тридцать седьмая статья расписания болезней, освобождающих от военной службы. Словом, был девятнадцатый год. Колесников пошел прямо на сборный пункт. Там уже началось великое собрание белобилетчиков, и близорукие стояли толпами. В толпах этих ломался и скрещивался солнечный блеск. Близорукие так сверкали двояковогнутыми стеклами своих очков и пенсне, что воинский начальник только жмурился, приговаривая каждый раз: — Ну и ну! Таких еще не видел! Над беднягами смеялись писаря: — Стеклянная рота! Близорукие испуганно ворошились и поблескивали. Множество косоглазых озирало небо и землю одновременно. В лицах астигматиков была сплошная кислота. Надеяться было не на что. Бельмо не спасало. Болезнь роговой оболочки не спасала. Даже катаракта не спасла бы на этот раз. К городу лезли большевики. Поэтому четырехглазых гнали в строй. Косые блямбы шли в строй. Человек, у которого один вид винтовки вызывал рвоту, легендарный трус Сема Глазет, тоже попался. Его взяли в облаве. Вечером стеклянной роте выдали твердые, дубовые сапоги и повели в казармы. В первой шеренге разнокалиберного воинства шел Колесников. Во всей роте он один не носил очков, не дергал глазами, не стрелял ими вбок, не щурился и не моргал, как курица. Это было удивительно. Ночью в небе шатались прожектора и быстро разворачивались розовые ракеты. Далеким и задушевным звуком дубасили пушки. Где‐то трещали револьверами, словно работали на ундервуде, — ловили вора. Рота спала тревожным сном. Семе Глазету снился генерал Куропаткин и мукденский бой. Иногда в окно казармы влетал свет прожектора и пробегал по лицу Колесникова. Он спал, закрыв свои прекрасные глаза. Утром начались скандалы. Рядовому второго взвода раздавили очки. Усатый прапорщик из унтеров задышал гневом и табачищем, как Петр Великий. — Фамилие твое как? — Шопен! — ответил агонизирующий рядовой второго взвода. — Дешевка ты, а не Шопен! Что теперь с тобой делать? Видишь что‐нибудь? — Ничего не вижу. — А это видишь? И рассерженный прапорщик поднес к самому носу рядового Шопена такую страшную дулю, что тот сейчас же замолчал, будто навеки. Медали на груди прапорщика зловеще стучали. Вся рота, кроме Колесникова, была обругана. Больше всех потерпели косые. — Куда смотришь? В начальство смотри! Чего у тебя глаз на чердак лезет? Разве господин Колесников так смотрит? Все головы повернулись в сторону Колесникова. Украшение роты стояло, отчаянно выпучив свои очи. Ярко— голубой правый глаз Колесникова блистал. Но левый глаз был еще лучше. У человека не могло быть такого глаза. Он прыскал светом, как звезда. Он горел и переливался. В этом глазу сидело небо, солнце и тысячи электрических люстр. Сема пришел в восторг и чуть не зарыдал от зависти. Но начальство уже кричало и командовало. Очарованиекончилось. Ученье продолжалось еще неделю. Звенели и разлетались брызгами разбиваемые очки. Косые палили исключительно друг в друга. Рядовой Шопен тыкался носом в шершавые стены и беспрерывно вызывал негодование прапорщика. Утром стеклянную роту должны были грузить в вагоны, на фронт. Но уже вечером, когда косые, слепые и сам полубог Колесников спали, в море стали выходить пароходы, груженные штатской силой. В черное, лакированное небо смятенно полезли прожектора. Земля задрожала под колесами проезжающей артиллерии. Полил горячий дождь. Утром во дворе казармы раздались свистки. Весь город гремел от пальбы. Против казармы загудела и лопнула какая‐то металлическая дрянь. В свалке близоруких и ослепленных бельмами прапорщик искал единственную свою надежду, украшение роты, полубога Колесникова. Полубог лежал на полу. Сердце прапорщика моталось, как маятник. — Колесников, большевики! Колесников привстал на колени. Правый глаз его потух. Левый был угрожающе закрыт. — Что случилось? — закричал прапорщик. Полубог разъяренно привстал с колен. — Ничего не случилось! Случилось, что глаз потерял. Дураки ваши косоухие из рук вышибли, когда вставлял его, вот что случилось. И он застонал: — Лучший в мире искусственный глаз! Где я теперь такой достану? Фабрики Буассон в Париже! Прапорщик кинулся прочь. Единственная подмога исчезла. Спасаться было не с кем и некуда. Оставалось возможно скорее схоронить погоны и медали. Через пять минут прапорщик стоял перед Глазетом и, глядя на проходивших по улице черноморцев, говорил: — Я же сам скрытый большевик! Сема Глазет, сын буржуазных родителей, заревел от страха и упал на пол.1923
Галифе Фени-Локш
Вся Косарка давилась от смеха. Феня-Локш притащила с Привоза колониста и торговала ему галифе на ребенка. Фенька крутилась возле немца, а галифе держали ее женихи — три бугая, нестоющие люди. Женя из угрозыска им хуже, чем компот из хрена. Дешевые ворюги. Феня вцепилась немцу в груди: — Сколько же вы даете, чтоб купить? — Надо примерить! — отвечает немец. Женихи заржали. Как же их примерить, когда немец высокий, как башня, а галифе на ребенка. Феня обозлилась. — Жлобы! — говорит она. — Что это вам, танцкласс? Гражданин из колонии хочет примерить. И Феня берет немца за пульс. — Чтоб я так дыхала, если это вам не подойдет. Садитесь и мерьте. Немец, голубоглазая дубина, мнется. Ему стыдно. — Прямо на улице? А женихи уже подыхают. — Не стесняйтесь, никто не увидит! — продолжает наша знаменитая Феня-Локш. — Молодые люди вас заслонють. Пожалуйста, молодые люди. Колонист, псих с молочной мордой, сел на голый камень и взялся за подтяжки. — Отвернитесь, мадам! — визжат Фене женихи. — Гражданин немец уже снимает брюки. Феня отходит на два шага и смеется в окно Старому Семке. — Эта застенчивая дуля уже сняла штаны? — Феня, что это за коники? — Простой блат, Семочка, заработок! Он продал сегодня на базаре миллион продуктов за наличные деньги. Ну? — Феничка, он не может всунуть ногу в галифе. Феня волнуется: — Где его штаны? Семка начинает понимать, в чем дело, трясется от удовольствия и кладет живот на вазон с олеандром, чтобы лучше видеть. — Их держат твои хулиганы! — ликует Семка. — Твои хулиганы их держат! И тут наша Феня моментально поправляет прическу, загоняет два пальца в рот, свистит, как мужчина, и несется по улице всеми четырьмя ногами. А за ней скачут и ржут ее женихи с немецкими штанами, в которых лежат наличные за миллион продуктов. А еще дальше бежит неприличный немец, голый на пятьдесят процентов. Вся Косарка давилась от смеха. — У вас всегда такие грязные ноги? — в восторге спрашивает Старый Семка, когда молочная морда бежит мимо него. Вся Косарка давилась от смеха, но что с этого? Кто делает такие вещи в три часа дня, когда Женя из угрозыска с целой бандой прыщей на лице идет домой на обед? Он взял всех, как новорожденных, и повел прямо на протокол. Впереди шла Феня-Локш, за ней женихи, которые крутились от досады, потом Женя с немцем, а позади всех топал Старый Семка со своей смешливой истерикой, которая в тот день была у всей Косарки.<1923>
Антон «Половина-на-Половину»
Миша Безбрежный встал и выложил свою простую, как собачья нога, речь: — Кто первый боец на скотобойне? Мы все любили Мишу мозгами, кровью и сердцем. Он был профессор своего дела. Когда Миша вынимал из футляра свой голубой нож, бык мог пожалеть, что не написал духовного завещания раньше. Ибо Миша не какой‐нибудь лентяй, который ранит бедную тварь так долго, что она за это время свободно может посчитать, сколько раз ей пихали горячее клеймо в бок и почем был пуд сена в девятнадцатом году на Старом базаре. Нет! С Мишей расчет был короткий. Пар вылетал из быка прежде, чем он успевал крикнуть «до свиданья». У Миши была старушка-мама. Он ее держал на одном молочном воспитании, и это было в то время, когда кварта молока шла дороже, чем солдатские штаны. Итак, Миша был боец первого ранга и первоклассный сын. И когда он сказал свою скромную речь, мы все ответили хором: — Первый боец на скотобойне — Миша Безбрежный! Миша достойно улыбается. Он любит почет и доволен. Все это было в обед. Миша кладет лапку на свой футляр из бычачьего уда и садится на колбасные шкурки, раскиданные по зеленой траве, как на трон. Мы все с любовью смотрим на своего вождя, и один только Антон «Половина-на-Половину», первая завидуля на все Черное море, молчит и играет на зубах марш для тромбона. — Что ты молчишь, музыкант? — спрашивает Миша. — Почему я не вижу уважения от дорогого товарища «Половина-на-Половину»? У музыканта физиономия мрачнее, чем вывеска похоронной конторы. Он вынимает руку из пасти и визжит: — Чтоб я так дыхал, если я тебе дорогой товарищ! — Ого! — говорит Миша. — Ты мне лучше скажи. Кто первый боец на бойне? Миша подымается с колбасного трона и смотрит подлецу в морду. — Первый боец на бойне — я! — заявляет наглец. — Первый боец — Антон «Половина-на-Половину». Ленька-Гец-Зозуля и Мальчик-Босой подпрыгивают. — Что он сказал? Миша, мы из него сделаем пепельницу для твоей курящей мамы! — Не надо! — удерживает Миша. — Ты? — обращается Миша к негодяю Антону. — Ты первый боец? Ты на своих кривых ногах? Дорогой товарищ, у вас губы, как калоши, и уши похожи на отлив под умывальным краном. Посмотри лучше на свои кривые ноги, на свой живот. Это помойница. Ты первый боец? Да у тебя же руки, тонкие, как кишки. Ты лучше вспомни, что тридцатифунтовый баран порвал тебе задницу на куски. Об этом еще писали акт. Дешевая ты лягушка. Миша смотрит на нас и смеется. Мы смотрим на Мишу и давимся. — Иди, — кончает Миша, — иди к своей жене и скажи ей, что ее муж идиот. «Половина-на-Половину» дрейфит отвечать и уходит с позором. На прощанье он брешет: — Я вас всех еще куплю и продам. — Сволочь! — кричим мы ему вдогонку. — Локш на канатиках. Толчочная рвань. Хорошо. Через две получки Ленька-Гец-Зозуля орет: — Скидайте грязные робы! Ведите себя, как благородные девицы. Сейчас будет деликатное собрание, чтоб не ругаться по матушке. Оказывается, приехал из города какой‐то тип, главный воротила насчет сквернословия. Мы посидали на места, а Ленька-Гец увивался возле пустой кафедры, пока на нас не вылезла городская лоханка, кошмарный юноша. Это насекомое болтало воду в стакане, крутило, выкручивало и докрутилось до того, что через два часа так‐таки кончило. Потом насекомое уехало, и ту начинается самое главное — на пьедестал вылезает Антон «Половина-на-Половину» и вопит, словно его укололи в спину целым булавочным заводом. — Тут, — говорит Антуан, — только что была городская халява и рассказывала анекдоты. В чем дело? Пока насекомое говорило, я шесть раз заругался и именно по матушке! Но что же это такое, дорогие бойцы? Разве мы свиньи, которых режут ножами? Разве это городское насекомое не говорило всю правду? Разве нет? Ленька-Гец-Зозуля подскакивает на своем месте и воет: — Замечательно! Замечательно! Антуан подбодрился и кончает: — Я решительно выставляю, кто будет еще ругаться по матушке, тому набить полную морду. Ленька-Гец-Зозуля моментально задрал в небо свою волосатую лапу. Миша подумал, но из деликатности, что «Половина-на-Половину» ему врет, тоже поднял руку. И мы поголовно дали свое знаменитое, скотобойческое слово биться до тех пор, пока не выбьем все такие слова. — Что‐то мне дорогой товарищ «Половина-на-Половину» не нравится все‐таки! — бурчит Безбрежный после задирки рук. — Он раскаялся! — заступается Гец. — Ну хорошо! — кладет Миша. — Посмотрим, посмотрим. Хорошо. На другое утро Антон «Половина-на-Половину» подходит к нашему Мише и, не говоря худого слова, ругается прямо ему в рот. Чтобы Безбрежный не сдержал своего слова, этого еще никто не говорил. Миша подымает свой ручной механизм и ляпает подлого Антуана так, что у того трескается щека. Подлый Антуан падает, к колоссальному несчастью, прямо на нос Мишке-Маленькому, который заругался, и представьте, именно по матушке. Случайно! Но чтобы бойцы не держали своего слова, этого еще никто не говорил. Немедленно Колечка-Наперекор гахнул по Мишке. Мишка залепил Леньке-Гец-Зозуле. Ленька плюнул, и сказал плохое слово, и влез по шею в драку. Тут Миша бешено заругался и полез казнить Геца. Никто не скажет, чтобы бойцы не держали свое слово. С печалью на сердце и проклятиями во рту мы ринулись на нашего любимого вождя. Это было замечательно. Целый день стоял такой шухер, что никто не резал скотину, и все отчаянно бились за свое знаменитое слово, и все, представьте себе, в пылу драки ругались, и именно по матушке. А под всеми лежал ужасный Антуан «Половина-на-Половину» и поддавал огня разными шарлатанскими словами. Так он нас купил и продал, потому что хотел закопать нас перед городскими насекомыми. Но когда насекомые приехали на извозчиках и начали допросы с разговорами, и на разговорах все выяснилось, как оно было, и не нас выкинули со скотобойни, а мы его выкинули, и не половина-на-половину, а полностью, в окончательный расчет.<1923>
Повелитель евреев
1
В Брянске шел дождь, за Брянском толпилась весна. Я заметил ее только у Нежина. Причиной этому послужили четыре мебельщика, которые ехали в одном купе со мной. Толстую даму — моего пятого спутника — я тоже не забуду. Я ненавидел ее все время, которое необходимо скорому пассажирскому поезду, чтобы пройти расстояние от Москвы до Казатина. В Казатине она собрала свои вещи и ушла. Только тогда я смог опустить оконную раму. — У меня тридцать восемь градусов, — сказала толстая мануфактурщица на Брянском вокзале, — я могу простудиться, если этот ветер будет продолжаться. Раму подняли, и до Казатина воздух, разгорячаясь все больше, быть может, послужил поводом к тем событиям, о которых мне надо здесь сказать. Это главная цель моего рассказа. На протяжении полутора тысяч верст я был повелителем четырех мебельщиков. Мне воздавали почести. Я имел подданных, которых держал в страхе. Четыре моих спутника лежали на моей ладони, как воробьи, выпавшие из гнезда. Сахар стал для них солью, а дни их почернели. Мое маленькое княжество образовалось в одном из купе поезда № 7, который от Москвы валился на юг, продираясь сквозь кустарники со скоростью сорок верст в час, а иногда и меньшей. Мануфактурщицу я мог уничтожить, но не сделал этого. — Иля, — сказал мне пятнадцать лет назад один мой приятель с расстегнутыми спереди, как и у меня тогда, штанами. — Иля, будем ухаживать за девочками. В «Детях капитана Гранта» я читал, что нет большего счастья, чем это! Я сентиментален и простодушен. С тех пор разговор с женщиной я считал за счастье. Потом я увидел, что не всегда это так. Маленькие девочки превращались иногда в несносных дам. Но уважение к женщине у меня осталось навсегда, и поэтому я терпел своенравие мануфактурщицы. Все‐таки если мне придется на моей жизни еще раз встретиться с ней, я буду этому рад. Имена, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. Я понял это, когда увидел башню из сладкого теста в магазине Моссельпрома. Девиз, написанный на знаменах дивизий, был повторен сахарной цепью на сладком тесте. Нет ненависти, которая не превратилась бы в воспоминание. А воспоминания приятны, и уже теперь мне кажется, что мануфактурщица была прелестной дамой. Когда я вошел в купе, эта прелесть лежала на нижней полке. Против нее сидело двое мужчин. Моя полка находилась над ними. Еще двое, от которых я видел только спины, перевесились за окно и быстро кричали прощальные слова. Мне не с кем было прощаться. Серые и голубые глаза и полосатую карамельную юбку я мог увидеть только там, куда ехал. Остальное не было важно для меня. — Можно мне опустить полку? Двое сидевших подняли головы. Двое прощавшихся обернулись. Поезд задрожал и сдвинулся. Я лег, чтобы думать о том, для чего ехал.2
Он пришел ко мне, когда я спал, и застрелил меня. Когда я умер, он вынул из кармана моей рубашки письма и стал их читать, сев на мои мертвые ноги. Я увидел знакомый, высокий и нежный почерк и начал осторожно поворачивать голову, чтобы в последний раз прочесть то, что мне писала Валя. Я уже прочел свое имя. Для того чтобы читать дальше, надо было шире раскрыть глаза, и, раскрыв их, я проснулся. В купе было жарко. Я видел плохой сон. Тело мануфактурщицы было неподвижно. Зато остальные четыре моих спутника говорили о мебели. Они говорили о ней на русском языке, и когда им казалось, что слова их недостаточно убедительны, то они немедленно переводили их на жаргон. На жаргоне они объяснялись прекрасно. Эпитеты их были энергичны, фразы коротки, и мебель, которой они торговали, описывалась ими с большей силой, чем это удалось сделать Гомеру в описании дворца Приама. Их было приятно слушать. Стулья из бедного ясеня расцветали, покрывались резьбой и медными гвоздиками. Ножки столов разрастались львиными лапами, под каждым столом сидел добрый библейский лев, и красный лев лежал на стене Валиной комнаты, дрожа и кидаясь каждый раз, когда огонь вылезал из‐под кучи спекшегося в печке угля. Тяжелый, как поезд, на повороте кричал трамвайный вагон, тяжелый вагон бежал по кругу, в центре которого была комната. А в комнате на стене — дрожащий лев. Я молча глядел на него, с плеча катилось дыхание Вали, и в дыхании я разбирал слова, от которых сердце падало и разбивалось с тонким, незабываемым звоном стеклянного бокала. Когда я во второй раз проснулся, стекла вагона еще звенели от резкого торможения. Разбивая стрелки и меняя пути, поезд подходил к брызгающему огнями Малоярославцу. Свесив голову, я заглянул вниз. Мануфактурщица, стеная, пила чай, а мебельщики копошились над курицей. Я был набит добрым чувством к мебельщикам. Они мне нравились. Я еще не знал, что через час смогу распоряжаться ими, как захочу. Я относился к ним как равный и если не выступал в их беседу, то только потому, что мне нравилось любить их молча. Мое молчание принесло неожиданный плод. Оно встревожило мебельщиков. Обгладывание курицы и разговор на русском языке прекратились. В действии остался один только жаргон. Но я уже не слушал. Поезд валился к югу, от паровоза звездным пламенем летел дым, голова поворачивалась вправо и влево, и от жары в купе стоял легкий треск. Жара делает людей резкими на суждения и опрометчивыми в поступках. Во всем, конечно, была виновата мануфактурщица. Я уверен, что, если бы рама была опущена, не произошло бы того, что случилось, и слова, которые так меня изумили, ворвавшись в мой слух, не были бы сказаны.3
Они ошиблись. Жаргон я понимал, а чекистом никогда не был. Я испробовал много профессий и узнал стоимость многих вещей на земле. Я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить. Я был солдатом и штурмовал бунтовщицкие деревни. Разве я когда‐нибудь забуду блестящий рельс, через который перепрыгнул, и огромного человека, ждавшего меня внизу под откосом? Штык его винтовки провалился, когда я выстрелил, и этого забыть нельзя. Я узнал любовь, и разве я когда‐нибудь забуду картофельный снег, падавший на Архангельский переулок, в котором я топал по ночам, потому что там лучше всего вспоминались худые, вызывающие нежность руки? Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма для кухарок всего дома, в котором жил, но чекистом никогда не был. Однако мебельщики поселились в воображаемом мире, мир был полон духоты, догадка в нем немедленно становилась уверенностью, и я был для них чекистом, человеком, который может отнять дубовые стулья и комоды из сосны, сделанной под красное дерево. Поля почернели, тучи были спущены с цепей, и ветер заматывался в спираль. Громкий разговор о моих преступлениях продолжался в горячечной духоте. Я узнал, что расстрелял тысячу и больше человек. Все эти люди были добрыми семьянинами и имели хороших детей. Но я не щадил даже детей. Я душил их двумя пальцами правой руки. А левой рукой я стрелял из револьвера, и пули, выпущенные мною, попадали в буфеты, сделанные из дорогого лакированного ореха, и вырывали из них щепки. Мебельщики называли даты и города, где я все это проделывал. Они были возбуждены, и единодушие их раскалывалось только иногда и только в мелочах. Я насиловал женщин. Это установила мануфактурщица. Да, я погубил не одну девушку. Предварительно я разрывал на них платья из синего шелка, которого теперь нигде нельзя достать. На синем шелку были вышиты желтые пчелы с черными кольцами на животах. Я много порвал такого шелку и многим девушкам показал жизнь той стороной, где были не пчелы, а только боль пчелиных укусов. На поезд напала гроза, за поездом гналось убийство. Молнии разрывались от злобы и с угла горизонта пакетами выдавали гром. Внизу мне приписывали поджог двухэтажного дома. Час захвата власти настал. Я сел и спустил ноги вниз. — Евреи! Я ликовал и говорил хриплым голосом: — Евреи, кажется, сейчас пойдет дождь! Ни одна тронная речь не была так незначительна, как моя. Однако ценность вещи зависит от того, кто ею владеет. Слова приобретают значение в зависимости от места, где их произносят, и языка, на котором говорят. Я сказал их по‐еврейски.4
Дни мебельщиков почернели, и жизнь их стала им как соль и перец. Я думаю, что они тоже не заметили весны, толпившейся за Брянском. От Брянска и до низкорослого вокзала в Одессе они лежали передо мной животом на полу. Я обнаружил свое знание жаргона, но не сказал больше ничего. Меня продолжали считать чекистом. Меня боялись и готовы были дать мне удовлетворение в том виде, в каком я захотел бы его взять. Я узнал, чем славна каждая станция. Их деньги стали моими деньгами, а мое желание было их действительностью. Моя полка возвышалась Синайской горой, и так как гроза еще продолжалась, то мои приказы я давал через гром и при свете суетливых молний. Но если десять скрижальных заповедей тянули первобытный народ к небу, то мои заповеди притягивали его к земле. Путешествие вызывает голод и жажду. В Одессу я приехал набитый пищей. В Сухиничах я ел кислые яблоки. — Кушайте, — сказал мне один из мебельщиков, — вам станет прохладно и кисло. — В его словах я услышал иронию. Этот долгоносый старик с длинными глазами был немедленно наказан. Я приказал ему рассказывать вслух Ветхий Завет, который я плохо знаю. И пока поезд катился мимо облитых белым цветом деревьев и, как искра, проскакивал полустанки, я узнал, в какой день на небе затряслась первая звезда и в какой была сотворена щука. В Кролевце я пил вино. Когда я пил вино, Сарра сидела под зеленым дубом, и мебельщик передавал мне разговор, который она имела с тремя молодыми ангелами. Я узнал славу каждой станции. Мне приносили кирпичики из масла и белое молоко в шершавых глиняных банках. В Нежине моим трофеем был маленький бочонок и сто едва посоленных огурцов, которые лежали в бочонке. Я довольствовался немногим, хотя мог получить все. Но в одном я был требователен и беспощаден. Долгоносый мебельщик не имел права прерывать рассказы из Ветхого Завета. Ко второй ночи его длинные глаза покрылись красной сеткой, и голос его колебался, когда он дошел до описания ямы, в которой лежал Даниил. Над ямой стояли львы и смотрели на Даниила зелеными глазами. А Даниил валялся с засыпанным землей ртом и жаловался львам на негодяев-военачальников Вавилона. Львы слушали и молча уходили, а на их место приходили другие, и на пророка снова глядели зеленые глаза, и Даниил опять кричал и плакал. Во рту его были земля и песок, и песок и земля были во рту мебельщика, когда, крича и плача, он рассказывал мне про несчастья Даниила. В окне на мгновение останавливалось зеленое цветенье светофоров и молча уносилось назад. Колеса били по стыкам, и пока поезд падал на юг, пока паровоз кидал белый дым и проводники, размахивая желтыми квадратными фонарями, ходили по темным вагонам, там, куда я ехал, еще ничего не знали. Там еще ничего не знали, а я уже скатывался к югу, колеса уже били по стыкам, зеленый огонь в светофоре, приближаясь, сделался огромным, и влетевшие в него вагоны запылали. Зеленый горящий одеколон навалился на меня сразу, и, задыхаясь, я прорвался через сон. В вагоне уже не было никого. Мои подданные удрали первыми. Я был на вокзале в Одессе. Путешествие мое окончилось.5
Я увидел серые и голубые глаза и, когда увидел, забыл все, что случилось в поезде № 7, на который в Брянске напала гроза. Я забыл молнии, произведенные этой грозой, и власть, которую имел над четырьмя торговцами мебелью. Мы сидели на подоконнике, и я говорил: — Сколько раз ночью я шел под высоко подвязанными фонарями, переходил каток и выходил в Архангельский переулок. На виду золотой завитушки масонской церкви и желтых граненых фонарей было лучше всего вспоминать о тебе. Я знал голод и страх смерти. Я ел колючий хлеб и никогда не наедался. Разве я когда‐нибудь забуду сны, которые я видел в то время. Я видел только муку. Она стояла мешками, и, когда я подходил к ней, сон, треща, разваливался. И я просыпался в невыносимом свете прожектора, который обливал комнату. В то время была война, и из‐за нее я узнал страх смерти. Разве я когда‐нибудь забуду битое стекло, сыпавшееся из расстрелянных окон поезда, убегавшего из‐под обстрела. От пяти часов вечера и до шести я знал страх смерти. Потом я узнал его еще много раз и уже не помню, как я могу забыть поле, разорванное кавалерией, и звон сыплющегося стекла. Я также узнал любовь, которая стала мне тяжелее, чем голод и страх смерти. Это моя любовь к тебе. Я написал ее кровью. Но больше так писать не хочу. Поэтому я бросил астраханские башни Кремля и приехал к тебе, чтобы на этом подоконнике мы сидели вместе. На пароходах разбивали склянки, и бродившие на окраинах собачьи стада задавленно и хрипло кричали «ура». Когда зеленый коралл, стоявший против окна, от утреннего света снова стал деревом, Валя сказала: — В тот день, когда ты приехал, возвратился домой мой папа. Если ты хочешь, мы можем сегодня пойти к нему. Он будет очень рад видеть тебя, хотя очень утомлен дорогой. Всю дорогу он не спал. — Почему же он не спал? — рассеянно спросил я. — К нему пристал какой‐то чекист и для своей забавы заставил его всю дорогу читать Библию. — Сегодня? — Я пошел в угол комнаты. — Сегодня? Нет, сегодня я занят и не смогу. Я так и не пошел к нему. Но мне придется пойти, и я выжидаю своего времени. Я думаю, что меня встретят хорошо, ибо слова, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром.1923
Железная дорога
1
Один мой знакомый американец сказал мне так: — Когда я заставился на ваш почтамт, то у меня волосы поставились на голове. И американец рассказал мне, что такое очередь за марками. Я не так наивен, как мой знакомый американец. Меня трудно запугать очередью. И все‐таки, когда я пришел на вокзал, волосы мои немедленно полезли вверх. Это была чертовски длинная очередь. Черт знает что такое. Сначала она шла по прямой, потом заворачивала в полкруга, изгибалась восьмеркой и в противоположной от билетной кассы стороне запутывалась в невыносимый гордиев узел. Черт знает что такое. Поезд уходил в 10 часов. Часы показывали 9. Дама впереди меня спокойно сияла молочными и перламутровыми прыщами. Она была сто тридцать шестая. Я был сто тридцать седьмой. А времени было только час. Я поднял глаза и ужаснулся. На стене висел плакат, а на плакате было написано:ДОЛОЙ ВЗЯТКИ
Под этим местный художник карандашом пририсовал красивый наган. А под наганом мрачно чернела надпись:
СМЕРТЬ ДАЮЩИМ, ГИБЕЛЬ БЕРУЩИМ
А времени было только час, и мне надо было непременно уехать. Я отделился от очереди и начал осматриваться. Берущие стояли тут же. На них были холщовые передники и медные номерные бляхи. Они улыбались и подвигались ко мне. Честное слово, я этого не хотел. Я отбивался: — Не надо. Но тот, у которого на сердце висел № 32, вкрадчиво назвал цифру. Это была очень большая цифра. Много денег. Гораздо больше, чем билет стоил в кассе. Честное слово, я не хотел. Но этот носильщик была сирена. Он ворковал, как голубок. Был просто безобразно убедителен. А я должен был уехать. Одним словом, я стал зайцем. — Значит, гибель. — Гибель. — Смерть. — Смерть. Я не хотел умирать. Я схватил билет и убежал. Наган на плакате оглушительно выпалил. Или мне это показалось. Может быть, это смеялись носильщики. Во всяком случае, я влетел на перрон, как будто за мной гналась компания динамитчиков. Дома шарахнулись, речка бросилась под ноги, поезд застонал и удалился. Искры летели назад, туда, где умирали те, которые давали, и гибли те, которые брали.
2
Меня не схватили. Я успел удрать. Я избежал карающей руки правосудия. У меня имелось точное воображение о жизни в вагоне. Мне дадут аршин колбасы и версту коридора. И скажут: «Вот по этому ходи, а этим питайся, пока не приедешь». На деле все было иначе. Я лежал на верхней полке. Сердце мое хрипело и волновалось. Подо мной содрогались мосты и звенел рельс. Я уснул и видел тонкий, горящий сон. Во сне плавали рыбы и задевали меня железными хвостами. Самую толстую рыбу звали Иван, и она так колотилась о мое плечо, что я проснулся. Я увидел рыжие усы, фуражку с кантами над усами и скрещенные топоры на фуражке. Потом я узнал, что это был ревизор движения. Но когда я проснулся, я еще ничего не знал. Я еще не знал, что я уже обречен, продан и взвешен. Усы зашевелились. Под ними обнаружился рот, рот открылся, и изо рта выпало непонятное для меня слово: — Три. Я сделал большой глаз. Усы продолжали: — Рубля. Я молчал. Усы добавили: — Золотом. Он был страшен, этот человек. Член научной организации бандитизма или чего‐нибудь в этом роде. Мне стало печально и очень захотелось, чтобы он ушел. Он это сделал. Но предварительно он произвел маленький подсчет. Золотые рубли перевел в червонные, червонные в дензнаки, а дензнаки забрал у меня. Поля поворачивались вправо и влево. Станционные лампы опрокидывались в темноту и летели к черту. Скосясь и надсаживаясь, поезд взбирался наверх, к Москве, к тому месту, где на двух берегах реки стоят тысяча башен и сто тысяч домов. — Три, — сказал неприятный голос в темноте. И сейчас же блеснул желтый фонарь. Я снова увидел проклятые рыжие усы. Он покачивал надо мной фонарем и грозно ждал. «Еще два часа такой оргии, — подумал я, — и у меня не останется ни копейки». Фонарь безнадежно висел над моим животом. Над моим животом колебались страшные усы. — Сжальтесь, — пискнул я. Он сжалился. Он сказал мне все. И я все понял. Я безумец. Не на верхней полке надо было быть, а на нижней. Безумец. Не лежать, а сидеть. И если я этого не сделаю, то меня будут штрафовать, штрафовать, штрафовать, пока не кончится путь или пока я не умру. Потом он взял положенное число золотых рублей и потащил свои усы дальше. А я свалился на свое место и внимательно принялся изучать свой билет. Ничему это не помогло. Штрафы сыпались, как полновесные пощечины. За раскрытую дверь я уплатил. За окурок, брошенный на пол, я уплатил. Кроме того: Я уплатил за плевок, не попавший в плевательницу, и за громкий разговор, который приравняли к пению, а петь в вагоне нельзя. — Три да три — шесть. Шесть раз шесть — тридцать шесть. Придет страшный рыжий с топором и усами. Начинался бред. Пепел я ссыпал в башмак, скорлупу от орехов хранил за щекой, а дышал соседке в ухо. В Брянске я умолял меня не бальзамировать и отправить багажом. Рыжий отказался. Тогда я положил свою просьбу к ногам одного блондина. Но блондин адски захохотал, подпрыгнул, ударился об пол и разлетелся в дым. Это был бред. Я вернулся к своему месту и покорно повалился. Все это время с меня брали деньги. Вокруг меня организовалась канцелярия, артельщики подсчитывали взимаемые с меня штрафы, касса хлопала форточкой, служащих набирали помимо биржи труда, биржа протестовала, секретарь изворачивался, и Надя все‐таки осталась на службе. Я приносил большой доход. Связь с американскими концессионерами налаживалась. Кто‐то уже украл много денег, и над адской канцелярией витал призрак ГПУ. Пейзаж менялся, лес превращался в дым, дым в брань, провода летели вверх, и вверх в беспамятстве и головокружении летела страшная канцелярия.3
Брянский вокзал в Москве сделан из железа и стали. Дорога кончилась. Я сделан из костей и невкусного мяса. Поэтому я радовался и смеялся. Дорога кончилась. Теперь я буду осторожен. Я не знал, что есть страшное слово: — Три. Я не знал, что есть рыжий с тонкими усами. Он приходит ночью с фонарем и берет штраф. Днем он приходит без фонаря, но тоже берет штраф. Его можно узнать по топорам и лопатам, которые теснятся по околышу его фуражки. Это ревизор движения. Теперь я буду опасаться. Я буду сидеть только на своем месте и делать только то, что разрешается железными законами железной дороги. В вагоне я буду вести жизнь индийского йога. Все‐таки я ничего не знаю. Может быть, меня оштрафуют.<1923>
А все-таки он для граждан
Товарищ Неустрашимый уезжал из Москвы. — Извозчик, на вокзал! — Пять рубликов! — бодро ответил извозчик. Неустрашимый возмутился: — И это называется «транспорт для граждан»! Но извозчик попался какой‐то нецивилизованный в задачах дня и цены не сбивал. В общем, поехали. У самого вокзала, на мешках и чемоданах, заседали пассажиры явно обоего пола. Тут же тыкались мордочками в мостовую пассажирские дети. «Какая необразованность! — горько подумал Неустрашимый. — Какая необразованность! К услугам граждан весь транспорт, прекрасные вокзальные помещения, а они все‐таки сидят снаружи». Но сказать мрачным личностям речь о вреде сидения голыми штанами на земле товарищ Неустрашимый не успел. К нему подскочил носильщик: — Прикажете снести? Впрочем, спрашивал он только из вежливости, ибо был он не человек, а ураган с медной бляхой на груди. Неустрашимый еле поспевал за своей корзиной. — Сколько? — Рупь! — стыдливо рявкнул ураган. — А такса? По таксе — двугривенный! Где у вас вывешена такса? Оказалось, что в другом зале. — Идем! — решительно заявил Неустрашимый. — Я добьюсь справедливости. Транспорт для граждан, а не граждане для транспорта. — Ишь! — удовлетворенно заметил носильщик. — Сорвали! Надежда на справедливость была утрачена. Носильщик-ураган вместе рубля взял два и, хихикая, удалился. Неустрашимый обиженно огляделся по сторонам. Зал ожидания был полон. На прекрасном кафельном полу сидели пассажиры. — Седайте и вы, молодой человек! — раздалось оттуда. — Зачем же я сяду на пол? — закипел Неустрашимый. — Зачем, если к моим услугам весь транспорт и я, если будет охота, сяду на скамью. — Попробуйте! — ехидно сказали с полу. — Что же это такое? — завопил, вглядевшись, Неустрашимый. На скамьях не было ни одного свободного вершка. Его не было даже на подоконниках. Там тоже сидели зеленолицые пассажиры. — Что же это такое? Транспорт для меня или я для… — Бросьте! — сказали снизу. — Бросьте и садитесь вот здесь, слева, а то там кто‐то заплевал. — Нет! — жалко улыбнулся Неустрашимый. — Лучше я пойду к тем, кто на мостовой. Там хоть не накурено. Но надо еще было взять билет, и он побежал к кассе. Ближе чем на двадцать пять шагов он подойти к ней не смог и сказал все, что мог сказать: — Мама! У кассы стояла очередь. Какая это была изумительная штука! Она имела шесть хвостов, сто пятьдесят человек и такой грозный вид, что все становилось понятно. — Не транспорт для граждан, а граждане для стояния у кассы. Неустрашимый быстро подсчитал: — Поезд отходит через час. Если даже будет продаваться по билету в минуту, то останется девяносто человек. Я буду девяносто первый оставшийся. И, придя к такому заключению, Неустрашимый плюнул. — Вы? — деловито спросил моментально выросший из‐под полу чин. — Я, — сказал Неустрашимый. — С вас рупь! Нельзя плевать. Транспорт для граждан, а не для свиней. Больше я ничего не расскажу. Из слов монументального чинуши каждый может на деле убедиться, что транспорт в самом деле для граждан. Раз он сказал, значит, так оно и есть.<1923>
Судьба Аполлончика Лирическая песнь о милиционере
Настоящая его фамилия — Танькин. Кровь в нем перемешана с молоком. Со щек Танькина никогда не слезали розы. Этот чертовский милиционер был так красив, что у дешевых гетер с Цветного бульвара перехватывало дыхание, и от радости они громко, прекрасно и нецензурно ругались. — Аполлончик! Настоящий Аполлончик! Светло-зеленая парусиновая рубашка, зеленые канты на шапке и зверских галифе делали Аполлончика похожим на только что распустившееся дерево. Только что распустившееся дерево величественно шлепало маленьких босячков, вежливо писало протоколы о безобразниках и элегантно сдирало штрафы с лиц и лошадей, переступивших закон. Кровь и молоко кипели в Аполлончике, рука его не уставала махать и писать. И все это кончилось в один сиятельный весенний день. — Тебе новый пост! — сказали Аполлончику в отделении. — В Текстильном переулке. Это было явное оскорбление. По Текстильному не ходил трамвай! В Текстильном не было ни одной пивной! В Текстильном жили только застарелые, похожие на черные цветы, дамы. Текстильный — это богадельня! Там на посту инвалиду стоять! Что будет делать там кровь и молоко, сам закон в зеленой куртке? — Будешь против посольства стоять. Ты смотри, не подгадь. Аполлончик печально цокнул сапогами и пошел на новое место. Крохотное посольство крохотного государства вело жизнь загадочную и скучную. То есть — носило белые штаны, каждый день брилось, играло в теннис, вылетало со двора на рыжем, дорогом автомобиле, и боль-ше ни-че-го! Розы погасли на щеке Танькина. О драках и штрафах не могло быть речи. Когда вставало солнце и когда вставала луна, они находили на лице Аполлончика одну и ту же черту невыносимой тоски. Проклятые иностранцы вели себя, как ангелы в тюрьме, как испорченный примус. Не гудели, не нарушали, ничего не переступали, были скучны и по горло набиты отвратительной добропорядочностью. Рука, бессмертная рука в зеленых кантах, рука, не устававшая писать и махать, бессильно повисла у кушака. Погода была самая благоприятная для скандалов, для езды с недозволенной быстротой, для пылкого, наконец, слишком громкого пения, которое на худой конец тоже можно оштрафовать, но они даже не пели. Долгие, вдохновенные ночи оглашались воплями. Но то были вопли в соседних переулках. Эти вопли усмирял не Танькин. Нет, их усмиряли другие. Аполлончик засыхал. Волнующие картины буйственной Трубы толкались и плавали у него перед глазами. Рука поднялась, но снова упала. Нет, это был только тихий, семейный Текстильный. Безусловно, где‐то очень близко затеялась прекрасная вертящаяся драка. Аполлончик сделал несколько шагов. Вперед него, задыхаясь, пробежали любопытные. Аполлончик придвинулся к концу своего переулка (дальше уйти было нельзя) и вытянул шею. Голоногие ребята разносили свежие новости. — В тупике! Стекла бьеть! Летели и мели юбками бабы. — Мамы мои, пьяный-распьяный! Два милицейских справиться не могут! Сердце Аполлончика спирало и колобродило. Из тупика донесся свисток о помощи. Пьяный ужасно заорал. Аполлончик оглянулся на посольство. Там тускло и скучно горели огни. — А пропади вы! И полный нечеловеческого восторга Аполлончик ринулся на крик, на шум и сладостные свистки. Так под напором европейского капитализма пал Аполлончик Танькин, милиционер города Москвы. За непозволительный уход с поста, с поста у европейской державы, его выгнали. Но он не горюет: — Черт с ним, с капитализмом! Это же такая скука!<1923>
Весна
Не то огромного масштаба примус гудит, не то падает дождь, но, одним словом, полный весенний переполох. Воробьи в жмурки играют, а в одном магазинчике уже написано: «Встречайте весну в брюках И. Лапидуса». Вошел и написанное потребовал. А в магазине что‐то крутят. — Вам, — спрашивают, — какие? Штучные? — Вы мне не крутите, — отвечаю. — Не штучные, а брючные! — Как хотите, — говорят. — Мы только поинтересовались, потому что штучными называются те, которые в полоску. Показали. Но у меня в голове весна колесом ходит, и я отверг, дерюга! Мне поинтеллигентнее! Показали. — Дерюга! — говорю. Они обижаются: — Простите, но у нас — на полное подобие «Мюр-Мерилиза», а вы такие шарлатанские слова. А я от воздуху прямо демон стал. — Подлизу вижу, а Муура на него не хватает. Заварилась крутая каша. Уже подплывает милицейский тип и по просьбе Муур-Подлизы берет меня за руку. — Стыдно, — говорю я ему в восторге, — сами вы еще поросенок, а смушковый берет на голове носите! Почему, морда, не встречаешь весну в штанах И. Лапидуса? Тип только пуговицами заблескотал и сразу сделался официальный. — Нам, — говорит, — такого приказа не вышло. Вы за это пострадаете и весну не в штанах встретите, а в строжайшей изоляции. Извозчик, в 146‐е отделение! — Позвольте, — умоляю, — сделать заявление. Я, может быть, от одного воздуха пьяный! — Смотря где дышали, — смеется тип в пуговицах. Вот и все. Небеса на дыбах ходят, тротуары блестят, как сапоги, воробьи кричат «дыр-ды-ра», а меня везут в 146‐е отделение на верный протокол. До чего человеку опасно весной по улице ходить!1924
Записки провинциала
Здравствуй, милый, хороший город Москва! Я разобью тебя на квадраты и буду искать. При системе комнату найти легко. Совершенно непредвиденный случай! Один квадрат разбил мне морду. Било меня человек восемьсот. Главным бойцом было какое‐то туловище с женским голосом. — Я, — говорит туловище, — не допущаю, чтоб крали примусá. — Это не ваш! — пищу я. — И потом — это «оптимус». Мне жена дала в дорогу. Короче говоря, она стучала по моей голове своими медными ладонями. Квадрат тоже положил на мою голову порядочную охулку. Примус они забрали. От квадратной системы надо отказаться. Очередной квадрат весьма неожиданно кончился большой собакой, у которой, поверьте слову, было во рту 8000 зубов, поверьте слову! Нашел приятелей. Одолжил на ночь один квадратный аршин на полу. — Больше, — говорят, — не можем. У нас ячейка. — Неужели, — спрашиваю, — коммунистическая? Что‐то я за вами не слыхал никакого марксизма! Смеются. — Пчелиный улей, — говорят, — это дивный пример сочетания множества живых тварей на микроскопической площади. Не без помощи плотника и мы соорудили соты. Комнатушка… того, величиной с клозет, а вот посмотрите — 27 человек живет, и каждый имеет собственную шестигранную ячейку. Гостей только принимать нельзя. Но пчелы тоже ведь званых вечеров не устраивают. По-ра-зи-тель-ные, эти мои парни! Вчера комне подошел обсыпанный оружием парнюга и сказал: — Пошел вон! — Дорогой товарищ! — начал я хорошо обдуманную речь. — Пошел вон! — повторил парнюга с оружейной перхотью на всем теле. Этот склад оружия, безусловно, не получил никакого воспитания. Я снял с Лобного места (чудная жилая площадь, с часами напротив) свой чайник и ушел. Арсенал продолжал хамить мне в спину. Прощай, милый город Москва! Последние два дня я жил в собственном ботинке. Галки кидали мне на голову что‐то белое, пахнущее весной. Пойду себе пешком на родину. Прощай, город, милый, хороший!1924
Снег на голову Бытовая картинка
Рабочие жалуются на непорядки в амбулаториях.Бывает и такой снег на голову, что болит у рабочего зуб. Ветром надуло. А может быть, просто испортился. Не стану хвалиться, но боль держалась такая, будто мне петухи десну клюют. Так что в голове шум и невыносимое кукареку. Про девицу в амбулаторной приемной я ничего не говорю. Есть там такая, в малиновой кофте. Она записки пишет. Пусть пишет. А у меня зуб. Мне рвать надо. Я прямо в кабинет. Сижу я в кабинете, уже закрыл глаза и навеки простился с семейством. А врач вдруг кладет орудие — клещи на полку и говорит: — Напрасно вы рот открыли. Закройте. Я вам ничего драть не могу. — Почему? — Больных мало. — Как мало? А я ж кто такой? Меня вам мало? Оглядываюсь и вижу, что сижу на какой‐то чепухе. Не зубное кресло, а просто стул, обыкновенный кусок дерева. — Тут нужен специально больной, чтобы держал его за спинку. — Пусть, — говорю, — малиновая девица держит. — Невозможно. Она у нас нервная и от одного вашего вида может в истерику впасть. Сижу. Но тут пришел один, пломба у него, слава тебе, вывалилась. Он хватает стул и держит его изо всей силы. Я открыл рот и кричу: — Дергайте! — Чего вы кричите? — изумляется врач. — Ничего я драть не могу. Мне еще один больной нужен. — Зачем? — спрашиваю я. — Зачем вы меня мучите? У меня во рту вместо зуба пожар! — А кто лампу будет держать? — спрашивает хладнокровный врач. — Нет у нас правильного зубного кресла и — никаких гвоздей. Наконец приходит еще один парень с побитыми зубами. Он светит, врач дерет, малиновая девица от моих криков катается на полу, а парень с пломбой пыхтит и держится за стул, как утопленник. Выдрали… Бывает же такой снег на голову, что у рабочего болит зуб!Из писем рабкора
1924
Вечер в милиции
В отделении милиции часы бьют шесть. Камеру предварительного заключения уже украшают собою трое преждевременно упившихся граждан, но самое главное — еще впереди. Пока дежурный возится с двумя необычайно печальными китайцами. Вчера они приехали в Москву из Семиреченской области и сразу заблудились. Дежурный пытается узнать, где они остановились, но китайцы от печали не могут выговорить ни слова; кстати, они не знают русского языка, а дежурный не знает китайского. Положение безвыходное, и китайцы уходят. На смену им появляется буфетчик из управления гостиницами. — Ровно девять лет живу у вас, — гудит он, — и никогда ни одного подобного случая. — В чем дело? — Прошу вас, любезный товарищ начальник, снять штраф. — А вы дебоша не устраивайте в пивной… А этом месте беседы за дверьми раздается великолепный рев, и дворники вносят здоровенного детину. Он пьян настолько, что может только плакать. Горько рыдающего, его водворяют в камеру, а отобранным на ночь вещам составляют опись. — Денег 4 р. 6 к. Цепочка желтого металла. Старый кожаный черный бумажник. Больше ничего. Утром, когда пьяный проспится, ему отдают его вещи. Оставлять при нем опасно — товарищи по камере очистят. — А ты чего сидишь? Беспризорный, засевший на подоконнике, мрачно отвечает: — Со всех парадных гонят. Мне холодно. — Ну, и здесь тоже нельзя. Беспризорный угрюмо помалкивает. Привели шинкаря. Он неохотно вытаскивает из кармана полбутылки хлебного вина. — Еще вынимай! Ставит на стол еще бутылку. — Этот продавал, — говорит постовой, — а вот этот покупал. Два с полтиной бутылка. Пишется протокол. Утренних пьяных после протрезвления выпускают. Они страшно кряхтят. — Вязали меня? — спрашивает один из них. — Вязали! — Так я и знал! — горестно отмечает пьяный. — Удавить меня надо!<1923/24>
Принцметалл
Петровка всем своим видом хочет доказать, что революции не было. Что если она даже была, то ее больше не будет. Оттого эта улица так пыжится. Оттого так перемараны там пудрой дамские лица. Оттого эта улица пахнет, как будто ее облили духами из целой пожарной бочки. Оттого магазинные витрины доверху напичканы шелком всех карамельных цветов и шелком всех возможных на земле фасонов кальсон. Петровка отчаянно отрицает семь прошедших революционных лет, отрицает Красную Пресню, взятие Перекопа и власть рабочих мускулов. На этой улице я увидел своего старого знакомого, Принцметалла. Он был на своем месте. Петровка была ему по плечу. Он плавал по ней, как рыба плавает по вкусной воде, и сверкал поддельным котиком своей вызывающей шубы. Он свалился на мое плечо и даже поплакал от удовольствия. — Когда вы сюда приехали? — Когда? — протянул он. — Когда? Когда все сюда приехали, тогда и я сюда приехал. Для меня так и осталось неясным, когда он приехал. Впрочем, не раньше двадцать первого года. Потому что в двадцатом году он жил в Одессе, и я даже знаю, что он там делал. Одной рукой он перетаскивал ведром спирт к себе на кухню, а другой звонил в только что образовавшийся ревком, сообщая о малосознательном населении, которое грабит оставленный в этом доме добровольцами спирт. Сухопарые студенты уволокли остатки спирта, а Принц— металл в воздаяние своей революционной заслуги (спасение спирта) сам назначил себя председателем домкома с диктаторскими полномочиями. Остальное сделалось как‐то само собой. У Принцметалла появилась груда продовольственных карточек и столько подсолнечного масла, что сам Опродкомгуб подыхал от зависти. Принцметалл не дал моим воспоминаниям развиться. Он схватил меня за руку и увлек в маленькое кафе с полосатыми стенками. Он накачивал меня кофе, давился от смеха и говорил очень громко. Он стучал языком по моему лицу, как нагайкой. — Христофоров! — говорил он, втаскивая мою голову под столик, чтобы я мог лучше рассмотреть его ботинки. — Лучший сапожник в Москве. Могли ли вы подумать, что Принцметалл… — Нет, не мог! — Калош я не ношу! Дешевое удовольствие! Калоши носит в Москве только один человек — Михаил Булгаков. Принцметалл явно врал. Я пробовал возразить. Но он не допустил меня до этого. Он расстегнул пальто, отогнул ривьеры своего пиджака и блеснул присосавшейся там, почему‐то дамской и совершенно уже нелепой по величие, пылающей бриллиантовой брошью. — Маленькие сбережения Принцметалла… Почему она вколота именно здесь? Маленькая хитрость Принцметалла… Опасно-о дома держать! А носить эту штуку «на улицу», чтобы все видели?.. Это неудобно. Еще подумают, что у меня на груди пожар. Потом он размахивал руками и голосил о своих успехах. Цифры вылетали из его рта, огромные, как птичьи стаи, и во рту же колесом вертелось слово — «червонец». — Могли ли вы подумать… — Нет, не мог! Но откуда все это? Принцметалл развел глаза по сторонам, положил подбородок на самый мрамор столика, заскромничал, поломался и, наконец, вывалил секрет своего богатства. — Я гений! — сказал он просто. Это была просто наглость. А по лицу Принцметалла катились счастливые волны. — Тише! — шепнул он. — Я гений борьбы с детской беспризорностью. Я отвалился на спинку стула. Я был совершенно сбит с толку. К тому же лучи, которые тянулись ко мне от брошки Принцметалла, резали глаза. — Спрячьте вашу драгоценную подкову, — сказал я, — и рассказывайте. Принцметалл говорил час. — Посмотрите в окно! Что, по‐вашему, думает эта дуреха в обезьяньем меху? Она ни о чем не думает. Она живет с того, что ее муж грабит какое‐то учреждение. Как это грубо! Через месяц ее муж получит свой кусок «строгой изоляции», а она сама стает такая же обезьяна, как ее мех. Зачем красть, когда можно заработать. Ну, до свиданья. Не забудьте посмотреть на мою раоту. Принцметалл радостно ухнул и пошел откаблучивать по Петровке, а я, последовав совету, очутился в ГУМе. — Пять тысяч билет! — орала женщина, стоя за маленькой стоечкой в стеклянных переходах ГУМа. — Пять тысяч! Остался один билет! Берите, граждане! На борьбу с детской… Граждане пихали деньги и получали билетики с номерами. Загудело электричество и на стоечке завертелись крохотные, номерованные паровозики. Электричество смолкло. Паровозики стали как вкопанные. — Выиграл номер два. Номер два нервно хохотнул и взял свой выигрыш. Это и было изобретение Принцметалла. Маленькая вариация рулетки на помощь беспризорным детям и довольно большие деньги, полученные Принцметаллом в соответствующем учреждении за остроумную выдумку. Уже никого больше нельзя соблазнить обыкновенной лотереей. Принцметалл волновался: — Ну, кому нужна гипсовая мадам Венера или открытка с мордой композитора Сметаны? Сметана — это бедствие. Что с этого имеют дети? Никто там не играет. Другое дело деньги. Пять поставил — двадцать берешь. Еще пять беспризорники имеют. Мое изобретение! Знаменито, а? И поверьте мне, за гений я тоже что‐то получил. Правда, есть какие‐то олухи! Говорят, что нельзя устраивать для помощи детям азартную игру. Ду-раки! — Билет пять тысяч! — хрипела лиловая девица. — Граждане… детям… Граждане пихали. Жадный глаз ловил пролетающие номерки. Над всем гудело электричество. Гений Принцметалла торжествовал — паровозная рулетка очищала карманы вовсю. Оторвавшись наконец от стойки, гражданин, балдея, начинал понимать, что он пожертвовал свой дневной заработок, и, кажется, вовсе не детям. Когда я в последний раз встретил Принцметалла, то вместо лица у него было какое‐то зарево. — Гениально! — рычал он. — Гени-ально! Совершенно новое дело! Каждая беспризорная дешевка станет миллионером в золотом исчислении. Я слушал. — Небесный олух! — кричал Принцметалл. — Знаменитый проект. Продажа титулов в пользу детям! Патент мой! Мне десять процентов! За двадцать рублей золотом каждый гражданин может стать граф Шереметев или князь Юсупов. На выбор! Всюду будки и всюду продажа. Всего двадцать рублей золотом. Мне два рубля, содержание будок и печатание графских мандатов два рубля, остальное кушают дети. Накричавшись и наоравшись на моей груди, Принцметалл оборвался с моего рукава и устремился хлопотать о своем гениальном проекте. Борьба с детской беспризорностью принимала потрясающие размеры.<1924>
Неликвидная Венера
Братьев Капли, представителей провинциального кооператива «Красный бублик», приняли в бумазейном тресте очень ласково. Зам в лунном, осыпанном серебряными звездочками жилете был загадочно добродушен. Он заинтересовался лишь — зачем нужна «Красному бублику» бумазея. Узнав, что и пекаря не согласны ходить нагишом, зам быстро согласился выдать тысячу метров, с тем чтобы мануфактура продавалась братьями по божеской, иначе трестовской, цене. Взволнованные этим феерическим успехом, Капли быстро помчались в склад. Там всё уже было приготовлено. Поближе к выходу лежала столь популярная среди пекарей бумазея (по белому полю зеленые цветы, казенная цена шесть гривен за метр), а рядом с ней пять штук тонкомундирного сукна и семь дюжин прекрасных касторовых шляп. И сейчас же братья с ужасом заметили, что на всё это добро написан один счет. Братья слабо пискнули, но сейчас же были оборваны: — Бумазея без сукна не продается, а шляпы из неликвидного фонда. Впрочем, можете не брать! Капли не поняли, что такое неликвидный фонд и почему пекаря должны этот фонд на своих головах носить, однако не стали вдумываться. Сзади набегали еще какие‐то кооператоры. Они страстно глядели на бумазею, и было ясно, что они возьмут ее с чем попало, даже если к бумазее будет придано неисчислимое количество Библий в кожаных переплетах. Братья уплатили по бумажке шестьсот рублей, а за приложения еще четыреста. Валясь на койку уносившего их из Москвы поезда, старший брат ясно представил себе пекаря в костюме из тонкомундирного сукна, в неликвидной шляпе на засыпанных мукой волосах и закатился горьким смехом. Младший брат промолчал. Он думал. И оба не спали всю ночь. К утру младший брат вздрогнул и вымолвил: — А знаешь, брат, в этом принудительном ассортименте есть что‐то удобное. — Мне тоже кажется это! — ответил старший. — У нас, например, давно лежат гипсовые Венеры. Эти Венеры какие‐то совершенно неликвидные. Как видно, старший из династии Каплей тоже думал. Думали они об одном, потому что младший отпрыск засмеялся и сказал: — Ничего, мы их сделаем ликвидными! А потом оба они стали действовать. Густейшая толпа, приведенная в восторг прибытием белой с зелеными цветами по полю бумазеи, ворочалась в кооперативе «Красный бублик». Торг шел прекрасно. Приказчики ежеминутно справлялись с таинственными записями в своих книжечках и бодро орудовали. — Вам пять метров бумазеи? Саша, — кричал приказчик в кассу, — получи с них за пять метров, одну шляпу мужскую и манометр к паровому котлу системы «Рустон Проктор». — Кому четырнадцать? Вам четырнадцать? Платите в кассу! За четырнадцать метров по шестьдесят — восемь сорок, две Венеры по рублю, пару шелковых подвязок неликвидных — три пятьдесят и картину «Заседание Государственного совета» — четыре двадцать. Итого — восемнадцать рублей десять копеек‐с! Следующий! Сначала покупатель фордыбачил. Он ревел. Он ругался непостижимыми словами. И даже топал ногами. Но потом смирялся. Уйти было некуда — во всем городке один только «Бублик» имел мануфактуру. И пока покупатель со злостью кидал свои деньги в кассу, братья сидели за перегородкой и радовались друг на друга. К вечеру кипучие операции в «Красном бублике» затихли. «Бублик» расторговался вдребезги. Бумазея, а с ней вся заваль, собравшаяся в кооперативе за два года, исчезла. Распродали всю гадость, которая лежала еще с того времени, когда «Красный бублик» не был «Бубликом», а назывался «Булкой Востока», то есть со времен доисторических. Кислый одеколон, зацветшие конфеты, остаток календарей за 1923 год и поломанные готовальни, калоши неходовых размеров и вонючие спички — всё было продано, всё шло приложением к бумазее. Братья оглядели очищенный магазин, прислушались к шелесту денег в кассе и с наслаждением забормотали скороговоркой: — Принудительный ассортимент! С улицы неслись божба и зловредная ругань. Эта история имеет свое окончание. Через два дня у старшего Капли порвались сапоги, и он пошел к сапожнику. — Здрасте! — сказал брат. И сразу осекся. Сапожник сидел во фраке. Из-под фрака выглядывала новая рубашка из знакомой брату Капли бумазеи — по белому полю зеленые цветы. Оправившись, дивный кооператор сделал вид, что ничего не заметил. — Можно на мой сапог заплаточку наложить? — Можно! — любезно ответил сапожник. — Двенадцать рублей. — Да что… Но сапожник пресек дивного брата. Он ткнул себя пальцем в лацкан и строго спросил: — Это что? — Фрак! — сказал непонятливый Капля. — Сортамент это, а не фрак! У вас куплен. С бумазейкой. Бери фрак назад, починю за два рубля. А иначе двенадцать. — Зачем же мне фрак? — возопил кооперативный гений. — А мне зачем? — с ехидством спросил сапожник. — Однако я взял! Уйти Капле было некуда. У него была прекрасная память, и он хорошо помнил, что в эти дни успел одарить всех сапожников небольшого городка ненужными вещами. И сапожник, пользуясь принципом принудительного ассортимента, одержал над гениальным Каплей страшную победу и взял с него сколько хотел — взял око за око.<1925>
Катя-Китти-Кет
За 24-й год в Москве осело 200 000 жителей.Имей понятие — и не осядешь. Я, например, термолитового домика не возводил, строительной кооперации деньгами не помогал, кирпичом о кирпич, так сказать, не ударил, а вот есть же у меня комната. Имей понятие! По приезде в пышную столицу опочил я на полу у приятеля-благодетеля. Но тут стали расцветать лопухи, пришла весна, благодетель мой задумал жениться и меня вышиб. — Погибаешь на моих глазах! — заметил я ему. — А зовут ее как? — Катя! Китти! Кет! Что эта Катя-Китти наделала, невозможно передать. Три дня я страдал на сундуке своей тети. Потом не вытерпел. — Тетя, — сказал я, — до свиданья. Спасибо за сундук, прелестный сундук, но мне предоставили в Кремле всю Грановитую палату. До свиданья, тетя. Ночью околачивался на бульварной траве, к утру уже родился отважный план, и ноги сами понесли меня на квартиру благодетеля-приятеля. Дверь открыла особа, заведомая Катя. — Язва дома? — спрашиваю. Катя-Китти-Кет не соображает. — Дома, — спрашиваю, — язва — Николай? — Что-о-о? — Мадамочка, вы не беспокойтесь, я свой. — Вам, наверно, Николай Константитича? — Пусть Константитича. — Нету его! — Жалко, жалко! Коля‐то на сколько лет ушел? Неужели, — говорю, — попался и даже амнистию не применили? Юбка в три названия похолодела. — Вы чего хотите? Он на службу ушел. Что случилось? Тут я сжалился. — Пустите меня, мадамочка, в халупу вашу. Боюсь, что вы, моя симпатичная, влопались. Вел себя, как демон. — Не знаю, про какую вы говорите такую службу? Какая может быть служба, если у вашего Коли отпечатки пальцев в Мууре лежат! Катя хлебает слезы. — Так он что? Вор? — Ошибаетесь! Марвихер! Заревела Катя. Вынимает Катя-Китти-Кет платком слезы из глаза. А я план провожу. — Как старый знакомый вашего супруга рекомендую осторожность. — Что же мне делать? Я его вовсе не люблю. Это он меня любит, а я его любить не могу, если он на седьмом этаже живет. У меня на такой этаж сердце лопается. И еще марвихер! Вот поросенок дамский! Седьмой этаж ей не нравится! Убедил пока молчать и обещал прийти еще раз в отсутствие мифического ворюги-язвы Николая. Дура девчонка страшная. — Катя, — говорю я в третье свиданье, — где живет ваша мама? В Брянске? Очень хорошо! Деньги у нее, Китти, есть? Ну, так обручальное продадите, все равно его ваш Колюша сопрет. И поезжайте‐ка домой, пока все не раскрылось. А то и его посадят, и вам не поверят. Вы, скажут, пособница! Вы, скажут, Кет, а он — кот. Хорошо вам будет? — А как же брак, — плачет Катя. — Он не захочет. — Еще бы захотел. Он даже знать не должен. Заочно разведитесь. Это в Брянске два рубля стоит. И вы-про-во‐дил я ее в два дня. Чистейшая работа. Дивная работа. Когда от моего благодетеля сбежала жена, я ринулся его утешать. Пока он плакал, я живо занял старое место в углу и начал: — Коля, ты это брось. Они все такие. Поиграют нами, а потом кидают. Брось, Коля, это слабосильное сословие, ходи лучше на службу аккуратно. Коля поднял к потолку мокрую переносицу и застонал: — Что ж, старый друг, переезжай ко мне обратно. Переедешь, а? Не покинешь Колю? — Ну как, — говорю, — ты мог подумать? Я уже здесь и завтра пропишусь. Вот. Термолитового дома не строил. А комната есть. Они, эти 200 000 разве строили? Они тоже хитрые.Из газет
<1925>
Бебелина с Лассалиной
Иногда из провинции в столицу доносится дикая весть о том, что какое‐то новорожденное дитя назвали Табуретом или Вьюшкой. До сих пор нельзя было понять, кто это наущает несчастных родителей на такие штуки. Теперь все ясно. Делает это С.‐Западное Обл. Промбюро, выпустившее календари с совершенно комическими святцами. Вот имена, рекомендуемые Промбюро: Атеос (наивное Промбюро думает, что это понятное имя), Атом, Бебелина (старались в честь Бебеля, а получилась Бобелина — какая‐то «Королева греческая»), Рура, Солидар, Декрета (если не понравится, есть в другом роде — Декретина). Засим имеется подходящее имя для девочки — Лассалина (просьба от Промбюро не путать с Мессалиной, женщиной явно не марксистского поведения). Потом идет Плехан. Есть, впрочем, и Плехон. Кто такой Плехон, не указано. Пропускаем бесчисленное множество Пестелин, Металлин, Кинталин и Текстелин. Переходим к именам совершенно ослепительным: Васко (отнюдь не «Васька») дается 20 мая в честь открытия Васко да Гамою пути в Индию, Фарада (в честь ученого Фарадея), Урица, Пика, Коллекта, Агителла, Бреста и так далее и далее. Кому нужна эта стряпня? Для кого и для чего заготовляются эти «имена»?<1925>
Ромео-Иваны
Дорогой друг, в Англии, нашем отечестве, совсем не представляют себе, как необыкновенна Москва и до чего здесь любят Шекспира. Недавно в Малом театре я смотрел одну из лучших его трагедий — «Иван Козырь и Татьяна Русских». У нас она идет под старым названием «Ромео и Джульетта». И здесь Шекспир вообще потерпел значительные изменения. Он переменил фамилию и называется г. Смолин. Кроме того, московиты уже не называют его сочинение трагедией. По крайней мере, выходя из театра, я слышал восхищенные, как видно, возгласы: — Какая халтура! Удивительная халтура! Конечно, изменилось и содержание трагедии. Монтекки и Капулетти, как следовало ждать от столь буржуазных семейств, больше не враждуют. Обе фамилии, нацепив на себя визитки и штучные брюки, совершают прогулку на океанском пароходе. Борьбу они ведут с низшим сословием парохода — кочегарами и командой. Эти люди вполне уместно введены г. Смолиным, так как Шекспир этого сделать не мог из‐за отсутствия в его время пароходов, а равным образом и лиц, их обслуживающих. Красный Ромео-Иван с самого начала ведет себя вполне сознательно и гораздо лучше, чем во времена Ренессанса. Он получил от г. Смолина поллитровку. Не хочет защищать капитана пароходчиков под фирмою «Монтекки и Ко» и тайным образом, тем же пароходом, возвращается на марксистскую родину. Попутно он освобождает от капиталистического общества Красную Джульетту, Татьяну Русских. Девица, избавленная от весьма позорных перспектив, очень обрадована. Оба решают спастись. Однако здесь г. Смолин получает сильный отпор. Как ни старался он уйти от влияния нашего великого Шекспира, ему это не удалось. Шекспир побеждает. Иван-Ромео и Красная Джульетта спастись не могут, и целый акт идет без участия г. Смолина, силами одного Шекспира. Красная Джульетта принимает порошок, делающий ее на некоторое время покойницей. Ее кладут в морг. Ромео-Иван в ужасе бежит туда. Желая застрелиться. Тут г. Смолин делает адское усилие, и Красная Джульетта просыпается прежде, чем несчастный Ромео-Иван успевает лишить себя жизни. Шекспир злобно кряхтит, а необыкновенные любовники образца 24‐го года спасаются через люк. Тут же выползают не предусмотренные Шекспиром кочегары, и при свете красных огней подвергают фамилии Монтекки и Капулетти полному раскассированию. Все же, дорогой друг, я очень благодарен г. Смолину и терпеливо ожидаю при его помощи увидеть также «Отелло» и «Венецианского купца» и все прочее, сочиненное нашим великим драматургом. Ваш…<1925>
Драма в нагретой воде Кинофельетон
Поручик с умеренно злодейской наружностью и добровольческим трехцветным угольником на рукаве бродит по вестибюлю первой кинофабрики. Сегодня режиссер Роом снимает сцены затопления парохода для своей «Бухты смерти». Темное бархатное лицо поручика изображает готовность совершить некоторые подлости. Но ему еще рано. Сперва будут затоплены пароходный коридор и каюта. Для этого в ателье сооружены две огромные ванны из листового железа. Они настолько велики, что в одну из них целиком вставлен длинный коридор морского парохода, а в другую — каюта. — Лифшиц, крысы готовы? — спрашивает Роом. Традиционно бегущие с корабля крысы не готовы. Лифшиц комически взволнован. — Всю грязную работу делает Лифшиц! Красить крыс должен Лифшиц! Дело в том, что крыс достать не успели. Пришлось купить мышей, да еще белых. Теперь, для большего сходства с крысами, их надо перекрасить в серый цвет. Пожаловавшись на судьбу, Лифшиц берет горстку сажи и уходит на свою странную работу.Сухое и мокрое
— Сначала сыграем сухие сцены. Потом мокрые. Всё готово. Актриса Карташева сняла жакет и распустила волосы. С аэропланным гуденьем зажглись и потухли прожектора. Свет проверен. Оператор приготовился. Двум солдатам из посредрабиса внушено, что они должны снести Карташеву в каюту. Солдаты приготовились. Идет репетиция. С верхней площадки раздается голос Карташевой: — Что, я без чувств? — Вроде. Актриса мигом закрывает глаза и болезненно опускается на руки солдат в суконных погонах. — Приготовились! — кричит Роом. — Начали! Взяли! Понесли! Елизавета Петровна, глаза у вас закрыты! Так! Левая рука опущена! Товарищ солдат, головой вносите ее в дверь, а не ногами. Стоп! Еще раз! Репетируют второй и третий раз, но у одного из солдат движенья по‐прежнему нехороши, а лицо беспомощно-напряженно, будто он играет на большой медной трубе. Когда сцена снята, Роом заинтересованно спрашивает его: — Скажите, вы актер, электротехник или монтер? — Я музыкант! — раздраженно отвечает солдат из посредрабиса.Крысы
— Очистить коридор! Где крысы? В клетке приносят перекрашенных мышей. Их только три. — Больше нельзя. Все пальцы перекусали. Прокусывают кожаные перчатки. Клетку ставят на пол. — Пускай первую! Мышка осторожно вылезает из клетки. Но напрасно Роом кричит свои «приготовились, начали, пошли». Мышь испугана невыносимым светом и не движется с места. Даже подпихивания палочкой не действуют на нее. Тогда всё ателье, все монтеры, все белогвардейские солдаты, матросы, дежурные, рабочие и сам злодейский поручик в золотых эполетах начинают мяукать, шипеть и всячески пугать бедную мышку. Один лишь оператор остается спокойным. Он стоит на небольшом ящике у аппарата и ждет. — Пошла! Робко побежавшая мышь вызвала всеобщее сочувствие. Ее снимали крупным планом. На экране она будет большая и жирная.Потоп
К ванне, в которой помещается коридор, вода подается шлангом из водопровода. Пар для согревания воды идет по железной трубе, выведенной в ванну от парового отопления. Медленно, спокойно и неотвратимо, как в настоящем несчастье, вода заливает пол. Светлые тени бегут по стенам пустынного коридора. Это герой картины Раздольный открыл кингстоны белогвардейского парохода. Предполагается, что в одной из кают лежит без чувств Карташева. Спасать ее будет Раздольный. Нагретая вода залила коридор выше колен. — Давай волну! Сначала будет спасаться команда! Сбоку, невидимо для строгого глаза аппарата, досками взбалтывают воду. Сцена идет без репетиции. Репетировать в воде, к крайнему сожалению для режиссеров всего мира, невозможно. — Свет! Приготовились! Первый, второй номера в воду. Статисты храбро низвергаются в пучину и бредут в тяжелой, блистающей, как олово, воде. Они выдирают друг у друга спасательные пояса, показывают всю низость человеческой натуры в минуту смертельной опасности, они подымают своим барахтаньем океанские волны и спасаются наверх по мокрой лестнице. Возвратившись назад и извергая из сапог, рта и носа струи теплой воды, они снова бросались в коридор и снова честно утопали. Эти сцены сделаны были очень хорошо.Борода в воде
— Приготовились! Пошел, Василий Ефремыч. Бороду только не замочи. Так, так! У двери стучи! Увешанный пробками, Раздольный ищет героиню. Она в это время уже очнулась и, ужасаясь, видит воду, бьющую сквозь двери в каюту. Сюда должен ворваться Раздольный, чтобы спасти героиню. Но эта сцена будет снята позже. Потому что вода занята в коридоре и переливать ее в каюту будут только после того, как в коридоре всё кончится. А сейчас Карташева считается уже спасенной, и могучий Раздольный уносит ее на своих голых плечах. Бороду свою он все‐таки замочил, и в то время, как пожарные перекачивают воду в каюту, Раздольный сушится у юпитера. Вольтова дуга пылает, и борода дымится. По углам ателье матросы спешно сбрасывают с себя промокшее и отяжелевшее платье. Прожектора поворачиваются и заливают неумолимым светом каюту. Они тухнут только после сцен в утопающей каюте. В этот день ателье работало подряд шестнадцать часов.1925
Улица на просмотре
Кинокартину зритель видит дважды. Второй раз он видит ее за деньги, всю сразу — с музыкой и надписями — на экране. Первый раз — бесплатно, зато только сцены, снимаемые на открытом воздухе. Так как кинематографическое «районирование» России уже совершилось, то житель Винницы видит только инсценировки еврейских погромов, одессит — только девятьсот пятые годы, ленинградец — только девятые января. Любовно-драматические сцены снимаются в Москве, преимущественно на Каменном мосту. Бесплатного и занимательного зрелища сколько угодно. Из ворот большого и официального здания на Красной площади выходит кинооператор. Его сопровождает целая свора черносотенцев. Позади всех важно ступает городовой. Вид его немедленно вызывает у прохожих сердечный смех. На городовом — всё в порядке. Красные шнуры, лакированная кобура. Нормальный царский городовой. Бородатый черносотенец вежливо осведомляется у режиссера: — Палки брать будем? Стекла бить. Вся банда отправляется громить рабочую потребительскую лавку для картины «Машинист Ухтомский». Стекол сегодня бить не будем (вчера уже повыбивали), но палки взять надо. Пригодятся. Орава рассаживается в грузовики. — Стоп! Где студент и курсистка? Хилый студент в зеленой шинели и курсистка торопливо лезут в грузовик. Лица их мрачны. Палки припасены, кажется, про них. В хорошей картине студентов полагается избивать. Машина мчится к Бутырской заставе и останавливается у лавчонки. Лавочку громили еще во время вчерашней съемки. Сейчас будут грабить. — Вывеску! На фасад вешают вывески с надлежащими для девятьсот пятого года «ятями» и твердыми знаками. Сцена маленькая и нетрудная. Главная беда — в нахлынувших со всех сторон любопытных толпах. Наконец приготовились и начинают. Из разбитой лавчонки выбегают громилы. Они суетливо делят между собой толстые колбасы, какие‐то галеты и папиросы. Городовой умиленно созерцает. — Появляется студент! — кричит режиссер. Студента бьют по шеям. Курсистка спасается бегством. Черная сотня выбивает оставшиеся еще целыми стекла. На звон погрома и крики режиссера сбегается вся Ново— слободская улица, хохочет, соболезнует, во всю глотку делает свои замечания. Сцена повторяется еще и еще раз. Студента снова и снова берут в кулаки. Репетируют следующие сцены. Очень холодно, мороз отбивает память, но толпа не расходится до самого конца. Подобная съемка в рабочем районе вызывает интерес к кино больший, чем самые широковещательные афиши. А понятие о девятьсот пятом годе дает не худшее, чем полдюжины лекций на эту тему.1925
Компот из Мери
— Нам не надо компота из слив! Это было сигналом к возмущению приютских детей. Они плевали в компот, выливали его на пол и танцевали на тарелках. Детей всегда кормили компотом из слив, и он очень им надоел. Сильнее всех шумела зачинщица детского бунта в картине «Найденыш Джуди» — Мери Пикфорд. Начальница приюта была чрезвычайно неприятно поражена. Но мы, зрители, сочувствовали: — Правильно, Мери! Долой всякий компот! Мы ведь тоже любим бунты. Тем хуже было нам на «Двух претендентах». Компот подавался там в каждой из десяти частей картины. Обычно Пикфорд играет две роли в последовательном порядке. Вначале — нежную и строптивую замарашку, а под конец картины — девицу, успевшую в антракте между пятой и шестой частью получить прекрасное воспитание в английском вкусе. Это воспитание почти всегда портило Мери. Она скучнела. Но человеку естественно расти даже на экране. Зритель вспоминал короткие клетчатые халатики Мери-замарашки, но все же примирялся с длинными платьями Мери-девицы. В «Двух претендентах» Мери ведет свои роли в несколько необычном порядке, и поэтому в картине оказалось множество заколдованных кадров. Пикфорд одновременно играет мать и сына. Делается это, кажется, очень просто. На левую половину ленты снимается мать. Затем она переходит на правую сторону и, соответственно нарядясь, играет сына. Но подойти к себе самой ближе, чем на аршин, Мери, конечно, не может. И получились завороженные сцены. Мальчик ретиво бежит целоваться с матерью, но за шаг от нее застывает. В одной половине кадра нежно разводит руками Меримама, а Мери-мальчик опасливо бродит в отведенной ему части. Когда же они обнимаются, то кто‐нибудь из двоих стоит спиной к зрителю. Если спиной мама, значит, мама поддельная. Если спиной сын, то сын этот фальшивый. Все сцены игры Мери с самой собой призрачны и просто неестественны. Такое совместительство страшно мешает игре. А как это надоедает, и передать невозможно. Двухчасовой компот из двух Мери. Проделана вся эта неумная комбинация для того, чтобы поразить зрителя сходством сына с матерью. Сходство получилось поразительное. Даже нечеловеческое какое‐то, слегка пугающее. Логическим следствием всего этого была бы новая картина, где Пикфорд будет играть сразу бабушку, мать и дочку. Надеемся, что это не случится. Играет же Мери по-прежнему превосходно. Причем Меримальчик во много раз лучше Мери-мадам. У матери положение драматическое, что вообще Пикфорд удается слабо. Только один раз лицо дамы показало разнообразные, трогающие чувства. Посланец мерзкого старика — лорда Уэрделя требует сына в Англию. Тяжесть минуты усугубляется еще тем, что на кухне горит жаркое. И дама жалко улыбается, теряя в одно время сына и дешевый обед. Настоящего мальчика из Пикфорд не вышло. Вышла переодетая девчонка. Она прекрасно дерется, но мальчики так не дерутся. Для этого у Мери слишком много злости. Прежде чем ударить своего врага, она с минуту прыгает от ненависти. Юные озорники мужского пола так не делают. Они бьют сразу. Поскольку мнимый мальчик не мешал самому себе (появляясь в образе мамаши) и мог свободно бегать по всему экрану, он сделал все, что полагалось не в меру сентиментальным сценарием. Смягчал сердце черствого лорда, водил дружбу с немытыми деревенскими детьми (жадные ребята, приглашенные на паштет в замок, съели даже розу, предварительно посыпав ее перцем), вырывал себе зуб веревочкой и в конце концов с помощью своих американских друзей — бакалейщика, торговки яблоками и чистильщика сапог — на радость свободолюбивым американцам сделался прямым наследником лорда. Монтажер, пользуясь тем, что в начале картины лорд Уэрдель имеет злобный вид, пытался было сделать из него феодального демона и угнетателя землеробов. Этого, пожалуй, не стоило делать. Старик под благотворным влиянием Мери быстро подобрел, даже плакал иногда, даже играл на губной гармонике. Вообще, ясно стало, что такой старик мухи не обидит. И надпись, возвещавшая о жестокостях феодала, пропала даром.<1925>
Великая плакса
Алина плакала лучше и трогательней всех на земле. Фирмой она была законтрактована на роль плаксы, с обязательством проливать слезы не мене чем в трех картинах за год. Глава фирмы говорил, что такого доброкачественного навзрыда он еще не видел. Даже когда вконец уже исцарапанную и драную ленту вертели в каком‐нибудь замороженном Архангельске, и тогда вид плачущей Алины производил свое обычное действие. Разница была только в том, что чикагский или парижский зритель взволнованно сморкался в платок, а архангельский, по некультурности и приверженности к старому быту, обходился без платка. На всех экранах мира мерцали влажные глаза плачущей Алины, к трижды прославленной плаксе валила публика, слава и много денег. Поэтому удивление было велико, когда Алина забросила свое щемящее душу амплуа. Причиной была небольшая война, миниатюрная, так говорили, боевая прогулка с целью укрощения каких‐то негритосов. Или эскимосов. Точно, в конце концов, никто не знал. Великая держава удовольствовалась тем, что решила победить, а кого — это уже не было так важно. Как раз в эти бряцающие дни работа на фабрике застопорилась. Великая плакса заболела. Глава фирмы на взбешенном автомобиле летел к ней через весь город. И, понурясь, мчался назад во весь опор. — Плачущая Алина четвертый день дохнет от головной боли и играть не может. Фабрика оцеплена. Операторы ходили, засунув руки в карманы, прекраснейшие солнечные дни пропадали, статисты валялись на конторских диванах и почему‐то требовали сверхурочные. Деловое сердце главы фирмы разрывалось. — Через два дня, — говорил глава, — я буду плакать лучше, чем Алина. Он был из Нью-Йорка и любил сильные выражения. Но через два дня великая плакса не выздоровела, и для главы фирмы настали подлые времена: он нес убытки. Между тем будущие покорители негритосов или эскимосов все эти дни грузились в порту. От резких звуков военной музыки солдаты холодели. Барабанная осыпь наводила на мысль о смерти и раздраженных, без всякой охоты покоряющихся негритосов. Но пока трубы скрипели и нагло подсвистывали флейты. Даже глава фирмы остановил на минуту свой неудержимый мотор, чтобы полюбоваться зрелищем. И тут он увидел то, что долго потом называл: — Мой якорь спасения! Глава всегда находил подходящие слова. Он прыгнул из мотора и обратился к «якорю» с ошеломительной фразой: — Сколько раз в неделю вы сможете плакать, как сейчас? Молодая женщина изумленно подняла свои залитые слезами глаза. — Кекс и Кокс! — ободряюще воскликнул глава. — Кинематографическая фирма. Предлагаю контракт на годовой плач. — Моего мужа взяли на войну! — ответила женщина. И снова заплакала. Глава фирмы был деликатный человек. Он обождал минуту и заметил: — Вы чудно плачете. Нам не надо теперь никакой Алины. Наша фирма специально для вас напишет сценарий из военной жизни. Конечно, этот сценарий был написан, и жена невольного покорителя негритосов сделалась новинкой фирмы Кекс и Кокс. Тут играли роль деньги. Ими соблазнили солдатскую жену. Впрочем, Кекс и Кокс были мудры, как змеи. Они источали из своей новинки много рвущих сердце слез и мало платили. Солдатской жене упреков делать не приходилось. Она прекрасно и много плакала. У нее были основания для этого: война с негритосами продолжалась. Когда исцелившаяся и кое‐что знавшая о положении дел Алина явилась на фабрику, лысина главы фирмы сразу приняла ледяной оттенок. Двух плакс было слишком много для благоденствия фирмы. — К тому же, — заметил глава, — ваше амплуа уже занято. — Хорошо! — сказала догадливая Алина. — Я меняю амплуа. Кекс и Кокс насторожились. Это были кипучие и падкие на идею люди. — Я заставлю людей плакать от смеха. — Попробуйте. Она попробовала. И сделала это так, что через неделю глава фирмы (он умел облекать свои мысли в нужные слова) изрек: — Совершенно верно! Зачем заставлять людей плакать от горя, если они могут плакать от смеха? Совершенно верно! Наша фирма будет ставить только комические пьесы. Притом публика и так угнетена затянувшейся войной с этими негритосами или эскимосами. Затем глава фирмы призвал в свой кабинет жену покорителя негритосов. — Ваши слезы уже несозвучны. Люди устали. Вот если бы вы могли что‐нибудь комическое! Двух звезд наша фирма не выдержит. Если вы можете смеяться и веселить лучше Алины, то мы оставим вас у себя. Молодая женщина посмотрела на главу фирмы и тихо ответила: — Смеяться? В этой стране меня выучили только плакать. А смеятьсямне не приходилось! Я не умею смеяться!<1925>
Раскованная борода
Ленинград в смятении. По Невскому проспекту с треском и песнями проходят роты преображенцев. С Троицкого моста съезжают казаки. Дворцовая площадь оцеплена. Вокруг Александровской колонны, нежно и тонко покрытой инеем, вьются конные городовые. Орут и шевелят усами офицеры в форменных башлыках. Мчатся какие‐то пернатые прохвосты голубовато-жандармского вида. Молодые люди трубят в рупоры, командуя десятью тысячами народа, и молочница, старая, препоганая бабища, кричит: — Товарищ городовой! Она — не молочница и товарищ — не городовой. Это киносъемка для картины «9 января». Под аркой Главного штаба формируется шествие гапоновцев к царю. Возами подвозят иконы, хоругви, церковные фонари и портреты царской четы. Городовые конскими задами осаживают посторонних. Посторонние недовольно пищат: — Вошел в роль! Смотри, убьют. В это самое время коридоры кинофабрики запружены невероятным народом. Здесь господствуют моды девятьсот пятого года. Доподлинные старухи в ротондах, пелеринах, мантильях и плисовых каких‐то тальмах жмутся к стене. Беломундирные кавалергарды на пол-аршина возвышаются над толпой. Князь Васильчиков прячется в бухгалтерии, чтобы не помяли гусарского мундира, сановники в треуголках с плюмажем торчат всюду, а человека, играющего Николая II, даже не показывают. Его нельзя показывать. При его появлении все кидают работу и потрясенно таращат глаза. Такого человека надо хранить в сейфе. Это кинодрагоценность. Он играет совершенно негримированным, а похож на царя так, что служители музеев в Зимнем дворце (кой-кто из них служил во дворце по многу лет, и их критике можно вполне довериться) только дергают головами и говорят: — Вот Николай так Николай! Прямо царь польский, великий князь финляндский. Это не актер. Фамилия его Евдаков. Он заведует 10‐й ленинградской хлебопекарней. Его поразительное сходство с царем было замечено еще при старом режиме, и полицией ему было внушено не носить бороды. Революция, так сказать, сбросила цепи с бороды заведующего. Между прочим, Евдаков играет свою роль совсем неплохо. Еще лучше играют министры, сановники, генералы и кавалергарды, вся пышная свита заведующего хлебопекарней. Это тоже не актеры. Фабрика подбирала этих людей два месяца, зато и подобрала таких, которым, в сущности, нет надобности играть. Им достаточно держаться, ходить и разговаривать так, как они делали это до семнадцатого года. Они играют самих себя. Настоящий генерал играет генерала, настоящий сановник играет сановника. Они знают свое дело. Они даже могут дать ценные указания относительно этикета. В свите есть настоящий камергер, теща великого князя и множество генералов. Когда для картины снимали совещание в штабе, то из тридцати шести военных, сидевших за столом, был только один актер. Остальные были неподдельными генералами. Роль Плеве играет человек, бывший когда‐то с самим Плеве близко знакомым. Работают все они прилежно и старательно. Для некоторых из них это, может быть, первый заработок за восемь лет революции. Всё готово. Кавалергарды, конвойцы, золотая гвардия в косматых шапках и прочие Треповы рассаживаются в специально поданные вагоны трамвая и едут на площадь. Заведующего хлебопекарней бережно увозят на автомобиле туда же. На дюжине саней выезжают кинооператоры. Для управления десятитысячной толпой, участвующей в массовке, слабым оказался рыкающий голос режиссера. Рупор не помогает, свисток не слышен, и даже выстрелы из нагана теряются в огромных пространствах Дворцовой площади. Поэтому сигналы к съемке будут даваться стрельбой из трехдюймового орудия. Сейчас снимаются так называемые «грезы Гапона» — мечты Гапона о том, как народ придет к царю, царь выйдет и даст всё, чего народ захочет. По грянувшему выстрелу тысячи людей потекли из‐под арки со стороны Певческого моста, с Мойки и Дворцового. Со всех сторон, с высоты специальной вышки, от штаба до дворца, дюжина аппаратов снимала шествие. Новый взрыв. Толпа повалилась на колени. Под низко опущенным серым небом, в быстро набегающих северных сумерках и тишине работали киноаппараты. Царь вышел в мантии и с короной на голове. За ним торжественно вывалила разноцветная придворная свита. От Гапона приняли прошение и милостиво кивнули головой. Под гром последнего выстрела в небо полетело много тысяч шапок. Долго они летели вверх и вниз. Казалось, будто черная метель внезапно ударила на площадь. Сцена вышла превосходно. Конец. Толпа рассыпалась, и всё сразу смешалось. Городовые и гапоновцы поскакали к молодым людям, тут же по ведомости выдававшим заработок. Экстра-толпа получает по рублю шестидесяти; три шестьдесят платят участвующему в массовке и шесть с полтиной за эпизод.1926
Золотая серия
(«Медвежья свадьба»)
Итак, мыши снова скребутся. «В старинном замке скребутся мыши, в старинном замке, где много книг».
В «Медвежьей свадьбе» ровно сто процентов довоенного качества. Ни на один процент меньше. Зато и не больше.
И если бы не была в конце картины показана фабричная марка «Межрабпома-Руси», то народы так бы и ушли из кино в убеждении, что картину делали у Ермольева.
Это не в упрек сказано. Ермольев сочинял ведь и хорошие картины. Но это и не в похвалу — Ермольев работал не в 1925 году, а в 1917‐м.
Могу сказать, что нельзя требовать современности для картины, самый сюжет которой касается происшествий баснословных, дошедших до нас в сценической обработке исключительно благодаря любезности т. Луначарского, сделавшего из повести Мериме пьесу, и т. Гребнера, пьесу эту переделавшего в сценарий.
Никто и не требует, чтобы борьба крестьян с литовским графом, в которого не совсем правдоподобно вселился медведь, носила пламенно-марксистский характер.
Но совершенно необходимо, чтобы советская картина не пахла «Золотой серией».
В «Медвежьей свадьбе», которая сделана с большим умением и вообще похожа на картину (это у нас редко) в том смысле, что действие в ней правильно и хорошо развивается, нехорошо изобилие сов, руин, молний, мрачных ливней, зловещих старух и гнущихся под бурей деревьев.
Сколько раз мы всё это видели.
Это старая песня… «В старинном замке скребутся мыши, в старинном замке, где много книг».
И пошли чесать перед слегка ошеломленным зрителем молнии, русалки, своды, ведьмы и всяческие черепа.
И показали зрителю прекрасно сфотографированные и умно поставленные балы, и именины сердца, и свадьбы.
И стало ему, зрителю, приятно-жутко. Но духа времени, волчьего и медвежьего духа Литвы — в картине нет, нет страны смолокуров, плотовщиков и лесорубов. Есть кадры, глазу приятные.
Актеры в картине действуют умело. Эггерт иногда чересчур уж страшен в роли графа-медведя. Хорошо играющую панну Юльку — Малиновскую совершенно напрасно заставили качаться на веточке в виде русалки. Ей это не подходит.
Впрочем, это вполне в духе «Золотой серии».
1926
Мадридский уезд
Советское кино испытывает новое потрясение. Под напором крымских, каракалпакских и забайкальских легенд полковники-усачи, еще так недавно бойко попрыгивающие на всех окраинах, стали хиреть и вскоре угасли совсем. Киноактеры, три года не вылезавшие из пространных галифе, облачились в халаты и принялись изображать юго-восточные и северо-западные предания, а то и просто басни. Экранами завладели минареты, ведьмы и пропасти неизмеримо-идеологической глубины. Сниматься в кино могли только люди с черными буркалами. Актеров, не знавших, что такое чувяки и шариат, режиссеры гнали как несозвучных эпохе. Несозвучные в отчаянии принялись отращивать себе совершенно юго-восточные, в конский хвост длиною, бороды. Однако едва бороды произросли, как уже опоздали. На кинофабриках стоял полновесный крик: — Кому нужны эти бороды? Продавайте их на войлок! Действительно, этим летом борода уже не требовалась. Халаты из мордастых ситцев брошены в кладовые, а народы советского Востока, подработав на массовках, возвратились в первобытное состояние и, к радости заготовительных органов, снова приступили к возделыванию хлопка. Теперь требуется от актера голый, хрустальной твердости подбородок. Из чудесных коридоров кинопредприятий понесло новым и на этот раз уже совершенно непонятным духом. Первым в стойло московского зимнего сезона прибежал «Межрабпом» со своей штучкой «О трех миллионах». Счастливая судорога обняла потомков присяжных поверенных, и они повалили в зрительный зал смотреть штучку. За ними ринулись подруги кассиров и одичавшие романтики с Зацепы. С тех пор эта категория зрителей уже не выходила из состояния радостных спазм. Ее победил балкано-румынский шик, с которым связана эта картина. Фокстрот с какими‐то пузырями, красавицы, «пышные формы которых напоминают лучшие времена человечества», и предупредительно лезущие к первому плану вывески на франко-болгарском наречии беспрерывно вопиют о том, что пейзаж сей нисколько не русский, что все снято в настоящей, неаполитанской губернии и в мадридском уезде. Герой же «Трех миллионов», невзирая на некоторые культпросветные к нему добавления, нисколько не сын мозолистых родителей, а простой граф, временно впавший в благородное воровство. Здесь заграничность постановки тоже не нарушена, и сердца кассировых подруг упоены в меру цензурных возможностей. За коммерчески-иностранным «Межрабпомом» выступает иностранец с детства — режиссер Кулешов, делающий кинокартину по рассказу Лондона. Все возможное в окрестностях красной столицы переделывается в ледяные варианты Аляски. Не умри Джек Лондон так скоропостижно, он, конечно, возжелал бы родиться и действовать в пределах бывшего московского градоначальства, на кулешовском Юконе. До того там все загранично получается. Одесская фабрика даже на вышеприведенном европеизме не успокоилась, а сразу углубилась в так называемую пыль веков. В самом деле! «Нас три сестры, одна за графом, другая — герцога жена, а я, всех краше и милее, простой морячкой быть должна». Посему в Одессе фабрикуются цельные «Кво-вадисы» и «Кабирии» с Колизеями, малофонтанными гладиаторами, центурионами с Молдаванки и безработными патрициями, набранными на черной бирже. Ставится нечто весьма древнеримское — «Спартак», — естественно, получается восстание рабов в волостном масштабе. Пришла пора спасаться. Идут «рымляне» и «рымлянки», лезут графы в голубых кальсонах, антарктические персонажи — и кто его знает, что еще может быть. Если одесситу воткнуть в прическу страусовое перо, то он многое совершит. Нужна ли только эта ломаная, болгарская заграница и парижский жанр 3‐го ранга? Зачем делать именно те картины, которые мы бракуем, если их предлагает заграница?<1925>
Банкир-бузотер
В летнем саду железнодорожников ст. Курск, в Ямской слободе, громкоговоритель расположен под экраном и работает во время демонстрации кинокартины. Получается чепуха.— Товарищи! Занимайте места согласно купленного билета! Товарищи занимают места согласно купленного билета. На экране прыгает зеленая надпись:Рабкор И. М. Лучкин
ЖЕРТВА ПАМПАСОВ, ИЛИ ТРИ ЛЮБОВНИЦЫ БАНКИРА в 8 частях 2000 метров
Зал чрезвычайно доволен и радостным хором гремит: — В восьми частях! Две тысячи метров!.. Ого!.. Между тем действие разворачивается со сказочной быстротой. Ненасытные любовницы безостановочно и безоговорочно шлют свои воздушные поцелуи акуле-банкиру Смиту. В это время громкоговоритель грозно мычит на всю Ямскую слободу: — Алло! Алло! Алло! Говорит Москва на волне тысяча пятьдесят метров! Слушайте лекцию агронома Удобрягина о пользе рогатого скота в домашнем хозяйстве. Нежный тенорок агро-Удобрягина наглядно иллюстрирует проделки хитрого банкира:
БАНКИР И ТРИ ЛЮБОВНИЦЫ
— Заболевание рогатого скота чумой наблюда…
Банкир (на вид здоровый дядя) беззаботно играет в карты, не зная, что на него надвигается страшная болезнь.
БАНКИР В КАРТОЧНОМ КЛУБЕ. ИГРАЕТ. ПЬЕТ ВИНО
— …приносят также молоко, которое особенно полезно детям… Особенно породистые… Спасаясь от трех любовниц, неунывающая акула-банкир уезжает в пампасы на океанском пароходе.
УДАЛЯЮЩИЙСЯ ПАРОХОД
— Что же касается баранов, — заговаривает зубы агроУдобрягин, — то таковые передвигаются стадами…
После ряда замысловатых приключений напроказивший банкир попадает в лапы свирепых тигров.
ТИГРЫ НАПАДАЮТ НА БАНКИРА
— …овцы отличаются мирным характером и быстро привыкают к людям… Громкоговоритель рычит, и зрители, распираемые массой впечатлений, тихо воют. — Ну и штуку же я видел, Степановна!.. И-эх!.. В кине сидел. Поучительные крестьянские виды показывали. Вроде банкира. Интересно. Сперва как бы чумой болел. А там ничего, крепкий мужик — поправился. И бабочки при нем. Три головы. Породы Смитт. Молоко давали. А он, банкир этот, пил. Говорит — детям полезно… Хозяйственная картина. А потом в кине баранов иностранных показывали, не чета нашим, росейским. По воде плывут стадами. И дым из них идет, как из мельницы… А напоследок комическое показывали. Смехота. Овцы на банкира бросились и шею ему намяли… А жалко, хорошего человека попортили.
1927
Дружба с автомобилем
Что значит это наводящее ужас движение?Наводящее ужас движение особенно усиливается на московских улицах осенью. Автомобили самого огнедышащего свойства сигают по мостовым. Свист, писк и железное мяуканье сирен ломятся в уши. Самый беспокойный сорт механического транспорта образуют мотоциклы с привязными колясками. Эти автогадины еще совершенно не укрощены человеком и носятся по Москве, пытаясь, как видно, вырваться на свободу. Заурядный прохожий совсем не разбирается в наводящем ужас движении. Для него полутонный фордовский фургончик и шестиколесный «бюссинг», бодро несущий на своих пневматиках целых пять тонн, все едино — «грузовики». Зауряд-прохожий не видит разницы между жидкокостным пассажирским «штейером» и серо-оливковым восьмицилиндровым «паккардом», который с могучим шорохом молниеносно переносит своих седоков через весь город. Прохожему, кажется, даже все равно, что его раздавит — дряхлый, разболтанный «опель» или сводящий шоферов с ума «кадильяк». Невежество прохожего прискорбно. Так как он ничего не понимает, то, глядя на долговечные, неприхотливые, прекраснейшие машины, он и не восхищается. Он не понимает, что «человек уже научился строить автомобили». Кроме того, он не знает самого главного сейчас — того, что советский человек еще не научился покупать автомобили. Удивительным образом обойдя режим экономии, в Москву каждый месяц проникают новые, крытые цветными лаками гиганты: «ройсы», «линкольны», «бьюики», «доджи» и прочие «кадильяки». Это машины для богачей, туринг-машины, построенные для туризма, для любителей необыкновенно быстрой езды и идеальных прогулок целыми семействами. Это машины не по карману и просто не по нужде. Перетаскивать работников из треста в трест чудесно могут и автоизвозчики — бодрые, дешевые «форды», «ситроены» и другая, вполне добротная мелюзга. Зауряд-прохожий в удивленье отшатывается, когда со страшным напором проскакивает мимо него темно-синяя тяжелая машина. Долго прохожий смотрит вослед уходящей темно-синей буре, полной сверканья латуни, хрусталя и алюминия. Тогда, кажется, и он начинает понимать силу соблазна, окружающего иного трестовика. Жару надбавляют заграничные проспекты на толстой лаковой бумаге, с безупречными фотографиями, предупредительно отпечатанные на русском языке. Проспекты эти воют ангельскими голосищами: «Несомненным преимуществом владельца «кадильяка» является его сознание, что он имеет действительно хороший автомобиль. Это чувство постоянно обновляется и усиливается». «Кадильяк» обращается к разуму покупателя. Компания «Бьюик» подбирается прямо к сердцу: «Искреннее расположение к нашему автомобилю выявляется медленно. Точно так же, как верная дружба, оно создается через испытания, устойчивость в больших опасностях, через никогда не покидаемую веселость во всех тяжелых обстоятельствах». Можно напороться на покупателя-эстета. У фирмы «Братья Додж» есть и для этого строчка: «Кузова этих привлекательных специальных типов низко подвешены, что придает им необыкновенное изящество линии». Иногда даже и девичий какой‐то восторг проскакивает в описании: «Это просто удовольствие на нем ездить». Мыслимо ли удержаться от покупки очень, правда, дорогой, но зато вызывающей восторг машины! Особенно если вдобавок она награждает вас «веселостью во всех тяжелых обстоятельствах», тем более что «это чувство постоянно обновляется и усиливается». Ведь это вечно обновляющаяся веселость очень понадобится покупателю, когда явится к нему контрольный орган с резонным вопросом: — Вы на службу иначе как на 15‐тысячной машине ездить не можете? Тогда и сам неразумный владелец машины поймет, что есть движение, наводящее ужас на государство, которому оно обходится дороже, чем следует.Гоголь
<1927/1928>
Красные романсы
Советский пошляк обнаглел не сразу. Сначала он был поведения тишайшего, привычек скромнейших. Следы его можно было обнаружить разве только в самой гаденькой лавочке. К дрянненькой толстовке он прикалывал узенький плакат: «Толстовка фасона «Полпред». Или: «Фасон «Пролетарская Муза». Те умилительные времена прошли безвозвратно. Ныне совпошляк продирается в люди и работает, не покладая лап. Старательно и терпеливо он покрывает слюной все советские факты, ко всему приспособляется и ко всему припутывает свои тошнотворные привычки. Во Владивостоке он сидит в частной фирме и продает — «Кабинетные гарнитуры «Режим экономии» современного стиля, очень прочные и практичные». Современность стиля совершенно неописуемая. Можно надеяться, что электрические пояса молодости под названием «Афродита, или Борьба с бюрократизмом» не заставят себя ждать. Область воспитательная также не забыта. — Не теряйте, товарищи, времени, а ликуйте сразу, сопровождая ликование троекратным криком «ура». Найден способ беглого и нежного обучения политграмоты. Объявление в сибирской газете «Красный Курган» радостно извещает, чтоПОЛУЧЕНА И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ ИГРА МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Рекомендуется школам, клубам и всем игрокам. Игра рассчитана для всех возрастов. Кроме того, совершенно не замечая, можно по игре изучать политграмоту. В игре приходится воевать с белыми и черными, с газами и кулаками, побывать в деревне, рабфаке, МОПРе, словом, заглянуть всюду. Понять игру можно с первого же хода. Руководство и кубики прилагаются. Играть может сразу до 10 человек. В каждой семье необходимо иметь эту игру и на досуге разумно развлекаться. Игра стоит 1 рубль, но в интересах внедрения нового быта, для членов профсоюзов предоставляется скидка в 50 проц.
Празднуйте, члены профсоюзов. Какая чудная «Мировая революция». Одно слово — игрушка. И как приятно разумно развлекаться на досуге мировой революцией. Пошляк — натура покладистая. Революцию он приемлет, но делает из нее игрушку, вещь исключительно для домашнего употребления. Красный пошляк даже партию приемлет. Он и для партии готов постараться. Такими пошлячатами в Москве сочинен и соответствующим нотным органом издан рвущий сердце романсик:
«А сердце‐то в партию тянет».
У партийца Епишки
Партийные книжки,
На плечиках френчик,
Язык, как бубенчик.
«Прибывающих в зал клуба встречают у входа организаторы. Первый прикрепляет на спину каждому названия животных и объясняет, как их узнать. Второй раздает женщинам на голову бумажные венки. Третий раздает мужчинам белые воротнички и галстуки». И так далее.
Зачем же это — венки на голову? Всему, оказывается, есть своя причина.
«Нужно, чтобы женщина, приходя в этот день в клуб, почувствовала себя празднично. Мы этого достигаем, надевая женщинам венки, хорошо, если при этом будут раздаваться возгласы: — Вот, сегодня мы украшаем вас венками! Не менее остроумно раздать мужчинам воротники и галстуки. Эти принадлежности костюма, одетые на рабочие блузы и толстовки, придадут мужчинам праздничный колорит».
От такого колорита и новогреческих воплей «Вот, гражданочка, мы украшаем вас венками и вениками» иначе чем в хулиганы податься нельзя. Тем не менее это проект преподавателя массовой работы на курсах Мосгубрабиса. Ученики, надо полагать, будут достойны учителя. И процветет в клубах столь фантастическое массовое действо, что все уже поймут необходимость похода (давно требующегося) против пошляков и их пошлячат.
<1927/28>
Пешеход
Наша жизнь в последнее время как‐то обеднела сильными, незабываемыми минутами. Живешь по большей части в маленьком городке. Вместе с тобой живут еще четыреста двенадцать трудящихся. Триста из них женаты, остальные неохотно волочатся за девушками и вдовами, число которых доходит до полутораста. Есть еще девятнадцать торговцев и одна особа с порочными наклонностями, девица только по паспорту. Всех знаешь в лицо. Служба тоже не доставляет радости. Так все надоели, что стол личного состава, которым заведуешь, невольно превращается в стол каких‐то личных счетов. Всё это очень скучно. Не удивительно поэтому, что нашу общественность начинают волновать проблемы. Пресыщенная столица наседает на половые задачи, но провинция этим не интересуется. Ей хочется переменить обстановку, побегать по земному шару. Каждому хочется стать пешеходом. Однако искусство хождения пешком очень трудно. Неопытный пешеход взваливает на спину зеленый дорожный мешок и покидает родной город на рассвете. Уже в самом начале он совершает роковую ошибку — действительно идет пешком, любопытно глядя по сторонам и наивно перебирая ножками. Назад он возвращается через несколько дней, не достигнув мандариновых рощ Аджарии, к которым так стремился. Он хромает, потому что ногу ему повредила встречная собака. Он бледен, потому что повстречался на дороге с лохматым гражданином, который в молчании отнял у него дорожный мешок, сандалии и рубашку «фантазии». Опытный пешеход чужд этим детским забавам. У него нет дорожного мешка, и он вовсе не считает лето лучшим сезоном для туризма. Двухнедельный или месячный срок для пешеходной прогулки он считает мизерным и не стоящим внимания. Он разом опрокидывает все мещанские представления о путешествиях с целью самообразования. Пешком он ходит только в подготовительном периоде, пока не получает мандата от какого‐нибудь совета физкультуры. Обыкновенно мандат напечатан на пишущей машинке с давно выбывшей из строя буквой «е», но это единственный изъян, во всем остальном мандат великолепен и читается так:УДОСТОВЭРЭНИЭ Дано сиэ в том, что т. Василий Плотский вышэл в сэмилэтнээ путэшэствиэ по СССР с цэлью изучения быта народностэй. Тов. Плотский пройдэт сорок двэ тысячи киломэтров со знамэнэм N — го Совэта физкультуры в правой рукэ. Просьба ко всэм учрэждэниям и организациям оказывать тов. Плотскому всячэскоэ содэйствиэ. Прэдсэдатэль Совэта В. Богорэз Сэкрэтарь А. Пузыня
Ослепленный будущими тысячекилометровыми переходами товарища Плотского, совет выдает ему также десятку на постройку знамени. Этой скромной суммой пешеход вполне удовлетворяется. Он знает, что сразу рвать нельзя. К тому же десяти рублей хватит на проезд в скором поезде к ближайшему крупному центру. Отныне пешеход Василий Плотский пешком уже не ходит. Пользуясь услугами железнодорожного транспорта, он перебирается в губернский город и посещает редакцию тамошней газеты, предварительно испачкав свои сапоги грязью. В редакцию он входит, держа в правой руке знамя, сооруженное из древка метлы, и лозунг, похищенный еще из домоуправления в родном городе. Удостоверение, написанное с турецким акцентом, оказывает магическое влияние даже на осторожных журналистов. На другой день фотографический портрет товарища Плотского и соответствующая подпись под ним украшают отдел «Новости физкультуры» на последней странице газеты. Теперь для пешехода открыто всё. Перед семилетним удостоверением и газетным интервью с портретом никто устоять не может. Можно, конечно, таскать с собой еще связку лаптей, якобы предназначенных в подарок всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу, но можно обойтись и без этого. И без лаптей на Василия Плотского посыплются блага земные. Знаменитому пешеходу бесплатно отводится номер в гостинице, ему суют обеденные талоны, он получает денежные пособия для того, чтобы мог беспрепятственно выполнить свой великий пешеходный подвиг. Через два месяца ему показывают музеи и достопримечательности, а еще через месяц, когда Плотский проезжает какой‐нибудь маленький городок (четыреста двенадцать трудящихся, сто семьдесят пять вдов и девушек, тридцать частников и две особы с порочными наклонностями) на старинном, высоком, как кафедра, исполкомовском автомобиле, — все глядят на него с почтением и шепчут: — Это пешеход! Пешеход едет! И если кто‐нибудь удивленно спрашивает, почему пешеход катит в автомобиле, что как‐то не соответствует его званию, все презрительно отворачиваются от болвана и на всех лицах появляется одно выражение: — Где же это видано, чтоб настоящие пешеходы ходили пешком! Пешком ходят только любители, дилетанты, профаны!..
1928
Калоши в лучах критики
Об одежде теперь говорят с уважением. В наше время одежда взошла как бы на пьедестал. Замечается даже пресмыкание перед одеждой, особый род подхалимства. Двадцатирублевое пальто, волосатое, сработанное из черных конских хвостов, гуляет под именем драпового. Собственник такого пальтеца идет еще дальше. Он показывает обновку знакомым и хвастается: — Каково? Драп-велюр! Знакомые искательно улыбаются. Они знают, что пальто сшито из войлока, но молчат. Это платяные подхалимы, люди бесстыдные и в своей низости глубоко павшие. Блудливо улыбаясь, они ласкают какой‐нибудь лохматый, пахнущий паленой бумагой пиджак и восклицают: — Бостон, шевиот, индиго! Это круговая порука. Если не похвалишь хлопковый пиджак своего приятеля, то подвергнешь опасности критики свои собственные брюки. А они тоже ведь сшиты из отечественного коверкота, ценой в 93 копейки за метр. Почтение к одежде простирается не только на предметы фундаментальные, вроде пальто или костюмов. Шарфы и сорочки, перчатки и галстуки, башмаки, шляпы, мягкие или замороженные крахмалом воротнички тоже вызывают уважение. Но есть одна часть одежды, над которой насмехаются. Ее презирают, о ней слагают анекдоты. Ее трудно даже назвать одеждой. Это, скорее всего, прибор. Это калоши, блистающие черным лаком и обшитые внутри розовым молескином. О них говорят такими словами, будто эта отрасль резиновой промышленности позорна. Их проклинают. А мой сосед по квартире, доктор Скончаловский, не устает утверждать, что калоши — бич цивилизованного человечества. И действительно, тяжелы испытания, которым подвергают человека обыкновенные калоши на рубчатых подошвах с треугольным фабричным клеймом. Для начала нужно заметить, что мы живем, как видно, в годы, неурожайные для калош. Во всяком случае, эти капризные резиновые плоды никогда не поспевают к сезону дождей и появляются лишь в декабре. Калоши декабрьского сбора имеют два размера — либо они очень малы, либо грандиозны. Когда спрос со стороны карликов и великанов удовлетворен, поступают в продажу калоши, рассчитанные на нормальную человеческую ногу. Это происходит в феврале, и истомившееся человечество жадно расхватывает резиновые приборы. Как люди простодушны и доверчивы! Каждый из них почему‐то уверен, что в эту зиму он ни с кем не обменяется калошами. Множество людей паразитирует на этих бессмысленных мечтаниях и бойко торгует плоскими латунными инициалами для калош. Но никакая сила, никакой латунный амулет помочь не может. Буквы только усложняют дело. И вечером, в коридоре квартиры, я слышу вздохи доктора Скончаловского. Он сейчас вернулся из гостей и, негодуя, рассматривает калоши на своих ногах. Это не его калоши. Его были новые, февральского урожая, а это — старая рвань. Доктор с отвращением сбрасывает их и смотрит на сверкающие изнутри буквы «К» и «З». В доме, откуда пришел Скончаловский, не было ни одного человека с такими инициалами. Значит, тот, с кем он по ошибке обменялся, еще до этого носил чужие калоши. Всё так запутывается, что след резинового прибора отыскать уже нельзя. Доктор визжит от злости и начинает разглагольствовать о биче человечества. Между тем нет оснований так сердиться. Обмен — самая легкая из калошных пыток, пытка первой ступени. Есть в жизни худшие случаи. Калоши забывают. Утром их забывают дома. Это обидно. Вечером их забывают у знакомых, что особенно мучительно. Спохватившись только на улице, несчастный обладатель калош покидает трамвайную очередь, где стоял первым, и бежит назад. Приходится долго звонить дворнику и топтаться на снегу у запертых ворот. Приходится подымать с постели заснувшего хозяина. Покуда гость униженно улыбается и неловко вколачивается в калоши, хозяин стоит рядом и молчит. Он облачен в пальто, из‐под которого видны его голые ноги, поросшие зелеными волосами. Сейчас он ненавидит рассеянного идиота. Домой обладатель калош идет пешком, потому что циркуляция трамваев давно закончилась. К концу своего долгого пути он начинает сознавать, что отношения его с хозяином испорчены почти навсегда. Но только в театре калошное иго достигает апогея. За три минуты до последнего занавеса из рядов выпрыгивает почтенный гражданин. Согнувшись, он устремляется по проходу между креслами к выходу. В полумраке он похож на террориста, только что бросившего бомбу в губернатора. Но это не террорист. Это владелец резинового прибора. Он бежит к своим калошам. Зрители негодующе оглядываются и шикают. Это фарисеи. На калошевладельца нельзя шикать. Он не виноват. Если он задержится из‐за своих калош, то не поспеет к последнему трамваю, поздно ляжет спать и опоздает на службу. А опаздывать на работу нехорошо. Это понижает производительность труда. Пошикав с полминуты, фарисеи и книжники тоже не выдерживают напряжения и шумно выбегают из рядов. Толкаясь и подымая локти, они несутся в гардеробную. Напрасно клекочет хор и волнуется оркестр. Все зрители сбились к дверям и даже не оборачиваются, чтобы узнать, чем, собственно, окончились страдания Аиды, дочери эфиопского царя. Им некогда. Они находятся в унизительной зависимости от своих калош.И тем более непонятна развязность и ирония, с которой люди говорят о калошах. Над ними нельзя смеяться, нельзя слово «калоши» употреблять как оскорбительный эпитет. Это просто не отвечает значению калош в жизни человека. Они значат больше, чем костюм или перчатки. Эта часть одежды еще не укрощена. Ее надо изучать и приспособить к нуждам человечества, иначе люди так и останутся в плену у калош, бегая за ними, хлопоча и отвратительно унижаясь.
1928
Случай в конторе
В конторе по заготовке рогов и копыт высшим лицом был Николай Константинович Иванов. Я особенно прошу заметить себе его имя и отчество — Николай Константинович. Также необходимо договориться о том, на каком слоге его фамилия несла ударение. Ударение у Николая Константиновича падало на последний слог. Фамилия его читалась — Иванóв. Дело в том, что Иванóвых, то есть людей, несущих ударение на последнем слоге своей фамилии, необходимо отличать от их однофамильцев, у которых ударение падает на второй слог. Иванóв и Ивáнов ничуть не схожи. Говоря короче, все Иванóвы люди серенькие, а все Ивáновы чем‐нибудь да замечательны. Иванóвых великое множество. Ивáновых можно перечесть по пальцам. Иванóвы занимают маленькие должности. Это счетоводы, пастухи, помощники начальников станций, дворники или статистики. Ивáновы люди совсем другого жанра. Это известные писатели, композиторы, генералы или государственные деятели. Например, писатель Всеволод Ивáнов, поэт Вячеслав Ивáнов, композитор Ипполитов-Ивáнов или Николай Иудович Ивáнов, генерал, командовавший Юго-Западным фронтом во время немецкой войны. У них у всех ударение падает на второй слог. Известность, как видно, и служит причиною того, что ударение перемещается. Писатель Всеволод Ивáнов, до того как написал свою повесть «Бронепоезд», безусловно назывался Всеволод Иванóв. Если помощнику начальника станции Иванóву удается прославиться, то ударение немедленно перекочует с третьего на второй слог. Так свидетельствуют факты, история, жизнь. Возвращаясь, однако, к конторе по заготовке рогов и копыт для нужд гребеночной и пуговичной промышленности, я должен заметить, что заведующий конторой был человек ничем особенно не замечательный. Николай Константинович был, если можно так сказать, человек пустяковый, с ударением на последнем слоге. Служащий — и ничего больше. Николай Константинович находился в состоянии глубочайшего раздумья. Дело в том, что все служащие по заготовке роговых материалов были однофамильцами Николая Константиновича. Все они были Иванóвы. Приемщиком материалов был Петр Павлович Иванóв. Артельщиком в конторе служил Константин Петрович Иванóв. Первым счетоводом был Николай Александрович Иванóв. Второго счетовода звали Сергеем Антоновичем Иванóвым. И даже машинистка была Иванóва Марья Павловна. Как всё это так подобралось, Николай Константинович сообразить не мог, но ясно понимал, что дальше это терпимо быть не может, потому что грозит катастрофической опасностью. Он отворил дверь и слабым голосом созвал сотрудников. Когда все собрались и расселись на принесенных с собою темно-малиновых венских стульях, Николай Константинович испуганно смотрел на своих подчиненных. Снова с необыкновенной остротой он вспомнил, что все они Иванóвы и что сам он тоже Иванóв. И не в силах больше сдерживаться он закричал, что есть силы: — Это свинство, свинство и свинство! И я довожу до вашего сведения, что так дальше терпимо быть не может! — Что не может? — с крайним удивлением спросил приемщик Петр Павлович. — Не может быть больше терпимо, чтоб ваша фамилия была Иванóв! — твердо ответил Николай Константинович. — Почему же моя фамилия не может быть Иванóв? — сказал приемщик. — Это вы поймете, когда вас выгонят со службы. Всех нас выгонят, потому что мы Иванóвы, а следовательно, родственники. Тесно сплоченная шайка родственников. Как я этого до сих пор не замечал? — Но ведь вы знаете, что мы не родственники? — возопила Мария Павловна. — Я и не говорю. Другие скажут. Обследование. Мало ли что? Вы меня подводите. Особенно вы, Мария Павловна, у которой даже отчество общее с Петром Павловичем. Приемщик вздрогнул и тяжко задумался. — Действительно, — пробормотал он, — совпадение удивительное. — Надо менять фамилии, — закончил Николай Константинович. — Ничего другого не придумаешь. И чем скорее, тем лучше. Лучше для вас же. — Пожалуй, я обменяю, раз надо! — вздохнул артельщик. — Нравится мне тут одна фамилия — Леонардов. У меня такой старик был здесь знакомый. У него даже один директор хотел купить фамилию. Очень ему нравилась. Десять рублей давал, но старик не согласился. — Леонардов — чудная фамилия, — заметила машинистка, — но как вы ее примете? — Теперь можно. Старик уехал во Владивосток крабов ловить. Мария Павловна с минуту помолчала, рассматривая свои белые чулки, от стирки получившие цвет рассыпанной соли. Наконец она решилась и бодро сказала: — Какую же взять фамилию мне? Мне бы хотелось, чтобы фамилия была, как цветок. И Мария Павловна принялась перекраивать названия цветов в фамилии. Душистый горошек, анютины глазки и иван-да-марья были сразу отброшены. Мария Душистова, Мария Горошкова и Мария Душистогорошкова были забракованы, осмеяны и преданы забвению. Из иван-да-марьи выходила та же Иванóва. Хороши были цветы фуксии, но фамилия из фуксии выходила какая‐то пошлая: Фукс. Мадемуазель Фукс увяла прежде, чем успела расцвесть. Тогда Мария Пвловна с помощью обоих счетоводов отважно врезалась в самую глубь цветочных плантаций. Царство флоры было обследовано с мудрой тщательностью. Гармонические имена цветов произносились нараспев и скороговоркой: Левкоева, Ландышева, Фиалкина, Тюльпанова. Счетоводы выбились из сил. — Хризантема, орхидея, астры, резеда! Честное слово, резеда чудный цветок. — Так мне ж не нюхать, поймите вы! — Георгин, барвинок, гелиотроп. — Или атропин, например! — сказал вдруг молчавший все время артельщик. Покуда счетоводы измывались над артельщиком, объясняя ему, что атропин не цветок, а медикамент, Мария Павловна приняла решение называться Ананасовой. Это было нелогично, но красиво. У Сергея Антоновича всё обстояло благополучно, хотя воображения у него не хватило. Свою фамилию Иванóв он обменял на Петрова. Все снисходительно улыбнулись. — У меня лучше! — похвастался первый счетовод. — Меня теперь зовут Николай Александрович Варенников. Приемщику понравилась фамилия Справченко. Это была фамилия хорошая, спокойная, а главное — созвучная эпохе. Довольнее всех оказался Николай Константинович Иванóв, заведующий конторой по заготовке рогов и копыт для нужд пуговичных фабрик. — Я очень рад, — сказал он приветливо, — что всё устроилось так хорошо. Теперь никакие толки среди населения невозможны. В самом деле, что общего между Справченко и Варенниковым, между Ананасовой и Леонардовой или Петровым? А то, знаете, Иванóва, да Иванóв, да снова Иванóв, и опять Иванóв. Это каждого может навести на мысли. — А вы какую фамилию взяли себе? — спросила Мария Павловна Ананасова. — Я? А зачем мне новая фамилия? Ведь теперь Иванóвых в конторе больше нет. Я один, зачем же мне менять? К тому же мне неудобно. Я ответственный работник, я возглавляю контору. Даже по техническим соображениям это трудно. Как я буду подписывать денежные чеки? Нет, мне это невозможно, никак невозможно сделать. …Всё пошло своим чередом, и через установленный законом срок отдел записи актов гражданского состояния утвердил за пятью Иванóвыми их новые фамилии. А спустя неделю после этого погасла заря новой жизни, пылавшая над конторой по заготовке рогов и копыт. Николая Константиновича уволили за насильственное принуждение сотрудников к перемене фамилии. Получив это печальное известие, Николай Константинович тихо вышел из своей комнаты. В тоске он посмотрел на Константина Петровича Леонардова, на Петра Павловича Справченко, на Николая Александровича Варенникова и на Марию Павловну Ананасову. Не в силах вынести тяжелого молчания, артельщик сказал: — Может быть, вас уволили за то, что вы не переменили фамилии? Ведь вы же сами говорили. Николай Константинович ничего не ответил. Шатаясь, он побрел в кабинет — как видно, сдавать дела и полномочия. От горя у него сразу скосились набок высокие скороходовские каблучки.1928
Дом скренделями
В маленьком доме, где когда‐то помещалось булочное заведение и до сих пор на деревянном фасаде висят золотые кренделя, жило всего четыре семейства. Всё это были люди тихие и законопослушные. Тревога в крендельном домике началась только с того времени, когда старик музыкант Василий Иванович Лошадь-Пржевальский сдал одну свою комнату. Котя Лохвицкий, молодой человек, поселившийся у музыканта, имел доброе лицо и пухлое тело. Казалось, что пульс у него бархатный, а сосцы полны молоком и медом. В один из первых же дней розовощекий квартирант притащился домой с агентом по страхованию от огня и застраховал свое движимое имущество в тысячу рублей сроком на один год. — Он меня просто обольстил — рассказывал Лохвицкий хозяину. — Говорит, что счастье может дать только страховой полис. Так меня рассмешил, что я застраховался. Но смешливый жилец уже со второго месяца перестал платить за квартиру. — Вышел из бюджета, — говорил он, лучезарно глядя на Василия Ивановича. — Жалованья совершенно не хватает. Лошадь еще ничего не подозревал, но прочие жильцы быстро надоумили его. Они были крайней испуганы. — Вы присматривайте за своим квартирантом. Он нам дом подожжет. — Да бросьте вы! — Иначе и страховаться нет смысла. Сами видите, у него — ни копейки. А всё вы! Пустили кобла в квартиру. Уж он свой бюджет поправит, будьте уверены. Испуганный Лошадь сейчас же пошел к Лохвицкому, чтобы поболтать о том о сем. Он растерянно осмотрел матрац квартиранта и славянский шкаф с зеркалом. Зеркало было крошечное и вделано так высоко, что в него приходилось заглядывать, как в форточку. — Всего имущества рублей на сто двадцать, — посчитал Лошадь. — Сожжет, никаких сомнений. Все сгорим! В эту ночь он спал плохо, а следующий день провел совсем без сна, потому что соседи не давали ему прохода попреками. В страхе музыкант заучил наизусть номер телефона ближайшей пожарной части и занялся недостойным для интеллигентного человека делом — стал подглядывать за квартирантом в замочную скважину. О квартирной плате он уже не заикался. — При теперешних окладах, — говорил он подобострастно, — молодому человеку очень трудно обернуться. Вы не спешите с деньгами. Я подожду с наслаждением. — Спешить, как на пожар, конечно, нечего, — ответил Лохвицкий, — но на днях я обязательно уплачу! Это заявление произвело на трусливого Лошадя угнетающее действие. Он решил, что час настал, побежал в аптеку и по телефону вызвал пожарную команду. Переулок наполнился звоном и грохотом. Засверкали медные купола пожарных касок, и Лошадю пришлось уплатить двадцать пять рублей за напрасный вызов. Он слишком поспешил. Пожара еще не было. — Вот такие неожиданные расходы и выводят из бюджета, — назидательно заметил квартирант. Лошадю это показалось злой насмешкой. Он всё понял. Нынешние молодые люди хитрее, чем кажется сначала. — Надо спасать, — подумал он, — всё, что еще можно спасти. Надо себя обеспечить от стихийного бедствия, огня. Немедленно после этого решения Лошадь-Пржевальский застраховал свою обстановку в две тысячи рублей, сроком также на один год. После этого в доме не осталось ни одного не застрахованного предмета. Дом, как феникс, готов был возродиться из грядущего пепла на деньги Госстраха. Все приготовились к огненному погребению, и неделя прошла в лихорадочном ожидании всепожирающего пламени. Но пожара не было, и нос смешливого квартиранта по‐прежнему невинно блистал всеми оттенками перламутра. Он даже внес Василию Ивановичу свой долг. Протяжный вздох — вздох, вызванный оправдавшимися подозрениями, — пронесся по всем квартирам «дома с кренделями». — Хитрит! Очки втирает! Хочет‐таки получить свою тысячу страховки. И через день переулок снова наполнился грохотом пожарных машин и блеском медных шляп. На этот раз дом с кренделями действительно горел. Поджег его сам Василий Лошадь, не выдержавший томительного ожидания несчастья. Больше всего удивлен был смешливый квартирант. Он растерянно поглаживал свои плюшевые височки, ахал, волновался, но все‐таки никогда по молодости своей и не понял, что дом погиб от собственного свинства, от легенды, которую сам создал.1928
Набросок рассказа
Николай Галахов вернулся домой из летнего сади «Эмпирей», пережив за один вечер и великую тревогу, и целительное успокоение. Потом, по много раз вспоминая все происшедшее, он все же не мог догадаться, что именно в этот вечер начался несчастный поворот его жизни. Пока Галахов, добропорядочный делопроизводитель детской школы «Жаворонок», прогуливался по иг сочным аллеям летнего сада, его мирному, невоинстненному быту пришел конец. Между тем наружно все шло заведенным порядком. Пороховые летние дни в столичном городе завершались обычно очередями у нефтелавок и получасовым дождем. Так случилось и в четверг, пришедшийся на конец августа. Еще у переулочной нефтелавки в нестройной очереди стояли бабы, и Галахов, стоявший последним, нетерпеливо бился коленками о свой бидон, как переулком пролетел белокурый свет молнии и неохотно ударивший гром возвестил начало дождика. До удара гром долго и вполголоса репетировал за тучами. Безумные, срывающиеся струи дождя взбрызнули мостовую, смочили бумажный аншлаг «Штанов нет», приклеенный к витрине швейного магазина, и торопливо стали выливаться из водосточных труб, осыпанных холодными цинковыми звездами. Произошел беспорядок. Бабы убегали из очереди. Потускневшие от керосина четвертные бутыли они уносили на обеих руках, как уснувших грязных детей. Раздавался особенно высокий женский визг. Его можно слышать только во время дождя. Ни в каком другом случае женщины так не визжат. Моссельпромщицы, конфектные и табачные, заворачивались с головой в черную клеенку. Это черные невесты, ждущие женихов, которые никогда не придут. Николай Васильевич побежал за угол, держа бидон подальше от себя, чтобы не замарать костюм керосином. Мину) магазин, он с отвращением и недовольством прочел извещение об отсутствии штанов на прилавках госторговли. Из смутной глубины витрины посмотрел на него восковой манекен, карминные губы которого были раздвинуты чудной улыбкой. Манекен был одет в пиджак, его стоячий воротник с отогнутыми уголками стяги-нал строгий черный бантик, от которого не отказался бы и атташе, но брюк на манекене не было. Это придавало аншлагу «Штанов нет» крайнюю убедительность. Увидев голые скелетные ноги улыбающегося манекена, Николай Васильевич застонал и побежал быстрее. Один только нищий стоял неподвижно, прижимаясь плечом к укрепленному на стене барельефному портрету анархиста Кропоткина. Фиолетовая дождевая вода стекала по твердому куполу его лысины. Молния, поминут но высовываясь из бегущей тучи, заставляла лысину вспыхивать фосфорическим светом. К девятому часу, когда Галахов вышел из дому, чтобы попасть в «Эмпирей» к самому началу представления на открытой сцене, все переменилось. С чистого лакового неба в переулок любопытно смотрела звезда. Ветер смирился, и нищий ушел спать. Из ворот гаража выскользнула тяжелая машина и с шорохом унеслась. Под сильным светом автомобильных фонарей рельсы сверкнули зеркальными своими линиями. Подходя к «Эмпирею», Галахов заметил, что человечество заметно похорошело, а в самом саду некрасивых людей совсем уже не было. Господи, дай мне силу описать сад «Эмпирей» и посетителей его должным образом. Нигде не увидишь таких галстуков, как на мужчинах, гуляющий по «Эмпирею». Сюда не ходят в галстуках тех ящеричных и лягушачьих цветов, которые так охот но изготовляет «Москвошвей» или «Тамбовская промодежда». Здесь галстук подобен рыцарскому щиту — по тем но-синему его полю идут косые полосы червонного золота, галстук сияет киноварью и серебром. Есть таки галстуки, которые похожи на разноцветную лапшу, а есть и напоминающие голову негра — полосы черные и пепельно-красные, цвета кожи и губ негра из шумового оркестра. За такими галстуками совершаются иногда специальные экспедиции в Батум, Шепетовку или Владивосток. Увы, галстуки и термометры — это чрезвычайно дефицитный товар, и приходится прибегать к доброте контрабандистов. Термометров, впрочем, нельзя найти даже в Шепетовке. Это товар хрупкий и неудобный для переправы через границу. Но галстуки достать еще можно. И молодые люди в концессионных шерстяных жилетах носят их с гордостью. Девушки и дамы «Эмпирея» блистают чулками. Мужчины называют такие шелковыми, но на самом деле чулки эти фильдеперсовые. Здесь вы встретите чулки самых лучших цветов — цвета неаполитанской желтой, цвета устричной раковины, рассыпанной соли, незрелого яблока, разбавленных сливок, сургучного цвета, цвета глаз Есенина, цвета молнии или малороссийского борща, сдобренного ложкой сметаны.<1928/29>
Разбитая скрижаль
Был он сочинителем противнейших объявлений, человеком, которого никто не любил. Неприятнейшая была это личность, не человек, а бурдюк, наполненный горчицей и хреном. Между тем он был вежлив и благовоспитан. Но таких людей ненавидят. Разве можно любить сочинителя арифметического задачника, автора коротких и запутанных произведений? Нельзя удержаться, чтобы не привести одно из них:«Купец приобрел два цибика китайского чаю двух сортов весом в 40 и 52 фунтов. Оба эти цибика купец смешал вместе. По какой цене он должен продавать фунт полученной смеси, если известно, что фунт чаю первого сорта обошелся купцу в 2 р. 87 коп., а фунт второго сорта — в 1 р. 21 коп., причем купец хотел получить на каждом фунте прибыль в 90 копеек?»
Такие упражнения очень полезны, но людей, которые их сочиняют, любить нельзя, сердце не повернется. Сколько гимназистов мечтало о расправе с Малининым и Бурениным, составителя распространенного когда‐то задачника? В какие фантастические мечты были погружены головы, накрытые гимназической фуражкой с алюминиевым гербом? «Пройдут года, и я вырасту, — думал ученик, — и когда я вырасту, я пройду по главной улице города и увижу моих недругов. Малинин и Буренин, обедневшие и хромые, стоят у пекарни Криади и просят подаяния. Взявшись за руки, они поют жалобными голосами. Тогда я подойду поближе к ним и скажу: «Только что я приобрел семнадцать аршин красного сукна и смешал их с сорока восемью аршинами черного сукна. Как вам это понравится?» И они заплачут и, унижаясь, попросят у меня на кусок хлеба. Но я не дам им ни копейки». Такие же чувства внушал мне сосед по квартире — бурдюк, наполненный горчицей и хреном, человек по фамилии Мармеладов. Квартира наша была большая, многолюдная, многосемейная, грязная. Всего в ней было много — мусора, граммофонов и длиннопламенных примусов. В ней часто дрались и веселились, причем веселье по звукам, долетающим до меня, ничем не отличалось от драки. И над всем этим нависал мой сосед, автор ужаснейших прокламаций. В кухне, у раковины, он наклеил придирчивое объявление о том, что нельзя в раковине мыть ноги, нельзя стирать белье, нельзя сморкаться туда. Над плитой тоже висела какая‐то прокламация, написанная химическим карандашом, и тоже сообщалось что‐то нудное. Мармеладов где‐то служил, и нетрудно поверить, что своей бьющей в нос справедливостью и пунктуальностью он изнурял посетителей не меньше, чем всех, живших с ним в одной квартире. Особенно свирепствовал он в уборной. Даже краткий пересказ содержания главнейших анонсов, которыми он увешал свою изразцовую святая святых, отнимет довольно много времени. Висела там категорическая просьба не засорять унитаз бумагой, и преподаны были наиудобнейшие размеры этой бумаги. Сообщалось также, что при пользовании бумагой указанных размеров уборная будет работать бесперебойно к благу всех жильцов. Отдельная афишка ограничивала время занятия уборной пятью минутами. Были также угрозы по адресу нерадивых жильцов, забывающих о назревшей в эпоху культурной революции необходимости спускать за собой воду. Всё венчалось коротеньким объявлением: «Уходя, гасите свет». Оно висело и в уборной, и на кухне, и в передней — и оттого темно было вечером во всех этих местах общего пользования. Двухгрошовая экономия была главной страстью моего соседа — бурдюка, наполненного горчицей и хреном. — Раз счетчик общий, — говорил он с неприятной сдобностью в голосе, — то в общих интересах, чтоб свет без надобности не горел. От его слов пахло пользой, цибиками, купцами, смешанными аршинами черного и красного сукна, и перетрусившие жильцы вообще уже не смели зажигать свет в передней. Там навсегда стало темно. Расчетливость и пунктуальность нависли над огромной и грязной коммунальной квартирой, к удовольствию моего справедливого соседа. Отныне дома, как на службе, он размеренно плавал среди циркуляров, пунктов и запретительных параграфов. Но не суждено было ему цвести. Наш дом захватила профорганизация парикмахеров «Синяя борода», и обоих нас переселили в новый дом, в двухкомнатную квартиру. В первый день мой бурдюк был чрезвычайно оживлен. Внимательным оком он рассмотрел все службы — кухню и переднюю, ванную комнату и сиятельную уборную, как видно, примериваясь к местам, где можно развесить всякого рода правила и домовые скрижали. Но уже вечером бурдюк погрузился в глубокую печаль. Стало ему томительно ясно, что на новом месте незачем и не для кого развешивать свои назидательные сочинения. В прежней квартире жило тридцать человек, а здесь только двое. Некого стало поучать. И бурдюк сразу потускнел. Уже не бродит он вечерами по коридорам, одергивая зарвавшихся жильцов, а в немой тоске сидит у себя. Иногда к нему приходит его приятель, и оба они что‐то жалобно напевают, очень напоминая обедневших Малинина и Буренина из мечтаний разъяренного ученика первого класса.
1929
Обновленные валеты
Много есть на свете тошнотворных благотворительных затей, вроде филантропических балов с «танцами до утра в пользу узников капитала». Граждан заботливо извещают о том, что на балу будет буфет с крепкими напитками и буде кто пожелает выпить за здоровье вышеупомянутых узников, то может не беспокоиться. Есть и буфет, можно и надраться в честь революционеров, томящихся в тюрьмах капиталистического Запада. Открытки, прибыль с которых должна пойти на усиление средств «Общества спасания на водах», вам предлагает субъект, лоб которого настолько изрыт пивными морщинами, что невозможно поверить в то, что ваш двугривенный дойдет до симпатичного Общества, озабоченного спасением утопающих. Не дойдут до Общества и двугривенные ваших сограждан. Вернее всего, что пойдут эти деньги на углубление пивных морщин на лбу благотворительного субъекта. Выпьет он на эти деньги. Как видно, такой же изворотливый, напичканный новыми идеями мужчина пробрался недавно в Гос-карточную монополию. Это можно заметить по метаморфозе, происшедшей с картами. Танцы сами по себе вещь невинная, но танцы в пользу голодающих вызывают отвращение. Карты сами по себе вещь довольно гнусная, но карты с пришитыми к ним «культурными заданиями» совершенно невыносимы. Но гос-карт-монополия решила работать «в плане культурного похода». И вместо королей с дворницкими бородами, вместо надменных дам и валетов с блудливыми глазами появились представители национальностей нашего Союза. Новая колода называется красиво и благозвучно: «Народности СССР». Бубнового короля заменяет старый узбек в халате и чалме. Нет больше валета с веревочными усиками. Вместо него — белорус в бараньей шапке. Нет также и пиковой дамы. В нашей стране нет места таким дамам. Ныне имеется молодая украинка в расшитой рубашке, молодая украинка пик. Остальные фигуры подстать. Есть и раскрепощенные женщины Востока (дамы, сбросившие чалму), есть и таджики (короли и валеты, образовавшие колхоз). Представлены почти все нацмены. Говоря коротко: — Четыре сбоку, узбека нет! Как, должно быть, обрадуются нацмены! То-то будет ликование в республиках, когда появятся там обновленные короли. Трудно даже себе представить, как благодарны будут нацмены валетам из Гос-карт-монополии.1929
Как делается весна
Весна в Москве делается так. Сначала в магазинной витрине фирмы «Октябрьская одежда», принадлежащей частному торговцу И. А. Лапидусу, появляется лирический плакат:ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ В БРЮКАХ И. А. ЛАПИДУСА Цены умеренные
Прочитав этот плакат, прохожие взволнованно начинают нюхать воздух. Но фиалками еще не пахнет. Пахнет только травочкой-зубровочкой, настоечкой для водочки, которой торгуют в Охотном ряду очень взрослые граждане в оранжевых тулупах. Падает колючий, легкий, как алюминий, мартовский снег. И как бы ни горячился И. А. Лапидус, до весны еще далеко. Потом на борьбу с климатом выходят гастрономические магазины. В день, ознаменованный снежной бурей, в окне роскошнейшего из кооперативов появляется парниковый огурец. Нежно-зеленый и прыщеватый, он косо лежит среди холодных консервных банок и манит к себе широкого потребителя. Долго стоит широкий потребитель у кооперативного окна и пускает слюни. Тогда приходит узкий потребитель в пальто с воротничком из польского бобра и, уплатив за огурец полтора рубля, съедает его. И долго еще узкий потребитель душисто и нежно отрыгивается весной и фиалками. Через неделю в универмагах поступают в продажу маркизет, вольта и батист всех оттенков черного и булыжного цветов. Отныне не приходится больше сомневаться в приближении весны. Горячие головы начинают даже толковать о летних путешествиях. И хотя снежные вихри становятся сильнее и снег трещит под ногами, как гравий, — весенняя тревога наполняет город. Три писателя из литературного объединения «Кузница и усадьба» также путем печати оповещают всех, что пройдут пешком по всей стране, бесплатно починяя по дороге кастрюли и сапоги беднейших колхозников. Цель — ознакомление с бытом трудящихся и собирание материалов для грядущих романов. Универмаги делают еще одну отчаянную попытку. Они устраивают большие весенние базары. Зима отвечает на это ледяным ураганом, большим апрельским антициклоном. Снег смерзается и звенит, как железо. Морозные трубы вылетают из ноздрей и ртов граждан. Извозчики плачут, тряся синими юбками. В это время в универмагах продают минеральные стельки «Арфа», радикально предохраняющие от пота ног. Горячие головы и энтузиасты покупают минеральные стельки и радостно убеждаются в том, что соединенными усилиями мороза и кооперации качество стелек поставлено на должную высоту — ноги действительно не потеют. А снег все падает. Не обращая на это внимания, вечерняя газета объявляет, что прилетели из Египта первые весенние птички — колотушка, бибрик и синайка. Читатель теряется. Он только что запасся саженью дров сверх плана, а тут на тебе — прилетели птицы, которые в своих клювах привозят голубое небо и жаркие дни. Но, поразмыслив и припомнив кое‐что, читатель успокаивается и закладывает в печь несколько лишних поленьев. Он вспомнил, что каждый год читает об этих загадочных птичках, что никогда они еще не делали весны и что самое существование их лежит на совести вечерней газеты. Тогда «вечорка» в отчаянии объявляет, что на Большой Ордынке, в доме № 93, запел жук-самец и что более явственного прихода весны и требовать нельзя. В этот же день разражается певучая снежная метель, и в диких ее звуках тонут выкрики газетчиков о не вовремя запевшем самце с Большой Ордынки. Наконец галки начинают тяжело реять над городом и по оттаявшим железным водосточным трубам с грохотом катятся куски льда. Наконец граждане получают реванш за свою долготерпеливость. С удовольствием и сладострастием они читают в отделе происшествий за 22 апреля:
Несчастный случай. Упавшей с дома № 18, по Кузнецкому мосту, громадной сосулькой тяжело изувечен гражд. М. Б. Шпора-Кнутовищев, ведший в вечерней газете отдел «Какая завтра будет погода». Несчастный отправлен в больницу.
Повеселевшие граждане с нежностью озирают ручейки, которые, вихляясь, бегут вдоль тротуарных бордюров, и даже начинают с симпатией думать о Шпоре-Кнутовищеве, хотя этот порочный человек с февраля месяца не переставал долбить о том, что весна будет ранняя и дружная. Тут, кстати, появляется в печати очерк о Кисловодске, принадлежащий перу трех писателей из группы «Кузница и усадьба». И граждане, удивляясь тому, как быстро теперь ходят писатели пешком, убеждаются в том, что весна действительно не только наступила, но уже и прошла.
1929
Диспуты украшают жизнь
Непреодолимую склонность к диспутам люди начинают проявлять еще с детства. Уже в десятилетнем возрасте будущие диспутанты заводят яростные споры по поводам, которые даже при благожелательном рассмотрении могут показаться незначительными. — Кто плюнет на наибольшее расстояние? Или: — Кто раньше прибежит от Никитских ворот к памятнику Пушкина — Боба или Сережа Вакс? Словопрению здесь уделяется самое малое время. Противники быстро приступают к практическим испытаниям — либо мечут дальнобойные плевки, либо наперегонки мчатся по скрипучим от гравия аллеям Тверского бульвара с благородном стремлении первым финишировать у монумента великого поэта. Диспут кончается тем, что Боба верхом на Сереже Вакс возвращается к исходному месту. Дикая радость сияет на лице Бобы. О том, что победил именно Боба, свидетельствует также его выгодная позиция на плечах маленького Вакса. Здесь всё ясно. Совсем не то бывает на диспутах взрослых людей. Там всё туманно, и различить победителя в толпе диспутантов абсолютно невозможно. В интересах публики, всегда желающей знать, чья же точка зрения восторжествовала, удобно было бы, конечно, чтобы победитель на диспуте уезжал домой на плечах побежденного. Тогда мы бы стали свидетелями необыкновенных и вместе с тем поучительных картин. Зимняя ночь. Кристаллический снег разнообразно сверкает на электрифицированных улицах. Ветер извлекает из телеграфных проволок заунывные, морозные симфонии. А по Лубянскому проезду верхом на критике Федоре Жице проезжает поэт Владимир Маяковский. Картина величественная и волнующая душу. Теперь все запоздалые путники, повстречавшиеся с этой кавалькадой, будут знать: — Сегодня был литературный диспут. На нем взял верх Маяковский. Что же касается Жица и Левидова, то их взгляды оказались несозвучными эпохе, за что они, Левидов и Жиц, и понесли заслуженное наказание. Но такие концовки диспутов, как видно, могут быть осуществлены только в будущем. Прежде чем приступить к подробному описанию московских диспутов и проанализировать, как любят говорить шахматисты-любители, необходимо предпослать несколько слов о лекциях. Всякая лекция является зародышем диспута, и есть даже такие лекции, отличить которые от диспутов почти невозможно. Как правило, лекции могут быть разбиты на два ранга, а именно: клубные и общегражданские. Клубный лектор по большей части человек седой и представительный. Он называет себя профессором, но не любит указывать университета, к которому прикреплен. У профессора белые усы и розовеющие щеки. Летом он иногда облачен в крылатку с круглой бронзовой застежкой у горла. Портфель его набит удостоверениями от заведующих клубами. Эти бумаги, скрепленные печатями, гласят об успехе, который выпал на долю лекции профессора в различных городах. В общем, профессор — фигура весьма сомнительная и всюду читает одну и ту же лекцию под названием: «Человечество — рабочая семья». Клубные посетители слушают профессора с мрачной терпеливостью, покуда с задней скамьи не раздается тревожный возглас: — Кина не будет! Этот печальный крик наполняет сердца такой тоской, что все разом поднимаются и с шумом спугнутой воробьиной стаи покидают зал. Взору лектора представляются пустые скамьи. Тогда он застегивает крылатку своей бронзовой пуговицей и идет к завклубу за гонораром и удостоверением о том, что лекция прошла с громадным успехом. Получив всё это, профессор перекочевывает в Рязань, читает там лекцию, получает удостоверение и уезжает в Пензу. Городов и дураков на его жизнь хватает. Лекции общегражданские блещут разнообразием и нуждаются в подразделениях:а) Лекция обыкновенная, честная. Честность ее характеризуется прежде всего названием и ценой билета (не дороже 25 коп.): «Строение земной коры» или «Новгородский быт XIV века». Гражданин, попавший сюда, остается доволен. Он действительно узнает кое‐что о строении земной коры или о быте Великого Новгорода.
б) Лекция мирская. Название ее значительно ароматней, чем название предыдущего вида лекции, и звучит так: «Безволие и его причины». Тут уже пахнет тем, что лектор будет говорить о половых болезнях, а потому билеты котируются от 75 коп. до полутора рублей.
в) Лекция техническая или географическая с уклоном в лирический туризм. Названия: «Чудеса техники» и «Форд, король индустрии» или «Красоты Занзибара» и «Париж в дыму фокстротов». Билеты от рубля. Некая дама в платье, расшитом черным стеклярусом, рассказывает о Занзибаре или Париже по сохранившимся у нее воспоминаниям о своей свадебной поездке, состоявшейся в 1897 году. Вместо обещанного нового кинофильма показывают волшебным фонарем картинки из журнала «Природа и люди». На негодующие записки не отвечают.
г) Лекция хлебная. Хлебная лекция читается сметливым гражданином из бывших адвокатов и называется так, чтобы все сразу поняли, в чем дело: «Парный брак» или «Тайна женщины». Аудитория слушает, затаив дыхание. Из-под прокуренных усов лектора срываются слова: «Как известно, женский организм…» Внимание аудитории, большей частью мужской, достигает предела. Венеролога-гинеколога забрасывают записками. Сбор обильный и даже прекрасный. Лекции последнего рода почти приближаются к диспутам, история которых будет здесь изложена с возможной полнотой. Славится Москва не словопрениями о том, жил ли Христос, и если бы жил, то к какой социальной группировке примыкал бы сейчас, и не вечерами, на которых вернувшиеся из заграничной поездки граждане рассказывают о своих впечатлениях. Нет, рассказчики о загранице приелись. Все они докладывают так: — Рабочих окраин Берлина мне посетить не удалось, — начинает обычно гражданин, приехавший из Берлина. Гражданин же, приехавший из Парижа, предваряет слушателей, что рабочих окраин Парижа ему не удалось посетить. Когда докладчики доходят до фразы; «Потоки такси и автобусов заливают улицы Берлина (или Парижа)», слушатель, надрывно зевая, уходит. Он знает, что сейчас будет рассказано о дансингах, где «под звуки пошлых чарльстонов буржуазия топит мрачное предчу… револю… в шампа…». Не этими докладами славится столичный город: славится он диспутами пылкими, диспутами литературными. Утром прохожие ошеломленно останавливаются перед большой афишей, на которой черными и красными литерами выведено:
Политехнический музей ДИСПУТ на тему: На кой черт нам беллетристика
Тезисы: В первую голову надо вычистить Всеволода Иванова. — Гони Эфроса в дверь, он войдет в окно. — Последний зубр — Алексей Толстой. — О брусках, тихих Донах и драматурге Безыменском. — «Кузница и усадьба». — Искусство для Главискусства. — Нам нужны пожарные хроникеры!
Кроме всего этого афиша обещает прения, ответы на записки, выступление Всеволода Иванова в последний раз перед отъездом, а также чтение стихов, романов и повестей слушателями Цандеровского института физических методов лечения, обучившихся стихосложению по руководству Георгия Шенгели «Как писать стихи, рассказы, повести, романы, фельетоны, очерки, поэмы и триптихи». Афиша извещает также, что к участию в прениях приглашены все писатели, все поэты, три наркома и рабочие завода «Нептун», оставшиеся в живых современники Пушкина и писатель Катаев, автор книги «Растратчики», переведенной на шесть языков, включая сюда и сербский. Путник ошалело покидает афишу, но долго еще в его голове прыгают черные и красные литеры. Прыгают они до тех пор, пока путник не купит билета на диспут, имеющий прямой своей целью растереть в порошок изящную литературу в пределах кипучего Союза Республик. В вечер диспута у дубового портала Политехнического музея разъезжают верховые милиционеры. Они водворяют порядок среди толп, устремившихся послушать прения о последнем зубре и пожарных. В толпе кружатся участники диспута, которых озверевший контролер не впускает. Прибывшие спешным порядком с Цветного бульвара жулики тащат кошельки у зевак. Утопающие контрамарочники хватаются за соломинку — поэта Кирсанова. Поэт обещает всех сейчас же провести в зал, но сам падает под ударом одичавшего контролера. Из среды поклонников изящной литературы несутся самые неизящные выражения. Наконец контролера, засевшего как некий Леонид в Фермопильском ущелье Политехнического музея, опрокидывают, и безбилетные с гиканьем врываются в зал. Начинается дележка мест, грабеж зрительного зала, безбилетные с презрением оглядывают полтинничные места и рассаживаются на двухрублевых. Вскоре прибывают законные владельцы мест, завязывается перебранка, но безбилетные побеждают, и застенчивые обладатели билетов с бараньей покорностью удаляются в проходы, где и переминаются с ноги на ногу до окончания вечера. Куранты давно прозвонили час начала диспута, а на эстраде только стол, покрытый экзаменационным красным сукном, никелированный колокольчик и тыквообразный графин с водой. Безбилетные громко ропщут. Через час на эстраде показывается миниатюрная фигура беллетрисы Веры Инбер. Но это — мимолетное виденье. Испуганная ревом зрителей, беллетриса убегает. Еще через полчаса на эстраду выходит критик проф. Гроссман-Рощин, подходит к столу, наливает воду в стакан, под рукоплескания выпивает ее и тоже уходит. К десяти часам шесть неизвестных дам рассаживаются по стульям у стены. Это слушательницы Цандеровского института, пишущие стихи и романы по системе Шенгели. Публика громовыми голосами обсуждает их туалеты и успокаивается только тогда, когда с топотом высыпавший президиум занимает свои места. Диспут начинается обещанным докладом «На кой черт нам беллетристика». Читает его самый тихий по характеру поэт из лефов. У него серые глаза, костюм цвета полированного железа и пепельные волосы. Он похож на стального соловья и никак не может скрыть своих лирических наклонностей. Мягким девичьим голосом он требует гильотинировать Джека Алтаузена и Феоктиста Березовского. Он также сообщает публике, что четвертование Олеши и Наседкина явится лишь справедливым возмездием за их литературные грехи. На этом месте его прерывает теоретик бывшего лефа Осип Брик. Теоретик предлагает разрубить Пильняка на сто кусков по китайскому способу, но под гул публики умолкает. Остальных писателей докладчик полагает возможным утопить с полным собранием сочинений каждого на шее. Не имеющих же еще полного собрания — передать на службу в акционерное общество «Утильсырье», дабы они с пользой служили стране, собирая тряпки и кости. Сообщив всё это в высшей степени задушевным голосом, докладчик садится при жидких аплодисментах Осипа Брика и читает поданные ему записки. Заинтересованная публика с дрожью ждет дальнейшего развертывания событий. Развертываются они следующим образом. Председатель встает и нудным голосом объявляет: — Выступление Всеволода Иванова не может состояться по болезни такового. Из последующих слов председателя явствует, что заболели также все три наркома, все рабочие завода «Нептун» и автор, переведенный на шесть языков. Что же касается современников Пушкина, то таковых в живых не оказалось, и вследствие этого прибыть на диспут они не могли. Безбилетные зрители визжат от негодования, зрители платные помалкивают. Слушательницы Цандеровского института физических методов лечения читают сочиненные ими триптихи и романы. Тут даже платные зрители начинают недоверчиво квакать. Чей‐то робкий голос требует деньги обратно, но в это время докладчик подымается с целью дать ответы на записки. Диспут быстро потухает, потому что вопросы, заданные автору доклада «На кой черт нам беллетристика», довольно однотипны: — Вам легко говорить, вы получили высшее образование. — Вы бы лучше объяснили, почему нет в продаже животного масла? — Сообщите, как писать стихи? Получив разъяснения на все эти животрепещущие вопросы и так и не установив, нужно ли действительно снести с лица земли беллетристику, толпы покидают аудиторию и, ругая диспутантов, расходятся. Многие клянутся никогда больше не ходить на диспуты. Но никто им не верит, и сами они себе не верят. Диспуты — украшение столицы, и через неделю новые афиши возвестят городу о диспуте под комбинированным названием:
ПИСАТЕЛИ-ПОПУТЧИКИ и ЖЕНЩИНА КАК ТАКОВАЯ
Как же тут не пойти, если диспуты украшают жизнь?
1929
Путешествие в Одессу Памятники, люди и дела судебные
Для того чтобы туристу из Вологды или Рязани попасть в Одессу, есть несколько способов. Можно отправиться туда пешком, катя перед собой бочку с агитационной надписью: «Все в ОДН». Этот способ излюблен больше всего молодежью и отнимает не больше полугода времени. Можно также проехать из Рязани в Одессу на велосипеде. Для этого надо приобрести билеты третьей всесоюзной лотереи Осоавиахима и дожидаться, пока на него не падет выигрыш в виде велосипеда. Если же билет выиграет фуфайку или электрический фонарик, то надлежит ехать в Одессу поездом. Фонарик можно захватить с собой и по ночам пугать его внезапным светом железнодорожных кондукторов. Любознательному туристу Одесса дает вкусную пищу для наблюдений. Одесса один из наиболее населенных памятниками городов. До революции там обитало только четыре памятника: герцогу Ришелье, Воронцову, Пушкину и Екатерине Второй. Потом число их еще уменьшилось, потому что бронзовую самодержицу свергли. В подвале музея Истории и Древностей до сих пор валяются ее отдельные части — голова, юбки и бюст, волнующий своей пышностью редких посетителей. Но сейчас в Одессе не меньше трехсот скульптурных украшений. В садах и скверах, на бульварах и уличных перекрестках возвышаются ныне мраморные девушки, медные львы, нимфы, пастухи, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята. Есть площади, на которых столпились сразу два или три десятка таких памятников. Среди этих мраморных рощ сиротливо произрастают две акации. Стволы их выкрашены известью, на которой особенно отчетливо выделяются однообразные надписи — «Яша дурак». На спинах мраморных девушек тоже написано про Яшу. Львы и поросята перенесены в город из окрестных дач. Что же касается нимф и урн, то похоже на то, что они позаимствованы с кладбища. Как бы то ни было, вся эта садовая и кладбищенская скульптура очень забавно украсила Одессу. Кроме памятников, город населяют и люди. Об их числе, занятиях и классовой принадлежности турист может узнать из любого справочника. Но никакая книга не даст полного представления о так называемом «Острове погибших кораблей». «Остров» занимает целый квартал бывшей Дерибасовской улицы, от бывшего магазина Альшванга до бывшей банкирской конторы Ксидиаса. Весь день здесь прогуливаются люди почтенной наружности в твердых соломенных шляпах, чудом сохранившихся люстриновых пиджаках и когда‐то белых пикейных жилетах. Это бывшие деятели, обломки известных в свое время финансовых фамилий. Теперь белый цвет акаций осыпается на зазубренные временем поля их соломенных шляп, на обветшавший люстрин пиджаков, на жилеты, сильно потемневшие за последнее десятилетие. Это погибшие корабли некогда гордой коммерции. Время свое они всецело посвящают высокой политике, международной и внутренней. Им известны также детали советско-германских отношений, которые не снились даже Литвинову. Отвлечь от пророчеств их может только процессия рабов в хитонах, внезапно показавшаяся на Ришельевской улице. Рабы с галдением останавливаются на углу. Вслед за ними движутся патриции в тогах. За преторами бегут какие‐то начальники когорт и пращники. За пращниками следуют тяжеловооруженные воины из секции совторгслужащих биржи труда. Шествие замыкает разнокалиберная толпа, которая несет в кресле очень тощего Юлия Цезаря. Делается шумно и скучно. Всем становится ясно, что ВУФКУ пошло на новый кинематографический эксцесс — опять ставит картину из быта древнеримской империалистической клики. Подъехавшие на семи фаэтонах кинорежиссеры устанавливают римско-одесский народ шпалерами. Статисты, стоя на фоне книжного магазина Вукопспилки, машут ветками акаций, потому что на пальмы не хватило кредитов. Граждане города, не нанятые в римляне, с омерзением смотрят на действия родной киноорганизации. После триумфа фаэтоны с режиссерами трогаются в направлении общеизвестной одесской лестницы. Туда же несут Цезаря, закусывающего на своей высоте «бубликами-семитати». На общеизвестной одесской лестнице снимаются все картины, будь они из жизни римлян или петлюровских гайдамаков — всё едино. Если турист располагает временем, то ему стоит подождать судебного процесса, который обязательно возникнет по поводу постановки римского фильма. Есть в Одессе и другие достопримечательности, может быть и уступающие в полезности триумфу Цезаря, но зато более поучительные. Но это уже специальность не «Чудака», а скорее «Наших достижений». Ибо не одними хороводами ВУФКУ может похвалиться Одесса.1929
Молодые дамы
— Понюхайте этот цветочек. — Спасибо, я его уже нюхал. Радиолекции о конном спорте обычно начинаются такими словами: — Лошадь, надо по правде сказать, существо далеко не умное. К сожалению, и здесь, в небольшом докладе об особом сорте молодых советских дамочек, приходится начать теми же словами: — Советская гурия, надо по правде сказать, существо далеко не умное. Главные ее признаки легче всего обнаружить на семейной вечеринке со шпротами и вином, которое для важности перелито в стеклянный бочонок. В продолжение всего пира молодая хозяйка ударными недомолвками старается дать понять гостям, что таких шпрот и такого вина никак не найти на вечеринках, кои устраиваются враждебными ей гуриями. К концу вечера хозяйка уходит в угол комнаты, за колеблющиеся ширмы, и возвращается оттуда в новом костюме. На ней голубая куртка с белыми отворотами. Такие же отвороты украшают ее голубые брюки. Сшито всё из ткани, употребляющейся на теплую подкладку к папахам. Мужчинам становится неловко. Они не смотрят в сторону хозяйки и стараются отогнать всплывшие внезапно мысли о ее нелепом аристократизме. Но это не удается, и гости грустнеют. Что же касается хозяина, то глаза его сверкают сумасшедшим огнем. Он доволен своей женой и победоносно поглядывает на гостей. Однако голубая или оранжевая пижама только начальная веха в деле изучения очаровательных молодых хозяек. Иногда гурию можно сразу узнать по имени. Никогда ее не зовут Прасковьей, или Марией, или Инной. Она носит имя, высоко приподнятое над нашим пошлым миром. Ее зовут Бригиттой или Мери. Среди гурий в ходу также имя Жея. Считается, что Жея звучит тоже лучше и изящней, чем Анна. Совершенно естественно, что обладательнице торжественного имени и голубых брюк с белыми манжетами неприятно вести свой род бог знает от кого. И время от времени гурия, о которой всем ее знакомым точно известно, что отец ее и по сию пору честно служит перронным контролером на Сызрано-Вяземской железной дороге, начинает тревожный разговор о своем папаше. Оказывается, что папаша гурии, польский граф Август Пахомов, был дьявольски богат, но разорился по пылкости натуры. Версия о графе Пахомове подкрепляется демонстрацией эмалевого медальона, на котором изображены голубь и дышло. Насчет эмалевого дышла особых объяснений не дается. Как правило, гурия фантазии не имеет, привирает убого и смешно, а мозговой работы не ведет совсем. От всех остальных событий, происшедших в мире, гурия отделывается невнятными междометиями и короткими возгласами. На сообщение о перелете полюса она отвечает писком, на вопрос о том, понравился ли ей «Севастополь» Малышкина, она отвечает: «Дивная книга». Тупость и расплывчатость ответа объясняются тем, что гурия не читает. Русских книг она не читает, потому что считаетфранцузский язык, несомненно, выше русского, а французских книг она не читает, так как не знает языка, на котором они написаны. Главные свои силы, всю свою лисью ловкость и все выцарапанные у мужа деньги гурия употребляет на покупку предметов элегантного обмундирования. И если гурия начинает охоту за новыми туфлями, то экспедиция эта растягивается на месяц и проводится в большой тайне. Нужно найти какого‐то сверхъестественного сапожника, который сошьет туфли настолько совершенные по фасону и материалу, что все враждебные гурии захиреют от зависти. Нужно во что бы то ни стало скрыть от мужа истинную стоимость новых туфель, иначе даже он, долготерпеливый, может взбеситься. И мужу сообщается, что туфли обошлись всего лишь в сорок рублей. Для подруги сердца завеса немного приподнимается. Ей говорится, что туфли стоили сорок пять рублей. И только сама гурия знает, что за туфли заплачено пятьдесят пять рублей. В этих сложных махинациях — в обмане и соперничестве с другими гуриями — проходит жизнь молодой домашней хозяйки. И когда в Столешниковом переулке вам укажут на молодую, полуграмотную красавицу, одетую с непонятной и вызывающей смех пышностью, когда ваш спутник ошалело вдохнет запах ее духов, называющихся «Чрево Парижа», и пролепечет: «Посмотрите, какой прелестный цветочек», — отвечайте сразу: — Спасибо, я этот цветочек уже нюхал!1929
Источник веселья
Переступив украшенный препарированными пальмами порог парка культуры и отдыха, московский житель жадно озирает раскрывшиеся перед ним просторы. Дома он так представлял себе парк: — Рощи, рощи, рощи! Кущи, кущи, кущи! А в рощах и кущах — аттракционы, аттракционы и аттракционы! Электрические колеса! Комнаты гигантов! Воздушные сани! Говорящая краковская колбаса! Но природа мудро разделила парк на две части. В одной есть аттракционы, но нет ни одного деревца. В другой имеются рощи и кущи, но аттракционов нет. Пока житель сетует на несправедливость судьбы, на песочной аллее, между двумя рядами зеленых и стройных урн для окурков, появляется служащий парка. Согнувшись, он несет шест с плакатом:СТОЙ! ЗДЕСЬ СЕЙЧАС БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ЗАНЯТНАЯ БЕСЕДА!
Впереди человека с шестом, веселясь и подпрыгивая на полметра от земли, бегут дети. Позади, постепенно увеличиваясь в числе, идут взрослые граждане. А человек с шестом всё кружит по дорожкам. Убедившись, что за ним следует уже изрядная толпа, он втыкает шест в землю и, дружелюбно улыбаясь, говорит: — Сейчас доктор Стульян проведет с вами занятную беседу. Доктор просит пропустить детей вперед, чтобы им было лучше слышно, и слабым голосом начинает: — Товарищи, темой моей сегодняшней беседы будут глисты у детей. Дело в том, что глисты у детей — вещь весьма вре… Первыми уходят дети. Потом уходит человек с шестом. Шест ему нужен для организации другой беседы. За ним мало-помалу расходятся и взрослые. Через пятнадцать минут проходящие мимо этого места граждане наблюдают весьма странную картину. На совершенно пустой площадке стоит человек в рубашке с расшитым воротом и сандалиях «Дядя Ваня». Размахивая ручонками, он горячо убеждает невидимых слушателей: — Напрасно вы скептически улыбаетесь! Я повторяю снова, что для детей глисты являются болезнью весьма вре… Граждане опасливо обходят лектора. Они спешат к источникам веселья. Им хочется в лабиринт. Но лабиринт закрыт еще в прошлом году. Разносится зловещий слух, будто это сделали потому, что пьяные заползали в лабиринт поспать. — Самое удобное место. В лабиринте уж никто не отыщет. — Глупости говорите. Этот лабиринт был виден насквозь. — Ну и что ж, что насквозь? А пьяному не всё ли равно, видно его или не видно. Важно, что лабиринт. В этих и иных глубокомысленных разговорах жаждущие веселья бодро строятся в очередь у подножья «Чертовой комнаты». Ныне, на том основании, что чертей и чудес не существует, она переименована в «Таинственную комнату». На этом же точно основании фокусники теперь выступают под культурно-просветительным флагом «разоблачителей чудес и суеверий». Из «Таинственной комнаты» люди выходят молча и устремляются в гигантскую закусочную, под крышей которой летают и поют птицы. Только за сосисками с капустой посетители «Таинственной комнаты» приходят в себя, но долго еще в их глазах вращается закусочная, летают бутерброды с телятиной и отдельные детали Нескучного сада. Нет, пожалуй, ни одного учреждения, которое так бы оправдывало свое название, как «Комната смеха». К этой комнате подходит хмурый человек. Он недоволен. Он женат, и у его жены нехороший характер. Он служит, и начальники его чрезмерно придирчивы. Он пришел в парк отдохнуть душой и телом, а тут почему‐то обличают сектантов и с визгом играют в волейбол. Он, конечно, купит билет в эту «Комнату смеха», но заранее убежден, что ничего смешного там не увидит. И вообще он страдалец, а на земле нет справедливости. Но едва этот человек вступает в комнату, где не надеется найти ничего смешного, как оттуда раздается его протяжный смех. Через пять минут он выходит оттуда обессиленный, пошатываясь, садится на скамейку и досмеивается еще полчаса, вспоминая, каким толстым и коротконогим чурбаном выглядел он только что в кривых зеркалах. И если час назад пушбол казался ему игрой, в которой убивают за раз не меньше двухсот человек, то теперь он приходит к мысли, что это спортивное развлечение не так смертоносно и что стоит, пожалуй, самому побегать за огромным, закрывающим полнеба мячом. В читальне разыгрываются сцены из «Тома Сойера». За правильный ответ на устную «викторину» выдается один желтый билетик. За два правильных ответа выдают два желтых билетика. Три ответа дают три билетика. А четыре билетика дают сведущему человеку право вытянуть лотерейный билет. И в конце концов добродетель увенчивается выигрышем: гипсовым мопсом и книжкой о пчеловодстве. Расходясь из парка, граждане натыкаются на человека, ораторствующего среди урн для окурков: — Глисты имеются нескольких видов. Глисты, так называемые долговязые, лимитро… Это доктор Стульян проводит пятую занятную беседу.
1929
Новый дворец
В довоенное время, если судить по газетным и журнальным объявлениям, самым распространенным бедствием была лысина. С лысиной боролись. Против лысины восставали герои — изобретатели средств для ращения волос. Средства эти рекламировались в извещениях самого трогательного свойства:Я БЫЛ ЛЫСЫМ! Моя мать была страдалицей. Мой отец был лыс от природы. Я сам уже в детстве потерял всякую растительность. Но в прошлом году, в горах Швейцарии, я встретился с профессором Х., который снабдил меня баночкой чудодейственного бальзама «Киска-Волосатин». И с тех пор я отличаюсь завидной пышной шевелюрой.
Все это вранье подкреплялось штриховым портретом господина, чья мать была страдалицей, чей отец был лысым от природы и который сам был лысым до употребления бальзама «Киска-Волосатин». И хотя лысина не побеждена, но граждане уже не так болезненно относятся к своему облысению. Может быть, это происходит оттого, что теперь труднее, чем в мирное время, попасть в Швейцарию, а может быть, и потому, что беда, более важная, чем плешь, постигла человечество. Если бы нашлось средство борьбы с новым бедствием, то о нем нужно было бы дать объявление такого свойства:
Я ХОДИЛ НА ЗАСЕДАНИЯ! Моя мать была активной страдалицей. Мой отец начал заседать с 6 часов утра. Он кончил тем, что сошел с ума и съел председательский колокольчик. Я сам из цветущего юноши превратился в развалину. Виной всему были бесконечные заседания, на которых мне приходилось бывать. И внезапно в горах Кавказа я встретился с человеком, который снабдил меня чудоде…
Пора уже дать такое объявление, потому что чудодейственный бальзам найден. Найдено средство борьбы с самой могучей ветвью бюрократизма — бесконечными, многочасовыми заседаниями. Конечно, это не налог на никелированные колокольчики и не высылка портфеледержателей за пределы административных центров. Наше средство является несравненно более могучим. Для борьбы с заседаниями нужно построить огромный дворец заседаний. Во дворце должно быть множество зал, и в каждой зале длинный стол, и на каждом столе суконная скатерть, и на каждой скатерти — колокольчик с хрустальным звоном и кувшин с водой для освежения гортани докладчика, и гортани содокладчика, и выступающих в прениях, и высказывающихся по вопросам порядка дня, и вносящих внеочередные предложения, и высказывающихся по мотивам голосования, и кричащих с места «правильно», и зачитывающих резолюции, и прочих, и прочих. Новому дворцу можно присвоить красивое наименование: «Слушали и Постановили». В разговоре это получается весьма импозантно: — Вы куда? — Я — в филиал Центрального дома секции печати работников просвещения! А вы? — Я — во Дворец «Слушали и Постановили». Но главное, конечно, не в полнозвучности названия нового заседательского комбината, а в том, что он нанесет смертельный удар всем любителям многочасового потребления чаю и бутербродов с собачиной, всем приверженцам двухсуточных заседаний с докладами, содокладами, контрдокладами и докладищами по мотивам голосования. Дворец «Слушали и Постановили» будет широко открыт для всех бюрократов. Все двери его будут открыты настежь: — Приходите! Володейте нами! Заседайте! Вообще заседания всякого рода разрешается устраивать только во Дворце «Слушали и Постановили». Главарям любого учреждения предоставляется право заседать в любой из дворцовых зал на таких условиях: а) первые 30 минут — совершенно бесплатно; б) еще 2 минуты — с платой за счет учреждения по карательному тарифу из расчета 20 рублей за минуту; в) неограниченное количество времени — с изысканием платы по 500 рублей в час из личных средств участников заседания. Плата может быть заменена тюремным заключением из расчета за каждые лишние полчаса — два месяца заключения. И можно считать верным делом, что больше тридцати двух минут ни одно заседание продолжаться не будет. Конечно, из нудного стана бюрократов послышится ужасный визг. Они будут протестовать. Они начнут кричать о гибели страны. Они потребуют, чтобы разрешили проработать вопрос о Дворце «Слушали и Постановили» на заседаниях по старой норме времени. Но этого позволять не надо! Кто вообще установил, что заседания не ограничиваются временем? Ограничены известным, заранее установленным временем и рабочий день, и пароходный рейс, и сеанс в кино, и солнечная ванна. В театре за один вечер спектакля Гамлет решает важнейшие вопросы, а восемнадцати надутым чиновникам из конторы «Торг— лоханка» нужно шесть часов, чтобы решить вопрос о закупке одного кило гвоздей для нужд своего лоханочного производства. Если они уже иначе не могут, то пусть заседают за свой счет! По карательному тарифу! «Чудак» за постройку Дворца «Слушали и Постановили».
1929
Для моего сердца
Какие смешные вещи происходят в Москве. Удивительный город! На его перерожденных окраинах выстроены пепельные здания научных институтов с именами ЦАГИ, НАМИ, НИТИ. Окраины перешли в лагерь науки. Там говорят: — Энерговооружение. Магистраль. Куб. А в центре города расположился бродячий базар. Здесь на горячих асфальтовых тротуарах торгуют шершавыми нитяными носками и слышен протяжный крик: — Вечная игла для примуса! Зачем мне вечная игла? Я не собираюсь жить вечно. А если бы даже и собирался, то неужели человечество никогда не избавится от примуса! Какая безрадостная перспектива. Но граждане в сереньких толстовках жадно окружают продавца. Им нужна такая игла. Они собираются жить вечно, согреваясь огнем примуса-единоличника. Почти обеспечив себе бессмертие покупкой удивительной иглы, граждане опускают глаза вниз. Давно уже нравятся им клетчатые носки «Скетч», которые соблазнительно раскинуты уличными торговцами на тротуарных обочинах. Носки называются как попало. «Клетч» или «Скетч», все равно, лишь бы название по звуку напоминало что‐то иностранное, заграничное, волнующее душу. Персия, Персия, настоящая Персия. На окраинах по косым берегам реки спускаются водные станции, с деревянных башен ласточками слетают пловцы, а в центре города Персия — нищий целует поданную ему медную монету. Может быть, надо объяснять это путем научным или с точки зрения исторической, а может быть, и не надо — ясно видно, что Москва отстает от своих окраин. На лучшей улице города у подъезда большого дома с лифтом и газом висит белая эмалированная табличка:В. М. ГЛОБУСЯТНИКОВ Профессор киноэтики
Что еще за киноэтика такая? Вся киноэтика заключается в том, чтобы режиссер не понуждал актрис к половому сожительству. Этому его может научить любой экземпляр уголовного кодекса. Что за профессор с такой фальшивой специальностью! Но бедных «персиян» легко обмануть. Они доверчивы, они не мыслят научно. И наверно, у В. М. Глобусятникова есть большая клиентура, много учеников и учениц, коим он охотно поясняет туманные этические основы, пути и вехи киноискусства. Принято почему‐то думать, что бредовые идеи рождаются в глухой провинции, в сонных домиках. Но вот письмо, прибывшее в редакцию с центральной улицы. «Поместите мое пожелание нижеследующее: Со дня революции у нас, в советской республике, много развелось портфелей у начальствующих лиц, ответственных работников и у остальных, кому вздумается. Некоторые имеют по необходимости, а другие для фасона. Покупают портфель, не считаясь, что он стоит 25 р. и дороже. Мое мнение: произвести регистрацию всех граждан, которые носят при себе портфели. Регистрацию можно произвести через милицию. Сделать нумерацию каждого портфеля и прикрепить к нему, и самое главное — обложить налогом каждого, кто носит портфель. Хотя бы за шесть месяцев 5 рублей. Все собранные деньги передать в пользу беспризорных детей. А поэтому я предполагаю, что против никто иметь не будет, а сумма соберется большая. Тов. редактор, как вы смотрите на это дело?» Все свое письмо безумноголовый адресат считает делом! Как далеко это от понятий — «энерговооружение, магистраль, куб». Бедных граждан обманывают смешно и ненаучно. Считается, что гражданам нужно пускать пыль в глаза. На бульварах простые весы для взвешивания, самые обыкновенные весы на зеленой чугунной стойке с большим циферблатом снабжаются табличкой:
МЕДИЦИНСКИЕ ВЕСЫ ДЛЯ ЛИЦ, УВАЖАЮЩИХ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Черт знает сколько здесь наворочено наивного вранья! И весы какие‐то особенные (антисептические? Взвешивание без боли?), и граждане делятся на два ранга: а) уважающих свое драгоценное здоровье и б) не уважающих такового. Только на восточных базарах еще применяются такие простейшие методы обморачивания потребителей. По учреждениям, где скрипят перья и на столах валяются никелированные, сверкающие, как палаши, линейки, бродит скромно одетый человек. Он подходит к столам и молча кладет перед служащими большой разграфленный лист бумаги, озаглавленный «Ведомость сборов на…». Занятый служака подымает свою загруженную голову, ошалело взглядывает на «Ведомость сборов» и, привыкший к взносам в многочисленные филантропические и добровольные общества, быстро спрашивает: — Сколько? — Двадцать копеек, — отвечает скромно одетый человек. Служака вручает серебряную монету и вновь сгибается над столом. Но его просят расписаться: — Вот в этой графе. Служаке некогда. Недовольно бурча, он расписывается. Гражданин с ведомостью переходит к следующему столу. Обойдя всех служащих, он переходит в другое учреждение. И никто даже не подозревает, что скромно одетый гражданин собирает не в пользу МОПРа и не в пользу популярного общества «Друг детей», а в свою собственную пользу. Это нищий. Он узнал все свойства бюрократической машины и отлично понял, что человеку с ведомостью никто не откажет в двугривенном. Разбираться же в ведомости никто не будет. И, вместо того чтобы как обычный стационарный нищий оглашать угол Тверской криком «братие и сестрие, подайте хотя бы одну картошечку», нищий скромно и вежливо подсовывает доверчивым гражданам-персиянам свою ведомость. Доходы его велики. Летним вечером в московском переулке тепло и темно, как между ладонями. В раскрытом окне под светом абрикосового абажура дама раскладывает гадательные карты. На подоконник ложатся короли с дворницкими бородами, валеты с порочными лицами, розовые девятки и тузы. — Для меня, — шепчет дама. — Для моего дома. — Для моего сердца. — Чего не ожидаю. — Чем дело кончится. — Чем сердце успокоится. И второй раз: — Для меня, моего дома, моего сердца… Бедная, глупая «персиянка». Скоро окраина двинется походом на центр, ЦАГИ, НАМИ, НИТИ возьмут всю Москву в плен науки и труда. Не останется больше сказочной иглы для примуса, дурацких носков «Скетч», налогов на портфеледержателей и профессоров шарлатанской этики, не останется всего того, что для сердца невыносимо.
<1929/30>
Переулок
Настоящее значение этого слова можно понять только в Москве. Только Москва показывает переулок в его настоящем виде. Вид этот таков, что всякий благонамеренный и не зараженный сентиментализмом гражданин предается восклицаниям, вкладывая в них модуляции ужаса. Потом гражданин старается найти название этой щели, по сторонам которой стоят дома. Потом старается найти милиционера, потому что переулок по своей длине три раза меняет название, три раза направление, а один раз становится поперек самого себя. Потом гражданин останавливается. Положение его безнадежно. Переулок стал задом ко всему миру, и выхода из него нет. То, что сначала казалось выходом, оказывается частным владением, оберегаемым собаками с очень злым характером. Тогда гражданин, если он недавно приехал в Москву, вытаскивает из кармана план города, раскладывает его на мостовой и отчаянным глазом ищет спасения. Его нет. Из всего, что нарисовано на плане, гражданину нравится только Бульварное кольцо. Оно хотя и не совсем круглое, но понятное. Отсюда пойдешь — сюда придешь. Зато весь остальной план покрыт морщинами — переулками, и напрасно гражданин хватается за Бульварное кольцо, как за спасательный круг. Оно помочь не может. Гражданин теряет много времени, лежа на мостовой, которая режет ему живот острыми гребешками своих камней. Когда тело гражданина начинает препятствовать уличному движению, ломовые извозчики спрыгивают со своих телег и, употребляя выражения, не подлежащие оглашению, перекладывают тело на тротуар. На тротуаре гражданин может лежать, сколько ему понравится. По переулкам ходят мало, а тело вникающего в план красиво оживляет пустынный пейзаж. К вечеру тело приподымается, и слышно томное бормотанье: — Большой Кисловский — это не Малый Кисловский. Малый не Средний. Средний не Нижний. А Нижний? Но никто не скажет гражданину, что такое Нижний Кисловский. Припадая на обе ноги, гражданин удаляется. Куда он пропадает, понять нельзя. Может быть, его съедает желтое, ночное небо. Или, попав в красный костяк недостроенного семиэтажного дома, он гибнет среди колючего щебня. Этого понять нельзя, и на это ответа нет. Гражданин-москвич действует более осторожно. Во-первых — старается переулками не ходить. Второе — если ходит, то не один, а скопом, уповая при этом на вышние силы. Третье — если ходит один, то спрашивает советов у мудрых. Мудр же извозчик, ибо знает все. Отвечает он немедленно: — Факельный? Четыре рублика, гражданин. Обладатели четырех рубликов спасены. Лишенные же денег получают только наставление: — Два раза направо и четырнадцать раз налево. А как придете об это самое место, где сейчас стоите, тогда спросите, потому уже близко. Белая извозчичья лошадь улыбается и трясет хвостом. Она ни во что не верит. Она знает, что, сколько днем ни бегай, все равно прибежишь в одно место — в трактир «Кризис», где ее хозяин долго будет пить чай и хрипеть в блюдечко. Лошадиный пессимизм заражает гражданина москвича, и он быстро бежит домой. С тем местом, куда шел, он старается снестись по телефону. При отсутствии телефона пишет письмо. Но сам дальше первого извозчика не ходит, потому что осторожен. Во всем же остальном переулок очарователен. Его тротуары похожи на романтические горные тропинки, а освещен он так, что при литературном подходе к делу в голову немедленно влезает представление о темных, горных ущельях, воспетых Оссианом. При нелитературном подходе нет ничего легче посчитать себя погребенным вживе и предаваться соответствующим нежным эмоциям. Населен переулок по большей части старыми дамами в траурных шляпах. Шляпами и манерами эти дамы напоминают похоронных лошадей, а профили их носят на себе явную печать лучших времен. Дамы-лошади с легким страхом посматривают на высоченные, худые дома, явно выпирающие своей деловитостью из интимного ансамбля особнячков. Окно высоченного дома распахивается. Из него выпадает оглушительная фраза: — Пойдите в государственный ГУМ, и там за эти деньги вы получите только болячку. На что мрачный голос отвечает стихами:Гоп, стоп, стерва,
Я тебя не знаю.
<1928/30>
Благообразный вор
Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, у кого ты украл эту книгу.Обычно кража сурово наказывается, или, как говорят, законом наказуется. Закон энергично преследует людей, крадущих деньги, носильное платье, примусы или белье с чердаков. Таких людей закон, как говорится, наказует. Кроме судебной кары, ворам достается и от общественности. Человеку, имеющему за собой семь приводов, надо прямо сказать, трудно вращаться в обществе. Такого человека общественность клеймит и довольно метко называет уголовным элементом. Но есть множество людей, самых настоящих ворюг, типичных домушников, а между тем ни закон, ни общественность и не пытается обуздать их преступные порывы. Это книжные воры. Они опаснее всех. Настоящий вор старается пробраться в квартиру ночью, в отсутствие хозяев. Торопясь и нервничая, он хватает, что попадется под руку, и убегает. Исследуя свою добычу в безопасном месте, вор падает духом. Ложечки, показавшиеся ему серебряными, оказываются алюминиевыми. Скатерть весьма рваная и рыночной стоимости не имеет. Захваченное впопыхах пальто почти полностью амортизировалось, воротник осыпался, а суконце поиздержалось. От продажи оказавшегося в кармане пальто фотографического портрета какой‐то девушки тоже особенных доходов не предвидится. Кроме того, предстоят преследования по закону, возможно, заключение месяца на три в исправительное заведение. Таков тяжелый труд профессионального вора. Книжный вор держится иначе. Он приходит только в тот час, когда уверен, что застанет хозяина дома. Пробирается он в квартиру не ночью, а вечером. Внешний вид книжного вора весьма благообразен. Он одет с приличествующей своему служебному положению роскошью. На нем шестидесятирублевый костюм и зеленоватые суконные гетры. Он хорошо знаком с хозяином квартиры и крадет не сразу. Сначала он заводит культурный разговор. Он чувствует себя гостем. Его надо поить чаем. Он не прочь полакомиться дальневосточными сардинками, которые хозяин приберегал себе на завтрак. В конце концов гость съедает эти сардинки и приступает к тому, за чем пришел. Не обращая внимания на тревожный блеск в глазах хозяина, он подходит к книжным полкам и развязно говорит: — Да у вас чудная библиотека. — Да, — говорит хозяин беспокойным голосом. — Прекрасные книги, — продолжает вор, — обязательно нужно взять у вас чего‐нибудь почитать. — Да, — говорит хозяин, хотя ему очень хочется сказать «нет». — Давно мне хочется прочесть что‐нибудь интересное. С этими словами гость снимает с полки три лучших, на его взгляд, книги и бормочет: — Почитаем, почитаем! На взгляд хозяина, эти три книги тоже лучшие. Поэтому он испуганно лепечет: — Видите ли… Но вор неумолим: — Через неделю вы их получите назад. Вот я даже в книжечку запишу. Взял у Мирона Нероновича «Записки Пиквикского клуба», потом… И он действительно заносит в книжечку какие‐то каракули. Потом прощается с Мироном Нероновичем и уходит. Книг он, конечно, не отдает никогда. Настоящий вор покидает ограбленную квартиру поспешно. На улице за ним иногда гонятся милиционеры, и вор, задыхаясь, дает стрекача. Книжный вор движется медленно и уверенно. За ним никто не погонится. Его никто не остановит на улице, никто не спросит сурово: — Ты где взял эти книги? Немедленно неси назад, не то убью. И это величайшая несправедливость. Людей, выпивающих наш чай, людей, похищающих наши сардинки и уносящих наши книги, надо наказывать. Нужен закон против книжных воров, закон, как говорится, сурово наказующий.Старинная поговорка
<1930>
Блудный сын возвращается домой
Иногда мне снится, что я сын раввина. Меня охватывает испуг. Что же мне теперь делать, мне, сыну служителя одного из древнейших религиозных культов? Как это случилось? Ведь мои предки не все были раввинами. Вот, например, прадед. Он был гробовщиком. Гробовщики считаются кустарями. Не кривя душой, можно поведать комиссии по чистке, что я — правнук кустаря. — Да, да, — скажут в комиссии, — но это прадед. А отец? Чей вы сын? Я сын раввина. — Он уже не раввин, — говорю я жалобно. — Он уже снял… Что он снял? Рясу? Нет, раввины не снимают рясы. Это священники снимают рясу. Что же он снял? Он что‐то снял, он отрекся, он отмежевался от своего бородатого быта, с визгом и ревом он порвал связь с божеством и отказал ему от дома. Но я не могу точно объяснить, что снял мой отец, и мои объяснения признаются неудовлетворительными. Меня увольняют. Я иду по фиолетовой снежной улице и шепчу сам себе: «…И совершенно прав был товарищ Крохкий, когда… Скажи, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты… Яблочко от яблони недалеко падает…» Совершенно прав был председатель комиссии товарищ Крохкий. Меня надо изжить. Действительно, давно пора. Я поеду домой, к отцу, к раввину, который что‐то снял. Я потребую от него объяснений. Какой он все‐таки нетактичный человек! Ведь сколько есть профессий. Он мог бы стать гробовщиком, как мой прадед, наконец, он мог бы сделаться пролетарием умственного труда, бухгалтером. Разве уж так скверно было бы работать за высокой конторкой, сидеть на вращающемся винтовом табурете? Зачем было лезть в раввины? И как он не понял, что совершенно нетактично рожать сыновей раввина? Я поеду к нему. Будет крупный разговор. Блудный сын возвращается домой. Блудный сын в толстовке и людоедском галстуке возвращается к отцу. Стуча каблуками, он вбегает по лестнице из вареного мрамора на четвертый этаж. Он меланхолически бормочет: — Я живу на четвертом этаже, там, где кончается лестница. Он притворяется. Он не меланхоличен, а взволнован. Сын не видел отца десять лет. Он забыл о предстоящем крупном разговоре и целует отца в усы, пахнущие порохом и селитрой. Отец тревожно спрашивает: — Тебе надо умыться? Пройди в ванную. В ванной темно, как десять лет назад, когда вылетевшие стекла заменили листом фанеры. Ничего в отцовской квартире не изменилось за десять лет. В темноте я подымаю руку кверху. Там была полка и лежало мыло в эмалированной лоханочке. Рука встречает полочку и находит мыло. Зажмурив глаза, я могу пройти по всей квартире, не зацепившись, не ударившись о мебель. Память убережет меня от столкновения со стулом или самоварным столиком. Закрыв глаза и лавируя, я могу пройти в столовую, взять налево и сказать: — Я стою перед комодом. Он покрыт полотняной дорожкой. На нем зеркало, голубой фарфоровый подсвечник и фотография моего брата, которого в училище звали Ямбо. Он был толстым мальчиком, а тогда толстых называли Ямбо. Что же касается самого Ямбо, то это был слон. И, открыв глаза, я увижу комод, дорожку, подсвечник и фотографию… Здесь, в квартире, корабельный быт. Мебель словно привинчена к полу, установлена раз и навсегда. Отец стоит рядом, поправляя пороховые усы. Отчего у него усы пахнут порохом? Он ведь не полководец и не севастопольский герой — он раввин, неэтичный служитель культа и к тому же двуличный, лицемерный человек. Разве он перестал верить в Бога? Да нет же. Пришел, как видно, однажды домой, вздохнул и сказал: — Меня душат налоги. Семнадцать рублей в месяц за электричество. Это грабеж. И снял рясу, то есть не рясу, а вроде этого. Простое дело — электричество победило религию. Но мне‐то ведь это не помогло. Я остался сыном раввина. Победа клозетной электрической лампочки над вседержителем нисколько мне не помогла. Такого отца надо презирать. Но я чувствую, что люблю его. Что из того, что его усы пахнут селитрой! Ветчина тоже пахнет селитрой, и никто, однако ж, не требует, чтобы она водила полки в бой. У моего отца шестидесятилетние аметистовые веки и шрам на левой щеке, не сдвинувшийся с места корабельный шрам. Позор, я люблю раввина! Сердце советского гражданина, гражданина, верящего в строительство социализма, трепещет от любви к раввину, к бывшему орудию культа. Как могло это произойти? Прав был товарищ Крохкий. Яблочко, яблочко, скажи мне, с кем ты знакомо, и я скажу, кто тебя съест. Ужас, отец мой — яблоня, раввин с лиственной бородой. Мне надо отмежеваться от него, но я не могу. Нет, не будет крупного разговора, я слишком люблю своего отца. И я только спрашиваю: — Зачем, зачем ты был раввином? Отец удивлен. Он смотрит на меня с нежной тревогой и говорит: — Я никогда не был раввином. Тебе это приснилось. Я бухгалтер, я герой труда. И он грустно трогает рукой свои пороховые усы. Сон кончается мотоциклетными взрывами и пальбой. Я просыпаюсь радостный и возбужденный. Как хорошо быть любящим сыном, как приятно любить отца. Если он бухгалтер, если он пролетарий умственного труда, а не раввин.1930
ИЗ ЗАПИСНЫХ
КНИЖЕК ИЛЬФА


1925
Двое молодых. На все жизненные явления отвечают только восклицаниями: первый говорит — «жуть», второй — «красота».Борис Абрамович Годунов, председатель жилтоварищества.
Артель «Красный бублик» или «Булка Востока».
Человек в лунном жилете со львиной прической. По жилету рассыпаны звезды.
Целые жернова швейцарского сыра.
Девица. Коротконосая. Жрет лимон с хлебом и поминутно роняет на пол трамвайные копейки.
В прекрасную погоду заграничный академик стоял посреди Красной площади, растопырив ноги, и в призматический бинокль смотрел на икону над Спасскими воротами.
Совхоз называется «Большие Иван Семенычи».
Все для похорон. Бюро «Вечность».
1927
В Пятигорске нас явно обманывают и прячут куда-то местные красоты. Авось могилка Лермонтова вывезет. Приехали к «Цветнику», но его уже не было. Извозчики в красных кушаках. Грабители. Где воды, где источники? Отель «Бристоль» покрашен заново на деньги доверчивых туристов. Погода чудная. Мысленно вместе. Воздух чист, как писал Лермонтов. Поехали на гору Машук. Видели Провал. Провал полный. Смотрели Лужицу. Воняла. Кажется, не понравилась. Место дуэли Лермонтова. Возникла мысль, что если бы Лермонтов убил Мартынова, то пришлось бы удовольствоваться могилкой без памятника. И был бы он безмо-нументный.На празднике жизни в Пятигорске мы чувствовали себя совершенно чужими. Мы пришли грязные, в плотных суконных костюмах, а все были чуть ли не из воздуха.
Вопль: «Есть здесь что-нибудь не имени?» Курорт имени поручика.
Прошла рослая девица. В будние дни замещает монумент Лермонтова.
Владикавказ. Кошмарная ночь, увенчанная появлением Кавказского хребта. Оперные мотивы — восход солнца с озарением горных вершин. Гор до черта. <…> Во Владикавказе каждая улица упирается в гору.
«Терек — краса СССР». За красу взяли по гривеннику. Были вознаграждены видом Столовой горы Нарпита им. Халатова и Тереком. «Дробясь о мрачные… кипят и пенятся». Утесистых громад еще нет. Но деньги уже взяли.
«Знаете ли вы украинскую ночь?» (глядя на Терек).
В пучину Терека бросаются какие-то голые.
На Пролетарском проспекте имеется пивная «Вавилон».
Военно-Грузинская дорога.
Все оказалось правдой. Безусловно, Кавказский хребет создан после Лермонтова и по его указаниям. «Дробясь о мрачные» было всюду. Тут и Терек, и Арагва, и Кура. Все это «дробясь о мрачные». Мы спускались по спиралям и зигзагам в нежнейшие по зелени пропасти. Виды аэропланные. Забрасывали автомобиль цветами, маленькими веничками местных эдельвейсов и розочек. Мальчишки злобно бежали за машиной с криками: «Давай! Давай деньги!» Отплясывали перед летящей машиной и снова галдели «давай». Кончилось тем, что мы сами стали кидать в них букеты с криком «давай». Нелепые пароксизмы надписей на скалах, барьерах, табуретках и всех прочих видах дикой и недикой природы. Впереди, низко над землей, летели стайки, работая, как мотоциклы. На Крестовском перевале мы зацепились за облако. Было мрачновато. Полудикие дети предлагали нарзан самодельный и просили карандашей. Паслись на крутизнах миниатюрные бычки с подругами своей горной жизни — коровками. Шофер-грузин в клетчатых носочках и особо желтых ботиночках. Дикость Дарьяльского ущелья. Необыкновенный ветер.
Гора Давидова — гора ресторанная.
Дождь и прохлада. Жизнь начинается, кажется, завтра и, кажется, на Зеленом мысу.
«Красный рай», ресторан. Ресторан «Под луной».
Нежные грузины.
Представитель генерального общества французской ваксы.
Подводил формулы.
Блудный сын возвращается домой.
Мой друг, микадо.
* * *
Зеленый мыс. Вот! Здесь мы пропадали.Дело явно происходит в субтропиках. В Москве тоже иногда приятно.
Дамочки любят скользаться в субтропиках.
Шаловливые братья.
Стихотворение, вызванное обстоятельствами
В песчаных степях Аравийской земли
Три (3) гордые пальмы безостановочно росли!
Трудящийся жираф. Аджарская небылица. Впрочем, все возможно.
Мои штаны лопнули 15 июня на Адской лесенке в Ботаническом саду. Лопались они с тяжелым и печальным гулом.
Вчера усмотрена была собака, на хребте которой красовалась надпись «Коля».
Вид на контрабандный город Батум в тихую погоду.
Красненький бантичек
(повестушка для деточек первенькой ступенечки)
Мальчик Сереженька всегда труждался. Дети трудящихся любят труждаться. Потом он вырос и сделался кассиром советскенького учреждения. И труждался до тех пор, пока не совершил растра-точку. Одним словом, украл денежки. Тут-то дорогому мальчику и закатили полагающееся — посадили в домик с решеточкой. Ура, ура, ура! Писатель ПетечкаВ жемчужных брючках
(соответствующая лирика)
Густая рапсодия Листа. Перемигивающиеся светляки. В черной ночи пухнут 68 000 мандаринов. Собаки видят в снах только кошек, и жизнь кажется им прекрасной. Древесные лягушки радостно каркают. Нефтяной маршрут вытягивается из туннеля. Кондуктора сетуют по поводу спецодежды. Жизнь, кажется, прекрасна. Идет дождь.Жираф — солидное приданое для молодой тропической девушки. Магнолия (фикус, получивший среднее образование). Схема. Цветок оной. [Барашек] — шашлык, отбившийся от стада.
Ошибка
Когда легковерен и молод я был,
Зеленого Мыса я страстно любил
Шум падающего дождя смешивается с шарканьем <|>окстрота. А по ночам рояль, из которого выжали все модные звуки, печально и сам по себе отзванивал что-то ветхозаветное. Кажется, «не искушай меня без нужды, разочарованному чужды».
В темноте, сияя и раскачиваясь, балансировали Сочи.
Оказывается, что я старый морской волчок! Не блюю!
Лавр. Благородное дерево. Пахнет супом и бриолином. Растет по соседству.
Сиятельная Ялта. Местонахождение прохладительного уголка «Фале-рон». Как много в этом звуке.
В горячке путешествия. Какой-то город. Кажется, Севастополь.
Синее море — и я на берегу в белых штанах. Симеиз — одна из пыльных жемчужин Крыма.
(Надпись над наклейкой от пивной бутылки] ПЕЙТЕ ПИВО ТИП-ТОП
А вот я и в дражайшей Одессе. Знаменитый одесский маяк. Знаменитый одесский язык (на деле — харьковский). Знаменитая одесская лестница. Знаменитое одесское что-то.
* * *
Поедем в город, там хорошо, коммунальные услуги.Это сбесишьси.
В передней на крюке под потолком висит велосипед в простыне.
Предел застенчивости. Курьер, открывающий крышку рояля перед концертом, всю жизнь волнуется.
Калоши счастья. Как трудно было их достать и как они погубили владельца. Он обменивал их и в театре убегал за пять минут до конца. Однажды в театре толпа, увидя его бегущим, подумала, что пожар, и в панике искалечила его.
Полк на параде и впереди командир на извозчике.
Итак, продолжим.
Я пришел к вам как мужчина к мужчине.
Костистая извозчичья лошадь бежала так быстро, что взорвалась, когда остановилась.
Со времени разрушения храма не было кушанья вкуснее рубленой печенки.
Такой некультурный человек, что видел во сне бактерию в виде большой собаки.
1. Хамите. 2. Хо-хо. 3. Знаменито! 4. Мрачный. 5. Мрак. 6. Жуть. 7. Парниша. 8. Не учите меня жить. 9. Как ребенка. 10. Красота. 11. Толстый и красивый. 12. Поедем на извозчике. 13. Поедем на таксо. 14. У вас вся спина белая. 15. Подумаешь! 16. Уля. 17. Ого.
Высокий класс.
Я страшно люблю деньги.
Ляпсус.
Упаковочная контора «Быстроупак». Бюро похоронных процессий «Нимфа». Одесская бубличная артель «Московские баранки».
«Поэт и царь». Участвует Пушкин. Пушкин родился…
Пол-блина, пол-блина, пол-блина, четверть блина, четверть блина. Блин, блин. Колокольный звон.
Столовая «Вкус», «Уголок вкуса». Конкуренты.
Пивная «Вавилон».
Столовая «Аромат».
Братья Глобус.
Голый, намыленный человек.
Глава учреждения Наробуча купил картину и созвал художников, чтобы узнать ее качество.
Утирает лицо лозунгами.
Сумасшедший слесарь унес ворота. Хотел строить метро.
Новелла о закрытых дверях.
Человек всегда сосет драже прохладительное.
Ударное изготовление мыльного порошка «Коммунист».
Каждый человек благороден только в своей среде.
Стоял на острове Св. Елены и через остров Эльбу смотрел на родимую Францию.
И ключ от квартиры, где деньги лежат.
Профессор поэзии.
Кто дуба даст, кто в ящик сыграет, преставился, приказал долго жить, перекинулся, гигнулся, помер, почил в бозе,околел, протянул ноги.
Анекдоты о Пушкине.
Бой часов со Спасской.
Изнеженная натура Безенчука.
В кустах сверкали брильянты.
Диковинка, полшишки, сотка, мерзавчик, гусь, бутылка, сороковка, две полбутылки, двадцатка.
Прусис. Снечкус. Епанишникова.
Бывший потомственный почетный гражданин.
Полевая кошка, сиречь заяц.
Голубые ослы.
На лбу вытатуировали нецензурное слово.
Люди нашего круга не умирают с голоду.
Изобретенческие вопросы.
Выдали замуж за налетчика.
Человек, которому не везло. Человек, у которого было множество родственников.
Джек. Я умираю. А кто в лаивке остался?
Бабаедов.
Она знала все языки. Но после тифа все забыла.
Низкий, страстный голос унитаза.
На стене клопы сидели
И на солнце щурились.
Фининспектора узрели.
Сразу окачурились.
Гаражи «Лебедь», «Комфорт».
Сберегал деньги полгода и тратил их в одни сутки.
Пыхтеев.
Как у наших у ворот
У нашей калитки
Удавился коммунист
На суровой нитке.
Не Осетрова, а Петухова.
Гордая прелесть осанки.
Страстная нега очей.
Все это есть у испанки.
Дочери южных ночей.
25/IV —27 г.
Союз Остапа и Ипполита.
Снимать Ньютона.
Жена нашла пропавшего мужа по рабкоровской заметке, которая его обхаивала.
Из этого надо сделать соответствующие оргвыводы.
Тухлые веки.
Каково. Рыженков. Бензем. Аугуст. Захер. Булочкин. Мнухин. Балдаков. Пересыпкин. Ежели.
Новелла о славе. Новелла о любви извозчика.
Почто, Машка, поздно ходишь.
Как солдат на вошь. Как архиерей на приеме.
Лева Московский. Грицацуев. Бабарыка. Нерубай.
Разве вы не видите, что я закусываю?
Показал кукиш, не поворачиваясь к контролеру.
На такие шансы я не ловлю.
Лихорадушка,
мужа старого,
ты тряси его,
тряси.
Мелодекламация. Заводь спит, молчит вода зеркальная.
Пока, пока.
Сторож в подземной уборной.
Наряду с недочетами есть и ответственные работники.
Курильщики всегда и везде
Отдают предпочтение «Красной звезде».
Леонардов.
Урчанье гитар (желудок).
Что с вас получишь. Уши с мертвого осла.
Советские граждане отучились платить за квартиру.
Самовары банкой и рюмкой.
Живые шахматы.
Гражданин Вечно.
Брильянтовая концессия. Теория Остапа о жизни. Кинохроника. Бюро любовных писем.
О юмористах, темистах и редакторах сатирических журналов.
Попойников.
Пролетарская красная роза
Расцветала в публичном саду.
И дрожала она, как мимоза.
Тщетно ждя своего череду.
Толкайте меня, толкайте.
Всегдашний недоволец.
Словарь Шекспира, негра и девицы.
Писатель и кассир. Писатель и растратчик.
Члек и Собак.
Службу в советском учреждении считал за службу в армии.
Внук Бакунина, бабушка советской золотой молодежи.
План 2-й части: Один стул находится в театре Мейерхольда. Милочка и борьба с женой Вандербильда.
Сиамская кошка. Шляпа из такой кошки. Купон меха.
— Здравствуйте, Жорж. Очаровательно. Совершенно очаровательно.
Единственное кокетство мужчины: — Пришейте мне пуговицы к жилету.
Писатель сказал: «Я хочу кушать!»
Музей мебели. Рассуждение о стульях вообще. Объявление в газете о стульях. Гектемас при Экстемасе.
Советский миллиардер. Вдова примчалась в Москву. Шутки и шарады. Заговор.
Шары, увядшие от праздничных полетов, падали в деревню.
Хохтябрь.
Машина, которая печатает, складывает и даже прочитывает журнал.
Международный шахматный турнир в Кологриве.
3 часть: Выиграл билет Авиахима в Ростов. Сокровище мадам Петуховой.
Как будто ваш аппендицит
От хождения будет сыт.
Циничная погода.
Планомерная ангина.
Ее несло на меня (в трамвае). Помидорного цвета глаза. Вы сходите?
200 000 перочинных ножей.
Нет такого обидного слова, которое не давалось бы в фамилию человеком. Баран. Баранчик.
1927–1928
Застенчивый влюблен в машинистку и подает ей для перепечатки объяснение в любви. Взрыв клавиш. В секунду все напечатано. Только легкий дымок вьется над машинкой. Она даже не заметила, что это объяснение. Застенчивый глубоко оскорбился и всю жизнь ходил пришибленный.Советское счастье — выигрыш.
Изнуренков. Шанкерная порода людей. В кино их интересует только опознавание артистов и в каких картинах они играли до этого.
Военно-Грузинская дорога. Сон Щукина — хамите, медведюля! Чарушников, Максим Петрович. Никеша и Владя. Генриета Кислярская. Вдова попала в Дом Народов.
Бешеная энергия до получения квартиры.
Приама нет.
Миниатюрные кризисы.
Голубой паровоз. Истощенный горный орел прилетел в деревню Московской губернии. Его решили убить, а чучело продать.
Пешая статуя.
Две двойни. Подпись: 7 лосиноостровских матерей.
Имя — Клака, Бука, Куба.
В городе стояла конная статуя проф. Тимирязева.
Еврей у подножия Столовой горы.
Гигиенишвили.
Эстет Евгений.
Кассий Взаимопомощев. Нашествие римлян.
Сеанс одновременной игры. Столы шахматистов.
Серна Моисеевна.
Дым курчавый, как цветная капуста. Легкий секучий дождь. Страдальческие крики пароходов. Железные когти крючников. Ахают, скрипят и летают качели.
Напрасно вы здесь стоите, здесь ничего не будет показано, показано будет только внутри, билет стоит тридцать копеек, напрасно вы здесь стоите, показано будет только внутри.
Гадкий нахал N.
Боязнь подхалимажа дошла до такой степени, что с начальством были просто грубы.
Гостиница «Стоимость».
Артель «Рефлекс».
Столовая «Фантазия». Художник вместо высокого и худого человека нарисовал толстого и низенького. Пришлось, чтоб читатель не заметил, постепенно выращивать его к концу романа.
Моментательно.
Заносис.
Богатства, накопленные миром, уже достаточны для всеобщей радости.
Сов. Декамерон.
Я обалбела.
Кофточка в полумесяцах. Красная в желтых.
Две армии играют в шахматы.
Человек и люди, которых он очаровывает.
Человек, потерявший память, живет чужой жизнью и в конце концов действует против самого себя.
Влюбленный глухонемой.
Конрад Вейдт ищет комн., жел. в центре, плата по соглаш. Тел. 2-05-27.
Сов. Иосиф. Царь царей Зяма.
Братья Бабец. Извозчик заплакал, тряся синими своими юбками.
Военный в бешенстве покинул трамвай. Полы его шинели свистели на ходу.
Дети от памятника.
Гостиница «Лобзик».
— Врешь. — Нет, не вру. Ошибаюсь.
Белые, эмалированные уши.
Непреклонный возраст.
От весны было такое впечатление, будто играют на барабане.
Так медлителен, что мог бы жить на Юпитере.
Жилтоварищество «Воздушный замок».
Тот не шахматист, кто, проиграв партию, не заявляет, что он выиграл.
Меерович-Данченко.
Минеральные стельки. Идеал от пота ног. Радикальное средство.
В конторе все Ивановы. Директор боится обвинения в засилии родственников. Предлагает менять фамилии. А одному Иванову не нашлось — выкинули.
Просьба о скатерти руки не вытирать.
Человек, не выносивший одиночества.
В 1920 году в пустынный порт пришел итальянский пароход с шляпами-канотье.
Мадам Цудек.
Над городом послышался скрип колеса Фортуны.
На вопрос: «Когда будет мануфактура?» ответ: «Вот еще чего захотели!»
Ввести в известную пьесу еще одно лицо, которое перевернет все действие.
Гражд. Темпаче. Бабский. Невинский. Фамилия Статский.
Штемпельное и граверное заведение. Палата № 8 Входа нет Дежурная няня Выхода нет Заперто на обед Заперто на обед Заперто на обед Заперто на обед Заперто на обед
Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу.
Бывший тореадор, ныне советский служащий.
Во время революции многие не успели вырасти, так и остались гимназистами.
Пючальная картина.
Фамилия: Гадинг.
Плакат: Кто куда, а я в сберкассу.
Ставлю вас в известность, что у меня пропал кусок мыла.
Иоаннопольский.
Зала полна, а сбору двести. Двойные комплекты билетов. Всеобщее мошенничество.
В настоящее время режиссер Девени [Деммени] работает над усовершенствованием грома, дождя и молнии.
Файфоклок с колбаской. Дамы в пижамах, мужчины в толстовках.
Проба машинки.
Андреев-Трельский. Крыжановская-Винчестер. Благоуханыч. Шпанер-Шпанион. Манылам.
Так хотелось аплодировать, что был зуд в ладонях. Но так как попасть на пьесу не удалось, то на ладонях сделалась нервическая экзема.
Человек хороший и приятный, но так похож лицом на брата, что поминутно ждешь от него какой-то гадости.
Маскарад. Польские уланы. Девица с пистолетом. Человек с рюмкой на макушке.
— Кина не будет! — раздался крик на докладе, и зал опустел.
Контора заготовляет голубиный помет или тигровые кости (или башлыки).
Куриная грудь. Плоская ступня.
Сволочь из почтового отделения и его аманта.
Малачи, грусть, малачи.
Не теронь старых иран.
Распутин местного почтового отделения.
Стютюэтки.
Пардон, еще пардон.
Памятник Марксу и надпись: «Царю-Освободителю».
Человек не выносил вопроса «А правда, что его жена живет с N.?»
Ну, я не Христос.
Содержимое этой тубы
Спасет ваш рот и зубы.
Время, когда все рекламы были в стихах.
Влюбленный мелиоратор переводит соперника дамы сердца в разные города.
Город развлечений.
Ко мне хорошо относятся крестьяне обоего пола.
У обезьян крадут бананы и снабжают ими Москву.
Загорелся сыр божий.
Остался с пиковым носом.
Людев нет.
Я человек маленький, в старое время — коллежский регистратор.
Что вы испытываете, ковыряя в носу? Наслаждение или тоску?
— Прошлое? — Нет. Предыдущее.
Вывалив язык, бежал человек.
Из гравюры предложили сделать пьесу.
Порвал с сословием мужчин и прошу считать меня женщиной.
Паладимов. Суязов. Саванарыло.
За обедом дама в седых буклях выхватила «Луку Муди-щева» и читала, не отрываясь и смущая этим даже мужчин.
Мадам Безлюдная. Ежемесячный календарь «Циклоп». Раскаявшиеся халтурщики.
Братский союз кирпичей.
Цигаретки.
Роман из анекдотов «об одном еврее».
Сидя на кукеречках.
Нормальный железнодорожный пейзаж.
— Крепкий у вас волос, — сказал парикмахер, который в будние дни играл на скрипке.
Золотой теленочек.
Жаре навстречу.
В марте в саду растут розги.
Между нами был буржуй старый, Столыпина адъютант.
Говорил «слушаю» в телефон всегда не своим голосом. Боялся.
Всюду утечка, а в трамвае нет утечки.
— Сходите? — Схожу. И Жилкин сходит.
Эх, был у меня друг хороший, Григорий Григорьевич Языков.
На кухне: Выполняй, выполняй постановления 15-го съезда.
Внезапно в теазал вбежали пожарные и затрубили. Паника. Оказалось, что анонс лотереи.
Человек, изобретший средство от лысины.
Великий человек приехал, и весь город стащили в музей.
Магазин «Трубы и барабаны».
Кот-идиот. Когда ни откроешь дверь, он обязательно влезет в квартиру. И ничего за три года не нашел, а лезет.
Оркестр в кино. Свист флексатона, унылое веселье.
Исторический материализм верен.
Кольцо с масонскими знаками. Череп и кости. Имеется отделение для яда.
Я требую жертв.
Двое в АХРРе. Зажиточный доктор смотрит сквозь кулак. Его спутник в пенсне и смотрит еще через пенсне, которое держит, как лорнет. Мнения не высказывают. Достойно молчат.
Нашему тыну двоюродный плетень.
Путешествие в страну идиотов.
Тов. Кретищенко.
Не волнируйся.
Канибалкер.
Пожар на складе стекла зимой. Горы льда со стеклом.
Преждевременная аллея.
Упрямый центр.
Железнодорожное обдирательство.
1928
Мещанская родословная. Сам служил, и деды служили. Дед нашел знаменитую ошибку в копейку в балансе Государственного банка и тем выбился в люди. Внук этим гордился так же, как гордятся все аристократы.Слабый пол доводит примус до безумия, накачивая его так, как ни один мужчина не посмеет.
Во дворе была когда-то скульптурная мастерская. И до сих пор стоит посреди жилтоварищеского дома конная статуя Суворова и пешая какому-то герою 12-го года, а какому, уже нельзя узнать. Видны только баки Отечественной войны.
В разговоре беспрерывно: Да, но это же техническая неграмотность.
Палата мер и весов. Самая главная палата. Палата мер и весов решила… Палата постановила…
Мелом по воде.
— Мы пастухи. — Так рекомендуются пришедшие на межведомственный шахматный турнир граждане в роговых очках и приличнейших толстовках. — А вот — первая доска. — Доска кланяется.
Улыбин, Меерович-Данченко, Кониболоцкий, Муселе-вич-Фердинанд.
Улицы: Косвенная, Гулевая.
Во Дворце Труда, в какую комнату ни войди с вопросом: «Товарищ Шапиро здесь занимается?» — дают ответ: «Подождите минуточку, он вышел».
Самоубийца предъявляет вынувшему его из петли милиционеру судебный иск за ушиб.
Тот не шахматист, кто, проиграв партию, не заявляет, что у него было выигрышное положение.
Фамилии: Темпаче, Бабский, Нивинский, Забава, Гадинг, Тец, Андреев-Трельский, Крыжановская-Винчестер, Шпанер-Шпанион, Манылам, Попейко, Дыдычук, Варенников, Буря, Глобус, Выходец, Ежели.
Бон-нюи.
Празднование 800-летия Тихого океана. Ударное изготовление мыльного порошка «Коммунист». Профессор поэзии. Она знала все языки, но после тифа забыла. Брюки, брошенные на стул, зазвенели, как седло. Из этого надо сделать соответствующие оргвыводы.
Лева Московский. Евгений Вечно. Я. Чейка.
А, колесно-мазутный техник! (О смазчике.)
Человек ci-devant[1] считает службу в совучреждении продолжением службы в армии и повышает себя в чинах за выслугу лет, за стычки и мелкие свары.
Оставался на службе и, подбирая окурки, узнавал по внешнему виду, чей это окурок.
Холодный огонь.
Страшный сон. Снится Троя и на воротах надпись Приама нет».
Это был такой город, что в нем стояла конная статуя профессора Тимирязева.
Дамочка «Скорая помощь».
Во сне он увидел самого Кассия Взаимопомощева.
Басис-Спилер, Овчиникос, Изражечников, Стопятый, Юсюпова, Помпейцев, Угадайс, Размахер.
Так же не нужно, как твердый знак в азбуке глухонемых.
Половая часть.
— Врешь! — Нет, не вру. Ошибаюсь.
Непреклонный возраст, мелкодраматический талант.
Приезд мистической тетки. Ей видятся гроба и кости. Племянник не верит, но из осторожности перестал выходить на улицу.
Воленс-неволенс, а я вас уволенс.
Лилипут, влюбленный в девушку обычного роста.
Богатства, накопленные миром, уже достаточны для того, чтобы открыть всеобщий праздник.
Торговля титулами в пользу детей.
24 000 собак в Москве. Москва — центр и для собак. Мечтающая собака. В Москву, в Москву!
Штемпельное, граверное заведение: Палата № 8, Входа нет. Дежурная няня, выхода нет, заперто на обед, заперто на обед, заперто на обед, заперто на обед, заперто на обед, заперто на обед.
Советский служащий, а был в молодости тореадором в Байонне.
Жена ходила на кладбище жаловаться покойному мужу на тягость жизни. Сторож, которому это надоело, ска зал загробным голосом из-за дерева: — Пеки бублики! — Как же я буду печь? У меня нет денег. — Тогда не пеки. — Как же мне не печь? Ведь я умру с голоду. — Так пеки.
В обедневшем раю ангел говорит ангелу: Говорят, на земле мануфактуру выдают.
Ангелы и пророки на земле. Гавриил, Михаил и Моисей.
Колбаса-собачина. И даже имеет особые собачьи на звания: «Джек», «Гектор», «Дианка».
В конторе все служащие Ивановы. И работать очень неудобно, и подозрение, что все родственники служат. Начальник предлагает переменить фамилии. Все соглашаются. Выбор фамилий.
* * *
Ясно, что имеются достатки: шубки, юбки, крашены губки, подведены бровки, каждый день обновки, красивы завитушки, в ушах побрякушки, и все в этом роде, что ноне по моде.Это я сам себе говорю (читает себе нотацию в припадке самокритики).
Бойтесь данайцев, приносящих яйцев.
Приказано быть смелым.
Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, бывший предводитель дворянства, делопроизводитель загса города N.
Мне нужен покровитель с сосцами, полными молоком и медом.
Какие мосты на кисельных берегах.
Всеми фибрами своего чемодана он стремился за границу.
Иванов решил нанести визит королю. Узнав об этом, король отрекся от престола.
Крахмальный, замороженный воротник.
Деревьянный, мьясо, пьять.
Река, текущая молоком и медом.
Якову Даниловичу на бороду наступили.
Лев Рубашкин и Ян Скамейкин.
Уксусные усы. Розовый плюшевый носик.
Известковая луна.
Сольский-Плотский.
Человек объявил голодовку, потому что жена ушла.
Новелла о полюсе.
Бархатный пульс.
Человечество хорошеет с каждым днем. Некрасивых уже совсем нет.
Лицо покрылось от смущения звездами и полосами.
Уши трепались от ветра, как вымпела.
На бегах.
Среди глубоко интеллигентных лиц. И вдруг очень громко: Е.т.м.
На плече порнографическая хризантема.
Вулкан Пока-Пока.
Дантистка Медуза-Горгонер.
Нимурмуров.
Не горит ли ваше имущество, когда вы в театре? Никто не знает, что день грядущий Вам готовит.
Сад зловещих предостережений. Эрмитаж.
Т(олстой]. Не могу молчать. Г[орький]. Не могу говорить.
Яблоко с родинкой. Плохой сбор. Грабеж зала. Публика делит лучшие места. Выбирают хорошие и покидают их для еще лучших. Дирижер размахивает желтым гамеровским карандашом с металлическим наконечником.
Стол личных счетов.
Барбадос Тринидадович.
Уважай себя.
Уважай нас.
Уважай Кавказ.
Посети нас.
Что такое Латур-Мобур?
Лошадёнков.
Человек построил автомобиль и для него мостовую. Авто сломался, но осталась прекрасная мостовая.
Вечером, в субботу, когда все требуют полбутылки, барышня капризным голосом спрашивает: — Есть у вас консервированный горошек?
Плотский поцелуй.
Рыбья голова на тарелке, большая, как голова собачья.
Пищеславцы. Светлая личность.
Извозчики ничего не знают о себе, о том, что целый класс общества пишет о них.
* * *
Ну, сделайте ему клизму из крепкого чаю.Многоствольная роща.
Прессованное стекло.
Рис по-султански.
Полицейская водка.
Контора рогов и копыт. Иванóв и Ивáнов. Как в бухгалтерских книгах отражается жизнь. Описание конторы. 6 однофамильцев. Их ранг — кто старше, у того счеты лучше — от сосновых до пальмовых.
Кюшаю, кушаю.
Радик: Ах, скотина ты маленькая, косая блямба. Мальчик с оторванным ухом. «Пачиму?» «А курица потеет?»
Когда всё в Одессе разрушится, морские ванны по-прежнему будут сиять и переливаться светом. Одесситы любят морские ванны.
Пианист бросил играть, потому что в первом ряду сидел господин и вертел носком желтых ботинок.
2 роск, фикуса прод.
Собаки — Альма, Ничевок, Джемка.
Поэтические имена — Алла, Муза.
Разнофамильцев увольняют, подозревая в родстве.
Вы думаете, что детей звали Каин и Авель? Нет, история не повторяется.
Горящий обломок луны и весь дикий руинованный пейзаж, тяжелое, лунное море, черный столб от потухшего прожектора.
У тети Кати. «Мой отец сидел». «У меня сидел». Радостные голоса.
Тишка-полубог. Гражданин Грубиян.
Каламбуркул.
Холодный философ.
Отдаться мало!
У него была искусственная рука, и рука эта не знала жалости.
Странный город, куда памятники навезли с кладбища.
Штормовая ангина.
Трое на ходу перед фотографом, напряжены. После съемки сразу смеются и идут вольнее и быстрее.
О человеке, просидевшем 20 лет в крепости. Он выходит и видит свою дочь такой, с какими он боролся.
Московские ассамблеи.
И присоединился к великому стану золотоискателей, расположившихся лагерем на Камергерском переулке.
Потухшее рыло. Седеющее бебе.
— Да это же моему папаше памятник. Статуя первогильдийного купца.
Бедные титаны! Они помахивали тросточками, но их лица, желтые, как сера, выдавали явное раздражение.
Золотые французские булочки. Золотая перчатка. Золотой поросенок. Золотой крендель.
Ревела буря, гром гремел.
Объявление в саду: «Пиво отпускается только членам союза».
Надпись на магазинном стекле в узкой железной раме — «Штанов нет».
Когда художники расположились со своими мольбертами на улице Меджибожа, население с уважением говорило: «Кино!»
Ящеричные и лягушачьи галстуки.
Многоуважаемый т. редактор. В последнее время я нахожусь под властью половых инстинктов. Сон навевает на меня половые сцены.
Больной моет ногу, чтобы пойти к врачу. Придя, он замечает, что вымыл не ту ногу.
Преображенский. 7 братьев. Жолобов. Гробе. Абонементум.
Полное спокойствие может дать только полис.
Ревун. Метелкин. Шапиро-Скобелев. Кай-Юлий Брейтборт. Капитанов. Лотошников. Банк. Андерсен. Бабец. Галахов.
Знаток Марса и Энгельса.
Речь об окурках и способах их собирания.
Император-кооператор.
Памятник Первоопечатнику.
Невыпеченные ноги.
Гражданин Сууп.
Человек, живущий ребусами.
В машинке нет «е». Его заменяют буквой «э». И получаются деловые бумаги с кавказским акцентом.
Известковые кренделя на стенах новых домов.
Как изменились сновидения.
Девочка пасла шары.
Коллекционирование бород известных писателей. Бородка Чехова в отделе «Буланже».
Дама с мальчиком остановились у окна парикмахерской. Красные и розовые болванки с париками. — А я знаю, что это такое, — говорит мальчик. — Что? — Скальп.
Стук в дверь. — Мамаша, дайте пробочник.
Оптик-пессимист.
Борцы вспоминают минувшие дни.
Арарат-Арарап. Ковчега не видно, но у подножия горы лежал очень пьяный Ной.
Пользуясь смятением, начали мещане присобачиваться во тьме к чужим генеалогическим древам.
Аукционы филателистов.
1928–1929
В квартире, густо унавоженной бытом, сами по себе выросли фикусы.У беременной так широки чресла, что кажется, будто она родит овцу, толстую и с большим хвостом.
Название для театра — «Принципиальный театр».
Комедия о Пешеходе.
Профессор Скончаловский.
От почтительности медленнейшим образом опускались на стулья. Замедленная съемка.
Фасонное обращение: «Друг мой».
Представитель акционерного общества «Жесть», как ужаленный, посмотрел на девушку в черном шелковом пальто.
И угол шкафа, срезанный, как лыжа.
Оперный певец, но плохо играет. И только роль Германна ему удается, потому что он страстный картежник.
Миллион гениев. 600 девушек.
Опасно ласкать рукой радиаторы парового отопления — они всегда покрыты пылью.
Что сделал конкурс гримас.
Подносят подарки уезжающему. Он прячет их и остается.
Калоши счастья и несчастья.
Лаковые, обшитые внутри розовым молескином калоши. Таким же молескином, но желтым обшивались во время войны папахи. Над калошами принято смеяться, их забывают (тогда человек чувствует вдруг, что ступня у него сделалась меньше), их обменивают, ими бьют по морде. Калоши несчастья. На калоши прикалывают буквы. Есть целая промышленность для того, чтобы не обменивать калоши. Все-таки их обменивают. За ними нужно постоянно стоять в очереди. Позорная отрасль резиновой промышленности.
Моете ли вы свои ноги?
Шницель под брильянтовым соусом из слез.
Шерсть мексиканской коровы, захваченная концессией.
Повесть о двадцати братьях.
Дьяволы и бесы ремонта.
Чтоб ваши дети не угасли.
Пожалуйста, организуйте ясли.
Мадам и месье Подлинник.
Шахматная доска в чернильных пятнах, похожая на старую парту.
На каждого автора из 9-го ряда сурово смотрел сквозь бинокль лысый господин.
По улице бежит Иван Приблудный. В зубах у него шницель. Ночь.
Аида, дочь эфиопского кустцаря.
М[ягкий] ш[анкр] получив.
Не кляни презерватив.
Ответ заключенному в тюремной газете: «Картинки из сельской жизни вам не удаются. Пишите лучше из жизни допра».
Лица, растрачивающие (расход) свыше 3 рублей, могут требовать счет.
Царь-кустарь.
В телефонной книжке хорист вместо юриста.
Завод «Красный штамп».
Государство затаскал по судам.
Курица, несущая золотые яйца.
И снова Г. продал свою бессмертную душу за 8 рублей.
К концу вечера хозяйка переменила костюм и оказалась в голубой пижаме с белыми отворотами. Мужчины старались не смотреть на хозяйку. Глаза хозяина сверкали сумасшедшим огнем.
Человек не знал двух слов — «да» и «нет». Он отвечал туманно: «Может быть, возможно, мы подумаем».
Город Колоколамск. Колоколамск украшается статуями. Джентльмен в розовом костюме (розовое сукно).
В Колоколамске жил портной Соловейчик, настоящий разбойник.
Объявление: «Зашли три гуся».
В Художественном театре уборная так упрятана, что ее не найти. А в театре уборные надо рекламировать, всюду рисовать пальцы и указующие чайки.
Ах, как трудно быть красивым, когда некрасив.
Лучшие бороды в стране собрались на спектакль.
Как колоколамцы нашли Амундсена. Сначала шли айсберги, потом вайсберги, а еще дальше — айзенберги.
Семен Маркович Столпник.
Повестка дня: 1, 2, 3, 4. Анекдоты.
На стол был подан страшный, нашпигованный сплетнями гусь.
Никелированный, усыпанный цветными клавишами бюст кассы «Националь».
Человек-ребус говорит: — Эх, идеология заела!
Лорд главный судья посоветовал ему не питать никаких несбыточных надежд и убедительно просил его приготовиться, к переходу в вечность. Смертный приговор будет приведен в исполнение 14 июня.
Обед с гусем, и Бабель, считающий героем.;, [вычеркнуто карандашом и чернилами].
— Ну что, старик, в крематорий пора? — Пора, батюшка.
О критиках, которые подписываются А.Б., Ю.Д., С.Т.
Культпоход в Колоколамске, или Как 1000 грамотных обучали одного неграмотного.
Гимназист в отставке.
Человек с перламутровым носом.
Трудовая артель «Шапка и прибор».
Тяжелая, чугунная осенняя муха.
Новый Мир Божий.
Человек, который мог творить чудеса, — уборную он перестроил в уютную комнату.
Взбесившийся автомат.
В Колоколамске жильцы выпороли жильца за то, что он не тушил свет в уборной.
Гражданин Лошадь-Пржевальский.
В поисках автора анекдотов.
Гениальную машину заставили выделывать дрянь — пошлость.
Киноэкспедиция в Колоколамске.
— Клавдия Ивановна дома? — Нет. — А Глафира Ивановна? — Нет. — А Валентина Ивановна (ребенок)? — Дома. — Тогда я, пожалуй, войду.
«Геть неграмотность». В Колоколамске была Академия художественных наук. Ковчег в Колоколамске. Строили сумасшедший дом.
Из статьи в газете: «По линии огурцов дело обстоит благополучно…»
Учился русскому языку по «Евгению Онегину».
Военизированный избач.
Аполлон, ау!
Серьги раскачивались, тяжелые, как колокола.
Вел свое происхождение от лошадей Мюрата, стоявших во Дворце Труда.
Кушаковский. Исупов. Долой-Вишневецкий. Каабак. Доктор Гром. Жареное.
В носу растет табак.
К грамотному прикрепили неграмотного, и тот увязался за ним.
Фирма «Шариков и Подшипников».
Могила неизвестного частника.
Лишены избирательного права в Англии: несовершеннолетние, пэры и идиоты.
— Ф., иди по начатому тобой пути. И она пошла. — Ф., прекрати начатый тобой путь. Но она уже не прекратила. Никакого созвучия душ.
Нужно унизить горный хребет.
Порцию аиста!
Ему 33 года. А что он сделал? Создал учение? Говорил проповеди? Воскресил Лазаря?
Драматическая сцена, которая не удалась из-за пожара. Объяснение при свете факелов оказалось бледным. И только поздно ночью загрохотали рюмки и послышался громовой голос.
Как уменьшилась вражда между собаками и кошками.
Мармеламедов.
Бабочки из головы Г.
Только у актеров в наше время остались длинные высокопарные титулы.
Общество, которое вымирает, в противность другим обществам, каковые процветают.
Торопитесь, через полчаса вашей даме будет сто лет.
Актеры не любят, когда их убивают во втором акте четырехактной пьесы.
Репетиция оперетты. В холодном темном зале. «Дайте станок для танго». Маэстро играет, когда давно уже окончился танцевальный номер. В ложах сидят розовые балерины. В фойе повторяют танец. Балетмейстерша в кудряшках прыгает во все стороны. Костюмы из глазета.
Афина — покровительница общих собраний.
Ни пером написать, ни гонораром оплатить.
Попугай-сквернослов.
Комбинация Дуровых. Один из них умер, но другой утверждал, что умер именно он.
— Ах, это кузница здоровья? — И Г. извивался перед человеком в барашковом сером воротнике.
Гражданин Похотилло.
Сам себе писал множество писем, чтобы досадить почтальону.
Несудимов. Лоханкин.
Человек, который проникновенно произносил: «Кушать подано».
Волосы из прически лежали на столе, похожие на паука.
Столичная штучка. Выбритый лоб, бородка, литера-турно-артистически-художественное лицо, открытый ворот рубашки «апаш» и шарф из розового фланилета.
Дом, милый дом, родной дом. Я ходил по всему дому, обсуждал все квартиры.
В волнах одеяла.
Люди дальнего Запада (о лимитрофах). Уехал в солдатской шинели и вернулся через месяц послом, но говорить на родном языке не научился.
Физиономия американского миллионера, за которой нет ни Америки, ни миллионов. Физиономия ни к чему.
Пром-кооп-товарищество «Любовь».
Одеколон «Чрево Парижа».
Негрский танец «Чресла».
Как хорош товарищ Уманский!
А нам ходить с цинковыми мордами.
Щучий мех, который могут носить только дамы.
Завитков. Всераки. Бородатов.
Электрическими искрами сверкала замороженная штукатурка.
Нюансов. Пферд. Драдедамов.
Мадепаламовый галстук, роскошь юных лет.
Огонь-Полыхаев. Сольский-Плотский.
Шестигранный карандаш задрожал в его руке.
Профессор киноэтики. А вся этика заключается в том, что режиссер не должен жить с актрисами.
Разорились на обедах, которыми угощали друг друга.
Июньский-Июльский.
На чистой сливочной лирике.
Запертая дверь спасла плохую пьесу. Импровизация актеров была счастлива.
Человек, в котором неукротимое стремление к симметрии, к порядку.
Он не выносил катаклизмов.
Подсознательный насморк.
Трубчатые макароны, вермишель, суповая засыпка.
На желтой, свадебной машине ехал великий поэт.
Полноценный усач.
Человек в кино, похожий на Суворова, в бобровой шапке.
Это выше грабежа. 1001 ночь, 1001 ночь. Шанхай, Шанхай!
Кланялся в ноги очередному хлебодару.
Против кабинета заведующего художественной частью видна была огромная вывеска с золотыми буквами на черном, голландской сажи, фоне: «Уголовный розыск».
Посреди комнаты уборщица в валенках стряхивала термометр.
«О пожарах звонить по №» «О растратах звонить по №»
Секретарь редакции, который был взят за одни только лучистые глаза. Дама, которая приглашала на похороны. Молодой человек, только что сорвавшийся со скамьи подсудимых. Секретарша — Муся. Начальник, которому не повинуется аппарат. Телефон, визжащий, как пчела. Львы на пятом этаже. Надстройка дома.
Все зависит, в конце концов, от восприятия: легковерные французы думают, что при 30 мороза уже нужно замерзать, — и действительно замерзают.
Шляпами закидаем.
Столовая «И все, как один, умрем».
В городе не было кожи. Она вся ушла на портфели.
От постылых знакомых человек ушел в анабиоз на 100 лет. И, проснувшись, нашел их же.
Конкурс лгунов. Первый приз получил человек, говоривший правду.
Месть человеку, писавшему правила в уборной.
Зачем подвергаться анабиозу, когда можно переменить квартиру?
Не человек, а бурдюк, наполненный горчицей и хреном.
Все талантливые люди пишут разно, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком.
Грезидиум. Дымоуправление.
Лжец. Шпора-Кнутовищев.
Тот час праздника, когда с деревьев сыплются электрические лампочки.
Емельянингс — киноактер.
Дворницкие лица карточных королей. Тонкая и сатирическая улыбка валета треф. Глуповатая немецкая красавица дама бубен с поднятыми бровями. Туз пик, похожий на одинокую репу. Малиновые ягодицы червей.
Зараженный трамвайный вагон. Трамвайный дифтерит. Салон, стеклянная призма и бархатный громкоговоритель, будто в него говорит сам тенор Собинов.
В моде были кожаные бутылочки на ногах.
Стучал лысиной по паркету.
Старомодный человек — он пел цыганские романсы. Играл на бильярде и бегах.
Московская гурия.
Кот повис на диване, как Ромео на веревочной лестнице.
И пережил несколько тяжелых, поистине трамвайных минут.
Вор-вегетарианец.
Вакханюк, Вакханский, Вакханальский.
800-летие Тихого океана.
Глупый ангел.
Глаза у кота, как мишени.
Слезы, пролитые на спектаклях, надо собирать в графин и сохранять.
О Гаммере она еще слышала, но о Гомере ничего не знает.
Вышестоящий товарищ.
Белая лошадь, высокая и худая, бежит во весь опор.
Кино-барбосы и кино-барбоски.
Выдумывайте, что хотите.
На высокой лестнице в книжной лавке приказчик сидел, как скворец.
О нищих. Движение мысли. Нищий-бюрократ. Нищие не лишены обыкновенных человеческих страстей. Судя по сообщениям о нищих, можно подумать, что легче всего разбогатеть, сделавшись нищим.
Гр. Однобоюдов.
Омолодился и умер от скарлатины.
Не курил 12 лет, и все это время ему хотелось курить.
Муки человека, бросившего табак. Мысли о плачевной участи табачной промышленности. И так в жизни мало радостей. Жаль благородного занятия, чисто мужского и мужественного.
Последний промысел. Отдавать пса в женихи.
В нем жила душа гуся.
Бутылка водки, выкатившаяся из кармана у докладчика после пламенной речи.
Тусклый, цвета мочи, свет электрической лампочки.
Дом с флюгерами в виде флагов, львов.
По рублю с мозоли.
Поступил в продажу зеркальный сом, живой и сонный.
Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли — в коньяк «Три звездочки». Этот же экстракт излечивает от облысения и тайных пороков. Он же лучшее средство для чистки столовых ножей.
Шкаф типа «Гей, славяне».
Дылды. Некультурные люди. Останавливаются в дверях магазинов. Прочитывают плакаты, а потом спрашивают: «Ботинки — это налево?»
Аптека. Провизоры яростно растирают порошки и яды в толстых чашках. По автомату говорят влюбленные и спортсмены. Парочки сидят вдоль стен. Нищие отворяют дверь. Не хватает только пинг-понга и тира.
Огонь и пепел. Когда она проходит мимо телефона, мембрана начинает сама по себе звучать.
Четыре девушки ревели в комнате, потому что сестра решила броситься под трамвай из-за скучной жизни.
— Крыса Орлинский бежит с корабля. — Неверно, — робко ответила из толпы крыса.
— Я как коммерческий директор тоже отвечаю за идеологию.
1001 день, или Новая Шахразада Брови, как серп луны в начале апреля. Дамасские лилии, нильские огурцы, египетские лимоны, горные тюльпаны и жасмины из Алеппо. Кусок мяса, завернутый в листья бананов. Сахарные завитки на масле. Лимонные паштеты. Воздушные пирожные, сделанные на масле, молоке и меде. Александрийские восковые свечи.
Знайте же, о члены комиссии по сокращению штатов, что жил некогда бедный счетовод в Багдаде.
Щеки, как горные тюльпаны.
И подарил ему 1000 анкет.
О, зловещая борода! О, зрачок моего глаза!
Голый, как луковица, череп.
Великий комбинатор Минеральный фонтан. Профессор киноэтики. Секция пространственных искусств. «Флирт вождей». Ребусник. Идеология заела.
* * *
«На распродаже старых обстановок, в квартирах, отдающихся внаем».Полный набор литературных отмычек.
В поисках задницы.
Ассоциация парикмахеров «Синяя борода».
Долго и душисто отрыгивается шашлыком.
Сценарий для негодяев. Действие происходит в Крыму.
Полноценный усач.
Я не выношу катаклизмов.
Мейерхольд, окруженный адъютантами и адъютантшами.
Мне 33 года. А что я сделал?
Человек, развративший город.
Новые песни, анекдоты.
Он произошел не от обезьяны, а от коровы.
Да и нет. Этих слов он не знал. Может быть, возможно.
Адам и Ева в парке культуры.
Холодный философ.
Золотые французские булочки, франзоль. Золотая перчатка, поросенок, крендель.
Мамцев. Абонементум. Бабац. Требуховцев.
Осторожный и непонятный юридический язык.
Улучшанский-Ухудшанский. Командировочных. Ка-страки.
Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь жить вечно.
Кончен, кончен день забав,
Стреляй, мой маленький зуав.
Пароходный, свежий ветер.
Заяц на цеппелине.
С таким счастьем, и на свободе.
Володимир-князь окарачь пополз.
Всемирная лига сексуальных реформ.
Меня тошнит от запаха чистой воды.
Молодые длинноногие курсанты.
Так не везло. Купил «Жиллет» без дырочек.
Брюки-калейдоскоп. Европа — «А». Водопад. Брючник «Львиное Сердце».
Анализ мочи — на стол мечи.
Взволнованная фокстротом пассажирка. Она плакала о своей молодости.
Стригут и бреют газон.
Надо показать ему какую-нибудь бумагу, иначе он не поверит, что вы существуете.
Сушил усы грелкой.
Не давите на мою психику.
Он вел горестную жизнь плута.
— Простите, вы член партии? — Нет. — ВЛКСМ? — Нет. — Металлист? — Нет. — Ах, тогда простите.
Бывший князь, а ныне трудящийся Востока.
Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду?
Наше время — молодецкое.
Знал я одного марксиста, который бил жену палкой по голове.
Мародерский.
Давайте ходить по газонам, подвергаясь штрафу.
Может быть, это выдумка, и последний город — это Шепетовка, о которую разбивается Атлантический океан.
По лицу его бродила безобразная улыбка.
Есть так хочется. Нет ли у вас котлеты за пазухой?
С нарзанным визгом поднялись фонтаны.
Плохо! Вам известно из физики, что на каждого человека давит столб воздуха с силой 214 фунтов.
Мороженое из синего стаканчика и костяная ложечка. Глазированное яблоко и сладкая кукуруза.
Ставлю вас в известность, что у меня пропал кусок мыла.
Над городом послышался скрип колеса фортуны.
* * *
Ему не нужна была вечная иголка для примуса. Он не собирался жить вечно.Наша жизнь — это арфа.
Две струны на арфе той.
На одной играет счастье, —
Любовь играет на другой.
Он женился в то время, когда картошку продавали в закрытых распределителях, а лучшие люди страны собирали кости и бутылки.
Жених мирного времени и устоявшегося быта.
Четыре певицы, четыре хорошо одетые женщины, пришли жаловаться. Речь: «У нас в посредрабисе при квалификации происходит колоссальная петрушка». Хорошо одеты, а писать грамотно не умеют.
Вечер. Маленький оркестр из саксофонов. Мраморные салфетки. Девушка в очках. Дети с громкими фамилиями. Сын такого-то, дочь чайного короля. Стоптанные ботинки, и ноги длинные, как лук-порей. Немецкий профессор с деревянной бородкой. Его облили ледяной водой из шампанского ведра. И вода замерзла на его конической лысине. Толстобедрый Сережников в толстом пенсне.
«Нанук». Девицы. Избушка кино-печати. Шоколадная печать журналов. Оркестр — рояль, две скрипки, виолончель и контрабас. Ужасный вид контрабаса, его огромные колки, канатные струны, величина. Дека — палуба. Постепенное оживление.
Человечество делится на две части. Одна, меньшая, переходит дорогу при виде трамвая или автомобиля, другая — ждет, чтобы экипажи прошли.
Откуда у русского человека фамилия Попугаев?
Персия. Персиянки столпились на тротуаре и жадно разглядывают нитяные чулки самых скучных цветов — серого, кисло-песочного и ярко-коричневого.
Толстый бильярдист приехал в Гагры, провел весь день в бильярдной, стуча шарами, а к вечеру уехал, заявив:
— Я здесь не могу жить. Горы меня душат.
Ну, что бабушка? Почему я должен ее уважать? Она меня даже не родила.
В большой пустой комнате стоит агитационный гроб, который таскают на демонстрациях.
Суд в доме, где все шесть этажей заняты судами. Уборная, гаже которой нельзя найти даже в самом заброшенном провинциальном городе. Зал заседаний, переделенный из трехкомнатной квартиры. Несимметрично расположенные гипсовые розетки.
«Дали по красненькой».
Маленькие лужицы вздрагивают на мостовой.
Ходил на заседания покушать.
Две американки приехали в Россию, чтобы узнать секрет приготовления самогона.
Матадор. Полная горести жизнь бывшего матадора.
— Не называйте меня Жар-Птицей, зовите меня просто Нюрочкой.
Убийца собаки.
Произошла свалка, похожая на то, будто над ним хотели произвести обрезание.
Последнее утешение он хотел найти в снах, но даже они стали современными и злободневными.
С трудом из трех золотых сделали один — и получили за это бессрочные каторжные работы.
Штанов нет.
Женщина, при виде которой вспоминается объявление: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление».
Аншлаг на вокзале: «Избегайте знакомств».
У ребенка пуп, как свисток.
Трикартов. Всевышний.
Сумасшедший, которому запретили иметь детей и у которого желание иметь детей стало манией.
Кегельбойм.
Часовая мастерская «Новое время».
Постройка воздушного замка. Подземный житель (метро). Воздушная держава, подданные которой не спускаются на землю.
Человек, с которым надо сидеть рядом и указывать ему, что хорошо, а что плохо, иначе он может перепутать.
Гробницын. Циницын.
Если человек говорит: «Мне нужно освежить в памяти сюжет», это значит, что он ничего не читал.
Писатель, сделавшийся сионистом, потому что его печатали только в сионистском журнале.
Наследники американского солдата.
Заяц на цеппелине.
Когда гиганты, размахивая зонтиками, ушли на прогулку, в их дом пробрался карлик.
Тов. Афинский.
Серый служащий. Как его превратили в медиума. Черты идиота явственно выступили на его лице.
А в это время Женя спит. Легкие его работают исправно, а нос, как всегда, заложен.
Как печально, что первичным признаком у мужчины является…
Идите, идите, вы не в церкви, вас не обманут.
— С таким счастьем — и на свободе!
Выше грабежа.
Современное привидение.
Ты жива еще, моя старушка, жив и я.
В доме отдыха не знают ни профессий, ни должности друг друга.
Порох есть. Пороха нет.
Потерял репутацию из-за собаки, из-за лакейства перед ней.
Довольно штопать руками. Специальный прибор «Штоп-штоп».
Вы даже представить себе не можете.
Лутше меньше, да лутче.
Соревнование в семейном быту.
Памятник в виде неликвидного фонда.
Золотая доска. И ошибка в надписи на ней.
Товарищество «Трианон».
Магазины самых разных специальностей ничем не отличаются друг от друга.
Почему же это называется молочной.
Украл штаны Чехова или Гоголя.
Пруды просвещения.
Королева всех закусочных.
Девушка без мотора.
Всемирная лига сексуальных реформ.
«Теремок дружбы».
«Просим зайти». Столовая с подачей чаю.
Салат «Демисезон».
Судьба ботинок. Кто будет их носить.
Самая глубокая из пропастей — финансовая пропасть. В нее можно падать всю жизнь.
Он положил на стол браунинг, перочинный ножик. Вот все, что осталось от моего друга, он сошел с ума.
5000 пожаров в прошлом имел герой.
Препарированные пальмы.
У ломбарда торгуют талонами на очередь. Талон стоит рубль.
Выдвиженщина.
Только в очень отсталой стране брандмайор разъезжает в красном автомобиле под звуки пожарных сигналов.
Получил комнату и так поглупел, что больше трех фраз выдавить из себя не мог. Был противен самому себе.
Шпиц, похожий на муфту.
Гей, ты моя Генриэтточка.
Как человек зарабатывал себе общественный стаж — стенгазета и семейные вечера.
Фабрика военно-походных кроватей имени товарища Прокруста.
Вся общественность сосредоточилась в пожарной команде.
Не знали, кто приедет, и вывесили все накопившиеся за 5 лет лозунги.
Шел Лидин и вел с собой пролетария — описывать.
От перемены мест сказуемых Лидин не меняется.
Догнал и перегнал.
Водопада нет. Калейдоскоп. Европа — «А». Брючник «Львиное сердце». А водопада не было.
Кто будет говорить раньше речь над могилой.
Что странно для иностранцев в Москве — духи, продающиеся в комиссионном магазине.
Доктор Страусян.
Частники и соучастники.
Пафосный язык. Палыты заброняется. Подивись на всi стороны. Острежиться злодiїв.
Глядя на него, перестаешь верить, что человек произошел от обезьяны, — начинаешь верить, что он произошел от коровы.
Кариатиды в комнате.
В зоосаду некоторые звери сумасшедшие.
Атлетический нос.
Человек нес яйца в сетке. Удивительно было то, что их было 3.
Низко на поле горели лампы. Трава чистила ботинки. Росли цветочки. Стояли часовые. Бледно светили автомобильные фары. Уезжающие стояли с бледными лицами — боялись, что их будут бить. Потом выбросили корреспондентов за борт, в море зеленой травы. Принесли в жертву.
Фигура человека, первый раз полетевшего.
Прогулка в воздухе. Желая во что бы то ни стало попасть в число участников, все начали с маленьких подлостей, а окончили такими большими, что произошел общий крах.
Дворницкие номера. Из этого можно было судить, что дворников в городе 9000. Почему бы не завести номера для других профессий. Тогда обнаружилось бы, что композиторов только трое, а золотарей 389. Можно с литерой — К-2112, что значит — кондуктор 2112.
Военно-полевые цветочки.
Регистрация граждан, желающих кушать ананасы.
Анализ мочи — на стол мечи.
Внесметные и сверхсметные толпы.
Акушерка Интересных-Девушек.
Пальма в салоне под ведром с квасом, который изготовлен артелью частников, сочувствующих Советской России.
«Бойтесь, дети, лени, как дурной привычки. Каждый день читайте по одной страничке». Это относится также и к взрослым. Таким образом через 412 дней любой взрослый прочтет роман И. Ильфа и Евг. Петрова «12 стульев» (2-е издание ЗИФ, Москва. Стр. 412). Впрочем. взрослые давно, как видно, избавились от дурной привычки и прочитывают роман в течение одного дня.
В окнах пейзажи. Написанные, они вызывали бы скуку.
Узнавание Москвы в различных частях Ярославля. Очень приятное чувство.
Вывез дочь на пароход, чтобы найти ей жениха.
Витрина «Швея». Две куртки — милиционера и пожарного.
Шофер Сагассер. Чуть суд — призывали Сагассера — он возил всех развращенных, других шоферов не было.
Шофер блуждал на своей машине в поисках потребителя.
Бульвар Молодых Дарований.
С криком «Не видала ты подарка» бросали в воду разные предметы.
Добровольная пожарная дружина добывает себе средства эксплоатацией магазина гробов.
Гулкая зала суда. Реплики грохочут. Заседатель, у которого только один вопрос: «А вы с ним давно знакомы?»
Уборная, где надо становиться на цементные выпуклые подошвы.
Беспокойный город. Все что-то хотят купить и нервно входят и выходят из магазинов.
Питание — источник жизни человека.
Стригут и бреют газон.
Ну, как ваши воры, негодяи и государственные преступники?
Надо показать ему какую-то бумагу, иначе он не поверит, что вы существуете.
Хрустальная мечта — получить выходное пособие в 100 рублей.
Вы шкура! Этим я хотел определить место, которое вы занимаете среди полутора миллиардов людей на земле.
Дух аферы.
Фотограф. Фон — колоннада и «Аврора». На углу висит матросская форменка для желающих сняться в этом боевом виде.
Он сказал со злостью: «Вы уже уволены. А жена ваша лишена карточки».
Хохотала, хохотала, пока не охрипла.
Заработок — переносил людей через грязную улицу — брал 2 коп. За право перехода по доске — 1 коп.
Кино приехало.
И дробил его копытами.
«Дзет» — леденящий душу звук звонка.
Кипятил свои мозоли.
Наездники — в каких париках?
Человек из тех, которых воспитал «Вестник знания».
Артель «Красный петух».
У нас общественной работой считается то, за что не платят денег.
Самоубийства дворников весной, когда в апреле внезапно выпадает густой снег.
Пошел, пошел шурупы делать.
Вывесили все лозунги, потому что не знали, кто едет.
Что ж ты, осел (при игре в домино).
Как многие из малограмотных, он очень любил писать, и не столько писать — просто он уважал те приборы, которыми пользовался, — чернильницу, пресс-папье и толстую сигарную ручку.
Женщина в постели — волна в ящике.
У растолстевшей девушки бедра сделались большими, как у извозчика зимой.
Добро пожаловать к нашему шалашу.
Медицинские весы для людей, уважающих свое здоровье.
На островах Жилтоварищества.
Сушил усы грелкой. Любимое было удовольствие.
Носильщики, даже эта замкнутая корпорация, знают о Пате и Паташоне.
Любовный вздор.
Город для бездельников.
Рубашка «Парагвай». Рубашка «Лето».
Пошел, пошел в избачи!
Не давите на мою психику.
Лицо, не истощенное умственными упражнениями.
Он хотел дружить с девушками.
Человек, получивший комнату, невыносим. Он требует восторгов сначала молча, а потом и иными способами, он обращает внимание гостя на достоинства плинтуса, на чудный сад, на величину комнаты и т. д.
Рюрикович. Цесаревич.
Магазин дамского трикотажа. Мужчины сюда не ходят, и дамы ведут себя совершенно как обезьяны. Они обступили даму, примеряющую пальто, и жадно ее разглядывают.
— Это не в интересах концессии, — ответил приказчик на просьбу снять с витрины жилетку.
Он вел горестную жизнь плута.
Он так много и долго пьет, что изо рта у него пахнет уже не спиртом, а скипидаром.
Дождь дробил лысину.
А она все летала в трамвае мимо дома.
Работницы на газоне работают в позе пишущего амура.
Проведемте ж, друзья, эту ночь веселей.
Крытых-Рынков. Крайних-Взглядов. Интересных-Девушек.
20 сыновей лейтенанта Шмидта. Двое встречаются.
Раздел России.
В учреждение вбежал человек с палкой и ударил кого-то по голове.
— Простите, вы член партии? — Нет. — ВЛКСМ? — Нет. — Сочувствующий? Сочувствуете? — Член союза металлистов? — Нет, совторгслужащий. — Может, перед сокращением? — Значит, у вас чистка? — Тогда простите, простите.
Вас я помню, а стихи — забыл.
Общее собрание, как молебен.
Пожертвовал деньги на трактор и пожелал остаться неизвестным.
Бывшие: дипломат бывший князь, а ныне трудящийся Востока.
Что ты орешь, как белый медведь в теплую погоду.
Автомобиль — на побитие рекорда скорости. Автомобиль имел имя. Его часто красили.
Даже не для собаки, а для кошки украшение.
Торговала, как испанцы с индейцами.
По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда.
Меня кормят идеи.
Хамил, а потом посылал извинительные телеграммы.
Дворец Труда.
Дом «Слушали-Постановили».
Станция Анадысь.
Обстановка предисполкома. Я был внуком, но это невыгодно. Дитя лейтенанта Шмидта.
Шахматист — лекция. Внезапно он заявил, что девятка дает больше комбинаций, чем шахматы.
Наше время молодецкое. Жалобный вой итальянских певцов и синкопа.
Человечество чего-то боится. Оно зарывает в землю граммофонные пластинки, фильмы, тревожно старается напомнить, что оно жило, что была цивилизация.
Плод незаконной связи разных фирм.
В учреждении звонит телефон, но никто к нему не подходит.
Купили замечательную машину и стали из-за нее спорить. А машина стояла.
Частникам не дают делать даже презервативов. Им оставили только квас.
1929–1930
Монолог профессора, воображающего, что [он] на заседании комиссии по чистке. «Я сын урядника. И мне кажется, что урядники составляют лучшую часть человечества».Добивается командировки, чтобы купить себе кальсоны.
Довоенная рыба.
— Вы культурное наследие царизма. Мы вас используем. — Нет, не используете. — Всосем. — Нет, не всосете.
Что снится рыбе.
Ну, как моя рыба?
А вы поспать не хотите, чтобы не храпеть?
В трамвай вошел человек, вымазанный калом неизвестного мне животного. По этому поводу граждане затеяли мелкий склочный разговор. Одни говорили, что таким каловикам надо ездить в прицепных вагонах. Другие — вообще жаловались на непорядки в стране и, в частности, на бюрократизм. Внезапно стало тихо. Бывает в трамваях такая мертвая минута, когда граждане обдумывают, какую бы еще сказать гадость. И тут одуревший совершенно кондуктор заговорил стихами: — Двиньтесь, граждане, вперед, Станьте между лавочек! Но, не сочинив следующих двух строчек, закричал ужасным голосом: — Получите билеты! И склочный разговор возобновился с новой силой.
Печальный влюбленный.
«Собирайте кости ваших друзей — это утиль». Отправляясь в гости, собирайте кости.
Упражняйте свою волю. Не садитесь в первый вагон трамвая. Ждите второго. А второй всегда идет только до центра.
Каракурт. Все выбежали из учреждения, и в опустевшем доме жил паук. Поймали его только на второй день.
Вчера во мне проснулся частник. Мне захотелось торговать.
Люди с анормальной фигурой.
«Юрисконсультов нет, и скоро их совсем не будет».
«Мы блюдем закон».
Мать и дочь необыкновенно похожи друг на друга. Допустим ли такой параллелизм в работе?
Город на положении гимназии. Учебники, кого-чего? Кому-чему? Падежи. Чистка. Тоже гимназия. Посылают за родителями.
Страдания глухого после внедрения звукового кино.
В Охотном ряду фарш выгребают прямо из карманов. «Стихия частного капитала бушует».
Дело поставлено на научную ногу.
Два приятеля, уговаривающие друг друга переменить миросозерцание. И оба встречаются — уже частниками.
Костюм из шерсти дружественных ему баранов.
Эй, Матвей, не жалей лаптей.
Медали лежали грудами, как бисквиты на празднике.
Бисквитное сиденье рояльной табуретки.
Резонансное дерево. Скрипка цвета копченой воблы.
Дирекция просит публику не нарушать художественной цельности спектакля аплодисментами во время хода действия.
— Ваша книга уже переведена на французский язык. — О! — И международная буржуазия уже использует его [роман] в своих интересах. — Ну? — Да, она употребляет его на подтирку.
Потребовались песни, стихи, романы, обряды, жилища и новое уменье хорошо держать себя в обществе.
Из-за головотяпства не выпустили календарей, и люди забыли, какое число. Продолжалось это месяц.
Торжество в восточном вкусе.
Июньский-Июльский. Ледовитое. Папахин. Закусий-Камчатский. Пайчихин. Талонский. Нерасторгуев. Воронцов-Машков. Парижанский-Пружанский. Младокошкин. Маломальский. Кишечников. Командировочных. Улучшанский-Ухудшанский. Укриади.
Ослабленный страхом инженер. Личные его отношения с громкоголосым письмоводителем.
Клубышев. Кастраки. Плохачев. Каучуконосов.
Путаясь в соплях, вошел мальчик.
Есть звезды, незаслуженно известные, вроде Большой Медведицы.
Поправки и отмежевки.
1930
Лоб, изборожденный пивными морщинами.Трахнул лбом о паркет. Только и слышался стук лбов.
У старушки узкий ротик, как у копилки.
Набивные груди.
Сползаешь на рельсы, скатываешься!
Однообразная биография турецких госдеятелей: «Повешен в Смирне в 1926 г.».
По каким признакам объединяются люди? Служащие, вдовы.
Подбородок, как кошелек.
Одну пару рогов я уже заготовил, но где взять копыта?
Под портретом плакат: «Соблюдайте тишину». И это казалось заповедью.
«В ночной тиши слышен был только стук лбов».
Никто не спрашивал его о том, что он думает о мещанстве.
На все есть поклонники.
— Это героиня фельетона «Профессор-хулиган». — Стояла девушка в кошках.
Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, у кого ты украл эту книгу.
Рыба южных морей? Селедка!
Солист его величества треснулся лбом.
Нам такие нужны. Он знает арифметику. Он нам нужен.
Оратор вкрадчивым голосом плел общеизвестное.
Человек, потерявший жанр.
Вдруг проволока пискнула.
Все языки заняты, кроме языка черноногих индейцев.
— Ну как? Женился? — Женился! — Ну, расскажите! — Извольте. В комнате стоит кровать размером… И так далее.
Думалкин и Блеялкин.
Вычистили за половое влечение.
Нытик-сифилитик.
Украли пальто, на обратном пути все остальное. И он вышел из вагона, сгибаясь под тяжестью мешка с дынями, которые подарила ему мама.
Отравился наждаком. Первый случай в истории клиники Склифосовского.
Чистка больных.
Хирург. Ну, этот ногу отпилит.
А рожать все так же трудно, как и 2000 лет назад?
Дети говорят, как взрослые: «Понравилась тебе эта дамочка?»
Блудный сын возвращается домой.
У трамвайной остановки. — Меня преследуют, — хрипло сказал он.
Что может изготовлять кооптоварищество «Любовь»?
Лампесис.
Пороховой день.
Гефтий Иванович Фильдеперсовых-Чулков. Тов. Жреческий. Гуинпленум. Филипп Алиготе. Укусинен.
Усвешкин, Ушишкин и Усоскин.
Музыканты играли на черных дудках.
Бронзовый свет.
Такое впечатление, будто все население в трамваях переезжает в другой город.
Одинокий ищет комнату. Одинокому нужна комната. Одинокий, одинокий, страшно одинокий. Одинокий с дочерью ищет комнату.
В него было темное прошлое. Он был первый ученик. И погоня за пятерками отвлекла его от игр. Он не умел кататься на коньках, не играл на бильярде.
Он был такого маленького роста, что мог услышать только шумы в нижней части живота своего соседа, пенье кишок, визг перевариваемой пищи. Пища визжит. Она не хочет, чтоб ее переваривали.
Правда объектива, бинокля, телескопа.
Румянцев-Дунаевский. Голенищев-Бутусов.
— Что, молния скоро ударит в это невинное здание? — Скоро. — А грозы и бури будут? — Будут. — И фундамент затрясется? — Да, фундамент затрясется.
— Ай, какие шары! Я из этих шаров питался.
Музыка не долетала. Слышался только грохот темпа, оглушающие звуки музыкальной машины-насоса.
Поиски литературных родителей.
Нападение тигра, подшитого бильярдным сукном, на бунгало.
А самолет уже реял над Смоленском.
Половые разногласия.
Календарный план с опаздыванием на один час.
«Иногда мне снится, что я сын раввина».
На основе всесторонней и обоюдоострой склоки.
При расстановке основных сил на театре вы будете сметены.
Сила женской красоты?
У вас туманные представления о браке. Вас кто-то обманул.
Нос, как банан.
Опять смотреть, как счастливцы спускаются по мраморным ступеням.
Номера нет, пальмы растут, настоящие Гагры. Нет номеров. И человек путешествует.
Рыцарь — рак с железным отростком.
Искусство на грани преступления.
Что бы вы ни делали, вы делаете мою биографию.
Немцы вопили: «Ельки-пальки». Диванский. Кси. Петров-Сбытов.
Теперь этого уже не носят. Кто не носит, где не носят? В Аргентине? В Париже не носят?
В зимний день он пошел за белыми туфлями и летним плащом.
ВЦИРК.
Это он и есть текучесть техперсонала.
Потенциальная гадюка.
Настроение было такое торжественное, что хотелось вручить ноту.
Снег падал тихо, как в стакане.
«Хорошенькая Ниночка справляла свои именины».
Бечален я.
Теория потухающей склоки.
Девушка шла через приемную, прижимая к глазам платок.
X. уцелел от взрыва, но ходил с обгорелыми усами.
Ветчинное рыло.
Подлейший из ангелов.
Старые анекдоты возвращаются.
Половые санкции.
В один прекрасный день N почуял, что ему надо покаяться.
«Хамовническое питание».
До революции он был генеральской ж. Революция его раскрепостила, и он начал самостоятельное существование.
Не гордитесь тем, что вы поете. При социализме все будут петь.
Он сзывал падших женщин.
Специальность крахмальных воротничков.
Самогон можно гнать из всего, хоть из табуретки. Табуреточный самогон.
У меня расстройство пяточного нерва.
Невинные на вид люди. Но при прикосновении к ним преображаются, как при ударе электричеством.
За срастание со львами — царями пустыни.
Носил все вещи с пломбами.
На почтамте оживление. «Дорогая тетя, с сегодняшнего дня я уже лишонец».
Бог правду видит, да не скоро скажет. Что за волокита? Охота пуще неволи?
Умалишенец. Лишонец, лишонцу.
«Мы, беспартийные, — сказал он, — пойдем по залитой солнцем дороге, срывая цветы, а вы…»
Мрачная лавина покупателей, дефилирующая перед прилавками и, не останавливаясь, направляющаяся к выходу.
Мода на цифры: 606, 225, 1000 раз я вам говорил.
Старуха, которая никогда ничего не заработает. Она слишком громко кричит о своем товаре — средстве от пота ног. «При средней потливости, а также подмышек».
Это была обыкновенная компания — дочь урядника, сын купца, племянник полковника.
Он за советскую власть, а жалуется он просто потому, что ему вообще не нравится наша солнечная система.
Долговязый и Сухопарыч.
Одеколон не роскошь, а гигиена.
Пришли два немца и купили огромный кустарный ковш со славянской надписью: «Мы путь земле укажем новый, владыкой мира будет труд».
В городе было 2000 кошек, их обменяли, появились 8000 грызунов. Но их тоже обменяли.
Лампа в 1000 свечей. Счетчик срывается со стены и летает, как гроб, по комнатам.
Девочка с пальмочкой на голове.
— Видите ли, это не мой жанр. — Да, это не ваш жанр.
Если у вас есть сын, назовите его Голиафом, если дочь — Андромахой.
Не красна изба углами.
А красна управделами.
И голова его, стуча, скатилась к ногам.
Не помню я, чтобы мой отец насаждал у нас дома коллективный быт.
Татуированные сотрудники.
Сумасшедший дом, где все здоровы.
Заскакиванье. Бытовое загнивание.
* * *
Мы летим в пушечном ядре. Ничего общего со звездами, с холодом сфер.Кроткий, который поехал в Азию искать свою кепку.
Выигрыш в 50 000 р. пал на гражданина нашего города Ивана Самойловича Федоренко (Виноградная, 17, кв. 5). Выигравший пожелал остаться неизвестным.
Хотели выменять граммофон без трубы в деревне, но мужики не взяли. Им нужен был с трубой, с идиотским железным тюльпаном.
За что же меня лишать всего? Ведь я в детстве хотел быть вагоновожатым! Ах, зачем я пошел по линии частного капитала!
Салон, бронзовые факелы, красивый молодой человек в парадных подтяжках.
Два-три человека могут изменить тихий город. Дать ему новые песни, шутки, обычаи.
Подтяжки утренние, к обеду и ужину.
Всех уволить и посмотреть, могут ли они выжить. Потому так страшна всякая большая перемена. Оказывается, что 3/4 не умеют работать.
«Я умру на пороге счастья, как раз за день до того, когда будут раздавать конфеты».
У останков Эйльсона, накрытых звездным флагом. Вдова. Фотографы не снимают. Не смеющаяся. И вдова улыбнулась над прахом.
Один из них взгромоздился на верблюда, другой снимал в упор.
Не является ли это недопустимым перегибом? Не было ли это?
Восходящее поколение.
Главная аорта города.
Вайнтракт. Лосадюгов. Лосадкин. Мамоцкин.
«Стальные ли ребра?» «Двенадцать ли стульев?» «Растратчики ли?».
Средиземский. Собака так преданна, что просто не веришь в то, что человек заслуживает такой любви.
Межрабпомфильм.
Система работы «под ручку». Работник приезжает на службу в 10 часов, а доходит до своего кабинета только в 4.
В огромной статье (800 строк) человек беспрерывно утверждал: «Товарищ такой-то отличается главным образом лаконичностью своего письма».
Всегда есть такой человек, который изо всех сил хочет высказаться последним.
Почему он на ней женился, не понимаю. Она так некрасива, что на улице оборачиваются. Вот и он обернулся. Думает, что за черт? Подошел ближе, ан уже было поздно.
Ему важно только найти формулу, чтобы удобней было жить, лучше себя чувствовать. «Ваша комната больше моей, но кажется меньше». Подсчитывает.
В защиту пешехода. Пешеходов надо любить. Журнал «Пешеход».
Гранитный борт тротуара.
Это переучет товаров, по случаю которых магазин закрыт.
Губернатор острова Кипра.
Членохранительница.
В текущем бюджетном году…
Ганди приехал в Данди.
Чтец-декларатор.
Романс:
«Это было в комиссии
По чистке служащих».
«Иоанн Грозный отмежевывается от своего сына» (Третьяковка).
Самое ужасное — это когда нет очередей.
Оказался сыном святого.
Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты.
Неваляшки, прыгалки, куклы-моргалки. Зайцы с писком.
Свежий пароходный ветер. Пароходная комната.
Вы, владеющий тайной стиха…
Смешную фразу надо лелеять, холить, ласково поглаживая по подлежащим.
Российский жанр.
Еще один паломник.
Нашествие старых анекдотов.
Стойкое облысение. Клуб «Домосед».
«Пешеходы что делают! Так под машинами и сигают».
Печеночный цвет.
Хвост, как сабля, выгнутый и твердый.
Пертц. Шакальский.
Появился новый страшный враг — луговой мотылек.
Пер-Лашезов. Бернгард Гернгросс. Т. Мародерский.
Забрали жену, а самого опозорили.
Мрач.
— Нам нужен социализм. — Да, но вы социализму не нужны.
Эксплоатация храма.
Писатель со странностями всех сразу великих писателей.
Не вздумал ли ты чего-нибудь купить?
Чудный зимний вечер. Пылают розовые фонари. На дрожках и такси подъезжают зрители. Они снимают шубы. Покрасс взмахнет палочкой, и начнется бред.
Поэт. Соловей. Роза. А получается абсолютно выдержанное стихотворение.
Оробелов.
Смазывание. Скатился. Сползаешь. Разногласия. Если пойти по этой точке зрения.
— Что у вас там на полке? — Утюг. — Дайте два. — Ничего нет? — Ничего. — А вот у вас там досочка лежит? — Досочку не продаем! — А то продали бы? Нельзя? Жалко! (Уходит.) Следующий (входит). (Уходит.)
Лодки уткнулись носами в пристань, как намагниченные, как к магниту.
Мы тебя загоним, как кота.
Сначала вы будете считать дни, потом перестанете, а потом внезапно заметите, что вы стоите на улице и курите.
Может быть, что все это выдумали газеты и последний город — это Шепетовка, о берега которой разбиваются волны Атлантического океана. В конце концов, заграница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадет — не возвращается назад.
Замшевый, кошелечный зад льва.
Попугаи с трудом научили свою руководительницу выступать в цирке. Долго ее ругают за нечистую работу после каждого представления.
«Дай поцелую, дай поцелую».
По лицу его бродила безобразная улыбка.
Очень трудно, очень.
Над писательской кассой:
«Оставляй излишки
не в пивной,
а на сберкнижке».
«Есть так хочется. Нет ли у вас котлеты за пазухой?»
Раньше для того, чтобы добиться счастья, денег, надо было убить одного человека, а теперь всю очередь.
«Знаете, после землетрясения вина делаются замечательными».
Построили горы для привлечения туристов.
Завел себе знатока и обо всем его спрашивал, всюду с собой водил. «Хорошо?» А.: «Браво, браво».
Остап-миллионер собирает окурки.
Гостиница работает, как большая электрическая станция. Снизу, со двора, доносятся тяжелые удары и кипение, а в коридорах чисто, тихо и светло, как в распределительном зале.
Спекуляция в лифте. Государство в капле воды.
Паркетные мостовые Ленинграда.
С нарзанным визгом поднялись фонтаны.
Слепой в сиреневых очках — вор.
Гете, Шиллер и Шекспир организовывали пир.
Этой книге я приписываю значительную часть своего поглупения.
Тогда был в моде фокстрот «Ходят по улицам фашисты…»
«Дано сие тому-сему (такому-сякому) в том, что ему разрешается то да се, что подписью и приложением печати удостоверяется. За такого-то. За сякого-то».
Ничего, ничего. И нам велел.
Учреждение «Аз есмь».
Кавказский набор слов, как поясок с накладным серебром.
Собачья душа. Балансирующий бокал.
Советский лук. Метание редиски.
Наша страна имеет мощную половую базу.
Стоит только выйти в коридор, как уже навстречу идет человек-отражение. Служба человека-отражение.
Бильярдистам: Эй вы, дровосеки.
Надо внести ужас в стан противника. От имения в 40 000 га у нее осталась только крошечная фарфоровая ижица.
«Достиг я высшей меры…»
Счастливые годы прошли. И уже показался человек в деревянных сандалиях. Нагло стуча, он прошел по асфальту.
750 р. Стал небрежно обращаться с нашей планетой. Подбрасывал ее. Могу уронить — расколоть.
Отвратительный человек — средняя статистическая единица. Был выведен с большим трудом.
Бороться за крохи.
Теоретик пожарного дела. Нашел цитату. Стенгазета Из огня да в полымя». Ходил с пожарными в театры. Учредил особую пожарную цензуру.
Осенний день в начале сентября, когда детям раздают цветы с цветников. Объяснения: Елена — женщина, скрывающая под своей прекрасной внешностью половую распущенность. Ахилл — герой, скрывающий под внешней храбростью трусость. Калхас — дрянь. Агамемнон — ничтожество.
Раз 3 богини спорить стали на горе в вечерний час.
Вздувайте цены, а потом достиг я высшей меры.
Плохо. На меня давит столб воздуха с силой 214 фунтов.
«Как бурлит жизнь? Почему не описывается, как бурлит жизнь?»
Моральный террор.
Нищий — дай миллион.
Советский чтец-декламатор.
Орда взбунтовавшихся чиновников.
Процесс лентяев.
Нужно внести ужас в стан противника.
Трактир «Рай».
Возложили венок на проект памятника.
Исполинов. Левиафьян.
* * *
«Она полна противоречий» (романс). «Мы вместе учились» (романс).Новиков-Прибор.
Всё превращается в трамвай, магазин, музей, этим окрасилась часть века. Сначала не поняли этого, потом спохватились. Стали бороться.
Обрывает воздушные шары. «Любит — не любит».
Странный русский язык на проекте Корбюзье. «Президюм». «Выход свиты». «Зала на 200 человеков».
Велосипедно-атлетическое общество.
Стирали желчным порошком.
По линии наименьшего сопротивления все обстоит благополучно.
Не событие. Не прорытие Панамского канала.
В фантастических романах главное — это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет.
Я странствую по этой лестнице, я скитаюсь по ней.
«Мир ловил меня, но не поймал» (Сковорода).
Есть у тебя друг-блондин, только он тебе не друг-блондин, а сволочь.
Утреннюю зарядку я уже отобразил в художественной литературе.
Общество приказчиков-евреев и общество приказчиков-христиан. Коротковолновая станция имени общества приказчиков-христиан.
А наша молодость прошла совсем не так.
В годовщину свадьбы буду выставлять на балконе огненные цифры.
— Я, товарищи, рабочий от станка… — И тут не фабриканты сидят.
Если бы Эдисон вел такие разговоры, не видать бы миру ни граммофона, ни телефона.
«Требуется здоровый молодой человек, умеющий ездить на велосипеде. Плата по соглашению». Как хорошо быть молодым, здоровым, уметь ездить на велосипеде и получать плату по соглашению!
Я начинаю петь воинственную песню Вангвана.
Входит, уходит, смеется, застреливается.
Два брата ренегата. Рене Гад и Андре Гад.
Был у меня знакомый, далеко не лорд. Есть у меня знакомая дама, не Вера Засулич. Художник, не Рубенс.
— Вы марксист? — Нет. — Кто же вы такой? — Я эклектик. Стали писать — «эклектик». Остановили. «Не отрезывайте человеку пути к отступлению». Приступили снова. — А по-вашему, эклектизм — это хорошо? — Да уж что хорошего. Записали: «Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно».
Счастливец, бредущий по краю планеты в погоне за счастьем, которого вся солнечная система не может предложить. Безумец, беспрерывно лопочущий и размахивающий руками.
И я хочу на мокрые садовые скамейки, где перочинным ножом вырезаны сердца, пробитые аэропланными стрелами. Назеленых скамейках грустные девушки дожидаются счастья.
Моя свирепая юность.
Ваше твердое маленькое сердце. Плоское и твердое, как галечный камень.
Ария Хозе из оперы Бизе.
Чудесное превращение двух служащих в капитана и матроса. Буйный ветер нас гонит и мучит. Есть, капитан!
«Молю о скромности и тайне» (романс).
В первые минуты бываешь ошеломлен бездарностью и фальшью всего — и актеров, и текста. И так на самом лучшем спектакле.
Я, как ворон, по свету носился.
Для тебя лишь добычу искал.
Надсмеялся над бедной девчонкой.
Надсмеялся, потом разлюбил.
Рю Комбайн.
Сквозь замерзшие, обросшие снегом плюшевые окна трамвая. Серый, адский свет. Загробная жизнь.
Это был не кто иной, как сам господин Есипом. Господин Есипом был старик крутого нрава. Завещание господина Есипома. Господин Есипом не любил холостяков, вдов, женатых, невест, женихов, детей — он не любил ничего на свете. Таков был господин Есипом.
Отрез серо-шинельного сукна. Теперь я сплю под ним, как фельдмаршал.
Когда в области темно-синего кавалерийского и светло-синего авиационного сукон обнаружатся новые веяния, прошу меня известить.
Мне обещали, что я буду летать, но я все время ездил в трамвае.
Утро. Тот его холодный час, когда голуби жмутся по карнизам.
Привидений господин Есипом не любил за то, что они появляются только ночью, а фининспекторов за то, что они приходят днем. Это также относилось к числу странностей господина Есипома.
Если у нас родятся два сына, мы назовем их Давид и Голиаф. Давида мы отдадим вам, а Голиафа оставим себе.
Аппетит приходит во время стояния в очереди.
Можно собирать марки с зубчиками, можно и без зубчиков. Можно собирать штемпелеванные, можно и чистые. Можно варить их в кипятке, можно и не кипятке, просто в холодной воде. Всё можно.
Я всю жизнь себя не жалел, всё делал с порывом.
Это я говорю вам как Ричард Львиное Сердце.
Звезда над газовыми фонарями и электрическими лампами Сивцева Вражка.
Удар наносится так: «Дорогой Владимир Львович, — бац…»
Рубашка-голубгипка. Старушка-лепетушка.
Возьмем тех же феодалов.
В некоем царстве, ботаническом государстве.
Темная весна.
Меня все время выталкивали из разговора.
Ефим Провизион, порт-артурец.
Это уже говно, но еще не то, что нам нужно.
— Ты меня слышишь? — Да, я тебя слышу. — Хорошо тебе на том свете? — Да, мне хорошо. — Почему же ты такой грустный? — Я совсем не грустный. — Нет, ты очень грустный. Может, тебе плохо среди серафимов? — Нет, мне совсем не плохо. Мне хорошо. — Где же твои крылья? — У меня отобрали крылья.
Когда покупатели увидели этот товар, они поняли, что все преграды рухнули, что всё можно.
Кардонкль. Хулиганик. Директор.
Полны безумных сожалений.
Шляпа «Дар сатаны».
Кругом обманут! Я дитя!
Надо иметь терпениум мобиле.
Одинокий мститель снова поднял свой пылающий меч.
Пошел я к перукару, бывшему берберу.
Что же касается «пикейных жилетов», то они полны таких безумных сожалений о прошлом времени, что, конечно, они уже совсем сумасшедшие.
Я был на нашей далекой родине. Снова увидел недвижимый пейзаж бульвара, платанов, улиц, залитых итальянской лавой.
Зеркало, разбитое вдребезги. Зеркало, прогуливающееся по большой дороге.
Рассказ «Бабель».
Всё голо. Усилим методическую работу.
Бизони, Стерляди, Молдаванцев. Негус.
Холодные волны вечной завивки.
Лучшего пульса не бывает, такой только у принца Уэльского.
Привидение на зубцах башни.
Богемский граф Гаррах.
Лейб-пферд императорская.
В клубе. Там, где милиция нагло попирает созданные ею самой законы, там, где пьесы в зрительном зале, а не на сцене, диккенсовская харчевня, войлочные шляпы набекрень.
1931
И повар там повар, а не кузнец.Жил на свете человек с короткими ногами. Он очень от этого страдал. Ему отрезало ноги, и он попросил сделать ему длинные протезы.
Голос певца, которому кидают в шляпу медные пятаки.
Этой брынзе только один шаг до качкавала. И этот шаг уже сделан.
Спец-вечер, где человек каялся в своих грехах.
Схема борьбы за свою жалкую жизнь. Кружочки. «Один кружочек уже заполнен». «А вот мы ей вскроем корни».
Кино. Встревоженные люди. Бормотанье. Что же будет? А кто его знает, что будет. Его надо в клинику отправить. Варфоломеевская ночь и Екатерина Медичи в колхозе. А где режиссер? Чистится!
Нужна склока. Иначе скучно.
Собралась там шайка-лейка.
Строй силосные башни, траншеи и ямы!
Нисхождение анекдота. В первый раз его приписывают самому высокому человеку в стране, а через день уже говорят просто — «один еврей».
Дом, где вскрывают корни.
Я родился между молотом и наковальней.
Сукно с золотыми гербами.
Самый маленький великан и самый большой карлик.
Максимов. Ресторан. Оркестр. «Малачи, грусть, мала-чи. Не тыронь старых иран».
Как дрессировался оркестр в 800 человек. Чернецкий на ступеньках. Наковальни с молотками. Наводнение. Солнце и лед. Ночь. Прожектора. Город и мир.
Сумасшедший бухгалтер. «Я помню все авансы».
Женщина-милиционер перед зеркалом. Каска. Лента. Перо.
Не зная, побил человека, которого обожал и которому поклонялся всю жизнь.
Королева ландшафта.
Пасьянсы. «Часы». «Косынка». «Королевский». «Могила Наполеона». «Докторский». «Картинная галерея». «Дамский каприз».
Выпьем мы за Смита Смита дорогого. Между строчкой вписано: «Смита и Вессона».
Черные шинели, желтые ремни.
* * *
Он не знал нюансов языка и говорил сразу: «О. я хотел бы видеть вас голой».Возьмем тех же феодалов.
В некоем царстве, в ботаническом государстве.
Холодный бал.
Садик самоубийц.
Королева обезьян.
Вы одна в государстве теней, я ничем не могу вам помочь.
Я не художник. Я начальник.
Толстовец-людоед.
Тыка и ляпа. Так медведи говорят между собой.
Кукла с лицом Елизаветы Петровны.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Чем меньше дров, тем больше вдов.
Чем больше вдов — тем лучше.
Баба с возу — кобыле легче.
Он подошел к дяде не как сознательный племянник.
Бабушка совсем размагнитилась.
Кошкин глаз, полосатый, как крыжовник.
Большая бомба вроде тех, какими убивали губернаторов.
Пролетарский писатель с узким мушкетерским лицом.
Мы ничего не знаем, а он, может быть, отмежевывается. Или. напротив, сползает в болото, или скатывается.
Совсем не случайно. Это продиктовано всем развитием.
Тот час утра, когда голуби жмутся по карнизам.
Писатель подошел к войне с делового конца — начал изучать вопрос о панике.
Наш командир — человек суровый, никакой улыбки в пушистых усах не скрывается.
Левиафьян. Авгиев. Беков-Бельский.
Как сделаться праотцом.
«Общество распространения домашних знаний среди образованных женщин».
Организация бывших участников Севастопольской обороны.
С ног до головы я создана для любви.
Я тоже хочу сидеть на мокрых садовых скамейках и вырезывать перочинным ножом сердца, пробитые аэропланными стрелями. На скамейках, где грустные девушки дожидаются счастья.
Вот и еще год прошел в глупых раздорах с редакцией, а счастья все нет.
Удивительное превращение. Капитан и матрос. Буйный ветер нас мучит и гонит. Есть, капитан.
Почему когда редактор хвалит, то никого кругом нет, а когда вам мямлят, что плоховато, что надо доработать, то кругом толпа и даже любимая стоит тут же.
Стало мне грустно и хорошо. Это я хотел бы быть таким высокомерным, веселым. Он такой, каким я бы хотел быть. Счастливцем, идущим по самому краю планеты, беспрерывно лопочущим. Это я таким бы хотел быть, вздорным болтуном, гоняющимся за счастьем, которого наша солнечная система предложить не может. Безумец, вызывающий насмешки порядочных и успевающих.
В тот час, когда у всех подъездов прощаются влюбленные.
Речь Сталина переделал в стихи.
* * *
Печальные негритянские хоры. «Как тебе не стыдно бить жену в воскресенье, когда для этого есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота. Как тебе не стыдно пить водку в воскресенье, когда для этого есть понедельник, вторник… Как тебе не стыдно…»Арбуз. Яблоко — хорошая штука, дыня — замечательная вещь, но лучше всего на свете арбуз. Да, да, да. Лучше всего на свете большой, красный арбуз.
Не осрамить мундира.
Есть какая-то ирония в том, что тот поезд, который должен был идти в Париж, привез меня…
Романс «Товарищ Доре, товарищ Доре, я умираю на советской земле. Отвези мое тело в Париж». — Я отвезу тебя, Лебри, я повезу твой труп в Париж, — ответил верный Доре.
Ильфа и Петрова томят сомнения — не зачислят ли их на довольствие как одного человека.
— У меня есть с собой вещества, — сказал фотограф.
«После этого с папашей было покончено», — как говорят туземцы острова Пасхи.
Белорусские франты в лаптях.
Два близнеца — Белмясо и Белрыба.
Детская любовь к машине. Уверенность в том, что она может сделать все.
Командир танкового батальона Онегин.
В соседней комнате внезапно поссорились врачи.
Ночью раскрылась дверь, показался комендант с крысоловным фонарем, кинул тюфяк, молча бросился на постель и, видимо, очень разозленный, сразу заснул.
Парикмахер с яркими зелеными петлицами.
Инспектор питания.
Бронепоезд (скульптура ранних кубистов).
Заяц считал, что вся атака направлена против него.
При виде танка самая хилая колхозная лошадь встает на дыбы.
Молодой командир, длинный, тонкий, ремни скрипят.
— В уставе написано! — сказал он гневно.
Член Реввоенсовета сказал, что у меня вид обозного молодца.
Командир бронепоезда (бепо), похожий на Зощенко.
Дождь капает с каски, как с крыши, и стучит по каске, как по крыше.
От лязганья шпор, от топота здоровых мужчин, от всей картины войны.
Ходил в тяжелых сапогах, как на лыжах, не подымая ног.
Молодые люди в черных морских фуражечках с лакированными козырьками и их девушки в вязаных шапочках, ноги бутылочками.
Жизнь моя клонится к закату.
1931–1932
Женщина-милиционер прежде всего женщина. Женщина-милиционер все-таки прежде всего милиционер.Фамилия — Спикер, Спектукль.
Ложа. Члены. На ногах весь цирк.
Входят члены правительства. Все встают.
Сквозь замерзшие, обросшие снегом плюшевые окна. Серый, адский свет. Загробная жизнь.
Как государству сдали квадратный вершок. Семейство хорьков. Их принимал дуче. Они стояли, как римляне. Своих врагов они бросали в темницы. Составляли схему. Враги. Очень были похожи лицами, как ни старались это скрыть очками и баками. Все варианты одного лица.
Жан-Жак Пруссак.
Пушечное облако.
Если бы Эдисон вел такие разговоры, не видать бы миру ни телефона, ни микрофона.
Утреннюю зарядку я уже отразил в художественной литературе.
Говорят плачущими голосами. Когда в учреждении не вымыты стекла, то ничего уже не произойдет.
1933
Любопытства было больше, чем пищи для него.Что мне вспомнить еще, дорогая. Мне скучно без тебя.
Измучив друг друга попреками; они уже ничего не покупали.
Говорить надо по-русски в Стамбуле. И торговаться надо тоже по-русски, обливая холодным презрением торговцев.
Восток, неимоверный Восток, добрый, жадный, скромный.
Не пейте кофе, кофе возбуждает. Он не спал всю ночь. Но не из-за самого кофе, а из-за цены на него — 15 пиастров чашечка.
Что же мне вспомнить еще, дорогая?
«Ваши специальные корреспонденты>. Дописывали телеграмму.
Перестаньте влачить нищенское существование. Надоело!
Трехслойные молочные берега на Эгейском море.
Холодный взгляд. Чужие берега.
Команды прогремели с музыкой по улицам Стамбула.
Ночь, ночь. Эгейское море. Серп оранжевый над горизонтом. Толстая розовая звезда. Фиолетовая и базальтовая вода перед вечером. Пасмурное воспоминание о Корейском проливе, холоде и смерти Цусимы. Чувство адмирала. А ночь благоухала.
Ветер из Африки.
Кафе «Посейдон» у кино «Пантеон».
Не в силах отвести глаз от витрин, так и не заметил он Стамбула и Афин.
Темный лунный вечер в Средиземном море. Неподвижная, большая, чистая звезда.
Кафе у марафонских автобусов. Портрет хозяина в твердом воротничке, с черными усами. И он сам здесь же, красномордый, усы не такие гордые.
Кафе «Посейдон» у кино «Пантеон».
Не в силах отвести глаз от витрин, так и не заметил он Стамбула и Афин.
Темный лунный вечер в Средиземном море. Неподвижная, большая, чистая звезда. Качка. Ложусь спать в 9 часов вечера. До этого граммофоны в кают-компании высшего начальства. <…> Вертинский и самые мрачные фокстроты.
Ночью дождь, московский, холодный. Утром чистота, голубой холодок, высокое Капри, Сорренто в тумане, Везувий с лепным облаком дыма и Неаполь.
Помпеи. Уже кричат доброжелательно: «До свиданья!» И вот я вступил на плиты этого города. Чувство необыкновенное. Столько слышать, читать и, наконец, увидеть. Ворота, тихие, чистые, почти московские переулки, надписи под стеклами со шторами, фонтаны, прочное, добротное, богатое жилье. Изящный театр, грубоватая, но в высшей степени элегантная роспись на стенах. Баня вызывает зависть и уважение к этим людям. Надо полагать, что это был город изнеженный, гордый своим богатством, циничный и смелый («коммерческая отвага»). Виды, открывающиеся из-за колонн и руин. Здесь ходят туристы. Одинокие и группами. Красавица в белой, с повисшими полями шляпе. Ее не очень могучий муж, и глаза любопытные и как бы скромные. Немцы идут кучей и задыхаются от смеха, слушая собственные шутки.
Огромные белые трубы с красными кольцами. Голубой вымпел на мачте — он взял голубую ленточку. Сегодня выходит в Америку.
Забинтованные деревья у дороги.
Мы уезжаем в Рим. Нельзя понять, почему нет давки, шума и строгостей. <…> Такси, таможня, старик взялся устраивать наши дела. Мы едем на почту, вокзал, билеты, завтрак, бистеки на уличке, дождь, вокзал, вагон. На перроне продают подушки на тележке.
Для одинокого миллионера это замечательный завтрак — корзинка. Булочка, пасташюта в горшочке, свинина 2 кусочка, 2 кусочка любительской колбасы, 2 кусочка филейной колбасы, сыру кусочек, вилка, стаканчик бумажный, салфеточка, шоколадина и маленькая фиасочка.
Другие откосы, красноватая римская земля.
Акация в Неаполе и по дороге в Рим.
Фонтаны шумят на площади св. Петра. Полосатые швейцарцы, желтое, черное, красное. Золотая статуя Христа у вокзала. Игра в карты в вагоне, горячая, сварливая.
Огромность Рима. Акведук удивил очень.
Мы едем на автобусе к храму св. Петра. Его кажущаяся несоразмерность и неграндиозность исчезают, когда смотришь от храма к обелиску.
Оживленный красивый город в голубых и синеватых неоновых огнях.
Негр-патер. Чаша со святой водой, колоссальные младенцы поддерживают ее.
Три китайца — патеры.
Что же я видел сегодня? Пантеон, чудо освещения — круглый вырез в куполе, когда там молятся, дождь не попадает в здание, теплый воздух отбивает. Два карабинери с красными плюмажами, осенними астрами.
Могила Рафаэля, зеленоватый квадратный гроб в нише. Мраморщики что-то переделывают — может, место для него.
Санта Скала. О, мрачное зрелище. 28 ступеней лестницы, мрамор, зашитый в дерево, капли запекшейся крови Христовой, окованной в медь. Лестница привезена, по ней Христос шел на допрос к Пилату. Ужасно больно коленям. Крестьянки, плача, целуют ноги статуям, дамы молятся (в лаковых туфлях).
Колизей. Днем и вечером. Я ничего не могу сказать об этом.
Кампидольо. Конный зеленый Марк Аврелий. Волчица и волк в клетке. Прибежала немецкая овчарка, и волк запрыгал легко и страшно. Квадратный двор античных обломков, статуя колоссальная, рука, бицепс, голова, чистый камень и диагональные плиты. Гербы на желтой римской стене. Конные группы у входа.
Человек с печеными каштанами, человек с граммофоном. Доходы малы, а жизнь в общем нелегка.
Корсо Умберто начинается от Палаццо Венециа, где с плоского балкона дуче произносит свои зажигательные речи, и кончается выходом на пьяцца дель Пополо, обелиск, мощные фонтанные группы.
Что же я видел?
Новая улица к Колоссей. Зеленые императоры — Тра-нн. Цезарь, Август, Нерва — спокойствие, величие, достоинство Рима. Гармония поз.
Гробницы пап в подвалах Сан-Пьетро. Запах ладана (банный запах мыла). И всюду стоят на коленях, целуют и трогают руками святые скульптуры.
В общем, памятник этот может прищемить сильно.
Ванны из терм расставлены по всему городу как украшение. Их было 1200.
Дерево, обложенное кирпичом, под которым Тассо писал свой «Иерусалим».
Сан-Пьетро ин Винколи. Микелевский Моисей. Блескучий. Какие-то патеры стоят на коленях перед цепями в золотой шкатулке. Темноватая церковь, лишенная молящихся. Фрески, в которые лень вглядываться, а фрески, наверное, замечательные. Мозаики в Сан-Пьетро обманывают глаз, кажется, что это масло.
Кошки бродят по Колизею.
Древности чисты, нет пыли, нет мусора. Почти все они ограждены от публики, они молчаливо растут за своими оградами.
Мы возвращаемся в дождь, полновесный и летний. День был пасмурный. Он начался с поездки на CD (Чиди) в Сан-Пьетро ин Винколи. Потом мы прошли под сводами дома Борджиа, не зная, конечно, что это такое. Вообще всё узнаешь из открытки. Или почти всё.
Лениво пробираясь от Колоссео к Виа Национале и памятнику Витторио Эммануэле, наткнулись на парад. Проходят билилла в черных рубашках с погончиками, голубых платках, черных фесках, белых нитяных перчаточках, коротких штанах и чулках зеленоватого цвета, авангардисты в сапогах, шароварах, с нашейными платками желтыми и коричневатыми. Какой-то восточный от всего этого, не европейский колорит. Идут люди не в формах, но в черных рубашках и черных галстуках.
В смысле нарядов сегодня был разгул. Кирасиры в касках, карабинеры с двойными плюмажами (синим с красным), во фраках, окаймленных красными краями с серебряными ядрами с пламенем, королевские гвардейцы в штанах с лампасами, фашистская милиция. Лениво пробираясь от Колоссео к Виа Национале, набрели на толпу против Палаццо Венеция. Шли отряды балилла, авангардисты, просто служащие в шляпах. Балилла на ступеньках памятника пели «Джовинеццу» и прочее. Толпа слушает хорошо, но шляп не снимает. Внезапно крики усилились, балилла закричали «Эйя, эйя, зйя, ала-ла», стеклянная дверь на балкон открылась, и человек стал убирать огромный флаг. Площадь застонала, на балкон вышел Муссолини в голубой ленте. Потом вышел еще раз, поднял руку и решительно ушел. Стали расходиться. Это был день перемирия. Во все стороны маршировали карабинеры, офицеры с золотыми и серебряными эполетами, коваными перевязями. Гарибальдиец в красной суконной рубахе с голубым платочным поясом. Ренуар в старости.
Вечером мерцающие огоньки на окнах Палаццо Венеция и по карнизам памятника. Чуть мистично, как раз столько, сколько нравится.
Мы были в Ватикане, но не вошли. Закрыта на день Сикстинская капелла. Банковские мраморы и лифты, удобства международного отеля нового ватиканского входа.
Я вышел, когда магазины уже закрывались. Я прошел на форум Траяна тем же путем, что и в первый день, когда мы только приехали, когда вечернее солнце пылало за колонной Траяна. Зашел в церковь, там молча молились на коленях десятка три человек. Тишина и сиянье. Это на Корсо Умберто. Через несколько минут я ушел.
Манекены в Гранди Магазини. Очень хороши, особенно те, что немножко карикатурны. Толстяки, холодные денди, фаты, мужественный носач вроде Яши Бельского. Автобус подвез меня к Чиди. Я оказался у вокзала. Зала эмигрантов. Кирасир спит, держа золотую каску в руке.
Что было еще? Фонтан горел зеленой каймой.
Утро. Ватикан. Греческие мраморы. Комнаты Борджиа. Лоджии Рафаэля, капелла Сикстина, дворики, ванны.
Три колонны с карнизом — вот Рим.
Девушки посадили меня в поезд Рома — Венеция. <…> Ночь в вагоне. Томление бесконечное. Сидеть и спать.
Флоренция ночью. Пересекаем Апеннины. Утро, гребни, туманы. Суровое утро, когда надо ехать в шерстяном плаще. Болонья. Электропередачи и устройства под открытым небом. Феррара, Ровиго, Падова, Местре, все ушли с поезда, я почти один, еду еще одну «уна стационе».
Дождь в Венеции. Зеленый, нежный и прочный цвет воды, черные гондолы и сиреневые стекла фонарей.
Площадь св. Марка. Толстые, круглые, нахальные, как коты, голуби. Они слетаются на хлеб со всей площади, жадные, тупые. Ангелы с золотыми крыльями тоже похожи на голубей. Венецианское стекло. Венецианский трамвай, расписные причальные столбы с золотыми гербами и просто кривые палки. Гондольеры в черном.
Отъезд в Вену. Граница в Травизио. Деревушки в снегу под откосом. Фонари. Тишина. Снег.
Пепельный, спокойный город.
Венец — черный котелок, серое пальто, башмаки черные, воротничок и бритое лицо. О, эти франтоватые господа.
Плотные, огромные шоферы, вежливые, чистые опрятностью пожилого прорабоченного человека.
Мы едем в город. Привычная собака без очереди лезет в трамвай.
* * *
Мы идем в «Циганерин-келлер», в цыганский подвал, красный-синий. Цыганский оркестр и первая скрипка с вылезшими глазами. Оркестр играет беспрерывно, подходя к столикам. Тарелочка для денег музыкантам. Две танцорки и их кавалер. Служить, так служить. Владеть миром, так владеть. Все делается очень серьезно, без иронии, но и без холуйства.Водка, салат с неразрезанной сельдью, шницель, опрокидывающий представление о шницелях.
Когда я пытаюсь восстановить в своей памяти… Когда я вспоминаю… Передо мной встает…
Конечно, мир безумен. Безумны нищие на улицах Вены, безумен порядок, всё безумно, и девушки в том числе.
…Железнодорожный ресторан, автоматы, средневеково украшенные, и третий класс, где поджаривают зад с необыкновенным усердием. Опять ночь среди томящихся и корчащихся пассажиров. Вена — Инсбрук, Букс, Цюрих, Базель, Мюльгаузен, Бельфор, Paris-Est.
Инсбрук. Катятся тележки продавца газет, сладостей, кухни на колесах, а всего один пассажир. Альпийские высоты и луга.
Швейцария. Букс. Деньги. Садики такие аккуратные, что похожи на кладбища. Прейскурантская красота — нас не обманывали. Цюрих. Цюрихское озеро, глянцевитое и спокойное. Грабеж в ресторане. Базель. Индустрия. Сейчас же Франция. Толстоносый железнодорожник уже проверяет билеты. Поезда на Страсбург и Дюнкерк и прочее. Прононс. Букс. Пришли швейцарцы черные с зелеными кантами. За ними австрийцы в горчичных мундирах и плащах. Базель. Моет стекла француз с трехцветной повязкой.
1935
От 2 до 5 он работал над собой.Все в белых штанах, всем восемнадцать — молодость, оптимизм.
Ломка жанра.
Происшествия пора ввести и в область литературы.
Кино создало несколько прекрасных ораторов.
Дилетантизм. Наш Саша рисует.
Лошадь? Табун.
Эх, горячие были денечки!
Есть блестящие места. Места есть, а произведения нет.
Директор первым долгом просит перенести действие в какое-нибудь другое место. Зачем — неизвестно. Мало событий. Всё уходит на обыгрывание. Драматизм. Лестница. Ничего не происходит. Само по себе красиво.
Смотрите, какой я гениальный. Нет скромности.
Так не пишут стихов, так не изобретают.
Неся псевдотеоретическую чушь, такой человек хочет показаться новатором. В самом же деле он дилетант.
От дурака слышу.
У каждого режиссера есть желание взять самую высокую ноту. Не надо тужиться.
* * *
Старики думают, что командир отчаянный злодей, но он тихий и застенчивый. Командир хочет жениться, но, занятый интригой, не женится.Она к нему равнодушна, но стоит ей узнать, что он кому-нибудь нравится, как она делает всё, чтобы его отбить.
Из вежливости лжет. Хочет показаться всем хорошим. Вскрытие делает на тараканах.
Эгоист Люся. Старик Саша.
Человек жил с девушкой, выдавал себя за известного журналиста.
Люся видит на груди командира ордена. Он удивляется, почему командир не носит орденов. Командир появляется в штатском. Мучится, завязывает галстук. Ночь. Дом уже заперли. Командир влезает в окно. Записная книжка. МХАТ, жениться. Ничего не успел сделать. Совсем забыл о том, что сделал самое важное, и в последнюю минуту женится на докторше перед отъездом. Люся смотрит в лицо и меняет тон.
Леонид Михайлович Мизерник, он же Люся Веткин Гришка Мизерник, его брат. Похож и лицом, и голосом Эсфирь Петровна Альшванг, докторша Нина Антоновна, библиотекарша в доме Героев труда Иван Федосьевич Качура, профессор Лолий Павлович Светлицкий-Теплицкий, баритон Екатерина Ивановна Левченко, ткачиха Левченко Петр Семенович, ее сын, командир полка Артиллеридзе, народоволец Леня Скворцов, электромонтер Старики, старухи
Семья Мизерников. Мизерник-младший.
Юнгмейстер.
А ромбов все-таки нет?
Человек читает в газете о кончине Апронов. Люся подавлен. Умирает человек, и ничего не остается. А раньше оставил бы деньги. Эх, не на ту лошадь поставил.
Кто может сравниться с Матильдой моей? Пил сырое яйцо. Ре. Си. Я в градоначальника стрелял. Застрелил, как собаку. Камертон. Когда я пел в Даль-Верме. А там за взятки поют.
Молодые люди, у которых внутри всё содрогается.
Говорит не то, что думает. Думает не то, что чувствует.
Принципиально танцует.
Вдруг у тихого соседа открылся голос.
Назвался директором и был допущен в самолет, и только после катастрофы выяснилось, что он не директор.
Пошлость. Люся Веткин.
Преступление Люси.
Лихорадкин.
* * *
Я торжественно клянусь, что всё сказанное выше верно: я в этом убежден и уверен.Раздражевский.
Вы не даете доформулировать.
Товарищи, если мы возьмем женщину в целом…
Они стали на путь изнасилования учениц.
Бежевые туфли и такого же цвета лиловые чулки.
Красивенький мужичок, дай копеечку. Красивенький мужичок, дай пятачок.
1935–1936
В Барановичах розовые, синие, черные околыши. Нельзя быть таким элегантным. Надо спокойнее относиться к красоте.Станция Слоним — родоначальница всех Слонимов и Слонимских.
Рана еще свежа — 25 злотых за продление виз.
Неожиданно на улице вас снимают лейкой и вручают адрес фотографа, у которого через два дня, если пожелаете, можно получить свою фотографию. Расчет — если из десяти придут двое, то и тогда выгодно. И таких фотографов много. Нас сняли на Маршалковской.
В театре «Голливуд» военизированные балеты. Ордонувна и ее партнер, фербенксовидный осел в цилиндре и фраке. Сама Ордонувна вкладывает в исполнение столько парижской страсти, что уже не хочется ехать в Париж. В общем, дирекция сделала все возможное, даже цветы в публику бросали.
Мчались всю ночь с громадной быстротой, но все-та-ки опоздали на полчаса и в Прагу приехали в 7 часов утра.
«Ресторашка», «Зайдем в ресторашку».
Уехали в Вену в 6.25 минут с вокзала Вильсона.
Мы сразу поехали на Вест-бангоф сдать чемоданы. Потом пошли пешком и обедали в ресторане на Zum Schillerpark, где, однако, висел портрет Шуберта.
После суток езды в не очень мучительных условиях мы приехали в Париж в 9.30 вечера.
В шторм «Нормандия» напоминает пароход, качает, но в тихую погоду это просто громадная гостиница с видом на море.
Едет компания каких-то волкодавов, как видно, боксеров.
Волнение ослабело, вибрация усилилась. Шторм утих. Показывали гангстерский фильм весьма средний. Мы где-то посреди Атлантического океана. Список пассажиров туристского класса, где я мистрис.
Американский еврей. 60 лет. 8 детей. Приехал в Союз и женился на молоденькой. Теперь едет назад выписывать ее в свое Огайо. Привез в Киев 40 рубашек, 9 часов, 9 пар ботинок. «Усё роздал». Остался недоволен. Владелец ломбарда.
Вчера на концерте я был свидетелем неслыханного позора некрасивой девушки в серебряном платье. При оскорбительных усмешках она пела «Parlez-moi d’amour», ужасно. И некрасива она просто сверхъестественно.
В половине первого маяк Ambrose. Холодно. Подход к Америке. Небоскребы подымаются, как столбы дыма. <…> Отель «Принц Джордж». Прогулка. Улицы как улицы, но когда посмотришь наверх, то видишь, где ты находишься. Сатанинский город.
Вечером мы обедаем в маленьком ресторане с черепичными украшениями. Девушки вдруг заговорили по-русски. Устрицы громадные и невкусные.
Если не записывать каждый день, что видел, даже два раза в день, то все к черту вылетит из головы, никогда потом не вспомнишь. Уже плохо помню, что было вчера. Что же было вчера?
В первый раз увидел американскую дорогу. Она выстлана бетонными плитами, разделенными температурными швами. Машины катятся с карусельной плавностью, дорога так красива, что смотрел только на нее, не обращая внимания на замечательно красный осенний пейзаж.
Очень маленькие и тощие подушки в американских отелях.
Пасмурное утро в Вашингтоне. Всё обошли в этом провинциальном городе, заставленном автомобилями. Машины так шумят, будто пневматическими зубилами взламывают бетонную мостовую.
Пешеходов нет, все в машинах. У них скоро атрофируются ноги, останутся только штучки, чтобы нажимать педаль.
Текучая страна, если мы не задержимся, книги написать не удастся.
Беспомощное положение человека, не знающего языка. У него берут чемодан, пальто, шляпу, и надо давать чаевые.
Вечер на Бродвее. Человек в хитоне. Скачками понесся по улице. Другой, в набитой вещами майке и подпоясанный. Пожарные машины с воем понеслись по 42-й. Среди ужасающего движения московский извозчик с пятью седоками, один на коленях у других. Столкновение двух машин вызвало аплодисменты. Веселая толпа.
Цвет пушечного металла.
Написан фельетон «Колумб причаливает к берегу».
Ночлежный дом. Старики. Потухшие люди.
Механизированная гадалка. Развлечения. Прогулка по Ист-Сайду. Грязь.
Обед. А после него снова прием. Все незаметно здесь переходит в прием. Это у них положительно мания.
Удивительный аппарат для выпекания бубликов в масле я видел вечером на Бродвее.
В Ист-Сайде — русские конфеты, рыба, спички, выборы.
«Уличное стояние». Если бы Библии не сделали паблисити. Ответ Райнхарта: «Ей каждый день делают паблисити 25 000 священников».
Интерес повышенного типа.
Бешено летят в Нью-Йорк молочные цистерны, окаймленные зелеными огнями по борту.
Желтые рекламы на дороге. «Кто самый великий мужчина?» или «Женщина», или «Какой город самый старый?» Когда читатель привыкает, ему на таком же желтом фоне подсовывают рекламу. Придорожные стихи.
Американская реклама не занимается опорочиванием продуктов конкурента.
Папа энд мама лимитэд.
Вино требует времени и умения разговаривать. Поэтому американцы пьют виски.
Механическая скрипка.
Наш серый друг стоит у обочины.
Богатый мужик. Разбогател на золотых приисках, поехал в Париж на выставку и купил самое большое зеркало в мире. Через Америку его доставили. Пришлось для него построить специальный зал. Купил несколько дюжин венских стульев и позолотил их. Писать не умел.
Переменили измерители и поехали в Чикаго. По дороге была деревушка Москва, с гаражом Москва.
Плум-пудинг имеет удельный вес камня или платины.
Тяжелые кварталы Чикаго, даже пьеса идет «Дантов ад». Это хорошо бы снять, но день ужасный, темный, ничего нельзя сделать, безобразие.
Мистер Шурли.
Нечего сказать. Устроились! Поздравляю.
Фирма, торгующая честностью. Он может быть плутом, но его товар — честность. И можно не сомневаться в том, что они всё сделают хорошо.
Ежегодный конгресс бродяг.
Санта-Роза. <…> Мы устраиваемся в «Монтезума-отель», пошли обедать в «Ориджинел Мексикан-ресторан». Такой обед нужно подавать на стол вместе с огнетушителем.
Есть вещи, которых нельзя изменить. Сапоги можно снять, но нельзя научить человека смеяться по-русски, если он не видел русских, не жил с ними — это безнадежно.
Поговорите об этом после 12 часов с вашей бабушкой.
Где живет русская женщина? В Рио-Чикито, Нью-Мексико, Юнайтед Стейтс.
Если бы на Прометея напустить клопов. Укус клопа равен по силе укусу орла.
Когда торговая палата давала банкет, пели. Банкиры встали и пели. Морган, Рокфеллер и Форд тоже пели.
Ночью летят тяжелые автобусы в Чикаго, в Канзас-Сити, в Лос-Анджелес.
Каждый человек, родившийся на американской земле, — американец.
«Карьера фанатика». Книга, найденная в пустыне Аризоны.
Пустыня до Лас-Вегаса не песчаная, а поросшая пыльными букетиками.
Хранимая богом страна.
Трон прошел сквозь зеркальное окно, как привидение. Это было в прошлом году, в магазине Крайслера. Пробил стекло лбом и порезал палец. За стекло не заплатил на том основании, что раз он пошел в окно, значит, оно так устроено, что на окно не похоже.
Миссионер и его соседка. — Ты умеешь говорить по-французски. Переведи. — Я не говорю по-французски. — Но ведь ты говорила, что жила в двух часах езды от Парижа. — Я жила в Лондоне и говорила, что оттуда можно за два часа прилететь в Париж.
Образец сервиса. При выезде из Лас-Вегаса мы запутались, подъехала полис-машина, вышел полицейский, подошел к нам штрафной походочкой, но вместо этого — указал дорогу, выехав вперед, ехал впереди нас до поворота.
Заехали на пять минут в Секвойя-парк, выбрались только поздно ночью. Снег, лед, ужас, луна, холод.
Трон препарирует наших седоков.
Туман и блеск на дороге в Сан-Франциско. <…> Мы проезжали на пароме под строющимся мостом.
Если дорого иметь собаку, заводят себе детей.
Голливуд. <…> Визит в «Фокс студио» и «Уорнер бразерс». Чудный выдуманный город.
Америкашки, мексикашки.
Найт-клоб с рулеткой. Решетка, пускают только после совещания. Таинственно, глупо и скучно.
— Это же лесбиянки! — Ну, так сделаем их венгерками.
Поставил пьесу, открыл двери и всех пускал даром. Но публика не пошла.
Два разбогатевших польских еврея приезжают в замок Рейнгардта в Зальцбурге. Лакеи в чулках, бесчисленные свечи. Они удивились: — Что, у вас потухло электричество?
Сироп «Кока-кола». Человек нашел средство, как продавать его в 1000 раз больше, и получил миллион.
Голдвин в гостях у своей актрисы. Ему показывают солнечные часы. Он говорит: «Ой, что они теперь следующее выдумают!» «У моей жены такие красивые руки, что с них уже лепят бюст».
Лос-Анджелес — город ангелов, город падших ангелов, вымазанных нефтью.
Некрасивый, пустынный вокзал железной дороги Санта-Фе. <…> Покатили. Апельсиновые рощи, нефть, до самого горизонта стоят вышки, медвежьи, лохматые апельсиновые деревья. Удивительный закат. Комичное солнце, красное, вялое, помятое, совсем не гордое светило. Океан широкий, гордый и спокойный…Пустынно и страшно на душе.
В Чикаго, в «Стивенс-отеле», ходил пьяный американец, немолодой, в золотых очках, с попугайским носом.
Эйберсон приехал сюда в январе, из Сибири, в громадной шубе. Три недели он ее носил, изнывая от жары и не понимая, в чем дело. Он не мог понять, что в январе может быть жарко. Только знакомые научили его снять шубу.
Поля кактусов. Снимал до упаду. Песчаная пустыня. Через десять минут — просто пустыня, не песчаная, потом оазис. Только вместо верблюдов стояли в пальмовой тени автомобили, а вместо истопника была модерн газолиновая станция «Стандард-Ойл».
Закат, закат, и кактусы стоят, и жизнь, кажется, пропала.
Сияющие облака лежали не в небе, как всегда, а прямо на дороге.
Туман, сияющий туман уже с утра преградил нам дорогу.
Деньги уходят и жизнь тоже, кажется.
Страховому обществу выгодно, чтоб вы долго жили.
— Батарейка к черту пошла! — Что вы говорите?
Светлые волны Мексиканского залива. Серые и белые полны.
По дороге показалось голубое небо, и Мексиканский залив засверкал серым блеском.
Сцена на массовке. Налетчик предупреждает, что будет налет на кассу.
Вульгарный молодец с сигарой во рту. «Шур!»
Идет в темноте девочка и сама танцует.
Высоко в небе на тощей колонне маленький солдатик.
Утро сырое и темное.
1936
Старик вышел из строя, взволнованный природой, и забыл часы. Тогда всё вернулось на прежнее место.Умер плохо, в квартире еврея и в субботу.
Может быть, мы прошли в Америке стороной, но так уж вышло, и мы рассказываем о том, что сами видели.
Американские сказки об обогащении.
Этот человек кретин, но у него замечательные легкие.
Интеллигенты во всем мире узнают друг друга, как масоны. Это какая-то другая нация.
В Нью-Йорке красиво. Свежо, ветер дует, солнце. Только весь день впечатление, что закат. Дома такие высокие, что солнечный свет только наверху. И уже с утра закат. Мне грустно.
Ослепительный свет, но впечатление такое, что светит не солнце, а какая-то горячая луна. Декабрьский зной.
«Голливуд — это деревня! Это же факт!» — слышался русский голос на всю Калифорнию. Это кричал Тамиров. Никак он не мог привыкнуть к той мысли, что его сверстники по Художественному театру уже известные актеры.
Всё «мы» да «мы». Мы сказали, подумали мы. В общем, у нас болела голова. Кстати, как мы пишем вдвоем.
Старик деградировал.
Что мы увидели в Мексике. Стоял терский казак и дер жал в руках «Новое русское слово».
Дорога из Лос-Анджелеса в Сан-Диего. Мокрое дно отражало солнце. Оба солнца двигались за поездом.
Город, захваченный в плен автомобилями. Нью-Йорк — это город, где живут два миллиона автомобилей.
Закат в Нью-Йорке. Уолл-стрит. Прощай, Америка! Город головной боли.
Восхождение на «Эмпайр».
Последний рейс «Маджестика».
Всё мы да мы. У нас болела голова.
Как же вы пишете вдвоем?
На Крохмальной улице в Варшаве. И здесь, по другую сторону океана, те же Бени Крики.
Шлакобетонные взгляды. Лошадей и мулов везут в грузовиках. Печально торчат уши из высоких кузовов.
Почему американцы не пьют вина.
Маяки аэродромов.
Мне не повезло.
* * *
Композиторы пишут доносы друг на друга на нотной бумаге.Веселые паралитики.
— Вы меня слышите? — Да, я вас слышу. — И я вас хорошо слышу.
— Да вот, — сказал композитор с удивлением, — меняначали прорабатывать.
Сумбурники, какофонисты, пачкуны и бракоделы.
Перестаньте писать, надоело.
Тут даже лучшие друзья отвернулись.
Ардов сказал, что нам нужен кооперированный частник. Собрание дало ему резкий отпор.
* * *
Притащили они этого старичкана.Он прибежал как бобчик.
Путешествие с Барбюсом, переводчицей и двумя абхазскими милиционерами в Цебельду для встречи со старцем 140 лет, Шпаковским. «Пока он там налаживает свой объектив и негатив…» Абхазцы все время интересовались, живет ли Барбюс со своей переводчицей. Барбюс сказал бы, что это…
Тут они забесновались в своей комнате.
— Это вы будете товарищ Ильфук? — Это я. — Вам телеграмма.
Железный, несгораемый Ильфук, страшилище детей.
Мальчик-статист кричит со сцены: «Лиза, ты меня видишь? Это я!»
Копл говорил, как англичанин, и еще подлязгивал клыками.
Мама пошла к старцу, которому два человека подымали брови. От волнения и усталости не слышала его ответа. Снова два дня под солнцем, взятки и подымание бровей.
Могильщик говорил: «Вы мертвых не бойтесь. Они ничего вам не сделают. Вы бойтесь живых».
«Не говорите мне про вещь! Это была вещь. Теперь это уже не вещь. Теперь это водопровод».
Монгол играет в шахматы. — Это ерунда вопрос. — Минутычек! Минутычек!
Витя был очень возмущен тем, что учительница говорила: «До свиданьица». «Кружавчики».
Записывает книжечку до конца деловыми телефонами и адресами, а потом выбрасывает, начинает новую.
Когда царю подносили тору, ему тоже было неприятно, но он терпел.
Разговор с Витей. — Как ты относишься к еде? — Презрительно. — Почему? — Это мне лишняя работа. Утруждает меня.
Писем я не получаю, телеграмм не получаю, в гости ко мне не приезжают. Последний человек на земле.
Из отчета: «Заметно растет товарищ Муровицкая».
Необыкновенно вульгарный человек. Он выражался:
Дайте тую, что ближе…» или «Топай, топай кверху…»
Говорил он — на смерть. Оратор он был — на смерть.
Он очинил карандаш в бумажку.
Я так на это посмотрел, туды-сюды.
Лох. Из семейства лоховых.
Поцелуй в диафрагму. Он думал, что в самом деле целуют диафрагму.
Увидев, что молодые люди не сводят глаз с его жены, старик стал солить рыбу. — Надо портить себе удовольствие, — говорил он. — Сколько же надо солить вашу жену, чтобы сделать гс не такой сладкой, — сказал один из учеников.
Антоша, добрый, в широких штанах.
Тут только самое сало и завязывается, после обеда.
Корней говорил: «Любитель я разных наций».
Говорил с нахальством пророка.
Ваш пропуск для нас не существует.
Соедините меня с Крымэнерго. Севастополь! Севастополь! Дайте Крымэнергию! Это Крымэнергия?
Зажим удава.
Здесь собралось туч на три сезона.
Он спал на тюфяке твердом, как корж.
Он имел кличку — «Ай, мамочка!»
Он был совершенно испорчен риторикой. Простые слова на него не действовали.
Кто измерит глубину моего отчаяния?
Я сижу в голом кафе «Интуриста» на набережной. Шторм. Вой бесконечный, как в печной трубе. Я хотел бы, чтобы моя жизнь была веселей, но, кажется, уже не выйдет. «Крым» отваливает в Одессу. Садится кормой.
Он повторял с упорством: «Из моей жизни можно на писать сценарий».
Фонароглу рассказывал, что старый князь был уже стар и не мог ее «удоглетворить».
С закусью или без закуси?
Возвращено вам кольцо, прядь волос, письма, возвращено все, что вы думали обо мне, и снова повторяю: забудьте все, что я говорил вам (роман).
Алешки да Пашки (рассказ).
Осадок. Всегда осадок. Приезжаешь к морю. Разочарование — оно могло бы быть больше. Они могли бы написать лучше. Откуда они знают, что мы могли.
Счастье пижона. Список побед.
Слезливый эгоист.
«Я истратил на бессмысленный телефонный разговор 45 копеек. Верните мне эту сумму».
Если человек мне подходит, я нуждаюсь в нем уже всегда, каждую минуту.
Незначительный кустарник под пышным названием «Симфорикарпос».
Бронзовый румянец на щеках тети Фани.
Он стоял во главе мощного отряда дураков.
— Что вас больше всего на свете волнует? — спросил девушку меланхолический поэт.
— Таким образом, — как говорит Витя.
Синеглазая мама.
Перед приездом он сиял, как рыжий ангел.
— На ваших грудях, — сказали на собрании.
Окопный обед.
У нас уважают писателя, у которого «не получается».
«Они могли бы написать лучше». А откуда они знают, что мы могли бы написать лучше?
Страдания богатого человека.
Слезы восторга.
Жеманство в стихах и статьях. Век жеманства.
«Пуля пробегает по виску». Что она, лошадь? Или клоп?
Выпьем за тех, у кого получается.
Если бы Толстой писал так туманно, как Павленко, никогда бы мы не узнали, за кого вышла замуж Наташа Ростова.
«Наряду с достижениями есть и недочеты». Это вполне безопасно. Это можно сказать даже о Библии. «Наряду с блестящими местами есть идеологические срывы, например, читателя призывает автор верить в бога».
Нам в издательстве нужен педантизм, рутина, даже бюрократизм, если хотите.
Живут в беспамятстве.
Лайонс говорил: «Я хочу видеть вас голой в постели».
Пошла в ход калинушка да малинушка.
Веселые частюшки.
Нездоровая тяга к культуре.
Не только поит и кормит, а закармливает и спаивает.
Внизу вечно хлопают автомобильные дверцы.
Пишет стихи, словно выбирает почетный президиум. Обязательно упоминается весь состав.
То, что он живет в одном городе со мной, то, что я могу в любую минуту ему позвонить, тревожит меня, делает мою жизнь тревожной.
Плотная, аккуратная девушка, как мешочек, набитый солью.
Бокал яда за ваше здоровье!
Пригласительный билет. Костюм обычный.
* * *
Человек без профессии.Страна Возмездия. У нас можно быть дураком три года. Бич божий. Дым пожаров.
Цыганский театр. Комнатный цыганский театр. Цыганский государственный коридорный театр.
Фабрика походных кроватей, так называемых раскладушек.
Нелегко было заметить. Он много работал и был крикуном. Если бы он чему-нибудь научился, то был бы полезным человеком. Смог ли бы он продавать билеты в трамвае?
За глупость и бесталанность.
Стимул. Мы старые беспартийные, вам, может быть, все равно, а мне больно, больно, товарищи.
А сколько вынес?
Золотой фонд. Железный инвентарь.
Список людей, получающих квартиры. Список людей, умеющих работать.
Пьеса. Сняли. Другая пьеса. Тоже сняли.
Писал историю литературы по источникам.
Творческий документ.
Пишут к юбилеям.
Уважают тех, у кого не получается.
Книжная инфляция.
Выпьем за тех, у кого получается, и получается хорошо. С Новым годом, с новым счастьем.
Писать надо много и хорошо.
Что происходит, товарищи?
Это было в то счастливое время, когда Сельвинский занимался автогенной сваркой.
Это было в то странное время…
Сентябрь 1936 — начало апреля 1937
В долине Байдарских ворот. Как строили город. Пресную воду привозили на самолетах и выдавали ее режиссерам по одной чашке в день. А у Гришки в палатке стояла целая бочка пресной воды. Это так волновало режиссеров, они так завидовали, что работать уже не могли и массами умирали от жажды и солнечных ударов. Долина талантов была переполнена трупами. Гришка на верном верблюде бежал в «Асканию-Нова», где его по ошибке скрестили с антилопой на предмет получения мясистых гибридов. Гибрид получился солнцестойкий, но какой-то очень странный.Спор шел о картинах одного художника. «Это же фотография!» — «Хорошо, но что бы говорили пятьдесят лет тому назад, до изобретения фотографии!»
Стачка бильярдистов. Бунт идиотов.
Декламация. Абас-Туман покрыл туман.
Человек из свечного сала.
Палочки выбивают бешеную дробь о барабанную перепонку.
Всё, что вы написали, пишете и еще только можете написать, уже давно написала Ольга Шапир, печатавшаяся в киевской синодальной типографии.
Варшавский блеск. Огни ночного Ковно. Гришкино счастье.
Такой грозный ледяной весенний ветер, что холодно и страшно становится на душе. Ужасно, как мне не повезло.
Остап мог бы и сейчас пройти всю страну, давая концерты граммофонных пластинок. И очень бы хорошо жил, имел бы жену и любовницу. Всё это должно кончиться совершенно неожиданно — пожаром граммофона. Небывалый случай. Из граммофона показывается пламя.
Майка Либкнехт говорит: «Я с тобой не возус». Ей четыре года, но она говорит, что ей два. Редкое кокетство.
Он обязательно хотел костюм с двумя парами брюк. 11ортной не мог этого понять: «Зачем вам две пары брюк? Разве у вас четыре ноги?»
Такой тут отдыхает Толя, фотограф, очень жизнерадостный человек. Когда садится играть в домино, громко говорит: «Ну, курс на сухую, а?»
Гадкие, низкопробные мальчики.
Из книги о шулерах, написанной бывшим шулером: «Шулер должен иметь хорошо развитый большой палец правой руки и абсолютно здоровое сердце». И еще: «При такой складке пижонам нет спасения».
Кто же такие пижоны? Пижоны это все те, которые не дергают.
Философ из шашлычной. Раньше зависть его кормила, теперь она его гложет.
В приемную Союза писателей вошел небритый человек в дезертирской ватной куртке и сказал, что он двоюродный брат Шолохова, что он возвращается из лагеря на родину, что в дороге его обокрали, что он, с женой и ребенком, нуждаются в помощи — деньги на билеты до Миллерова, на харчи и прочее. Секретарша пошла к Кирпотину и вышла оттуда с сообщением, что Союз не имеет средств на пособия двоюродным братьям писателей. Двоюродный брат мягко сказал: «Но ведь Миша вам все вернет!» Но, увидев, что и это не действует, вдруг заныл с опытностью старого стрелка: «Где же прогресс! Где же культура! Что же это такое!» Он еще долго вопил: «Где же прогресс, где же культура» с таким видом, словно ни ми нуты не мог обойтись без культуры и прогресса. Конца этой сцены я не знаю, я ушел.
Железная бестия.
Генерал от инфантерии Мылов, лейтенант Гадд, под полковник Бенуа, 3-го Восточно-Сибирского мортирного дивизиона подполковник Бонч-Осмоловский, князь Ган Тимуров, подполковник Жеребцов, капитан Кватц, Фицкий, Кукурекин, Музеус, отставной генерал-майор Петруша, храбрый капитан Соймонов, вольнопер Холодец кий, барон Фон-Фонов, рядовой Ефим Провизион. отчаянной жизни человек, и прочие, и прочие, включая сюда дворянина Ножина и военного корреспондента Купчинского, который по большей части занимался тем, что вбегал с криком: «Спасайтесь! Японцы! Спасайтесь, господа!»
Процесс защитников Порт-Артура.
Ксидо [Ксида]. В нем вдруг и с необыкновенной силой пробудились: древнееврейское влечение к золоту и новогреческая страсть к торговле.
Он неизменно повторяет, когда пишет рецепт: «Аспирин… ин таблетис». «Тоны сердца чистые» и так далее.
«В конце концов, я тоже человек, — закричал он, появляясь в окне. — Что это? Дом отдыха или…» Он не окончил, так как сознавал сам, что это давно уже не дом отдыха. а это самое «или» и есть.
Утешало его только то, что сорок миллионов лет тому назад все люди были такие.
Соседом моим был молодой, полный сил идиот.
Приап домов отдыха. Я встретил его зимой. Он был в дорогой шубе и шапке из меха черной пантеры.
Раньше, перед сном, являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландской битвой. Я долго рассматривал пустые гавани. и это меня усыпляло. Несколько десятков тысяч людей находились в море. А в гаванях было тихо, пусто, тревожно. Теперь нет этого. Всё несется в диком беспорядке, н просыпаюсь ежеминутно. Надоело.
Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников. «А на третье был компот из вишен». Сообщается это таким тоном, как если бы говорили о бегстве Наполеона с острова Эльбы. «Вы таете, Бонапарт высадился во Франции».
«Так тихо, будто вся Англия спит».
Повалился забор, выгнувшись, как оперение громадной птицы. Дачная картина.
Один молчал, когда надо было говорить. Другой говорил, когда надо было молчать. Третий работал в поезде. Четвертый был юнкером. Семнадцать лет этого не знал никто. Но города гибнут, миллионы людей исчезают, а бумажка остается. Выкинули и того, который говорил, выкинули и того, который молчал. Справедливый финал.
В первоклассном кафе официантка на просьбу дать нарзан отвечает: «Подояедете!»
Петух с акцентом. Валерьян Каплин, новый шофер.
«Эфектники». Это настоящая тема. Папиросы «Дефект», красивое название.
Ели косточковые, играли на щипковых.
Оскорбленный голос писательницы: «Товарищи, дайте мне доформулировать». Ах, какая беда, не дают дофор-мулировать.
Рассказ домработницы: «На ней были фиолетовые чулки бежевого цвета». Выходило довольно складно.
«Ни для кого не является секретом…»
Синеглазые старухи.
И ели калачи.
Жил на свете человек с проволочными зубами. Сказка.
Сентрал-парк — это парк, в котором гуляют автомобили.
Тоскующий содомит. Красивое выражение.
«Здесь нет ни капитана, ни матроса».
Лучше всего взять самое простое, самое обычное. Не было ключа, открывал бутылку с нарзаном, порезал себе руку. С этого всё началось.
Когда усилилось преподавание истории в школе, все узнали, кем была Мессалина, и Матрена, переменившая имя на Мессалину, оказалась в безвыходном положении.
В довольно большом городе на Волге. Долго спорили, выбирали стиль, местная общественность почему-то склонялась к архаическому древнегреческому, наконец выбрали, построили набережную эпохи божественного Клавдия, но с пальмами, голубыми елями и туями. Когда всё было готово, набережная сползла в реку, поскольку, увлекшись архаикой и клавдианским стилем, забыли об оползнях. И долго еще голубые ели плыли вниз по течению, а римский парапет виднелся на дне реки. Но граждане не обратили на это никакого внимания. Их увлекла новая идея, рядом со своим городом создать еще один — киногород. Зачем это им нужно было, они и сами не знали, но очень хотелось. Поскольку клавдианский стиль себя скомпрометировал окончательно, киногород решили строить в архаическом древнегреческом роде, однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции — одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть. Описать жизнь одной группы в Афинах и жизнь другой в Голливуде. По ошибке единственный человек, говоривший по-английски, был включен в афинскую группу и бессмысленно оглашал криками «Гау ду ю ду» маленькие площади афинского Акрополя. Приключения в Голливуде кончились более трагически — один из членов экспедиции, изучая кинематографическую технику, был случайно утоплен во время съемок «Мятеж на 1к>унти». За него была уплачена большая страховая премия, и на эти деньги совершенно спились остальные участники экспедиции. Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона. Члены экспедиции у молокан. Чаепитие и исполнение духовных гимнов. Удивительный разговор о попах в Сан-Франциско. Прах утонувшего был сожжен, и члены экспедиции постоянно таскали с собой небольшую погребальную урну из пластмассы. В Афинах тоже было не сладко. Отпущенные драхмы скоро иссякли, новые переводы не приходили, а изучение колонного дела подвигалось очень медленно вперед, потому что изучать старые поломанные здания было неинтересно, а смотреть на классический фронтон местного банка противно, всё из-за того же неприбытия перевода. В конце концов, обе группы встречаются в Париже, в «Сфинксе». Со страхом они возвращаются в родной город. Впрочем, о них уже забыли, и никакое наказание им не угрожает. Они сами вскоре не понимают уже, были ли в Афинах, ходили ли по берегу Тихого океана. Иногда только спросонок кто-нибудь из них заорет: «Ту дабл бэд». И это всё.
Свет не зажигают из экономии и чай пьют в темноте.
Жила на свете тихая семейка: два брата-дегенерата, две сестрички-истерички, два племянника-шизофрени ка и два племянника-неврастеника.
Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников. Психопаты, покупайте продукты питания только здесь!
Лису он нарисовал так, что ясно было видно — моделью ему служила горжетка жены.
Появилось объявление о том, что продается три метра гусиной кожи. Покупатели-то были, но им не понравилось — мало пупырышков.
В зале, где висели портреты композиторов с розовыми губами и в белых париках, это, как говорят, не звучало. Внезапно запел аккомпаниатор. Он был похож на собаку и усердно скреб лапами по клавишам.
В коммунальной квартире жил повар Захарыч. Когда он напивался, то постоянно приставал к своей жене: «Я повар! А ты кто? Ты никто». Жена начинала плакать и говорила: «Нет. я кто! Нет, я кто!» Наконец ее устроили на службу в музей при Антропологическом институте, уборщицей. Новое дело ей очень понравилось, и в квартире она сообщала соседкам новости: «Знаете, а у нас расовый отдел закрыли. Ремонт будут делать». Она даже повела одну из соседок в музей, и та долго потом приставала к антропологу с вопросом: «А что это у вас там жареный мужик лежит?» Это она видела мумию.
Они сейчас начинающие писатели, но никак не могут этого понять. Им всё кажется, что они главные.
Был он всего только сержант изящной словесности.
Он пришел в шинели пехотного образца и сразу же, еще в передней, начал выбалтывать государственные тайны.
Что вы смотрите на меня глазами газели, которой внезапно овладел беспартийный козел?
Мы пойдем вам навстречу. Я буду иметь вас в виду. Мы будем иметь вас в виду, и я постараюсь пойти вам навстречу. Всё это произносится сидя, совершенно спокойно. не двигаясь с места.
Книжная инфляция, болезнь изнурительная, вроде сахарного мочеизнурения.
Это было в то счастливое время, когда поэт Сельвинский, в целях наибольшего приближения к индустриальному пролетариату, занимался автогенной сваркой. Адуев тоже сваривал что-то. Ничего они не наварили. Покойной ночи, как писал Александр Блок, давая понять, что разговор окончен.
Биография Пушкина была написана языком маленького прораба, пишущего объяснения к смете на постройку кирпичной кладовки во дворе. «Материальное обеспечение» и так далее. В одной фразе есть: «вступление, владение, выяснение» и еще какое-то «ение».
Одной наивностью теперь не возьмете, дорогой мой. Надо еще и думать иногда. Одним темпераментом не обойдетесь.
Один архитектор-формалист построил тюрьму, из которой арестанты выходили совершенно свободно. За это его поместили в здание, построенное голым и грубым натуралистом. Он, видите ли, не учел специфики здания.
На дискуссии он признался не только в формализме, но и бюрократизме, а также волоките.
Воскобойников и Хладобойников. Два друга.
«Мы ваш творческий метод будем обсуждать в народном суде», — сказал Фартучный.
«Там твои детки кушают котлетки, масло копают — со-бакам бросают».
Старый Артилеридзе.
Броунского толстого мальчика дети зовут «Жиртрест». Это фундаментальный, очень спокойный и неторопливый мальчик.
Сдавала экзамен на кошку.
«За ней, как тигр, шел матрос. Вплоть до колен текли ботинки, являли икры вид полен. Взгляд обольстительной кретинки светился, как ацетилен».
Солнцестойкий полуостров. Конечно, когда он приехал в Голливуд, ему всё там очень понравилось. Всюду продают апельсиновый сок, дороги великолепные, силы и света сколько угодно.
Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит?
В зале три женщины внимательно осматривали четвертую, на которой была розоватая вязаная шаль. И та достойно позволяла себя осматривать, понимая, что есть, чем заинтересоваться.
«В колхозе огромный подъем. За зиму отпраздновано больше 100 свадеб. Лучшие женихи достались пятисотницам». Боже, как это далеко от того идеала, который рисовал нам Ванька Макарьев!
И в некотором отношении безусловно достигает ходульности Кукольника.
Поедем в Крым и сделаемся там уличными фотографами. Будем босиком ходить по пляжу, предлагая услуги. Босиком, но в длинных, черных штанах.
Вчера, в 4 часа утра, в 22-е отделение московской милиции явился посетитель в странном костюме. На нем были верхняя рубашка, воротничок, трусики и легкие туфли. Вошедший назвался консультантом союза смешанной кооперации Крайнего Севера. Он был пьян. Я вижу, что явления в смешанной кооперации ничем, собственно, не отличаются от явлений в кооперации несмешанной и что на Крайнем Севере система обращения с казенными деньгами та же, что и на юге, а также в равнинной части страны.
Так вот она, хранимая богом страна. Божья страна.
Наконец-то! Какашкин меняет свою фамилию на Любимов.
Феерическая, портовая ночь. Сиянье ламп и проч.
Сутяга Джефи прибыл из Америки.
Чулочно-носочные изделия. Рисунчатые носки.
Из люков в Нью-Йорке подымается дым. Пьяный Чарльз кричал, что это дышит великий город.
Парикмахер с удивлением говорил: «Вот это бородка! Это с добрым утром! Тут до вас один армянин приходил. Вот это две бородки! Это с добрым утром!»
Неужели и у меня такая борода будет? У тебя такой бороды не будет! Почему не будет? Это выдающая борода.
Бог прислал меня к вам, чтобы вы дали мне работу.
Мальчики бежали за шарманщиком и называли его шарманистом.
В четырнадцатом году магараджа Биканира прислал в распоряжение британского правительства полк сикхов.
Желаю счастья. Конец письма.
Как продают пылесос в Америке. «Ваш старый пылесос — это очень хороший прибор, но вы, наверное, заметили, что вместе с пылью он высасывает часть вашего ковра».
Это был молодой римский офицер. Впрочем, не надо молодого. Его обязательно будут представлять себе кавалером в красивом военном наряде. Лучше, чтоб это был пожилой человек, грубоватый, может быть, даже неприятный. Он уже участвовал в нескольких тяжелых походах против каких-то голых и смуглых идиотов. Он уже знает, что одной доблести мало, что многое зависит от интендантства. Например, доставили такие подбородные ремни, что солдаты отказываются их носить. Они раздирают подбородки в кровь, такие они жесткие. Итак, это был уже немолодой римский офицер. Его звали Гней Фульвий Криспин. Когда, вместе со своим легионом, он прибыл в Одессу и увидел улицы, освещенные электрическими фонарями, он нисколько не удивился. В персидском походе он видел и не такие чудеса. Скорее, его удивили буфеты искусственных минеральных вод. Вот этого он не видел даже в своих восточных походах.
«Даже внуки внуков не могли без ужаса слушать рассказ о том, как Ганнибал стоял у ворот Рима» (Моммзен).
«Ну ты, колдун, — говорили римляне буфетчику, — дай нам еще два стакана твоей волшебной воды с сиропом «Свежее сено»». Фамилия буфетчика была Воскобойников, но [он] уже подумывал об обмене ее на более латинскую. Или о придании ей римских имен. Публий Сервилий Воскобойников. Это ему нравилось.
Легат посмотрел картину «Спартак» и приказал сжечь одесскую кинофабрику. Как настоящий римлянин он не выносил халтуры.
Мишка Анисфельд, известный босяк, первым перешел на сторону римлян. Он стал ходить в тоге, из-под которой виднелись его загорелые плебейские ноги. Но по своей родной Костецкой он не рисковал ходить. Там над ним хихикали и называли консулом, персидским консулом. Что касается Яшки Ахрона, то он уже служил в нумидийских вспомогательных войсках, и друзья его детства с завистливой усмешкой говорили ему: «Слушай, Яша, мы же тебя совсем не держали за нумидийца». Яшка ничего на это не отвечал. Часто можно было видеть его на бывшей улице Лассаля. Он мчался по ней, держась за хвост лошади, как это принято среди нумидийцев. Шура Кандель, Сеня Товбин и Трубочистов-второй стали бриться каждый день. Так как они и раньше, здороваясь, вытягивали руку по-римски, то им не особенно трудно было примениться к новому строю. На худой конец, они собирались пойти в гладиаторы и уже сейчас иногда задумчиво бормотали: «Идущие на смерть приветствуют тебя». Но мысль о необходимости сражаться голыми вызывала у них смех. Впрочем, крайней нужды в этом еще не было, потому что от последнего налета они еще сберегли несколько десятков тысяч сестерций и часто могли лакомиться сиропом «Свежее сено» и баклавой у старого Публия Сервилия Воскобойникова. Они даже требовали, чтобы он начал торговлю фазаньими языками. Но Публий отговаривался тем, что не верит в прочность римской власти и не может делать капиталовложений. Римлян, поляков, немцев, англичан и французов Воскобойников считал идиотами. Особенно его раздражало то, что римляне гадают по внутренностям животных. Громко он, конечно, говорить об этом не мог, но часто шептал себе под нос так, чтобы солдаты, сидящие за столиками, могли его слышать: «Если бы я был центурион, я бы этого не делал». Если бы он был центурионом, то открыл бы отделение своего буфета на углу Тираспольской и Преображенской, там, где когда-то было кафе Дитмана. В легионе, переправившемся через Прут и занявшем Одессу, было пятнадцать тысяч человек, это был легион, полностью укомплектованный — грозная военная сила. Легат Рима жил во дворце командующего округом, среди громадных бронзовых подсвечников. Так как раньше здесь был музей, то у основания подсвечников помещались объяснения, в которых бичевался царский строй и его прислужники. Но легат не знал русского языка. Кроме того, он был истинный республиканец и к царям относился недоброжелательно. В своей душевной простоте он принимал девушек, завербованных среди бывших фигуранток «Альказара», за финикийских танцовщиц. Но больше всего ему нравилась «Молитва Шамиля» в исполнении танцоров из «Первого государственного храма малых форм». И иногда легат сам вскакивал с ложа и. прикрыв глаза полой тоги, медленно начинал «Молитву». Об этом его безобразном поведении уже дважды доносил в Рим один начинающий сикофант из первой когорты. Но в общем жизнь шла довольно мирно, пока не произошло ужасающее событие. Из лагеря легиона, помещавшегося на Третьей станции Большого фонтана, украли все значки, случай небывалый в военной истории Рима. При этом нумидийский всадник Яшка Ахрон делал вид, что ничего не может понять. Публий же Сервилий же Воскобойников утверждал, что надо быть идиотом, делая такие важные значки медными, а не золотыми. Двух солдат, стоявших на карауле, распяли, и об этом много говорили в буфете искусственных минеральных вод Публия Сервилия Воскобойникова. На другой день значки были подкинуты к казармам первой когорты с записочкой: «Самоварное золото не берем». Подпись: «Четыре зверя». После этого разъяренный легат распял еще одного легионера и в тоске всю ночь смотрел на Наурскую лезгинку в исполнении ансамбля «Первой госконюшни малых и средних форм».
Резкий звук римских труб стоял каждый вечер над Одессой. Сначала он внушал страх, потом к нему привыкли. А когда население увидело однажды Мишку Анисфельда, стоящего в золотых доспехах на карауле у канцелярии легата, резкий вой труб уже вызывал холодную негодяйскую улыбку. У Мишки Анисфельда были красивые белые ноги, и он пользовался своей новой формой, чтобы сводить одесситок с ума. Он жаловался только на то, что южное солнце ужасно нагревает доспехи, и поэтому стоял в карауле с тремя сифонами сельтерской воды. Легат угрожал ему распятием на кресте за это невероятное нарушение военной дисциплины, но Анисфельд, дерзко улыбаясь, заявил на обычном вечернем собрании у Воскобойникова: «А может, я его распну. Это еще неизвестно». И, если вглядеться в холодное красивое лицо легионера, то действительно становилось совсем не ясно, кто кого распнет.
Приезд в Одессу Овидия Назона и литературный вечер в помещении Артистического клуба. Овидий читает стихи и отвечает на записки.
Драка с легионерами на Николаевском бульваре. Первый римский меч продается на толчке. В предложении также наколенники, но спроса на этот товар нет.
Одесса вступает в сраженье. Черное море, не подкачай! Бой на ступеньках музея Истории и Древностей. Бой в городском саду, среди позеленевших львов. Публий Сервилий Воскобойников принимает участие в битве. Яшка Ахрон давно изменил родному нумидийскому войску и дезертировал. В последний раз он промчался по улице бывшей Лассаля, держась за хвост своего верного скакуна. Уничтожение легионеров в Пале-Рояле, близ кондитерской Печеского. Огонь и дым. По приказанию легата поджигают помещение «Первой госконюшни малых и средних форм».
Сенька Товбин — голубоглазый, необыкновенно чисто выбритый, пугающий своей медлительной любезностью. Глаза у него, как у молодого дога, ничего не выражают, но от взгляда его холодеет спина. Трубочистов-младший — дурак, но способен на всё. Жизнерадостный идиот. На гладиаторских играх, устроенных по приказу легата, он кричал: «в будку!», вел себя, как в дешевом кино, как в кино «Слон» на Мясоедовской улице. У него громадная улыбка, она занимает много места.
«Божественный Клавдий! Божественный Клавдий! Что вы мне морочите голову вашим Клавдием! Моя фамилия Шапиро, и я такой же божественный, как Клавдий! Я божественный Шапиро и прошу воздавать мне божеские почести, вот и всё».
Режиссеры говорят: «Назад к Островскому», а публика орет: «Деньги обратно».
Расскажите это вашей бабушке после двенадцати часов ночи, как говорят американцы.
Худая, некрасивая, похожая на ангела, Мари Дюба. Лопатки у нее торчат, как крылья.
Девочки в гимназии на вопрос: «Чем занимается ваш папа?» — всегда отвечали: «Онанизмом». Было модно отвечать именно так.
«Когда я вырасту и овладею всей культурой человечества, я сделаюсь кассиршей».
Баронесса Гаубиц.
Орден Контрамарки.
Я подумал: «Какая у Виктора строгая теща». Оказалось, это была Ахматова.
Поздно вечером я еду в Красково. На дороге ни одного указания, куда она ведет. Сами должны знать, куда ведет. Идут машины без красных огней. Некоторые движутся с потухшими фарами. Один грузовик стоит на дороге, не оградив себя огнями. Велосипедисты, как правило, едут без красного сигнала. Пешеходы беспечно прогуливаются по дороге. Слышна гармоника. В общем, как говорят французы, вы едете прямо в открытый гроб.
Яшка Ахрон, герой романа.
«Двенадцать часиков пробило, вся публичка домой пошла. Зачем тебя я полюбила, чего хорошего нашла».
По улице шли братья Тур, чистенькие, прилизанные, похожие на тель-авивских журналистов.
У баронессы Гаубиц большая грудь, находящаяся в полужидком состоянии.
Всё войдет: и раскаленная площадка перед четвертым корпусом, и шум вечно сыплющегося песка, и новый парапет, слишком большой для такой площадки, и туман, один день надвигающийся с моря, а другой — с гор.
Бесконечные коридоры новой редакции. Не слышно шума боевого, нет суеты. Честное слово, самая обыкновенная суета в редакции лучше этого мертвящего спокойствия. Аппарат громадный, торопиться, следовательно, незачем, и так не хватает работы. И вот все потихоньку привыкли к безделью.
На таких бы сотрудников набрасываться. Пишите побольше, почему не пишете? Так нет же. Держат равнение. Лениво приглашают. Делают вид, что даже не особенно нуждаются.
Начинается безумие. При каждом кабинете уборная и умывальник. Это неплохо. Но есть еще ванная комната и, кажется, какая-то закусочная.
В этой редакции очень много ванн и уборных. Но н ведь прихожу туда не купаться и не мочиться, а работать. Между тем работать там уже нельзя.
Если это записная книжка, то следовало бы писать подробнее и ставить числа. А если это только «ума холодных наблюдений», тогда, конечно… Начет я записывать в Остафьеве, потом делал записи в Кореизе, теперь в Малаховке.
Иприцкий. Бахвалов.
Полынский. Братья Ковалики. Сестры Рабинович. И просто какой-то Набобов. «Путь к золоту» Альшанского. Паводок, лесные пожары, потом обмеление реки. Всегда приятно читать перечисление запасов. Запасов какой-нибудь экспедиции. Поэтому так захватывает путешествие Стенли в поисках Ливингстона. Там без конца перечисляются предметы, взятые Стенли с собой для обмена на продовольствие.
Я ехал в международном вагоне. Ну, и очень приятно! Он подошел ко мне и извиняющимся голосом сказал, что едет в мягком, потому что не достал билета в международный. Эта сволочь считает, что если он едет в мягком вагоне, то я не буду его уважать, что ли?
Название для романа, повести: «Ухо». «Палки». «Подоконник». «Форточка».
Уже похороны походят на шахматный турнир и турнир на пышные похороны.
«Когда вы это могли, тогда еще не было телефона».
«Форточка», роман в трех частях с эпилогом.
«Блин», повесть.
Это постоянное состояние экзальтации уже нельзя переносить. Я тоже любил его, но мне никто не поверит, я не умею громко плакать, рвать свою толстую грудь ногтями.
Шахматы, затмение, запрещение абортов, не слишком ли много переживаний?
Большинство авторов страдает наклонностью к утомительной для читателя наблюдательности. Кастрюля, на дне которой катались яйца. Ненужно и привлекает внимание к тому, что внимания не должно вызывать. Я уже жду чего-то от этой безвинной кастрюли, но ничего, конечно, не происходит. И это мешает мне читать, отвлекает меня от главного.
«Кто Багрицкого хоронит,
Кто сухой пает несет».
Вечерняя газета писала о затмении солнца с такой гордостью, будто это она сама это устроила.
Сан-Диего в Калифорнии, где матросы ведут под ручку своих девочек, торжественные и молчаливые.
Список замученных опечаток.
Раздался хруст — упал линкруст.
Художники ходят по главкам, навязывают заказы. «Опыт предыдущих лет… Голландская живопись… По инициативе товарища Беленького…» Деньги дают легко. Главконсерв. Табаксырье. Главчай. Товарищ Махарадзе. Деньги дали из фонда поощрения изобретений.
Композиторы уже ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге.
Истощенные беспорядочными половыми сношениями и абортами, смогут ли они что-нибудь написать?
Вот здесь-то и разыгралась величественная эпопея под названием «Пушкин, Пушкин, где вы?».
Веселые паралитики.
«Пойдем в немецкий город Бремен и сделаемся там уличными музыкантами».
В одной комнате собрались сумбурники, какофонисты, бракоделы и пачкуны.
На съезд животноводов приехал восьмидесятилетний пастух из Азербайджана. Он вышел на кафедру, посмотрел вокруг и сказал: «Это какой-то дивный сон».
Встретил коварного старичка в золотых очках.
Позавчера ел тельное. Странное блюдо! Тельное. Съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное. Идиллия.
Лондонское радио: «Жизнь короля Георга Пятого медленно движется к своему концу».
Полное медицинское счастье. Дом отдыха милиционеров. По вечерам они грустно чистили сапоги все вместе или с перепугу бешено стреляли в воздух.
Английское радио: «Кинг Джордж из деад».
Дом переполнен детьми и половыми психопатками, которые громко читают Баркова.
Поэма экстаза. Рухнули строительные леса, и ввысь стремительно взлетели строительные линии нового замечательного здания. Двенадцать четырехугольных колонн встречают нас в вестибюле. Мебели так много, что можно растеряться. Муза водила на этот раз рукой круглого идиота.
Дом отдыха в Остафьеве, переполненный брошенными женами, худыми, некрасивыми, старыми, сошедшими с ума от горя и неудовлетворенной страсти. Они собираются в кучки и вызывающе громко читают вслух Баркова. Есть от чего сойти с ума. Мужчины бледнеют от страха. Белые, выкрашенные известкой колонны сами светятся. На соломенных креслах деловито отдыхают Саша и Джек. Брошенные жены смотрят на них с благоговением и яростной надеждой на совокупление. Поэты ломаются, говорят неестественными голосами «умных вещей». Мы с Арнштамом подымаемся и идем к памятнику Пушкину. Александр Сергеевич, тонконогий, в брюках со штрипками, вдохновенно смотрит на Гельмута Карловича Либкнехта, который, согнувшись, бежит на лыжах. Мы возвращаемся назад и видим идущего с прогулки Борю в коротком пальто из гималайской рыси. Он торопится к себе на второй этаж рисовать «сапоги». «Фармахт», — кричит он на ходу. Что сегодня на обед? Суп женский, котлеты по-жарски, отвечаем мы. Так идет жизнь, не очень весело и не совсем скучно. Вечером брошенные жены танцуют в овальном зале с колоннами. Здесь был плафон с нимфами, но люди из хозуправления их заштукатурили. Брошенные жены танцуют со страстью, о которой могут только мечтать мексиканки. Но гордые поэты играют в шахматы, и страсть по-прежнему остается неразделенной.
Детская коляска на колеблющихся, высоких, как у пассажирского паровоза, колесах.
Запах стоял, как в магазине старых носков.
«Женщине, смутившей мою душу». Кто смутил чистую душу солдата?
На диване лежал корсет, похожие на летательную машину Леонардо да Винчи.
«Ну, тут я уже ничего не могу сказать!» — повторял Смирнов.
Роман. «Возвращаю вам кольцо, которого вы мне не дарили, прядь волос, которой я от вас не получал, и письма, которые вы мне не писали. Возвращаю вам всё, что вы думали обо мне, и снова повторяю: «Забудьте всё, что я говорил вам».
«Жена уехала на дачу! Ура, ура!»
У нас уважают писателя, у которого «не получается». Вокруг него все ходят с уважением. Это надоело. Выпьем за тех, у кого получается.
Зозуля пишет рассказы, короткие, как чеки.
Шолом-Алейхем приезжает в Турцию. «Селям алей кум. Шолом Алейхем», — восторженно кричат турки «Бьем челом», — отвечает Шолом.
Своего сына он называл собакологом.
Шофер Курбатов рассказывал, что на чердаке у него жили два «зайчненка».
— Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель.
«Лавры, что срывают там, надо сознаться, слегка покрыты дерьмом» (Флобер).
Синеглазая мама.
В парикмахерской. — Как вас постричь? Под Петера? — Нет, под Джульбарса!
Умирать все равно будем под музыку Дунаевского и слова Лебедева-Кумача.
Первая русская фраза, которую выучил этот американец, была такая: «Я хочу вас видеть голой в постели».
Низменность его натуры выражалась так бурно и открыто, что его можно было даже полюбить за это.
Сторож при морге говорил: «Вы мертвых не бойтесь. Они вам ничего не сделают. Вы бойтесь живых».
Писем я не получаю, телеграмм я не получаю, в гости ко мне не приезжают. Последний человек на земле.
Кроме того, что он был стар и уже порядком очерствел, он остался мальчиком, малодушным и впечатлительным пижоном.
Говорил он — на смерть. Оратор он был — на смерть.
«Надо портить себе удовольствие, — говорил старый ребе. — Нельзя жить так хорошо».
В картине под названием «Гроза» нет имени Островского. Написано скромно: «Сценарий и постановка режиссера Петрова». Так-то!
Инженера звали «Ай, мамочка». Это была целая история. Перегородки из газетной бумаги. Целая история.
Я сижу в голом кафе «Интуриста» на ялтинской набережной. Лето кончилось. Ни черта больше не будет. Шторм. Вой бесконечный, как в печной трубе. Я хотел бы, чтоб жизнь моя была спокойной, но, кажется, уже не выйдет. Лето кончилось, о чем разговаривать. «Крым» отваливает в Одессу. Он тяжело садится кормой.
Осадок, всегда остается осадок. После разговора, после встречи. Разговор мог быть интересней, встреча могла быть более сердечной. Даже когда приезжаешь к морю, и то кажется, что оно должно было быть больше. Просто безумие.
Список побед, счастье пижона с волосатыми руками.
Когда я приехал в Крым, усталый, испуганный, полу-задохшийся влакированном и пыльном купе вагона, была весна, цвели фиолетовые иудины деревья, с утра до ночи пищали новорожденные птички. В моей комнате пахло спиртом. Ее только что покрасили. Краска на полу еще прилипала к стульям.
Бал эпохи благоденствия. У всех есть деньги, у всех есть квартиры, у всех есть жены. Все собираются и веселятся. Джина не пьют. То ли смущает квадратная бутылка, то ли вообще не любят новшеств. За стол садятся во втором часу. Расходятся под утро. Тяжело нагруженная вешалка срывается с гвоздей. В следующий раз всё происходит точно так же. Джин (не пьют), вешалка (срывается), расходятся только к утру.
Он придет ко мне сегодня вечером, и я заранее знаю, что он будет мне рассказывать, что он тоже не отстал от века. Что у него тоже есть деньги, квартира, жена, известность. Ладно, пусть рассказывает, черт с ним! Он лысый, симпатичный и глупый, как мы все.
Полногрудые писательские жены. У одной были бедра круглые, как вазы.
Такой-то — плохой работник, ленивый, не хочет учиться. Но с хорошим характером. Он говорит: «Ты живи спокойно. Не волнуйся. Это же всё игра. Посмотри, как этот ловко загримировался носильщиком. И где только он такой настоящий передник достал! А эти двое! Играют в мужа и жену. Прямо здорово играют. И ты тоже. Вчера ты на меня там, на службе, кричал, а я на тебя смотрю и думаю: «Здорово ты стал играть ответственного работника, ну прямо замечательно!» Ты только один раз подумай, что всё это игра, и тебе сразу стешет легко жить. Вот увидишь». После этого он открывал корзинку. Там лежала бутылка водки, хорошая закуска, чистая салфетка. Он выпивал и продолжал разглагольствовать. Золотой, добрый, ленивый человек.
Рассказ шофера о непостоянстве женской души. «Как паук», — сказал он в заключение.
Эти крики вызывали у него дрожь. «Топенант! Кливер-шкот!»
Перед приездом он сиял, как рыжий ангел.
Внезапно, на станции Харьков, в купе ворвалась продавщица в белом халате, надетом на бобриковое пальто, и хрипло заорала: «А ну кому ириски? Кому еще ириски? Есть малярийные капли!» Капли — это был коньяк.
На пароходе «Маджестик» возвращалась из Америки группа автомобильных инженеров. Английского языка они не знали, и громадная обеденная карточка вызывала у них ужас. Наконец им посоветовали заказывать рекомендуемый обед. Он помещается на левой стороне меню. С тех пор они, счастливо улыбаясь, говорили друг другу перед едой: «Закажем левую, а? Левую!» А съев обед, долго говаривали: «Хороша сегодня левая, хороша». «Маджестик» шел в последний рейс. Он уже был продан на слом, с шербургской пристани я хорошо рассмотрел его. Сильно дымя, он шел через канал, торопясь доставить своих пассажиров на похороны Георга Пятого. На «Маджестике» ехал англичанин с широким лиловым носом, из Армии Спасения. С ним ехала жена и семь штук их детей, мальчиков и девочек. Все они походили на папу и маму и имели лиловатые широкие носы. Пароходная компания предоставила им отдельный обеденный стол. Это была удивительная и не очень привлекательная картина — папа, мама и семь маленьких пап. Миссис Утроба тоже не сверкала красотой.
Кроме того, что она была подхалимка и дура, оказалось еще, что она не знакома с представлением о равновесии. Поэтому в первый же вечер она свалилась со стола и сломала себе руку. Руку вылечили, но это ничему не помогло, и весь год она била посуду. У нее были светлые глаза идиотки.
В больших и пустых ялтинских магазинах прохладно. Приказчики вежливы, товаров нет. На рейде потрескивают моторы дельфиньих шкун, висит над самой водой грязный дым. По набережной бредут экскурсанты с высокими двурогими тросточками. Ехал в автобусе с красными бархатными сиденьями.
Давнее объявление на Клязьме: «Пропали две собачки, маленькие, беленькие…» Видно было, что хозяин собачек очень их любил.
«Край непуганых идиотов». Самое время пугнуть.
«Целую неделю лопатой голос из комнаты выгребали — столько он накричал» (Лесков. «Смех и горе»).
Пижон, на висках которого сверкала седина. На нем была синяя рубашка, лимонный галстук, бархатные ботинки. Весь куб воздуха, находящийся в комнате, он втягивал в себя одним дыханием. После него нечем было дышать, в комнате оставался лишь один азот.
Пошел в Малаховку покупать мисочку. В малаховском продмаге продается «акула соленая, 3 рубля кило». Длинные белые пластины акулы не привлекают малаховскую общественность. Она настроена агрессивно и покупает водку. В универмаге Люберецкого общества потребителей стоит невысокий бородатый плотник в переднике. Ну, такой типичный «золотые руки». Дай ему топор, и он всё сделает. И борода у него почерневшего золота. Он спрашивает штаны. «Есть галифе, 52 рубля». Золотые руки ошеломленно отшатывается. Хорош он был бы в галифе! У палатки пьет морс дачник в белых, но совершенно голубых брюках. Сам он их, что ли, подсинивал? В пыли, с музыкой едет на грузовиках массовка. Звенят бутылки с клюквенным напитком. Они едут мимо магазина, где продается соленая акула. Откуда в Малаховке акула? На выбитом поле мальчики играют в футбол. Играют жадно, каждый хочет ударить сам. В воротах стоят три человека. Еще просится четвертый, но его не пускают. Все-таки непонятно, откуда взялась соленая акула. Мисочки не нашел. Еще продается лещ вяленый и копченый.
В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов.
Жили-были два друга: Телескопуло и Стетоскопуло.
Тихонов пишет, что фотограф «перезаряжал пластинки», но перезаряжать можно только кассеты, да можно и не «перезаряжать», а просто заряжать. Это в рассказе Клятва в тумане».
Было время, когда роман назывался «творческим документом». Стихи тоже были документ. И это напоминало больше всего не искусство, а паспортный стол. «Предъявите документ и проходите. Товарищи, без документов вход воспрещен».
Творческая накладная. Творческий коносамент. Взамен творческого документа вам вручался платежный документ. Всё получалось очень мило. Обмен документов.
Фамилия у него была такая неприличная, что оставалось непонятным, как он мог терпеть ее до сих пор, почему не обменял раньше.
Жизнь Серохвостова после того, как он стал Леонид Утесов.
«Жизнь в степи коротка и незаметна. Дни быстрей перелетных птичьих стай. И в пути, и в бою я всегда одно пою: «Никогда и нигде не унывай». Ковбойская песня в исполнении джаза под руководством старика Варламова. И снова вздыхали испытанные сержанты.
В конце концов, всё написанное по части пограничной романтики есть всего только прямое киплингование, ни разу не достигшее уровня подлинника.
— Так вы мне звякните! — Обязательно звякну. — Значит, звякнете? — Звякну, звякну, непременно. Я тебе звякну, старый идиот. Так звякну, что своих не узнаешь.
Все пьяные на улице поют одним и тем же голосом и, кажется, одну и ту же песню.
Надпись в американском магазине: «Мы здесь для того, чтобы нас беспокоили (тормошили)».
В пыли, среди нищенских дач, толстозадая лошадка везет задумчивых седоков.
За много миль от Нью-Йорка нельзя увидеть ни одного вымени. Но всю ночь летят серебряные цистерны с молоком. Их борты оцеплены зелеными и красными огнями. Это удивительная картина. Они мчатся со скоростью в пятьдесят миль. Они везут лучшее в мире молоко на семь миллионов человек.
Пришел комендант, чтобы повесить, как он выражается, «люли-качели».
Мари Дюба выходит на сцену в старомодном и ужасном розовом боа. На ней шляпа с голубыми перьями. Она обольщает публику, как это делали в 1909 году, и говорит: «Видите, сколько тогда приходилось вертеть задом, чтобы быть сексапильной».
Еще продаются в продмаге мухи. На маленьком черном куске мяса сидит тысяча мух, цена за кило мух 5 рублей. Недорого, но надо самому наловить.
«Мама, что это в кошке кипит?» Радость Чуковского.
Стоял, как в сказке, у забора добрый молодец в синей гимнастерке и сапогах, стоял, глубоко задумавшись, охватив затылок рукой, глаза уставил в землю. О чем же он думал, обдаваемый музыкой и пылью выходного дня?
Он обещал на съезде, что родит сына. Где же этот сын? Он обещал роман и сына. Роман появился, плохой роман. А где же сын? Или вместо сына произошел аборт?
В долине реки Колорадо. В далекой, и чуждой, и страшной долине реки Колорадо. Какой черт меня туда занес. Ты боишься меня, тебе скучно. Темно-красный каньон, на дне его течет серая медленная река Колорадо.
Ничего не бойтесь. Смело погружайте ложку и ешьте. Это надо съесть.
Этот дом отдыха славился на всем побережье своей развращенностью и чисто римским падением нравов. Так было из года в год. Уже и врачи махнули на это рукой.
Кажется, в «Бурсаке» Нарежный пишет, что «бурса есть малое подобие великолепного Рима». Так это приятно и чисто написано, что стало жалко — столько времени прошло, а роман еще даже не начат.
Патефон и двадцать пять пластинок. Иметь оранжевый лыжный костюм, чашки из пластмассы, ну, что еще? Патефон и двадцать пять пластинок.
«Нужен молодой здоровый человек, умеющий ездить на велосипеде, для производства научных наблюдений. Оплата по соглашению. Площадь предоставляется». Что может быть лучше? Быть молодым, здоровым, уметь ездить на велосипеде и подвергаться научным наблюдениям!
Песок и сосны. Забор и пыль. Бледные и пухловатые дети. Тонконогие черные «Форды» по выходным дням. Снова самоварный дым.
Прощай, Америка, прощай! Когда «Маджестик» проходил мимо Уолл-стрит, уже стемнело, и в огромных здани ях зажегся электрический свет. В окнах заблестело золото электричества, а может быть, и настоящее золото, кто его знает! И этот блеск провожал нас до самого выхода а океан. Холодный январский ветер гнал крупную волну. Появился рослый англичанин. Он был пьян и торжественно озирал все вокруг. Пил он до самого Шербурга. Горничная сказала мне, что за пять дней он ничего не съел. Автомобильные инженеры сидели в своей каюте и без конца заводили Лещенко. Слушали и сокрушались: «В Негорелом обязательно отберут». Через час никакого следа не осталось от Америки. В последний раз блеснул маяк — и всё.
На острове Алкатрас, похожем на старинный броненосец, сидит Аль-Капоне, а рядом над бухтой уже висят удивительные тросы новых висячих мостов.
Парадно, киноварью покрашенный зал и все-таки довольно сахалинский вид пассажиров. Ливень. Бегут, накрывшись газетами, как шалями, лупит через всю площадь молодая девушка в белой шляпе и красной кофте, но босая, некоторые идут медленным шагом, все равно промокли, и бежать незачем, эти — странностью своего поведения похожи на факиров, они словно бы проделывают какой-то церемониал.
Система «тет-а-тет». Где теперь слышен шепот, робкое дыханье? Когда совещаются насчет раздачи квартир.
Анекдот о петухе, которого несут к часовщику, потому что он стал петь на час раньше.
Машина сейчас же скрылась за поворотом, и уже через минуту ее огни засверкали на верхнем шоссе. Провожающие едва успели поднять руки.
«За нарушение взимается штраф». Вот. собственно, все сигналы, которые имеются на наших автомобильных дорогах. Впрочем, попадается и такая надпись: «Пункт по учету движения». Пункт есть, учета, конечно, нет.
За месяц в Кореизе я успел посмотреть больше картин, чем за три года в Москве. «Конец полустанка», «Хижина старого Лувена», «Джульбарс», «Подруги», «Партийный билет», «Веселые ребята», «Семеро смелых», «Счастливая юность». И все это не в обстановке премьер или просмотров, в самых обыкновенных условиях, то есть при дрянной передвижке, плохо напечатанной копии и ужасающем звуке. Впечатление не важнец, как выражаются в Киеве. Лучше других «Семеро смелых» и куски из Подруг».
Томимая и томная, в широком черном поясе и белой футболке. В грязи вокзала, в сумбуре широких и мрачных деревянных скамей, где храпят люди и их громадные мешки. Мешки такие большие, будто в них перевозят трупы. Томится от сознания своей красоты и никем покуда не замечаемой молодости. Никто на нее не смотрит, все заняты, берут справки в бюро, выдающим справки только железнодорожного характера.
Газеты приходят в 8.19. В половине второго появляется «Рабочая Москва». Пришел покупатель, спрашивал «Камни и корни», обложку которых держал в руках. Газетчица сказала, что уже год как лишена возможности торговать камнями и корнями. Нету. Над всей глушью и бредом летели в это время два быстроходных самолета, победно воя.
Все носильщики в своих синих формах оказались из деревни и с жаром рассуждали о благотворности разразившегося ливня.
«А по воскресеньям у нас идет большой дождь, так называемая ливня». По методу Чуковского это должно считаться обогащением языка.
Бильярд с шестью звонками в Юсуповском дворце и Кореизе. Царь, не попав кием в шара, нажимает на звонок и командует вошедшему слуге: «Шампанского и корону». Так потом и играет в короне. По два на широких бортах и по одному на коротких.
«Я устал смотреть на вас. У меня глаза болят, когда я смотрю на вас».
Выскочили две девушки с голыми и худыми, как у журавлей, ногами. Они исполнили танец, о котором конферансье сказал: «Этот балетный номер, товарищи, дает нам яркое, товарищи, представление о половых отношениях в эпоху феодализма».
«Я вас, дядя Саша, люблю за то, что вы всё можете объяснить. И почему экран в морщинах, и почему картина не в фокусе, и почему звук исчезает».
Опять дует северо-восточный ветер. Море пустынно. Восемь лет как жизни нет», — как выразился один философ в общественной уборной.
Кому вы это говорите? Мне, прожившему большую неинтересную жизнь.
Техас, где ковбои гонят своих коров, маленьких, лохматых и злых, как собаки.
Миновав иву вавилонскую, ясень обыкновенный, дуб обыкновенный, скамейку садовую и уборную женскую, мы прошли прямо в ресторан, расположенный возле нескольких деревьев, носивших напыщенное название «рощи пробковых дубов». Самое удивительное было то, что бутылка вина, которую нам подали, была закупорена резиновой пробкой. Прислуживала нам собака, глаза у которой были полузакрытыми и злыми, как у Николая Второго, так их рисуют в карикатурах.
Вы говорите это мне, прожившему большую неинтересную жизнь.
В общем, ботаника из меня не выйдет.
Система Союзтранса. Толчея. Унижение. Высокомерие. В большом рентгеновском кабинете то же самое. Больные толпятся возле аппаратов, врачи работают, и медицинская тайна блистает на их лицах.
«Вы послушайте, ребята, я вам песенку спою».
На площадке играют в теннис, из каменного винного сарая доносится джаз, там репетируют, небо облачно, и гак мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде.
Книга высшей математики начинается словами: «Мы знаем…»
Чувство стыда не покидает все время. Пьеса написана так, как будто никогда на свете не было драматургии, не было ни Шекспира, ни Островского. Это похоже на автомобиль, сделанный с помощью только одного инструмента — топора. Унизительно, примитивно. Актеры играют так ненатурально, так ходульно, так таращат глаза и каратыгинствуют, что девочка, сидевшая позади меня, все время спрашивала: «Мама, она сошла с ума, да? Мама, он сошел с ума, да?» Действительно, они играют, как сумасшедшие. Мама же спокойно отвечала: «Сиди спокойно, я всё расскажу тебе дома». Хорошо художественное произведение, которое надо рассказывать дома.
Графинский. Бермудский. Холостяков.
Когда я смотрел «Человека-невидимку», рядом со мной сидел мальчик, совсем маленький. В интересных местах он все время вскрикивал: «Ай, едрит твою!»
Лукулл, испытывающий муки Тантала. Ужасная картина.
С ними стали обращаться, как с сезонниками.
«В погоне за длинным рублем попал под автобус писатель Графинский». Заметка из отдела происшествий.
В очерке об Италии написано, что против римского собора Святого Петра стоит египетская пирамида. Это всё то же. «Могучие своды опираются на легкий изящный карниз». Нет, не пойду я на ту станцию, где своды опираются на карниз. Всестороннее невежество и невнимательность.
Иногда раздается короткий и приятный звук, как бы губной гармоники. Это поворачивается флюгер на башне винного сарая. Он сделан в виде морского конька.
Итак, Виктор Эммануил, король Италии, император Абиссинии.
Чудный мальчик Вова. Каждое утро, когда видит меня, он обязательно говорит: «Папа дома».
Светит солнце, ночи лунные, но и днем и ночью деревья шипят от сильного норд-оста. Немножко раздражает этот постоянный шум природы.
«Посторонним вход разрешается», «Уходя, не гасите свет. Пусть горит», всё можно будет, всё позволится.
Рассказ капитана Эрбе о том, как у него была межреберная невралгия.
У нее была последняя мечта. Где-то на свете есть неслыханный разврат. Но эту мечту рассеяли.
Зеленый с золотом карандаш назывался «Копиручет». Ух, как скучно.
И в этот тихий мир, с тихими разговорами, он влез со своей трагедией. Разговор: «Хорошо бы на лето киосочек. Она дает гривенник, а тянет два «Известия». Я ей говорю… А она как схватит…» И так далее.
Два затуманенных от высоты самолета тащили за собой белые рукава.
Почти втрое или более чем вдвое. Но все-таки сколько это? И как это далеко от точности, если один математик о тридцать шестом годе выражался так: «У нас сейчас, грубо говоря, тысяча девятьсот тридцать шестой год. Грубо говоря».
Нет, это не господин Коше, не Тильден, не Боротра, не Крауфорд.
«Кептен Блай, вы жестоко обращались с матросами».
Он посмотрел на него, как царь на еврея. Вы представляете себе, как русский царь может смотреть на еврея?
Вы играете на мамины деньги, а вы сыграйте на свои, на кровные.
Хороший окулист прогнал бы всех с «Счастливой юности». Этот экземпляр был так плохо напечатан, что слепил глаза своей белизной.
Прогулка с Сашей в холодный и светлый весенний день. Опрокинутые урны, старые пальто, в тени замерзшие плевки, сыреющая штукатурка на домах. Я всегда любил ледяную красноносую весну.
Куда ни посмотришь из окон, всюду дачники усердно раскачиваются в гамаках.
Американское кино как великая школа проституции. Американская девушка узнает из картины, как надо смотреть на мужчину, как вздохнуть, как надо целоваться, и всё по образцам, которые дают лучшие и элегантнейшие стервы страны. Если стервы — это грубо, можно заменить другим словом.
«Кептен Блай, вы находитесь перед судом его величества».
Хам из мглы. Он так нас мучил своими куплетами про тещу, командировки и машинисток, что уже не хотелось жить. Но один куплет он спел очень смешной.
«Нету скетчей, — повторял Бука, — напишите мне скетч, нечего играть». Можно вставить в роман.
Какой-нибудь восточный чин. Ну, император Трапезунда.
Медливший весь день дождь, наконец, начался. И так можно начать роман, как хотите можно, лишь бы начать.
Один уехал на два дня раньше срока, другой остался на два дня позже.
Редактору современной литературы, у которого серьезно разболелись глаза, известный профессор совершенно серьезно советовал перейти в отдел классиков. Он сказал: «Если бы вы читали не Караваеву или Лидина, а Флобера и Гоголя, несомненно, что глаза пострадали бы у вас значительно меньше».
Часы «Ингерсол» бросали на землю, сбрасывали со стола, купали в нарзане, но им ничего не сделалось. Идут, проклятые», — с удивлением говорили о них.
Бабушка вела мальчика по бульвару. Мальчик ей рассказывал, что в Америке всё под землей.
Алексис Голубев.
О горе мне! Тоска! Тоска навеки! («Тень стрелка», О'Кейси).
«Три товарища». Играет Горюнов. У него все штаны полны задом. Он охотно поворачивается к публике спиной, знает, что ей это понравится.
Конферансье в пивной. «А сейчас, граждане, мы предложим вам небольшую загадку. Какое слово состоит из трех букв, в том числе «X» и «У»?» Возбужденная пивом аудитория радостно выкрикивает знакомое ей слово. Ошибаетесь, — с лучезарной улыбкой говорит конферансье, — вовсе не…. а «ухо». Рев восторга.
Весь золотой запас заката лежал на просеке.
На мутном стекле белела записочка «Киоск выходной». Тоска, тоска навеки.
«Продажа кеп». Вольное и веселое правописание последнего частника.
Открытка, рисованная от руки. «Котик-певец. Привет из Мисхора».
«Мишенькины руки панихиды звуки могут переделать на фокстрот».
Севастопольский вокзал, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах.
Подали боржом, горячий, как борщ.
Впереди ехал грузовик с дачным скарбом. Сзади, на легковом автомобиле, ехала семейка — папа, мама, тетя Мура, дядя Сеня, детки, кошки. Из грузовика вылез учрежденческий агент. Лицо у него было полное и бледное. Жулик с печальными глазами. Сколько восточной неги в глазах обыкновенного учрежденческого агента, обратили ли вы внимание на это?
Дачи имели страшных владельцев: МСНХ, Бюробин. Бог знает, кто теперь на этих дачах живет. На даче Бюробина еще стоял, некогда привлекательный, торгсиновский запах настоящей олифы, настоящих белил, всего настоящего и так недавно еще недостижимого.
«Как работник сберегательной кассы я прошу вас из ложить в юмористической форме те условия, в которых приходится работать сберегательным кассам».
Курточка с легкими медными пуговицами, алого, ко ролевско-гвардейского цвета. Яркий солдатский цвет.
В горах лежал туман, когда я ехал в Севастополь к по езду. Хотя он был сухой и редкий, но все-таки сильно мешал смотреть на дорогу.
Внезапно в кабацкую болтовню вмешался парикмахер Люся. Он сказал: «Как Байдарские ворота — так нет больше женатых и нет замужних. Тут у нас летом каждый кустик дышит». Все одобрили эту сентенцию и с видом заядлых сердцеедов продолжали говорить пошлости.
Рассказ Люси об одном нетактичном отдыхающем. Второе — паденье Соломона. Третье — невозможность удержаться от денщицких разговоров. Четвертое — эвакуаторша, есть такая должность в домах отдыха.
Сияющие облака лежали на дороге. Где это было — в Тексасе, Нью-Мексико или Луизиане? Не помню. Здесь, в мокром тумане, мистер Трон рассказал, как он застраховал свою жизнь в немецком страховом обществе и что из этого вышло.
Никто не будет идти рядом с вами, смотреть только на вас и думать только о себе.
Сто шестьдесят семь ошибок по русскому языку в дипломной работе.
Так ночью приходит пижон и с беспечной улыбкой забирает все деньги.
Пусть комар поет над этой могилой.
«Я уезжаю». — «Уезжаете? Ну, счастливо».
«Полковник Купер видел сон».
Газетный киоск на станции Красково, широкой и стоящей между шеренгами сосен. Газет нет совсем, имеется журнал «На суше и на море» за июнь прошлого года, хотя даже за этот год он не вызвал бы волнения г тем более что и общество, его издающее, уже ликвидировано, журнал «Ворошиловский стрелок», книжка на еврейском языке, химические карандаши «Копирка» и детские краски на картонных палитрах. Таким образом, узнать, что делается на суше, на море, в воздухе и на воде, нельзя, для этого надо поехать в Москву. Солнце озаряет сосны. от сухого запаха разогревшейся хвои в горле немножко першит. Мимо на тяжелых велосипедах едут мальчики. Они счастливы. Да, еще продаются приборы для очинки карандашей под названием «Канцпром». Всё.
Я не лучше других и не хуже.
А это, товарищи, скульптура, называющаяся «Половая зрелость». Художественного значения не представляет.
Весь месяц меня обдували в Кореизе отблески нордоста, свирепствовавшего у Новороссийска.
Нет, я не лучше других и не хуже.
Ну, вы, костлявая Венера.
А сейчас, товарищи, будем транслировать бульканье кумыса в сосцах кавказских кобылиц.
Два певца на сцене пели: / «Нас побить, побить хотели». / Так они противно ныли, / Что и вправду их побили.
Слабовольное создание или упрямое существо.
Нет, вы не услышите больше шагов за спиной, и этот жалкий хвастун со своей вечно нахмуренной мордой уже не появится здесь.
«Моя половая жизнь в искусстве», сочинение режиссе ра Экка.
Диалог в советской картине. Самое страшное — это любовь. «Летишь? Лечу. Далеко? Далеко. В Ташкент? В Ташкент». Это значит, что он ее давно любит, что и она любит его, что они даже поженились, а может быть, у них есть даже дети. Сплошное иносказание.
Был у него тот недочет, что он был звездочет.
Гулянье. Ходила здесь молодая девушка в сиреневом шарфе и голубых чулках. Были молодые люди в розовых носках. Фиолетовая футболка с черным воротником, насчет которой продавец местного кооператива заявил, что зато цвет совершенно не маркий. В общем, носить приходилось то, что изготовляли пьяные растратчики из кооперации.
Картина снималась четыре года. За это время режиссер успел переменить трех жен. Каждую из них он снимал. То ли часто женился, потому что долго снимал, то ли он долго снимал, потому что часто женился. И как писать для людей, частная жизнь которых так удивительно влияет на создаваемые ими произведения. Надо сказать так: «Мы очень ценим то, что вы любите свою жену. Это даже трогательно. Особенно сейчас, когда в укреплении семьи так заинтересована вся общественность. Но сниматься в вашей картине она не будет. Роль ей не подходит, да и вообще она плохая актриса. И мы просим вас выражать свою любовь к жене иными средствами».
Репертуар клоунов Бим-Бом. «Если бы все бумаги на свете была одна большая бумага, и если бы все ручки на свете была одна громадная ручка, и если бы все чернила на свете помещались в одной колоссальной чернильнице, я взял бы эту ручку, обмакнул ее в эту чернильницу и написал бы на этой бумаге, что я люблю вас». Несомненно украдено из какого-нибудь восточного сказания.
Поэма «Белый воротник».
Снова вечер, и голубой самоварный дым стелется между дачными соснами.
«Закройте дверь. Я скажу вам всю правду. Я родился в бедной еврейской семье и учился на медные деньги».
Вахтер с седыми усами отдает честь, я прохожу мимо. На меня смотрят с объеденных соломенных кресел, я прохожу мимо. Бука, полнотелый и порочный, играет в теннис и дружелюбно смотрит на меня, я прохожу мимо. Библиотекарша с апостольским пробором встречается на дороге, я здороваюсь и прохожу мимо. И вот я в парикмахерской, где бреющиеся ведут между собой денщицкий разговор.
На его щеке еще горел раскаленный поцелуй предателя.
Мадам Везувий.
«Где кричит привязанность, там годы безмолвствуют, как говорил старик Смит и Вессон» (А. Аверченко. «Настоящие парни»).
Мазепа меняет фамилию на Сергей Грядущий. Глуп ты. Грядущий, вот что я тебе скажу.
Он лежал в одних трусиках, и тело у него было такое белое и полное, что чем-то напоминало труп в корзине. Виной этому были в особенности ляжки.
Я один против всего света, и, что еще хуже, весь свет против меня одного.
«Прижавшись щекой к одеялу…»
Действительно, тяжелое имя для девушки — Хеврония.
Напали на детку синие волки, синие волки с голубыми глазами.
Худые и голодные, как молодые черти.
В доме ужасное смятение. Маленькая девочка заявила, что хочет быть любовницей всех мужчин.
В картине появляются девушки, и кажется, будто играют первые роли. Но потом они вдруг исчезают куда-то и больше не появляются. Представьте себе «Ромео и Джульетту» без Джульетты. Походив немного по сцене, ошеломленный Ромео, конечно, уйдет.
Выступала девушка, черноглазая, с широкими помпейскими бровями.
«Это было в консульство Публия Сервилия Ваттия Изаурика и Аппия Клавдия Пульхра».
Письмо Алеши. «Привет женщине, смутившей мою душу». Никто и не думал, что он может так красиво выражаться.
Докладчик: «На сегодняшнее число мы имеем в Германии фашизм». Голос с места: «Да это не мы имеем фашизм! Это они имеют фашизм! Мы имеем на сегодняшнее число советскую власть».
Докладчик: «Товарищи, мы еще не научились писать». Голос с места: «Не мы еще не научились писать, а вы еще не научились писать».
Он, как ворона, взгромозился на кафедру и заболботал: «Семнадцать и девять десятых процента…» Когда он окончил доклад, то тем же вороньим сумрачным голосом возгласил: «А теперь, ребята, приступим к веселью».
Концерт джаз-оркестра под управлением Варламова. Ужасен был конферансье. В штате Техас от момента выхода на сцену такого конферансье до полного предания его тела земле с отданием погребальных почестей проходит ровно пять минут. Ковбои в бараньих штанах сразу открывают беспорядочную стрельбу. Джаз играл паршиво, но с громадным чувством и иногда сам плакал, растрогавшись («в маленьком письме вы написали пару строк, что меня любили»). Испытанные сержанты милиции, наполнявшие зал, шумно вздыхали, ревели «бис». В общем, растрогались все. Хорош был старик Варламов, трубивший нежные слова любви в рупор, сшитый из зеленого скоросшивателя. Он был во фраке и ботинках. Затрубит чудный рожок почтальона, и его повезут, повезут.
У мальчика было довольно красивое имя: Вердикт. А ее звали Шишечка.
Уже известно, как надо писать рецензии: сценарий — хороший, играют — хорошо, снято — хорошо. А музыка? О музыке тоже уже известно, как надо писать. Музыка сливается с действием. Что это значит — никто не знает, но звучит хорошо — музыка сливается с действием. Ну и черт с ней. пусть себе сливается.
При исполнении «Куккарачи» в оркестре царили такая мексиканская страсть и беспорядочное воодушевление, что больше всего это походило на панику в обозе.
«Эй, комроты, даешь пулеметы, даешь батареи, чтоб было веселее».
Персидская сирень, белая, плотная и набухшая, как разваренный рис.
Девушки-фордики. Челка, берет, жакетик, длинное платье, резиновые туфли.
По звукам казалось, что веселятся эскадронные лошади. На самом деле это затейник вовлекал отдыхающих и «массовку».
Только некультурностью населения можно объяснить то, что в редакции еще не выбиты все стекла. Это после появления заметки о том, что «лучшие женихи достались пятисотницам». Пропаганда пошлости.
Вся пьеса построена на честном слове. «Если вы мне верите, вы не станете меня спрашивать. Я говорю, что так было. Верьте мне».
Что-нибудь вроде «Ярмарки тщеславия». Обличение неправды. Может иметь большой успех.
Конечно, количество любовных связей было не больше, чем обычно, и число обманутых мужей, может быть, и не увеличилось, но невозможно отрицать того, что все эти связи находились под влиянием вышедшей тогда книги, и молодые люди со звериным взглядом лейтенанта Томаса Глана пользовались в тот год и еще в нескольких следующих годах большим успехом.
Очень легко писать: «Луч солнца не проникал в его каморку». Ни у кого не украдено и в то же время не свое.
Жили-были четыре брата — четыре шизофреника.
Требуются в отъезд ведьмы, буки, бабы-яги, кащеи бессмертные, гномы и кобольды на оклад жалованья от 120 рублей и выше. Квартира предоставляется.
Детский утренник. Один мальчик, как говорится, уже в самом начале праздника схлопотал от мамы по морде. Он был на самом дне ямы и вдруг вознесся на вершину славы. Его вызвали на сцену и вручили ему альбом для рисования, кубики и карандаш. Детям дарили портфели из какого-то дерматина, будь он проклят. Не хватало только, чтобы им дарили председательские колокольчики и графины с водой. Достаточно войти в магазин игрушек, чтобы понять, что люди, изготовляющие эти игрушки, ненавидят детей.
Пьеса: Андрей: Елена, я решил покончить расчеты с жизнью. Елена: Ты не сделаешь этого, Андрей. Андрей: Бац, бац! Елена: А-а!
«Южный ветер и небо в тучах».
Три зверя. Четыре зверя. Пять зверей. Шайка, компания «Четыре зверя».
«Ты меня совсем не любишь! Ты написал мне письмо только в двадцать грамм весом. Другие получают от своих мужей по тридцать и даже пятьдесят грамм».
Там всё перерыли, искали, даже никель нашли и были очень смущены, когда неведомо откуда появилось во множестве холодное оружие.
А зеленое знамя пророка нам нужно?
«Скульптура, изображающая спящего льва. Привезена морским путем из Неаполя в Севастополь, оттуда в Юсуповский дворец в Кореизе. Работа известного итальянского мастера Антонио Пизани. Художественной ценности не имеет».
Дядя Саша, бывший укротитель кур и мышей, теперь заведующий театральным сектором дома отдыха. Сколько таких дармоедов в Крыму — еще не подсчитано.
«Нет, это не жизнь для белого человеку».
Отдыхающий спал на зеленой траве. На нем были сапоги, мундир, все ремни были затянуты, как на смотру. Только ветер позванивал колесиками его шпор. Он спал глубоким сном.
«Скульптура фонтана «Плачущая гимназистка». Рабо та известного шведского скульптора Бреверна. Художественной ценности не представляет».
«Дворец князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон. В постройке его принимали участие лучшие художники и архитекторы своего времени. Дворец обошелся в дни миллиона рублей и вызывал удивление современников своей роскошью. Художественной ценности не имеет».
Волшебный оркестр — самодеятельный джаз. Каждый умеет играть, все умеют петь. Дирижер Миша Спивак. Он печет джазы, как блины. Через полчаса, в первую репетицию, уже играли вальс из «Петера». На пищалках играли мама и дочка. Дочка была большая и толстая, похожая на дорогую заграничную куклу.
«Бекицер». Короче говоря.
Он был в таком возрасте, когда вообще правды не говорят. Болезнь возраста.
Извинитесь. Скажите: «Я больше не буду».
Передо мной стоял человек с большими зрачками и прикушенной нижней губой.
«Так он и сказал, негодяй: «Откушать».
Матрена меняет имя на Мессалина.
Татарский бог в золотой тюбетейке. Снялся на фоне книжных полок, причем вид у него был такой, будто все эти книги он сам написал.
Забудьте о плохом, помните обо мне только хорошее.
Обыкновенная фраза. «Тесно прижавшись друг к другу спинами, сидели три обезьяны». Можно еще чище и спокойнее: «Три обезьяны сидели, тесно прижавшись друг к другу спинами». А вот как это будет написано в сценарии: «Спинами тесно прижавшись друг к другу, три обезьяны сидели». Сценарии пишутся стихами. Например: «Вышла Даша на крыльцо».
Нет, разница все-таки есть. Тебе скучно со мной, а мне скучно без тебя.
Красноносая учительница музыки.
Ветер, ветер, куда деваться!
Котик с разными глазами.
Я ничего не вижу, я ничего не слышу, я ничего не знаю.
Как мы пишем вдвоем? Вот как мы пишем вдвоем: «Был летний (зимний) день (вечер), когда молодой (уже немолодой) человек (-ая девушка) в светлой (темной) фетровой шляпе (шляпке) проходил (проезжала) по шумной (тихой) Мясницкой улице (Большой Ордынке)». Все-таки договориться можно.
Пришел туповатый генуэзец с коричневой мордой.
Я обращаюсь к чувству, я старею на глазах.
Это неприятно, но это так. Великая страна не имеет великой литературы.
Раменский куст буфетов. Куст буфетов, букет ресторанов, лес пивных.
Шел Маяковский ночью по Мясницкой и вдруг увидел золотую надпись на стекле магазина: «Сказочные материалы». Это было так непонятно, что он вернулся назад, чтобы еще раз посмотреть на надпись. На стекле было написано: «Смазочные материалы».
Приключение на пляже. «Вдруг вы видите, как ка кой-то пошляк вместо фигового листка прикрылся бумажкой с порнографической надписью».
Пьяный в вагоне беседовал со своим товарищем. При этом часть слов он говорил ему на ухо, а часть произносил громко. Но он перепутал — приличные слова говорил шепотом, а неприличные выкрикивал на весь вагон.
Решено было не допустить ни одной ошибки. Держали двенадцать корректур. И все равно на титульном листе было напечатано: «Британская энциклопудия».
В черном небе показались внезапно пароходные зеленые и красные огоньки. Это летели самолеты.
Вчера была температура, какой не было пятьдесят лет. Сегодня — температура, которой не было девяносто два года. Завтра будет температура, какая была только сто шестьдесят шесть лет назад, в княжестве Монако, в одиннадцать часов утра, в тени. Что делали жители в это утро и почему они укрывались именно в тени, где так жарко, ничего не сказано.
Литературная компания, где богатству участников придавалось большое значение. Деланье карьеры, попытка образовать группу, всё позорно провалилось, потому что не хватало главного — уменья писать. Впрочем, может быть, крошечное уменье и было, но писать было не о чем, ничего не было за душой, кроме нежного воспитанья, любви к искусству и других альбомных достоинств. Там был один писатель, которого надо было бы произвести в виконты — он никогда не ездил в третьем классе, не привелось. Каждая новая книга Дос Пассоса, Хемингуэя или Олдоса Хаксли отнимала у членов кружка последние остатки разума. Просто было вредно давать им читать такие книги. А занимались они в общем халтурой, дела свои умели делать. Это было даже странно для таких неженок. Но тут уже повлияло непролетарское происхождение.
Холщевников. Жданович. Скитский. Винтерфельд. Отец Смарагд.
В асфальтовых кафе тихо попискивают девушки, раздавленные дикой красотой разноцветных зонтов.
История челюскинца. Он был несколько поврежден умственно, и врачи посоветовали ему путешествие. Он не только совершил его, но и получил орден.
Придется размножаться в загородных домах облегченного типа.
«Как полагают, свидание будет иметь далеко идущие результаты».
Кавалеры и дамы выходили на станцию с большими вениками зеленых веток отмахиваться от комаров. Девушка с большим стогом соломенных крашеных волос на голове все время отступала от своего кавалера, как будто боялась, что он тут же начнет ее хватать. Некоторый страх перед чрезвычайно близким и совершенно неотвратимым изнасилованием делал девушку истерически кокетливой. У нее оранжевое скуластое лицо и волосы перевязаны голубой лентой. Очень опрятная, в новых резиновых туфлях с голубой каймой. Сторож в поселке ходит с винтовкой и зеленым веником. Веником он угрожает ворам, а из винтовки стреляет по комарам. Его ноздри производят впечатление рваных, и вообще он похож на пугачевца после подавления мятежа и произведения экзекуции. Комары носятся всю ночь с воинственными атакующими песнями и воями.
Если эти дома нельзя назвать публичными, то все-таки какая-то публичноватость в них есть.
«Ультрамонтаны собирались в доме Ксавье де Местра». Ударения ставились самые невероятные. Она их иг поправляла, но когда читала сама, то ударения ставила правильно. Тогда и они начинали правильно читать.
Он вошел и торжественно объявил: «Мика уже мужчина».
Внезапно показался бегущий по откосу подросток и красной мешке. За ним гнался продавец из «Гастронома». В пылу преследования с продавца слетела парусиновая туфля, но он не остановился. Стрелок железнодорожной охраны, скучая бродивший по платформе, неслыханно оживился. Он помчался наперерез мальчику, придерживая рукой кобуру револьвера. Мальчика схватили. Он хотел украсть коробку лапши. Через несколько минут уже слышался его сопливый плач в станционном здании — это писали протокол. Среди любопытных стояла невероятная баба в черной юбке, лиловой майке, босая, в берете и с такими грудями, что делалось даже нехорошо от изобилия этого продукта. Ей было лет семнадцать.
«Офицеры, унтер-офицеры и солдаты Союзных армий» (Фош).
«Народ украинский, народ измученный» (начало Универсала Григорьева).
«Босая, средь холмов умбрийских, она проходит. Дама-Нищета».
Старопечатная книга петровских указов. Она принадлежала раскольнику, и он на полях всюду понаставил: «Зри».
При грудном ребенке сказали какую-то шутку, и он внезапно захохотал. Тогда решили, что он оборотень, и убили его.
Кому это приписывали бессословную лирику? Или мне это показалось?
Пастушенцев. Дворовый скучный пес Максик.
Об этом уже надо писать статью под названием: «Нет, Жан, это не недоразумение». Пароход «Экотения» в двадцать девятом году совершает переход из Нью-Йорка в Шербург за четверо суток. Это рекорд, которого не перекрыла даже «Квин Мери» в тридцать шестом году. Что до «Нормандии», то ей такая скорость может только сниться. Некто Меерзон раскачивает шезлонг, в котором сидит его любовница. Занятие совершенно бесполезное — это не гамак и не качалка. Палестинские пальмы имеют мохнатые ветви. Я таких не видел ни в Батуме, ни в Калифорнии. «Обильные косы». «Маджестик», новый французский пароход, пришел в Яффу. А он английский, не новый и в Яффу не ходит. Нет, нет, Жан, это не недоразумение.
Вот мы снова встретились, а я все еще не в горящем золотом мундире, и вы тожевсе еще не инженер.
Началось это с того, что подошла к нему одна девушка и воскликнула: «Знаете, вы так похожи на мужа моей сестры». Потом какой-то человек долго на него смотрел и сказал ему: «Я знаю, что вы не Курдюмов, но вы так похожи на Курдюмова, что я решился сказать вам об этом». Через полчаса еще одна девушка обратилась к нему и интимно спросила: — Обсохли? — Обсох, — ответил он на всякий случай. — Но здорово вы испугались вчера, а? — Когда испугался? — Ну, вчера, когда тонули! — Да я не тонул! — Ой, простите, но вы так похожи на одного инженера, который вчера тонул!
Рассказ возчика, ужасный рассказ возчика. Жила в поселке одна красавица, полная такая. К ней ходил один горбун, совсем негодный для этого человек. Он семьсот рублей жалованья получал. Пищу она всегда ела знаете какую? Швейцарский сыр, кильки. Ну, тут приехал один француз. На нем желтые сапоги (показывает сапоги гораздо выше колена), рубашка чесучовая. Горбун, конем но, всё понял, приходит и спрашивает ее: «Пойдешь со мной?» Она говорит: «Не пойду». Тут он ее застрелил. По том побежал на службу, сдал все дела и сам тоже застрелился. Стали ее вскрывать — одна сала!
В Голливуде нужны свежие абрикосы. Там девочки подходят только самые свежие. Там собираются девочки со всего мира.
Когда я заглянул в этот список, то сразу увидел, что ничего не выйдет. Это был список на раздачу квартир, а нужен был список людей, умеющих работать. Эти два списка писателей никогда не совпадают. Не было такого случая.
Шестилетняя девочка 22 дня блуждала по лесу, ела веточки и цветы. После первых дней ее перестали искать, успокоились. Мир не видал таких сволочей. Что значит, не нашли? Умерла? Но тело найти надо? Почему не привели розыскную собаку? Она нашла бы за несколько часов.
Черный негр с серыми губами.
Все время передавали какую-то чушь. «Детская художественная олимпиада в Улан-Удэ», «Женский автомобильный пробег в честь запрещения абортов», а о том, что всех интересовало, о перелете, ни слова, как будто и не было никакого перелета. И опять: «Бубонная чума охватила большую часть Малаккского полуострова…»
Справедливость кретинов. Один раз я, а другой раз ты. Равноправие идиотов.
Ноги грязные и розовые, как молодая картошка.
Почтальонша с громадной сумкой на брюхе ходит, как беременная.
Сухопарый идиот дирижировал детским оркестром. Мальчики — фантастические дурни.
Чуть наклонившись, стоит лес. Куб сосен.
Это были гордые дети маленьких ответственных работников.
Стоял маленький рояль, плотный, лоснящийся, как молодой бычок.
Американцы едят суп из полоскательной чашки.
Нанимали дачу у вонючего подмосковного мужика, который ходит летом в валенках с калошами, держит коз и кур.
Толстые большие мухи гудели возле уборной так, как будто давали концерт на виолончелях.
Бесчувственная ассирийская жажда жизни и наслаждений.
Ангел-хранитель печати.
Сто раз просыпаюсь за ночь. Каждый сон маленький, как рыбья чешуйка. К утру я весь в этой чешуе.
Среди миллионов машин и я пролетел, песчинка, гонимая бензиновой бурей, которая уже много лет бушует над Америкой.
Вода из кипятильника пахла мясом. Представляете себе, как это было отвратительно?
Если большое явление рассматривать с маленькой точки зрения, оно не станет от этого меньше. Нельзя относиться к Нью-Йорку так, как это сделал бы санитарный инспектор.
Фарфоровую вазу она очень любила и называла «банкой».
Деревянная голова. Твердая, как отполированный ясень.
Детский концерт. «Сейчас будем передавать проверку времени». Тах-тах-тах.
Решение это состоялось по делу французской певицы Бланш Гандон, которая позволила себе пение непристойных куплетов, сопровождаемых соответствующими телодвижениями.
«Ярошко, по возбуждении настоящего дела, фигурировал сперва в качестве простого свидетеля, но затем был привлечен в качестве обвиняемого и в этом качестве скончался». Профессор баллистики — и вдруг открылось, что он ростовщик.
Шура Дейна. Паулина Моржицкая.
«Ильина была типичной мещанской Мессалиной, которая обворожила подсудимого массивностью и выпуклостью своих форм».
Присяжные заседатели вынесли обвиняемому оправдательный вердикт. После вынесения оправдательного вердикта обвиняемый был немедленно освобожден из-под стражи. Присяжные заседатели вынесли обоим обвиняемым оправдательный вердикт.
Вчера хлебнул горя — смотрел картину «Конец полустанка».
Страна, населенная детьми.
Мы ехали в поезде по Крыму. Когда моя соседка увидела зеленую траву, она так обрадовалась, как будто она была коровой, всю зиму проведшей в мрачном уединении хлева.
Роман. Называется «Ворота».
Она была так ошеломлена тем, что увидела, что выбежала из комнаты и тут же в коридоре превратилась в растение. Теперь это называется — «История одного фикуса в зеленой кадушке».
Как скучно быть кариатидой, подпирать какой-то некрасивый карниз.
Жить на такой планете — только терять время.
Напился так, что уже мог творить различные мелкие чудеса.
По всему полуострову зазвучали сигналы к обеду.
Крымский сад: иудино дерево, кукуля, кедр, тис, благородный лавр, миндаль, кипарис, магнолия, ель, ель голубая.
Приехал отдыхать какой-то кинематографист в горностаевых галифе с хвостиками.
Начался сезон, и на полуострове ударили сразу двадцать тысяч патефонов, завертелись и завизжали пятьдесят или пятьсот тысяч пластинок.
Девушка-былинка.
Подали завтрак: холодное масло, завинченное розами, овальную вазочку с редиской, на длинной тарелочке — холодную баранину, телятину и просвечивающую насквозь брауншвейгскую колбасу, два яйца в мешочке, три ломтя сыру, сырную пасху, свежий темный хлеб. Море было пустынно, как все эти дни, и ослепительно сверкало.
Холодный, благородный и чистый, как брус искусственного льда, подымался «Эмпайр-стейт-билдинг».
Любовь к этим словам неистребима. Глубоко, на дюйм врезаны они в кору деревьев.
Тихомандрицкий. Мемфисов.
Когда питекантроп заметил, что у него нет хвоста, он ужасно огорчился. Он думал, что это ставит его в зависимое положение от обезьян. Он даже не понимал, что он и есть владыка мира. Жена его, молодая питекантропка, долго пилила его и жалела совершенно открыто, что не вышла замуж за одного орангутанга, который ухаживал за ней прошлым летом.
Чувство уюта, одно из древнейших чувств.
«А когда наступит время перебранки…»
«Здравствуйте, Надежда Николаевна и Яков Яков Яковлевич».
Мама истицы говорила чудным музыкальным русским языком.
Разговор по междугородному телефону. «Есть повидло бочковое! Покупать? Не надо? Кончено. Есть варенье бочковое! Покупать? Не надо? Кончено!»
Сквозь лужи Большой Ордынки, подымая громадный бурун, ехал на велосипеде человек в тулупе. Все дворники весело кричали ему вслед и махали метлами. Это был праздник весны.
«На вашем месте я сидел бы на месте».
«Отец мой мельник, мать — русалка».
Судья: «А вы скажите суду по части отреза».
Колонна-Берлинский. Конечно, он оказался никакой не Колонна, а просто Берлинский, просто жулик или новейший Хлестаков, как он называется в книге «Из залы суда».
Комиссия прошений, на высочайшее имя приносимых.
Великобританский подданный Николай Гарвей и графиня Менгден обвинялись в краже книг из издательства Девриен и продаже их букинистам.
Капитан Юстицкий.
Гидротерапевтическое заведение доктора Теодора Келлера в Париже. Здесь имел пребывание Юрий Попов, когда ему подали однажды визитную карточку «Полковник Меранвиль де Сент-Клер».
Фурорная певица г-жа Милликети, по паспорту шлиссельбургская мещанка Ефросиния Кузнецова, обвинялась в исполнении нецензурной шансонетки «Шар».
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИЛЬЕ ИЛЬФЕ


Евгений Петров Из воспоминаний об Ильфе
1
Однажды, во время путешествия по Америке, мы с Ильфом поссорились. Произошло это в штате Нью-Мексико, в маленьком городе Галлопе, вечером того самого дня, глава о котором в нашей книге «Одноэтажная Америка» называется «День несчастий». Мы перевалили Скалистые горы и были сильно утомлены. А тут еще предстояло сесть за пишущую машинку и писать фельетон для «Правды». Мы сидели в скучном номере гостиницы, недовольно прислушиваясь к свисткам и колокольному звону маневровых паровозов (в Америке железнодорожные пути часто проходят через город, а к паровозам бывают прикреплены колокола). Мы молчали. Лишь изредка один из нас говорил: «Ну?» Машинка была раскрыта, в каретку вставлен лист бумаги, но дело не двигалось. Собственно говоря, это происходило регулярно в течение всей нашей десятилетней литературной работы — трудней всего было написать первую строчку. Это были мучительные дни. Мы нервничали, сердились, понукали друг друга, потом замолкали на целые часы, не в силах выдавить ни слова, потом вдруг принимались оживленно болтать о чем-нибудь, не имеющем никакого отношения к нашей теме, — например, о Лиге Наций или о плохой работе Союза писателей. Потом замолкали снова. Мы казались себе самыми гадкими лентяями, какие только могут существовать на свете. Мы казались себе беспредельно бездарными и глупыми. Нам противно было смотреть друг на друга. И обычно, когда такое мучительное состояние достигало предела, вдруг появлялась первая строчка — самая обыкновенная, ничем не замечательная строчка. Ее произносил один из нас довольно неуверенно. Другой с кислым видом исправлял ее немного. Строчку записывали. И тотчас же все мучения кончались. Мы знали по опыту — если есть первая фраза, дело пойдет. Но вот в городе Галлопе, штат Нью-Мексико, дело никак не двигалось вперед. Первая строчка не рождалась. И мы поссорились. Вообще говоря, мы ссорились очень редко, и то по причинам чисто литературным — из-за какого-нибудь оборота речи или эпитета. А тут ссора приключилась ужасная — с криками, ругательствами и страшными обвинениями. То ли мы слишком изнервничались и переутомились, то ли сказалась здесь смертельная болезнь Ильфа, о которой ни он, ни я в то время еще не знали, только ссорились мы долго — часа два. И вдруг, не сговариваясь, мы стали смеяться. Это было странно, дико, невероятно, но мы смеялись. И не каким-нибудь истерическим, визгливым, так называемым чуждым смехом, после которого надо принимать валерьянку, а самым обыкновенным, так называемым здоровым смехом. Потом мы признались друг другу, что одновременно подумали об одном и том же — нам нельзя ссориться, это бессмысленно. Ведь мы все равно не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писатель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший полдесятка книг, только потому, что его составные части поссорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне из-за примуса. И вечер в городе Галлопе, начавшийся так ужасно, окончился задушевнейшим разговором. Это был самый откровенный разговор за долгие годы нашей никогда и ничем не омрачавшейся дружбы. Каждый из нас выложил другому все свои самые тайные мысли и чувства. Уже очень давно, примерно к концу работы над «12 стульями», мы стали замечать, что иногда произносим какое-нибудь слово или фразу одновременно. Обычно мы отказывались от такого слова и принимались искать другое. — Если слово пришло в голову одновременно двум, — говорил Ильф, — значит, оно может прийти в голову трем и четырем, значит, оно слишком близко лежало. Не ленитесь. Женя, давайте поищем другое. Это трудно. Но кто сказал, что сочинять художественные произведения легкое дело? Как-то, по просьбе одной редакции, мы сочинили юмористическую автобиографию, в которой было много правды. Вот она: «Очень трудно писать вдвоем. Надо думать, Гонкурам было легче. Все-таки они были братья. А мы даже не родственники. И даже не однолетки. И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой — еврей (загадочная еврейская душа). Итак, работать нам трудно. Труднее всего добиться того гармонического момента, когда оба автора усаживаются наконец за письменный стол. Казалось бы, все хорошо: стол накрыт газетой, чтобы не пачкать скатерти, чернильница полна до краев, за стеной одним пальцем выстукивают на рояле «О, эти черные…», голубь смотрит в окно, повестки на разные заседания разорваны и выброшены. Одним словом, все в порядке, сиди и сочиняй. Но тут начинается. Тогда как один из авторов полон творческой бодрости и горит желанием подарить человечеству новое художественное произведение, как говорится, широкое полотно, другой (о, загадочная славянская душа!) лежит на диване, задрав ножки, и читает историю морских сражений. При этом он заявляет, что тяжело (по всей вероятности, смертельно) болен. Бывает и иначе. Славянская душа вдруг подымается с одра болезни и говорит, что никогда еще не чувствовала в себе такого творческого подъема. Она готова работать всю ночь напролет. Пусть звонит телефон — не отвечать, пусть ломятся в дверь гости — вон! Писать, только писать. Будем прилежны и пылки, будем бережно обращаться с подлежащим, будем лелеять сказуемое, будем нежны к людям и строги к себе. Но другой соавтор (о, загадочная еврейская душа!) работать не хочет, не может. У него, видите ли, нет сейчас вдохновения. Надо подождать. И вообще он хочет ехать на Дальний Восток с целью расширения своих горизонтов. Пока убедишь его не делать этого поспешного шага, проходит несколько дней. Трудно, очень трудно. Один — здоров, другой — болен. Больной выздоровел, здоровый ушел в театр. Здоровый вернулся из театра, а больной, оказывается, устроил небольшой разворот для друзей, холодный бал с закусочкой а-ля фуршет. Но вот наконец прием окончился и можно было бы приступить к работе. Но тут у здорового вырвали зуб, и он сделался больным. При этом он так неистово страдает, будто у него вырвали не зуб, а ногу. Это не мешает ему, однако, дочитывать историю морских сражений. Совершенно непонятно, как это мы пишем вдвоем». Действительно. Сочинять вдвоем было не вдвое легче, как это могло бы показаться в результате простого арифметического сложения, а в десять раз труднее. Это было не простое сложение сил, а непрерывная борьба двух сил, борьба изнурительная и в то же время плодотворная. Мы отдавали друг другу весь свой жизненный опыт, свой литературный вкус, весь запас мыслей и наблюдений. Но отдавали с борьбой. В этой борьбе жизненный опыт подвергался сомнению. Литературный вкус иногда осмеивался, мысли признавались глупыми, а наблюдения поверхностными. Мы беспрерывно подвергали друг друга жесточайшей критике, тем более обидной, что преподносилась она в юмористической форме. За письменным столом мы забывали о жалости. Со временем мы все чаще стали ловить себя на том, что произносим одно и то же слово одновременно. И часто это было действительно хорошее, нужное слово, которое лежало не близко, а далеко. И хотя оно было произнесено двумя, но едва ли могло прийти в голову еще трем или четырем. Так выработался у нас единый литературный стиль и единый литературный вкус. Это было полное духовное слияние. И вот о нем мы говорили вечером в городе Галлопе, штат Нью-Мексико. Мы признались друг другу, что испытываем одно и то же чувство неуверенности в собственных силах. Сможет ли один из нас написать хотя бы одну строчку самостоятельно? Год спустя мы написали нашу последнюю большую книгу — «Одноэтажную Америку>. Это было первое произведение, которое мы сочиняли порознь — двадцать глав написал Ильф, двадцать глав написал я, и семь глав мы написали вместе, по старому способу. Мы убедились, что наши страхи были напрасны. Но тогда, в Галлопе, мы были откровенны и нежны и очень встревожены. Я не помню, кто из нас произнес эту фразу: — Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах. Кажется, это сказал Ильф. Я уверен, что в эту минуту мы подумали об одном и том же. Неужели наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу на глаз с пишущей машинкой? В комнате будет тихо и пусто, и надо будет писать. А через три недели жарким и светлым январским днем мы прогуливались по знаменитому кладбищу Нового Орлеана, рассматривая странные могилы, расположенные в два или три этажа над землей. Ильф был очень бледен и задумчив. Он часто уходил один в переулочки, образованные скучными рядами кирпичных побеленных могил, и через несколько минут возвращался, еще более печальный и встревоженный. Вечером, в гостинице, Ильф, морщась, сказал мне: — Женя, я давно хотел поговорить с вами. Мне очень плохо. Уже дней десять как у меня болит грудь. Болит непрерывно, днем и ночью. Я никуда не могу уйти от этой боли. А сегодня, когда мы гуляли по кладбищу, я кашлянул и увидел кровь. Потом кровь была весь день. Видите? Он кашлянул и показал мне платок. Через год и три месяца, 13 апреля 1937 года, в десять часов тридцать пять минут вечера, Ильф умер.2
И вот я сижу один против пишущей машинки, на которой Ильф в последний год своей жизни напечатал удивительные записки. В комнате тихо и пусто, и надо писать. И в первый раз после привычного слова «мы» я пишу пустое и холодное слово «я» и вспоминаю нашу молодость. Как это было? Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве. В 1923 году Москва была грязным, запущенным и бес порядочным городом. В конце сентября прошел первый осенний дождь, и на булыжных мостовых грязь держалась до заморозков. В Охотном ряду и в Обжорном ряду торговали частники. С грохотом проезжали ломовики. Валялось сено. Иногда раздавался милицейский свисток, и беспатентные торговцы, толкая пешеходов корзинками и лотками, медленно и нахально разбегались по переулочкам. Москвичи смотрели на них с отвращением. Противно, когда по улице бежит взрослый бородатый человек с красным лицом и вытаращенными глазами. Возле асфальтовых котлов сидели беспризорные дети. У обо чин стояли извозчики — странные экипажи с очень высокими колесами и узеньким сиденьем, на котором еле помещались два человека. Московские извозчики были похожи на птеродактилей с потрескавшимися кожаными крыльями — существа допотопные и к тому же пьяные. В том году милиционерам выдали новую форму — черные шинели и шапки пирожком из серого искусственного барашка с красным суконным верхом. Милиционеры очень гордились новой формой. Но еще больше гордились они красными палочками, которые были им выданы для того, чтобы дирижировать далеко не оживленным уличным движением. Москва отъедалась после голодных лет. Вместо старого, разрушенного быта создавался новый. В Москву понаехало множество провинциальных молодых людей для того, чтобы завоевать великий город. Днем они толпились возле биржи труда. Ночевали они на вокзалах и бульварах. А наиболее счастливые из завоевателей устраивались у родственников и знакомых. Сумрачные коридоры больших московских квартир были переполнены спящими на сундуках провинциальными родственниками. Ильфу повезло. Он поступил на службу в газету «Гудок» и получил комнату в общежитии типографии в Чернышевском переулке. Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистейшей фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичах и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был добавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилье в романе «12 стульев», в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца». Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти. Не помню я и характера ильфовской фразы, его голоса, интонаций, манеры разговаривать. Я вижу его лицо, но не могу услышать его голоса. Я отчетливо вижу комнату, где делалась четвертая страница газеты «Гудок», так называемая четвертая полоса. Здесь в самом злющем роде обрабатывались рабкоровские заметки. У окна стояли два стола, соединенные вместе. Тут работали четыре сотрудника. Ильф сидел слева. Это был чрезвычайно насмешливый двадцатишестилетний человек в пенсне с маленькими голыми и толстыми стеклами. У него было немного асимметричное, твердое лицо с румянцем на скулах. Он сидел, вытянув перед собой ноги в остроносых красных башмаках, и быстро писал. Окончив очередную заметку, он минуту думал, потом вписывал заголовок и довольно небрежно бросал листок заведующему отделом, который сидел напротив. Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: «И осел ушами шевелит». Заметка кончалась довольно мрачно: «Под суд!» В комнате четвертой полосы создалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь беспрерывно. Человек, попадавший в эту атмосферу, сам начинал острить, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков. Для боязни было много оснований. В комнате четвертой полосы на стене висел большой лист бумаги, куда наклеивались всяческие газетные ляпсусы: бездарные заголовки, малограмотные фразы, неудачные фотографии и рисунки. Этот страшный лист назывался так: «Сопли и вопли». Как случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это случайностью было бы слишком просто. Ильфа нет, и я никогда не узнаю, что думал он, когда мы начинали работать вместе. Я же испытывал по отноше нию к нему чувство огромного уважения, а иногда даже восхищения. Я был моложе его на пять лет, и хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал на писанного, я готов был признать его своим мэтром. Его литературный вкус казался мне в то время безукоризненным, а смелость его мнений приводила меня в вое торг. Но у нас был еще один мэтр, так сказать, профессиональный мэтр. Это был мой брат, Валентин Катаев. Он в то время тоже работал в «Гудке» в качестве фельетониста и подписывался псевдонимом Старик Собакин. И в этом качестве он часто появлялся в комнате четвертой полосы. Однажды он вошел туда со словами: — Я хочу стать советским Дюма-отцом. Это высокомерное заявление не вызвало в отделе особенного энтузиазма. И не с такими заявлениями входили люди в комнату четвертой полосы. — Почему же это, Валюн, вы вдруг захотели стать Дюма-пером? — спросил Ильф. — Потому, Илюша, что уже давно пора открыть мастерскую советского романа, — ответил Старик Собакин, — я буду Дюма-отцом, а вы будете моими неграми. Я вам буду давать темы, вы будете писать романы, а я их потом буду править. Пройдусь раза два по вгоним рукописям рукой мастера — и готово. Как Дюма-пер. Ну? Кто желает? Только помните, я собираюсь держать вас в черном теле. Мы еще немного пошутили на тему о том, как Старик Собакиин будет Дюма-отцом, а мы его неграми. Потом заговорили серьезно. — Есть отличная тема, — сказал Катаев, — стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман? Есть еще темки… А? Соглашайтесь. Серьезно. Один роман пусть пишет Иля, а другой Женя. Он быстро написал стихотворный фельетон о козлике, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался «Старик Собакин» и куда-то убежал. А мы с Ильфом вышли из комнаты и стали прогуливаться по длиннейшему коридору Дворца Труда. — Ну что, будем писать? — спросил я. — Что ж, можно попробовать, — ответил Ильф. — Давайте так, — сказал я, — начнем сразу. Вы один роман, а я другой. А сначала сделаем планы для обоих романов. Ильф подумал. — А может быть, будем писать вместе? — Как это? — Ну, просто вместе будем писать один роман. Мне понравилось про эти стулья. Молодец Собакин. — Как же вместе? По главам, что ли? — Да нет, — сказал Ильф, — попробуем писать вместе, одновременно, каждую строчку вместе. Понимаете? Один будет писать, другой в это время будет сидеть рядом. В общем, сочинять вместе. В этот день мы пообедали в столовой Дворца Труда и вернулись в редакцию, чтобы сочинять план романа. Вскоре мы остались одни в громадном пустом здании. Мы и ночные сторожа. Под потолком горела слабая лампочка. Розовая настольная бумага, покрывавшая соединенные столы, была заляпана кляксами и сплошь изрисована отчаянными остряками четвертой полосы. На стене висели грозные «Сопли и вопли». Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный комплект — двенадцать штук. Название нам понравилось. «Двенадцать стульев». Мы стали импровизировать. Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать жизнь. Мы составили черновой план романа в один вечер и на другой день показали его Катаеву. Дюма-отец план одобрил, сказал, что уезжает на юг, и потребовал, чтобы к его возвращению, через месяц, была бы готова первая часть. — А уже тогда я пройдусь рукой мастера, — пообещал он. Мы заныли. — Валюн, пройдитесь рукой мастера сейчас, — сказал Ильф, — вот по этому плану. — Нечего, нечего, вы негры и должны трудиться. И он уехал. А мы остались. Это было в августе или сентябре 1927 года. И начались наши вечера в опустевшей редакции. Сейчас я совершенно не могу вспомнить, кто произнес ка кую фразу, кто и как исправил ее. Собственно, не было ни одной фразы, которая так или иначе не обсуждалась и не изменялась, не было ни одной мысли или идеи, которая тотчас же не подхватывалась. Но первую фразу романа произнес Ильф. Это я помню хорошо. После короткого спора было решено, что писать буду я. Ильф убедил меня, что мой почерк лучше. Я сел за стол. Как же мы начнем? Содержание главы было известно. Была известна фамилия героя — Воробьянинов. Ему уже было решено придать черты моего двоюродного дяди — председателя уездной земской управы. Уже была придумана фамилия для тещи — мадам Петухова и название похоронного бюро — «Милости просим». Не было только первой фразы. Прошел час. Фраза не рождалась. То есть фраз было много, но они не нравились ни Ильфу, ни мне. Затянувшаяся пауза тяготила нас. Вдруг я увидел, что лицо Ильфа сделалось еще более твердым, чем всегда, он остановился (перед этим он ходил по комнате) и сказал: — Давайте начнем просто и старомодно: «В уездном городе N». В конце концов не важно, как начать, лишь бы начать. Так мы и начали. И в этот первый день мы испытали ощущение, которое не покидало нас потом никогда. Ощущение трудности. Нам было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца Труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова. Иногда нас охватывало отчаяние. — Неужели наступит такой момент, когда рукопись будет наконец написана и мы будем везти ее в санках. Будет идти снег. Какое, наверно, замечательное ощущение — работа окончена, больше ничего не надо делать.3
Все-таки мы окончили первую часть вовремя. Семь печатных листов были написаны в месяц. Это еще не был роман, но перед нами уже лежала рукопись, довольно толстенькая пачка больших, густо исписанных листов. У нас еще никогда не было такой толстенькой пачки. Мы с удовольствием перебирали ее, нумеровали и без конца высчитывали количество печатных знаков в строке, множили эти знаки на количество строк в странице, потом множили на число страниц. Да. Мы не ошиблись. В первой части было семь листов. И каждый лист содержал в себе сорок тысяч чудных маленьких знаков, включая запятые и двоеточия. Мы торжественно понесли рукопись Дюма-отцу, который к тому времени уже вернулся. Мы никак не могли себе представить — хорошо мы написали или плохо. Если бы Дюма-отец, он же Старик Собакин, он же Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли галиматью, мы нисколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему. Но он прочел рукопись, все семь листов прочел при нас и очень серьезно сказал: — Вы знаете, мне понравилось то, что вы написали. По-моему, вы совершенно сложившиеся писатели. — А как же рука мастера? — спросил Ильф. — Не прибедняйтесь, Илюша. Обойдетесь и без Дюма-пера. Продолжайте писать сами. Я думаю книга будет иметь успех. Мы продолжали писать. Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого бильярдиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним как с живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. Это верно, что мы поспорили о том, убивать Остапа или нет. Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки. И судьба великого комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья. И вот в январе месяце 28 года наступила минута, о которой мы мечтали. Перед нами лежала такая толстая рукопись, что считать печатные знаки пришлось часа два. Но как приятна была эта работа! Мы уложили рукопись в папку. — А вдруг мы ее потеряем? — спросил я. Ильф встревожился. — Знаете что, — сказал он, — сделаем надпись. Он взял листок бумаги и написал на нем: «Нашедшего просят вернуть по такому-то адресу». И аккуратно наклеил листок на внутреннюю сторону обложки. Все случилось так, как мы мечтали. Шел снег. Чинно сидя на санках, мы везли рукопись домой. Но не было ощущения свободы и легкости. Мы не чувствовали освобождения. Напротив. Мы испытывали чувство беспокойства и тревоги. Напечатают ли наш роман? Понравится ли он? А если напечатают и понравится, то, очевидно, нужно писать новый роман. Или, может быть, повесть. Мы думали, что это конец трудов, но это было только начало.4
Мы работали вместе десять лет. Это очень большой срок. В литературе это целая жизнь. Мне хочется написать роман об этих десяти годах, об Ильфе, о его жизни и смерти, о том, как мы сочиняли вместе, путешествовали, встречались с людьми, о том, как за эти десять лет изменялась наша страна и как мы изменялись вместе с ней. Может быть, со временем такую книгу удастся сочинить. Покуда же мне хотелось бы написать несколько строк о записных книжках Ильфа, оставшихся нам после его смерти. — Обязательно записывайте, — часто говорил он мне, — все проходит, все забывается. Я понимаю — записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но тогда нужно заставить себя. Очень часто ему не удавалось заставить себя сделать это, и его очередная записная книжечка не вынималась из кармана по целым месяцам. Потом надевался другой пиджак, и когда нужно было записать что-нибудь, книжечки не было. — Худо, худо, — говорил Ильф, — обязательно надо записывать. Проходило еще некоторое время, и у Ильфа появлялась новенькая записная книжка. Он с удовольствием рассматривал ее, торжественно хлопал ее ладонью по картонному или клеенчатому переплетику и прятал в боковой карман с таким видом, что теперь-то уж будет вести записи каждый день и даже ночью будет просыпаться, чтобы записать что-нибудь. Некоторое время книжечка действительно вынималась довольно часто, потом наступал период охлаждения, книжечка забывалась в старом пиджаке и, наконец, торжественно приносилась домой новая. Однажды Ильфу после настойчивых его просьб подарили в какой-то редакции или издательстве громадную бухгалтерскую книгу с толстой блестящей бумагой, раз графленной красными и синими линиями. Эта книга ему очень нравилась. Он без конца открывал ее и закрывал, внимательно рассматривал бухгалтерские линии и говорил: — Здесь должно быть записано все. Книга жизни. Вот тут, справа, смешные фамилии и мелкие подробности. Слева — сюжеты, идеи и мысли. К своим увлечениям Ильф относился иронически. Он, несомненно, любил эту толстую книгу как носительницу совершенно правильной идеи — все записывать. Но он знал, что все равно никогда не заставит себя записывать каждый день в течение всей своей жизни, и потому подшучивал над книгой. Постепенно увлечение прошло, и в книге появились рисунки, небрежные и резкие ильфовские рисунки, где какой-нибудь профиль, или шапочка с пером, или странный верблюд с пятнадцатью горбами («верблюд-автобус», как называл его Ильф) были повторены десятки и даже сотни раз. После Ильфа осталось много книжечек. Некоторые из них заполнены только наполовину, некоторые на треть, а в некоторых записи занимают лишь две-три странички. Остальные пусты или покрыты рисунками. В 1925 году мы еще не начали писать вместе с Ильфом, и он главным образом занимался журналистикой. Редакция послала Ильфа в Среднюю Азию. Это было его первое большое путешествие. Он потом часто и с удовольствием о нем вспоминал. Разбирая записные книжки Ильфа, мы нашли заметки, касающиеся поездки в Среднюю Азию. Ильф был очень строг и даже беспощаден в своих литературных вкусах. От писателя он требовал точности, умения собрать и заготовить впрок наблюдения, неожиданные словесные обороты, термины. Мельком услышанные рассказы какого-нибудь случайного попутчика, кусочек ландшафта, промелькнувший в окне вагона, цвет неба или моря, форма дерева или описание животного, — вот чему были посвящены его первые записи. Это была, если можно так выразиться, писательская кухня. Впоследствии, работая вместе, мы, прежде чем начать писать задуманную книгу, заготовляли на листах бумаги самые разнообразные наблюдения, сюжеты и мысли. Я уже говорил о том, что сейчас невозможно установить, кто что придумал. Но кое-что Ильф извлекал из своих записных книжек и требовал того же от меня. Во время последнего путешествия по Америке мы купили пишущую машинку. Ильф очень увлекся ею. Ему нравился самый процесс печатания. В первый же вечер (это было в Нью-Йорке) он сел писать, вернее — печатать дневник. Он собирался делать это каждый день. Но по ездка была так утомительна, что на дневник не хватало ни времени, ни сил. Вернувшись в Москву, уже смертельно больной. Ильф снова вернулся к этой идее и стал регулярно записывать свои наблюдения, но уже не в форме дневника, а в виде коротеньких самостоятельных записей. За последний год своей жизни он напечатал так около двух листов. Эти заметки он делал весной 1936 года в Остафьеве и в Кореизе, затем летом на даче под Москвой, осенью — в Форосе и зимою, с 1936 по 37-й год, в Москве. Эта последняя работа — не просто «писательская кухня». На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно. Ильф знал, что умирает. Потому так грустны его последние записи. Он был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ. — Вы знаете. Женя, — говорил он мне, — я принадлежу к тем людям, которые входят в двери последними. Только в двух местах рукописи Ильф вспоминал о своей болезни: «…и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде». «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холод но и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не по везло». Это все, что он написал о себе.1939
Из книги Валентина Катаева
«Алмазный мой венец»:
..В «Гудке» произошло… чудо. В числе молодых, приехавших с юга в Москву за ела вой, оказался наш общий друг, человек во многих отношениях замечательный. Он был до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом, французской культуры, ее новейшего искусства — живописи, скульптуры, поэзии. Каким-то образом ему уже был известен Аполлинер, о котором мы… еще не имели понятия. Во всем его облике было нечто неистребимо западное. Он одевался как все мы: во что бог послал. И тем не менее он явно выделялся. Даже самая обыкновенная рыночная кепка приобретала на его голове парижский вид, а пенсне без ободков, сидящее на его странном носу и как бы скептически поблескивающее, его негритянского склада губы с небольшой черничной пигментацией были настолько космополитичны, что воспринять его как простого советского гражданина казалось очень трудным. …Мы полюбили его, но никак не могли определить, кто же он такой: поэт, прозаик, памфлетист, сатирик? Тогда еще существовало понятие эссеист. Во всяком случае, было ясно, что он принадлежит к левым, даже, может быть, к кубофутуристам. Нечто маяковское всегда витало над ним. В нем чувствовался острый критический ум, тонкий вкус, и втайне мы его побаивались, хотя свои язвительные суждения он высказывал чрезвычайно редко, в форме коротких замечаний «с места», всегда очень верных, оригинальных и зачастую убийственных. Ему был свойственен афористический стиль. Однажды, сдавшись на наши просьбы, он прочитал несколько своих опусов. Как мы и предполагали, это было нечто среднее между белыми стихами, ритмической прозой, пейзажной импрессионистической словесной живописью и небольшими философскими отступлениями. В общем, нечто весьма своеобразное, ни на что не похожее, но очень пластическое и впечатляющее, ничего общего не имеющее с упражнениями провинциальных декадентов. …Можете себе представить, каких трудов стоило устроить его на работу в Москве. О печатании его произведений, конечно, не могло быть и речи. Пришлось порядочно повозиться, прежде чем мне не пришла на первый взгляд безумная идея повести его наниматься в «Гудок». — А что он умеет? — спросил ответственный секретарь. — Все и ничего, — сказал я. — Для железнодорожной газеты это маловато, — ответил ответственный секретарь, легендарный Август Потоцкий… — Вы меня великодушно извините, — обратился он к другу, которого я привел к нему, — но как у вас насчет правописания? Умеете вы изложить свою мысль грамотно? Лицо друга покрылось пятнами. Он был очень самолюбив. Но он сдержался и ответил, прищурившись: — В принципе пишу без грамматических ошибок. — Тогда мы берем вас правщиком. Быть правщиком значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма рабочих-железнодорожников. Правщики стояли на самой низшей ступени редакционной иерархии. Их материалы печатались петитом на последней странице, так называемой четвертой полосе: дальше уже, кажется, шли расписания поездов и похоронные объявления. Другу вручили пачку писем, вкривь и вкось исписанных чернильным карандашом. Друг отнесся к этим неразборчивым каракулям чрезвычайно серьезно. <…> Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки. Друг же поступил иначе. Вылущив из письма самую суть, он создал совершенно новую газетную форму — нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти-пятнадцати строчек в две колонки. Но зато каких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которую до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной. Другие правщики сразу же в меру своих дарований восприняли блестящий стиль друга и стали ему подражать. Таким образом, возникла совершенно новая школа обработчиков, перешедшая на более высшую ступень газетной иерархии. Это была маленькая газетная революция. Старые газетчики долго вспоминали невозвратимо далекие золотые дни знаменитой четвертой полосы «Гудка». Создатель этого новаторского газетного стиля так и остался в этой области неизвестным, хотя через несколько лет в соавторстве с моим братишкой снискал мировую известность…Из воспоминаний Льва Славина
Раскрывался Ильф редко и трудно. Был он скорее молчалив, чем разговорчив. <…> Никто из нас не сомневался, что Иля, как мы его называли, будет крупным писателем. Его понимание людей, его почти безупречное чувство формы, его способность эмоционально воспламеняться, проницательность и глубина его суждений говорили о его значительности как художника еще тогда, когда он не напечатал ни одной строки. Он писал, как все мы. Но в то время, как некоторые из нас уже начинали печататься, Ильф еще ничего не опубликовал. То, что он писал, было до того нетрадиционно, что редакторы с испугом отшатывались от его рукописей. Между тем сатирический дар его сложился рано. Ильф родился с мечом в руках.Из воспоминаний Юрия Олеши
Был 1923 год, вся наша жизнь была впереди. Мы работали в «Гудке» — я писал фельетоны в стихах, Ильф делал прозаические обработки рабкоровского материала. Еще тогда я заметил одно свойство Ильфа, которое и управляло еготворчеством. Это свойство — аппетит к жизни. Ему, если можно так выразиться, — нравилось жить. Это проявлялось во всем. В умении подобрать вещи, которые его окружали, в умении выбрать книгу, которую он читал, выбрать фразу, которую он произносил, выбрать мечту, которой он предавался, надежду, которую он лелеял. Когда он что-нибудь имел или чего-нибудь хотел, то это всегда было так привлекательно и интересно, что вызывало почти школьническую зависть. Я до сих пор помню его кепку, его перчатки, его улыбку, когда он говорил: — Ну, Юра, сегодня мы пойдем на матч бокса. Без него я не пошел бы на матч бокса. Повседневность под его взглядом становилась почти по-детски интересной и праздничной. Если говорят о человеке, что он входит в жизнь, то Ильф входил в жизнь именно с аппетитом. Он рассыпал характеристики: вещам, событиям, людям. До сих пор блестят полным блеском его эпитеты, приложенные к тем или иным вещам, его имена, которые он дал тем или иным людям, хорошим или дурным, до сих пор мы говорим: помните, как сказал однажды Ильф. Ильф был очень нежным человеком, потому что любил детей. Если бы я рисовал Ильфа в виде обобщенной фигуры, как это бывает на памятниках, я нарисовал бы его разговаривающим с мальчиками. Он и сам похож был на мальчика в своей большой кепке — не то мальчик, не то воробей, идущий поперек улицы. Известно, как часто и в романах, и в фельетонах Ильфа-Петрова проходят фигуры детей. Пешеход, разговаривающий с детьми, — вот как я сказал бы об Ильфе в поэтическом разрезе. <…> Это внимание к интересам детей, к их разговорам ц мыслям говорит о залежах юмора, непосредственности! свежести, поэзии, которые были в сердце Ильфа. Однако это был яростный человек, именно — яростный. Не злой, а именно яростный, гневный человек — тогда, когда сталкивался с чем-нибудь уродливым в жизни… Тогда слово «дурак» звучало в его устах ужасным громом. Слово «подлец» вонзалось, как нож. Ни разу этот человек не сказал пошлости или общей мысли. Кое-чего он недоговаривал, еще чего-то самого замечательного. И видя Ильфа, я думал, что гораздо важнее того, о чем человек может говорить, — это то, о чем человек молчит.Из воспоминаний Льва Славина
Мы с Ильфом работали когда-то в одной редакции. Редактором у нас был человек грубый и невежественный. Однажды после совещания, на котором редактор особенно блеснул этими своими качествами, Ильф сказал мне: — Знаете, что он делает, когда остается один в кабинете? Он спускает с потолка трапецию, цепляется за нее хвостом и долго качается…Из воспоминаний Виктора Ардова
У Ильфа был юмор, который мы, литераторы, называем органическим. Мне всегда казалось, что Ильф придумывает смешное не для книг, а для самого себя, и только часть того, что он создавал, попадала в книги. Мне очень хочется, чтобы вы поняли, какую прелесть придавал юмор Ильфа всему, что он говорил в обыденной жизни. <…> Пищу для этого юмора иногда дают несоответствия, которые юморист находит в жизни. Например, знаменитая фраза «Командовать парадом буду я» теперь стала чем-то вроде поговорки, а мы помним, как Ильф выхватил ее из серьезного контекста официальных документов и долгое время веселился, повторяя эту фразу. Затем «командовать парадом буду я» было написано в «Золотом теленке». Смеяться стали читатели. А из официальных бумаг пришлось исключить эти четыре слова, ибо они сделались смешными буквально для всех. Остроумие, которым блистает в обоих романах Остап Бендер, — ведь это же в значительной мере остроумие самих Ильфа и Петрова. <…> …Ильф читал едва ли не все то время, которое проводил в бодрствующем состоянии. Он проглатывал книги по самым различным вопросам — политические, экономические, исторические и, разумеется, беллетристические. Он читал ежедневно десять-пятнадцать газет. Ему было интересно решительно все, что происходило и происходит на земном шаре. Помню, однажды Ильф поделился со мною впечатлениями от только что прочитанной им книги: это был телеграфный код царской армии. Ильф показал мне толстый том, который, вероятно, любому другому показался бы самой скучной книгой на свете. А вот он проштудировал ее всю, и когда говорил об этом коде, начинало казаться, будто эта книга действительно очень интересная, потому что мысли, которые она вызвала у Ильфа, были очень интересны и разнообразны. Однажды Ильф раздобыл издание, воспроизводившее все документы, сопутствовавшие смерти Льва Толстого. Эта книга тоже его очень заинтересовала. Кстати, текст одной из пугающе бессмысленных телеграмм, которую в «Золотом теленке» Остап Бендер посылает Корейко, взят из этой книги. «Графиня изменившимся лицом бежит пруду» — фраза из телеграфной корреспонденции столичного журналиста, присутствовавшего в Астапове в ноябре 1910 года. В 1930-м, кажется, году Ильфа заинтересовал фотоаппарат «лейка», тогда они были внове. Фотографирование для Ильфа было еще одним способом поглубже залезать в делишки этой планеты. Ильф стал страстным фотографом-любителем. Он снимал с утра до ночи: родных, друзей, знакомых, товарищей по издательству, просто прохожих, забавные сценки, неожиданные повороты и оригинальные ракурсы обычных предметов. Он и фотографировал по-ильфовски. Евгений Петрович жаловался с комической грустью: «Было у меня на книжке восемьсот рублей, и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора… Он только и делает, что снимает, проявляет и печатает… Печатает, проявляет и снимает…» Но кончилась эта история с фотографированием счастливо. К 35-му году, когда друзья поехали в Америку, Ильф уже снимал настолько хорошо, что его снимки, сделанные в Соединенных Штатах, с «расширенными», как говорят в редакциях, подписями, составили целую повесть в журнале «Огонек»: это был первый вариант знаменитой ныне книги — «Одноэтажной Америки».…Хочется привести изречение М. Е. Кольцова, с которым Ильф был связан в своей деятельности журналиста. Кольцов неоднократно повторял письменно и устно: «Не считайте читателя дураком; он ничуть не глупее вас; и не рассказывайте ему о пустяках, выдавая их за значительные явления». Так именно и поступал Ильф и в своих произведениях и в жизни.
Из воспоминаний Арона Эрлиха
Справочники, мемуары министров, старые иллюстрированные журналы времен Англо-бурской войны или Севастопольской кампании — все представлялось ему интересным, всюду он умел находить крупицы полезных сведений.Из воспоминаний Константина Паустовского
Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались чрезмерно резкими, но почти всегда они были верными. Однажды он вызвал замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом помолчат и опять спускают воду с тем же ревом.Из книги Катаева «Трава забвения»
Он [Маяковский]…часто подхватывал чью-нибудь крылатую фразу и в течение долгого времени не расставался с ней, повторяя на все лады, так что иногда создавалось впечатление, что это придумал он сам. Так, одно время он без конца повторял шуточный стишок Ильфа: «Марк Аврелий, не еврей ли?»Из воспоминаний Бор. Ефимова
Париж очень понравился друзьям. Они называли его лаконично, с неподражаемой южной интонацией: — Тот город! …Женя Петров с подлинно мальчишеским азартом увлекся непривычными блюдами французской кухни, подстрекая и нас с Ильфом отведывать всевозможные виды устриц под острым соусом, жаренных на сковородке улиток, морских ракушек, морских ежей и прочие диковины. <…> Но Ильф вскоре взбунтовался. — Надоели гады! — кричал он. — Хватит питаться брюхоногими, иглокожими и кишечнополостными! К черту! Притом имейте в виду, что несвежая устрица убивает человека наповал, как пуля. Я хочу обыкновенный антрекот или свиную отбивную! Дайте мне простой московский бифштекс по-гамбургски!Из книги Евг. Петрова «Мой друг Ильф»
Ильф обожал новые знакомства и даже напрашивался в гости, но поддерживал знакомство только тогда, когда убеждался, что человек интересный.Любил, когда никто не видит, покрасоваться перед зеркалом. Иногда он увлекался рубашками, иногда галстуками.
Ильф любил отдельные словечки. Увлекался ими. У него было огромное уважение к слову.
Он зачитывал чужие книги, но его книги зачитывали еще чаще.
Очень хорошо рисовал странных животных. Верблюд-автобус. Чудо в пустыне.
…Ильф прислал мне письмо в армию. Я не помню содержания этого письма. Помню только, что написано оно было чрезвычайно элегантно и легко.
Как Ильф читал — быстро перелистывал страницы, каким-то чутьем угадывая, что можно пропустить. Любил старые комплекты. Человек скрытный, застенчивый, на первый взгляд — заносчивый.
Увлечение этого глубоко мирного человека военно-морской литературой.
— Нет, нет, мы никогда не умрем на своих постелях.
Ильф очень сердился, когда какая-то читательница выразила уверенность, что он зарабатывает 30 тысяч в месяц. Он никак не мог втолковать ей, что зарабатывает сравнительно немного и живет скромно.
Увлечение фотографией, задержавшее написание «Золотого теленка» на год.
— Женя, вы слишком уважаете то, что вы написали. Вычеркните. Не бойтесь. Уверяю вас, от этого ничего страшного не произойдет. Вычеркните.
Это была моя слабость. Я действительно уважал написанное. Трясся над ним, как скупец над золотом, перечитывал по двадцать раз. И вычеркивал с большим трудом. — Женя, не цепляйтесь так за эту строчку. Вычеркните ее.
Я медлил. — Гос-споди, — говорил он с раздражением, — ведь это же так просто. Он брал из моих рук перо и решительно зачеркивал строку. — Вот видите! А вы мучились.
— Женя, вы оптимист собачий.
Ильф всегда очень волновался по поводу общественных и литературных дел. С утра мы всегда начинали об этом разговор. И очень часто так и не могли сесть работать.
Его мысли о литературном уровне. Он был глубоко убежден, что читатель обязательно найдет хорошее произведение.
Он прекрасно знал цену дутой славы и боялся ее. Поэтому он никогда не занимался так называемым устройством литературных дел, не просил и не желал никаких литературных привилегий.
Он был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ.
Старушка, которой он соврал, что он брат Ильфа.
Однажды он сказал: «Женя, я принадлежу к людям, которые любят оставаться сзади, входить в двери последними». Постепенно и я стал таким. Мы неизменно отказывались от участия в вечерах, концертах. В тех редких случаях, когда мы все-таки выступали, мне приходилось читать, а Ильф выпивал всю воду из графина. При этом он страшно мучился и потом говорил, что безумно устал. И это была правда. Его тяготило многолюдное общество…
Ильф обожал детей. Постоянно повторял фразу, которую кричали дети при переезде в новый дом: — Писатели приехали! А потом, когда Ильфа везли на кладбище, дети орали: — Писателя везут!
Трудно писать об Ильфе, как о каком-то другом человеке.
ОТКЛИКИ
ОТЗЫВЫ
ДОКУМЕНТЫ


Ильф и Петров о себе «Привычка думать и писать вместе»
Мы начали работать вдвоем в 1927 году случайно. До этого каждый из нас писал самостоятельно. Это были маленькие рассказы, фельетоны, иногда даже весьма сомнительные стихи. Когда мы стали писать вдвоем, выяснилось, что мы друг к другу подходим, как говорится, дополняем один другого. <…> Что бы мы ни писали — роман, фельетон, пьесу или деловое письмо, мы все это пишем вместе, не отходя друг от друга, за одним столом. Вместе ищется тема, совместными усилиями облекается она в сюжетную форму, все наблюдения, мысли и литературные украшения тщательно выбираются из общего котла, и вместе пишется каждая фраза, каждое слово.Оказалось, что за десять лет работы вместе у нас выработался единый стиль. А стиль нельзя создать искусственно, потому что стиль — это литературное выражение пишущего человека со всеми его духовными и даже физическими особенностями. <…> Очевидно, стиль, который выработался у нас с Ильфом, был выражением духовных и физических особенностей нас обоих. Очевидно, когда писал Ильф отдельно от меня или я отдельно от Ильфа, мы выражали не только каждый себя, но и обоих вместе.
О «ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЯХ»
Рецензия за подписью Л.К. (1928):
ИЛЬЯ ИЛЬФ И ЕВГ. ПЕТРОВ. ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. РОМАН. ЗИФ. 1928 г. Ц. 2 р. 50 к. Роман читается легко и весело, хотя к концу утомляет кинематографическая смена приключений героев — прожженного авантюриста Остапа Бендера и бывшего предводителя дворянства Ипполита Матвеевича, разыскивающих стул, в котором предводительская теща зашила бриллианты. Утомляет потому, что роман, поднимая на смех несуразицы современного бытия и иронизируя над разнообразными представителями обывательщины, не восходит на высоту сатиры. Это не более как беззаботная улыбка фланера, весело прогуливающегося по современному паноптикуму. Разыскивать приходится двенадцать стульев, так как неизвестно, в каком из составлявших гарнитур стульев помещен клад. Все стулья разбросаны по различным уголкам СССР, и, разыскивая их поочередно, герои романа переносятся из затхлой атмосферы глухого городка в мир московской богемы, оттуда на курорт и т. д. Многие из зарисовок-шаржей очень хлестки. Так, хорошо показаны типы поэтической богемы. В романе много удачно использованных неожиданностей. И самая концовка его, рисующая, как накануне похищения последнего двенадцатого стула из клуба Ипполит Матвеевич, убивший из-за жадности своего компаньона, узнает, что сам клуб построен на ценности, найденные в этом роковом стуле, — выполнена очень эффектно. Но читателя преследует ощущение какой-то пустоты. Авторы прошли мимо действительной жизни — она в их наблюдениях не отобразилась, в художественный объектив попали только уходящие с жизненной сцены типы, обреченные «бывшие люди». Когда авторы попытались изобразить студенческий быт — кроме бледных полутеней ничего не получилось. Авторам, очевидно, не чужда наблюдательность и умение передавать свои наблюдения. Жаль было бы, если бы они не пошли дальше многостраничного фельетона, каким по сути дела является роман «Двенадцать стульев».Рецензия Г. Блока (1928):
ИЛЬЯ ИЛЬЕФ [так!] И ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ. 12 СТУЛЬЕВ. РОМАН. ЗИФ. 1928 год. Тираж — 7000 экз. Стр. 422. Цена 2 р. 50 к. «12 стульев» — коллективное произведение двух авторов, по своей тематике очень показательное для нового направления, все более крепнущего в нашей литературе. Ильф и Петров с задатками талантливых рассказчиков создали из своего творения милую, легко читаемую игрушку, где зубоскальство перемежается с анекдотом, а редкие страницы подлинной сатиры растворяются в жиже юмористики бульварного толка и литературщины, потрафляющей желудку обывателя. В книге нет живых людей — есть условные категории героев, которые враждуют между собой, мирятся и стараются в действиях своих походить на настоящего человека. Великий комбинатор Бендер, своеобразный потомок Хлестакова, душа погони за бриллиантами, отец Федор, скинувший рясу для земных сокровищ, и много разного рода и звания — все они призваны веселить читателя. Смех — самоцель. Неприглядные стороны жизни, наши промахи и несправедливости затушевываются комичными злоключениями, анекдотами и трюками. Социальная ценность романа незначительна, художественные качества невелики, и вещь найдет себе потребителя только в кругу подготовленных читателей, любящих легкое занимательное чтение. Цена непомерно дорога, если принять во внимание, что «12 стульев» печатались в течение первого полугодия в журнале «30 дней».Отзыв о романе в обзоре журнала «30 дней» (1928):
Если говорить о литературном отделе журнала, более характерным для него окажется роман-хроника И. Ильфа и Е. Петрова <12 стульев», гвоздь, центральная вещь журнала, печатание которой растянулось на полгода. Редакция называет это произведение — «подражанием лучшим образцам классического сатирического романа»; к этому можно добавить, что подражание оказалось неудачным. За исключением нескольких страниц, где авторам удалось подняться до подлинной сатиры (напр., в образе Ляписа, певца «Гаврилы»), — серенькая посредственность. Социальный объект смеха — обыватель-авантюрист — ничтожен и не характерен для наших дней, не его надо ставить под огонь сатиры; впрочем, и самая сатира авторов сбивается на дешевое развлекательство и зубоскальство. Издевка подменена шуткой, заряда глубокой ненависти к классовому врагу вовсе нет, выстрел оказался холостым.Комментарий Ильфа и Петрова
Если писатель, не дай бог, сочинил что-нибудь веселое, так сказать, в плане сатиры и юмора, то ему немедленно вдеваются в бледные уши две критические серьги — по линии сатиры: «Автор не поднялся до высоты подлинной сатиры, а работает вхолостую»; по линии юмора: «Беззубое зубоскальство». Кроме того, автор обвиняется в ползучем эмпиризме. А это очень обидно, товарищи, — ползучий эмпиризм! Вроде стригущего лишая.О. Мандельштам. Веер герцогини (1929):
…Приведу совсем уже позорный и комический пример «незамечания» значительной книги. Широчайшие слои сейчас буквально захлебываются книгой молодых авторов Ильфа и Петрова, называемой «Двенадцать стульев». Единственным отзывом на этот брызжущий весельем памфлет были несколько слов, сказанных Бухариным на съезде профсоюзов. Бухарину книга Ильфа и Петрова для чего-то понадобилась, а рецензентам пока не нужна. Доберутся, конечно, и до нее и отбреют как следует.Календарь издательства «Огонек» (1929):
В Библиотеке «Огонек» вышла книжка И. Ильфа и Евг. Петрова — «Двенадцать стульев» [БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК», № 483. АКЦ. ИЗД-ВО «ОГОНЕК». МОСКВА — 1929). Это — лучшие главы из недавно вышедшего романа, имеющего выдающийся успех и уже переведенного на несколько европейских языков. Как в советской, так и в иностранной критике роман И. Ильфа и Евг. Петрова признан лучшим юмористическим романом, изданным в СССР. Действительно, «Двенадцать стульев» изобилуют таким количеством остроумных положений, так ярко разработан сюжет всей вещи, так полно и сочно очерчены типы, что успех романа можно считать вполне заслуженным. Книжка, изданная в Библиотеке «Огонек», даст читателю полное представление о талантливом произведении молодых авторов.Ю. Олеша
(ответ на анкету о лучших произведениях, напечатанных в 1928 г.): Я считаю, что такого романа, как «12 стульев», вообще у нас не было.Из Литературной энциклопедии (1930):
Умелая лепка образов, занимательность, с которой развертывается действие, острая сатира, направленная против разнообразных представителей современного мещанства, делают роман Ильфа и Петрова («Двенадцать стульев». — А.И.] значительным произведением современной юмористической литературы.Из статьи А. В. Луначарского
«Ильф и Петров» (1931):
Наше время чрезвычайно серьезно. Оно серьезно в своей радости потому, что основание нашей радости — это сознание постепенной победы на трудных и решающих путях, по которым идет наша страна. Оно серьезно в своем труде потому, что труд этот — напряженный, и целью его является не только заработок куска хлеба, а построение нового мира, разрешение задачи, важной для всего человечества. Оно серьезно и в своих скорбях опять-таки потому, что скорби наши — не мелкие обывательские огорчения, а какие-нибудь «неприятности», большие промашки, препятствия или потери на этом тяжелом и славном пути. При таких обстоятельствах, при серьезности даже нашего веселья, спрашивается: возможна ли у нас смешащая, смешная литература? Один молодой исследователь… прочел доклад, в котором он доказал, что пролетариату, во всяком случае, чужд юмор. Он говорил так: сатира — это применение смеха с целью деградации, разрушения противника. Пролетариату, после одержанной им победы, сатира уже не так нужна, как революционному классу во время его подъема. Сатира направляется больше снизу вверх, но у пролетариата все же еще много врагов, против которых он должен пользоваться оружием смеха, а в этом случае ему придется прибегать к сатире. Не то юмор. Юмор по указанию молодого исследователя… имеет своей целью смягчать противоположности. Юмористика отмечает нечто выходящее из ряда, нечто заслуживающее внимания, но не допускает насмешки, в которой было бы что-то жалящее, едкое. Она разрешает показанное явление в несерьезность, в нечто, к чему можно отнестись несерьезно. Это ни боевому пролетариату, ни пролетариату — строителю своего будущего, по мнению означенного мыслителя, совершенно не нужно. Между тем у нас выходят книги сатирические и сатирические комедии. У нас существуют также и юмористические произведения. Мало того, наши юмористы, даже такие несколько поверхностные, хотя и забавные, как Зощенко, пользуются успехом за границей. Этот самый Зощенко вырос в серьезного писателя, например, в Германии, где сочинения его разошлись множеством изданий. Это значит, что наша юмористическая литература, которая у нас самих вызывает только беглую улыбку, оказывается на самом деле для окружающего мира настолько смешной, что делается одним из центров их общественного смеха. Гораздо, однако, дальше Зощенко идут наши юмористы Ильф и Петров, совместно создавшие такой блещущий весельем роман, как «12 стульев». «12 стульев» имеют европейский успех. Роман этот переведен почти на все европейские языки. В некоторых случаях, например, в той же Германии, он произвел впечатление настоящего события на рынке смеха. Что и говорить, роман действительно заставляет хохотать. Со мной был такой случай: я ехал из Москвы в Ленинград. В вагоне я приметил сравнительно пожилую женщину, которая, стесняясь окружающих, заливалась хохотом, всячески стараясь удержаться. Книжка, которую она читала, была сложена таким образом, что название нельзя было увидеть. Сидящий против нее молодой человек, который все время улыбался, зараженный ее весельем, сказал: «Бьюсь об заклад, что вы читаете «12 стульев». Молодой человек, конечно, угадал. Подходя к этому первому произведению наших юмористов, надо сказать, что оно действительно не было серьезно. «Но еще бы, — скажет читатель, — сами говорите, что это — развеселая книжка, а потом говорите, что она не серьезна. Развеселая книжка не может быть серьезной». Читатель, вы в этом ошибаетесь. Смех может быть чрезвычайно серьезным, потому что, веселя, он в то же время разит: он придает чувство уверенности тому, кто смеется, и обливает ядом, более или менее жестоким, того, над кем смеются. Недаром французы говорят, что смеяться — это убивать. Мольер писал веселые комедии, а Вольтер — чрезвычайно веселые повести и рассказы, но оба они были чрезвычайно серьезными людьми, а Мольер даже человеком мрачным.Ильф и Петров очень веселые люди. В них много молодости и силы. Им всякая пошлость жизни не импонирует, им, что называется, море по колено. Они сознают не только свою внутреннюю силу, стало быть, свое превосходство над окружающей обывательщиной, над жизненной мелюзгой, над мелочным бытом, но они знают — эта сторона советского быта, эта мелочь, обывательщина являются только подонками нашего общества, только испачканным подолом одежд революции. Они сознают, что дальше, за пеленой этих масок, курьезных событий, страстишек, жалких пороков и т. д., имеется совершенно другая жизнь героического напряжения. Поэтому они и веселы, поэтому они и позволяют себе позубоскальствовать над всякими жизненными явлениями того мизерного и карликового порядка, которых у нас, правда, сколько угодно. Ведь дело в том, что гигантское плановое хозяйство, титаническое строительство нового мира врезалось в мещанскую Россию. А мещанская Россия от Гоголя через Успенского, Чехова до городка Окурова Максима Горького оставалась все той же затхлой, жалкой, мелкой. И теперь она пришла в своеобразное кипение и как может реагирует на исполинское явление революции и реагирует, конечно, невпопад. Если она страдает и гибнет, то это нельзя взять всерьез, почему же не гибнуть этому мусору, который история должна смести со своих путей? Если они волнуются или протестуют — все эти суждения и вытекающие отсюда поступки являются также лилипутской суетней «вокруг настоящего». Вот почему Ильф и Петров в «12 стульях» позволили себе зубоскальствовать, не жаля никого, не бичуя, а просто хохоча во все горло над этим болотом, по которому революция шагает в семимильных ботфортах. Однако авторам надо поставить в вину, что этого гиганта в семимильных ботфортах они не показали. Он только чувствуется сзади показанной ими картины, но на глаз иностранца, не знающего наших жизненных взаимоотношений, может, пожалуй, показаться, что наш нынешний СССР — это все та же «Боже мой, какая грустная Россия» Гоголя, что в сущности это все тот же мир «Мертвых душ». Конечно, сама мысль «12 стульев» по существу советская.
Однако известное добродушие, которое делает роман не сатирическим, а юмористическим, может навести людей… на такую мысль: — Зачем нам это изображение мелкоты? Эта мелкота отравляет воздух своими пакостями, заражая таким образом и будущее поколение. Она проникает, эта нечисть, во все части нашего великого механизма, помпы которого набирают новые кадры для будущего строительства, невольно черпая иногда при этом и грязную, мутную воду. Смеяться над ними можно, и они заслуживают смеха, потому что это — несерьезные противники, но смеяться надо, бичуя их, с оттенком сарказма, гнева и презрения. Этого слишком мало у Ильфа и Петрова!
Я думаю, что сатирические «Скорпионы» вполне могут быть направлены на обывательщину, на мещанство, на бюрократизм, которые — подобно пыли, носящейся в воздухе, мешают здоровому дыханию развертывающегося молодого организма. <…> Противник так мелок и жалок в своей духовной безличности, что смех, начиная с презрения, невольно скатывается к простой безоблачной веселости. Но ведь победа и делает противника до такой степени несерьезным, что можно просто отпраздновать эту победу над ним гомерическим, беззаботным смехом, в котором сказывается собственная жизненная уверенность. Пусть придут другие, которые напишут сатиру на остатки старого человека, копошащегося над нами, но Ильф и Петров пишут об этом человеке юмористически. Беды в этом никакой нет. Уверенность подлинного советского человека только крепнет от этого. Но, повторяю, и иностранцу не следует упускать из виду перспективы. Было бы огромной ошибкой либо принять картины Ильфа и Петрова всерьез как характеристику нашей жизни или принять беззаботный смех Ильфа и Петрова за действительную готовность нашу примириться со всей этой разноцветной грязью. Все это я говорю о романе «12 стульев»…
Из статьи Виктора Шкловского
«Юго-Запад» (1933):
Валентин Катаев… дал сюжет Ильфу и Петрову для книги «Двенадцать стульев». Сюжет он взял недалеко. У Конан-Дойля есть рассказ «Шесть Наполеонов». Итальянец, формовщик бюстов, спрятал черную жемчужину в гипсовую массу головы одного бюста. Бюсты проданы. Итальянец ищет бюсты и разбивает их. Позднее режиссер Оцеп сделал из этого сценарий «Кукла с миллионами». Еще позднее сюжет снова ожил. Он ожил в лучшем качестве, чем был рожден. Переселение вещей во время революции дало этой теме глубину и правдоподобие. В схеме, предложенной Катаевым, Остапа Бендера не было. Героем был задуман Воробьянинов и, вероятно, дьякон, который теперь почти исчез из романа. Бендер вырос на событиях, из спутника героя, из традиционного слуги, разрешающего традиционные затруднения основного героя, Бендер сделался стихией романа, мотивировкой приключений. Несмотря на смерть, он, как настоящий удавшийся герой, ожил. Он был убит, но не исчерпан. Герои же романов приключений могут быть только исчерпаны. а не убиты. Он ожил в «Золотом теленке». Ильф и Петров — чрезвычайно талантливые люди. Когда я их вижу, я вспоминаю Марка Твена. Мне кажется. что чуть печальный Ильф с губами, как бы тронутыми черным, что он — Том Сойер. Фантаст, человек литературный, знающий про лампу Аладдина и подвиги Дон Кихота, он человек западный, культурный, опечаленный культурой. Петров — Гек Финн — видит в вещи не больше самой вещи; мне кажется, что Петров смеется, когда пишет. Вместе они работали в «Гудке»Из статьи М. Зощенко
«Сатирик-публицист» (1938):
Ильф был очень умный и тонкий человек. Пожалуй, основное свойство его ума — это едкость, язвительность, в чем было иной раз немало горечи и сарказма. Петрову более свойственен юмор, более свойственны улыбка, смех, мягкая ирония. Сочетание этих качеств дало удивительный эффект. Это было великолепное сочетание, какое в одном человеке почти несовместимо. Сарказм и юмор, горечь и веселая улыбка, едкая злость и мягкая ирония — вот что нам дало это превосходное содружество и вот что мы видим в книгах Ильфа и Петрова. Я чрезвычайно высоко ценю их публицистические работы — фельетоны, статьи, газетные заметки. Но я еще выше оцениваю их роман «Двенадцать стульев» и книгу «Одноэтажная Америка». Роман «Двенадцать стульев» — это превосходный образчик комического романа. Веселый, смешной и трогательный, он обладает еще отличными качествами — там есть настоящее знание жизни, и шарж и гротеск только подчеркивают это знание и делают роман в полной мере сатирическим.Из книги Евг. Петрова «Мой друг Ильф»:
Получив книгу «12 стульев» на французском языке, мы с Ильфом взяли по экземпляру и ходили показывать знакомым. Это было ужасное хвастовство. Так же было с первой русской книгой. А потом привыкли и, получив «12 стульев» чуть ли не на 15 языках, остались равнодушны. Но по-прежнему волновались по поводу впервые напечатанного произведения. Перечитывали по многу раз.Ильф и Петров — лондонскому издательству
«Метюэн» [Methuen] (май 1930):
Совершенно случайно мы получили английский перевод нашего романа «12 стульев» под названием… [Diamonds to Sit On], выпущенный в свет Вашим издательством. Мы очень польщены таким вниманием, тем более что книга издана прекрасно. Нас несколько смущает лишь то обстоятельство, что выход книги не был согласован с авторами. Мы просим Вас, если это не затруднит издательство, выслать авторские экземпляры книги и в дальнейшем выслать нам отзывы прессы. Мы желали бы также выяснить: принято ли в Вашем издательстве платить гонорар иностранным авторам, и если такая традиция еще существует, то соблаговолите написать, в какой сумме выражается гонорар за нашу книгу. Просим Вас ответить по адресу: Москва, Страстной бульвар, 11, издательство «Огонек» для И. Ильфа и Евг. Петрова. С уважением…Из воспоминаний Виктора Ардова:
Году в тридцать втором я слышал от многих, в том числе и от Ильфа с Петровым, будто в Издательство художественной литературы явилась старушка-переводчица, которая сказала: — Ну вот, вы всегда говорите, что по краткой аннотации вам не ясно, стоит ли переводить на русский язык всю книгу. Я, значит, перевела прекрасный французский роман. И рукопись со мною, можно прямо набирать… Ромеш называется «Douze chaises». По-русски — «Двенадцать стульев». Бедная старушка «переперла» фргшцузский перевод ромгша Ильфа и Петрова обратно… — на русский язык! Когда ей рассказали, как она промахнулась, старуха горевала чуть не год.Из интервью Владимира Набокова
Альфреду Аппелю (1967):
Были писатели, которые поняли, что если избрать определенные сюжеты и определенных героев, то они смогут в политическом смысле проскочить, другими словами, никто их не будет учить, о чем писать и как должен оканчиваться роман. Два поразительно одаренных писателя — Ильф и Петров — решили, что если главным героем они сделают негодяя и авантюриста, то, что бы они ни писали о его похождениях, с политической точки зрения к этому нельзя будет придраться, потому что ни законченного негодяя, ни сумасшедшего, ни преступника, вообще никого, стоящего вне советского общества, — в данном случае это, так сказать, герой плутовского романа, — нельзя обвинить ни в том, что он плохой коммунист, ни в том, что он коммунист недостаточно хороший. Под этим прикрытием, которое им обеспечивало полную независимость, Ильф и Петров, Зощенко и Олеша смогли опубликовать ряд совершенно первоклассных произведений, поскольку политической трактовке такие герои, сюжеты и темы не поддавались.Примечания
Указаны первые публикации, псевдонимы писателей. Предположительные датировки даны в угловых скобках.ДВОЙНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ. — Впервые: в литературном еженедельнике «Le Merle» (Париж), 1929, 2 августа. На русском языке: Советская Украина, 1957, № 1. Публикация Л. Гурович. Перепечатана: Литературная газета, 1957, 13 апреля.
ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. — 30 дней. 1928, № 1–7. Иллюстрации Мих. Черемных. Первое книжное издание: М.: ЗиФ, 1928 (исправл. и дополн.); второе (каноническое) издание (с изменениями): М.: ЗиФ. 1929.
ИЛЬЯ ИЛЬФ И ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ. ФЕЛЬЕТОНЫ И РАССКАЗЫ. 1929–1932
ЗДЕСЬ НАГРУЖАЮТ КОРАБЛЬ Синий дьявол. — Впервые: Чудак, 1928, № 1. Первая новелла из цикла «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска». Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (М.: Сов. литература. 1933; М.: Сов. писатель, 1935).
Призрак-любитель. — Чудак, 1929, № 42. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Под знаком Рыб и Меркурия. — Чудак, 1929, № 44. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933).
Мореплаватель и плотник. — Чудак, 1929, № 45. Ф. Толстоевский.
Гелиотроп. — Впервые: Чудак, 1929, № 16 (под названием «Рассказ о Гелиотропе»). Новелла из цикла «1001 день, или Новая Шахерезада». Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933. 1935).
Процедуры Трикартова. — Впервые: Чудак, 1929, № 21. Новелла из цикла «1001 день, или Новая Шахерезада». Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Авксентий Филосопуло. — Огонек, 1930, № 44. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Чарльз-Анна-Хирам. — Огонек, 1929, № 48. Ф. Толстоевский.
Московские ассамблеи. — Огонек, 1930, № 46. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Шкуры барабанные. — Чудак, 1930, № 1. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Каприз артиста. — Огонек, 1930, № 12. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Пошлый объектив. — Советское фото, 1930, № 9. Ф. Толстоевский.
Довесок к букве «щ». — Огонек, 1930, № 16. Ф. Толстоевский. Переизд. веб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
На волосок от смерти. — Огонек, 1930, № 20 (под названием «Я вас не укушу»), Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Обыкновенный икс. — Огонек, 1930, № 30. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933).
Граф Средиземский. 1929 /1930. Впервые: Огонек, 1957, № 23.
Халатное отношение к желудку. — Огонек, 1931, № 27. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Горю — и не сгораю. — Крокодил, 1932, № 10. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Здесь нагружают корабль. — Крокодил, 1932, № 11. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Мне хочется ехать. — Огонек, 1932, № 3. Ф. Толстоевский.
СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА Побежденный Оскар («Негр» в Камерном театре). — Чудак, 1929, № 12. Дон-Бузильо.
Пташечка из Межрабпомфильма. — Чудак, 1929, № 14. Дон-Бузильо
Ваша фамилия?.. — Чудак, 1929, № 16. Дон-Бузильо.
1001-я деревня («Старое и новое», фильма Совкино. Работа режиссеров Эйзенштейна и Александрова). — Чудак, 1929, № 41. Дон-Бузильо.
Три с минусом (Отчет о диспуте «Писатель и политграмота», 7.10. в Театре Революции). — Чудак, 1929, № 41 Ф. Толстоевский.
К барьеру! — Чудак, 1929, № 11. Без подписи. Впервые: Вопросы литературы, 2006, № 3, с. 371 Публикация А. И. Ильф.
Бледное дитя века. — Чудак, 1929, № 43. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Великий лагерь драматургов. — Чудак, 1929, № 44. Дон-Бузильо. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Праведники и мученики. — Чудак, 1929, № 45. Дон-Бузильо.
Театр на улице. — Чудак, 1929, № 46. Дон-Бузильо. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933).
Полупетуховщина. — Чудак, 1929, № 50. Дон-Бузильо. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Волшебная палка. — Чудак, 1930, № 2. Дон-Бузильо.
Мала куча — крыши нет. — Чудак, 1930, № 4. Виталий Пселдонимов.
Пьеса в пять минут. — Чудак, 1930, № 6. Ф. Толстоевский.
Секрет производства. — Киногазета, 1931, 12.10. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Король-солнце. — Советское искусство. 1931, 5.11. Ф. Толстоевский.
Так принято. — Советское искусство, 1931, 20.11. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
В золотом переплете. — Советское искусство, 1932. 20.01. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Человек в бутсах. — Советское искусство, 1932, 21.02. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Пятая проблема. — Киногазета, 1932, 6.03. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Когда уходят капитаны. — Литературная газета. 1932, 17.04. Холодный философ. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Сквозь коридорный бред. — Огонек, 1932, № 11. Ф. Толстоевский. Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
Детей надо любить. — Литературная газета, 1932, 23.04. Холодный философ Переизд. в сб. «Как создавался Робинзон» (1933, 1935).
ИЛЬФ БЕЗ ПЕТРОВА
ИЛЬЯ ИЛЬФ. ФЕЛЬЕТОНЫ И РАССКАЗЫ. 1923–1930 Стеклянная рота. 1923. И. Фальберг. — Ранняя публика ция не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова. Вступ. ст., публикация и комм. А. И. Ильф. — Вопросы литературы, 2004, № 1 (далее — Ильф до Ильфа и Петрова), с. 273.Галифе Фени-Локш. <1923> — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Литературная газета, 1957, 15.10.
Антон Половина-на-Половину. <1923>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова, с. 276.
Повелитель евреев. 1923. Ильф. — Впервые: Юность, 1992, № 2. Публикация А. Ильф.
Железная дорога. <1923> — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова, с. 285.
А все-таки он для граждан. <1923>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова, с. 295.
Судьба Аполлончика. Лирическая песнь о милиционере. <1923> — Ранняя публикация не установлена. Впервые: газ. «Метро» (Москва), 1997, 17.10.
Весна. — Заноза, 1924, № 11.
Записки провинциала. — Заноза, 1924, № 12.
Снег на голову. — Красный перец, 1924, № 24. И. Ильф.
Вечер в милиции. <1923/24>. И. Фальберг. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова. с. 303.
Принцметалл. 1924. И. Ранняя публикация не установлена. Впервые: Илья Ильф, Евгений. Петров. Собр. соч. В 5 тт. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1961. Т. 5, с. 102 (далее — СС. 1961, т. 5).
Неликвидная Венера. <1925>. Ильф. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: СС 1961, т. 5, с. 107.
Катя-Китти-Кет. А. Немаловажный. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: газ. «Метро» (Москва), 1997, 17.10.
Бебелина с Лассалиной. <1925>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова, с. 314.
Ромео-Иваны. <1925>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова, с. 320.
Драма в нагретой воде. — Вечерняя Москва, 1925, № 273, 30 ноября. И. Фальберг. Под названием «Кинофельетон» переизд.; Илья Ильф. Ранние очерки и фельетоны. Письма из Америки. М., 1961.
Улица на просмотре. — Кино, 1925, № 39, 15 декабря. И. Фальберг.
Компот из Мери. <1925>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова, с. 317.
Великая плакса. <1925>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Илья Ильф. Ранние очерки и фельетоны. Письма из Америки. М., 1961.
Раскованная борода. — Советский экран, 1925, № 2. И. Фальберг.
Золотая серия. — Кино, 1926, 9 февраля. И. Фальберг.
Мадридский уезд. <1926>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова, с. 326.
Банкир-бузотер. — Смехач, 1927, № 30 (рубрика «Смехач на рельсах»). И. А. Пселдонилюв.
Дружба с автомобилем <1927/1928>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфаи Петрова, с. 312.
Красные романсы. <1927/28>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: Ильф до Ильфа и Петрова, с. 315.
Пешеход. — Смехач, 1928, № 43.
Калоши в лучах критики. — Смехач, 1928, № 45.
Случай в конторе. — Смехач, 1928, № 47.
Дом с кренделями. — Смехач, 1928, № 48.
Набросок рассказа. <1928/29>. — РГАЛИ, ф. 1821, on. 1, ед. хр. 95. Автограф. Впервые (фрагмент): Ильф до Ильфа и Петрова, с. 272.
Разбитая скрижаль. — Чудак, 1929, № 9.
Обновленные валеты. — Чудак, 1929, № 49. Без подписи. Публикуется впервые.
Как делается весна. — Чудак, 1929, № 12.
Диспуты украшают жизнь. — 30 дней, 1929, № 3.
Путешествие в Одессу. — Чудак, 1929, № 13.
Молодые дамы. — Чудак, 1929, № 21.
Новый дворец. — Чудак, 1929, № 28.
Для моего сердца. <1929/30>. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: СС 1961, т. 5, с. 112.
Переулок. <1929/30>. И.Ф. — Ранняя публикация не установлена. Впервые: СС 1961, т. 5, с. 117.
Благообразный вор. <1930>. И. Ильф. — Впервые: СС 1961, т. 5, с. 121. В РГАЛИ сохранились невыправленные гранки этого фельетона. Вполне вероятно, что публикации помешало закрытие журнала «Чудак» в феврале 1930 г.
Блудный сын возвращается домой. — Огонек, 1930, № 2. Переизд.: Илья Илъф, Евгений. Петров. Собр. соч. в 5 тт. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1996. Т. 5, с. 105.
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК ИЛЬФА. 1925–1937 Впервые: Илья Илъф. Записные книжки. М.: Советский писатель, 1939. Предисл.: Евгений Петров. Из воспоминаний об Ильфе. А. Горнфельд. Записи Ильфа. Печатается по кн.: Илья Илъф. Записные книжки. Первое полное издание. Предисл., сост. и комм. А. И. Ильф. М.: Текст, 2000. Впервые публикуются записи: с. 814–817 (от «1935 — кончая записью «Лихорадкин»); с. 825–827 (от «1936» — кончая записью «Мне не повезло»): с. 833–834 (от «Человек без профессии» — кончая записью «Это было в то странное время…»).
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИЛЬЕ ИЛЬФЕ
Евгений Петров. Из воспоминаний об Ильфе. — Впервые: Илья Илъф. Записные книжки. М.: Советский писатель, 1939, с. 3—24.Валентин Катаев. Алмазный мой венец. Избранное. М.: ЭКСМО, 2003, с. 413, 415–416.
Лев Славин. Я знал их. — Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. М.: Советский писатель, 1963 (далее — Воспоминия), с. 41.
Юрий Олеша (выступление). — Стенограмма совещания, посвященного памяти И. Ильфа и Е. Петрова, от 11 апреля 1947 года. Союз советских писателей. Москва. Машинопись, с. 2–3 (первая публикация); Памяти Ильфа. — Воспоминания, с. 36.
Виктор Ардов. Великие и смешные. М.: Вагриус, 2005, с. 109, 111–112, 113; Чудодеи. — Воспоминания, с. 199–200.
А. Эрлих. Начало пути. — Воспоминания, с. 126.
Константин Паустовский. Четвертая полоса. — Там же, с. 89.
Валентин Катаев. Трава забвения. — Указ, соч., с. 215.
Бор. Ефимов. Москва. Париж, кратер Везувия. — Воспоминания, с. 171, 172.
Евгений Петров. Мой друг Ильф. Сост., вступ. ст. и комм. А. И. Ильф. М.: Текст. 2001, (далее с. 32, 33, 77, 33. 110, 143, 22, 33, 112, 33, 115, 222 (2 записи), 65, 66. 77–78, 217, 115, 112, 66. 90).
ОТКЛИКИ. ОТЗЫВЫ. ДОКУМЕНТЫ
«ПРИВЫЧКА ДУМАТЬ И ПИСАТЬ ВМЕСТЕ» Илья Ильф и Евгений Петров. Рабочая Москва. 1935, № 10, 10 января /«Наша анкета»/.Евгений Петров. К пятилетию со дня смерти Ильфа. — Воспоминания, с. 329, 331.
О РОМАНЕ «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» Л.К. (рецензия). Вечерняя Москва, 1928, 2 сентября.
Г. Блок (рецензия). — Книга и профсоюзы, 1928, сентябрь.
«Советский магазин». Отзыв о романе в обзоре журнала «30 дней». — Книга и революция», 1928, № 8.
Илья Ильф. Евгений Петров. Отдайте ему курсив! 1932.
О. Мандельштам. Веер герцогини. — Вечерний Киев, 1929, 29 января.
Н. И. Бухарин упоминает роман, без имени авторов, не на съезде профсоюзов, а на совещании рабочих и сельских корреспондентов в начале декабря 1928 года (см.: Правда, 1928, 2 дек.). Он привел три эпизода из романа: деятельность халтурщика Ляписа, лозунг «Пережевывая пищу, ты помогаешь обществу» и плакат «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих».
Календарь издательства «Огонек». — Чудак, 1929, № 36, с. 14.
Ю. Олеша (ответ на анкету о лучших произведениях, на печатанных в 1928 г.). — Вечерняя Москва, 1929, 27 апреля. Анкета «Год советской литературы».
А. Цейтлин. ИЛЬФ. — Литературная энциклопедия. М., 1930, т. 4, ст. 460.
А. В. Луначарский. Ильф и Петров. — 30 дней, 1931, № 8.
В. Шкловский. Юго-Запад. — Литературная газета, 1933, № 1,5 января.
М. Зощенко. Сатирик-публицист. — Литературная газета, 1938, № 31, 15 апреля. Написано в годовщину со дня смерти Ильи Ильфа.
Евгений Петров. Мой друг Ильф. Сост., вступ. ст. и комм. А. И. Ильф.
Ильф и Петров — лондонскому издательству «Метюэн» (май 1930). Цит. по: Илья Ильф. Записные книжки. Первое полное издание. Сост., вступ. ст. и комм. А. И. Ильф. М.: Текст, 2000, с. 287.
Виктор Ардов. Ильф и Петров (Воспоминания и мысли). — Знамя, 1945. № 7, с. 140.
Владимир Набоков. Из интервью Альфреду Аппелю. 1 сентября 1967 г.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Евгений Петров и Илья Ильф.
Фото В. Иваницкого. Снято в газете «Гудок». 26 июля 1929 г.
«Разрозненным частям удалось наконец встретиться. Прямым следствием этого и явился роман «Двенадцать стульев», написанный в 1927 году в Москве. Авторов обычно спрашивают, как это они пишут вдвоем. Интересующимся можем указать на пример певцов, которые поют дуэты и чувствуют себя при этом отлично» (Ильф-Петров. Двойная автобиография).

Первая публикация романа «Двенадцать стульев» в журнале «30 дней» с иллюстрациями Мих. Черемных. 1928 г.

Юрий Олеша, в ответе на анкету о лучших произведениях, напечатанных в 1928 году: «Я считаю, что такого романа, как «12 стульев», вообще у нас не было».

«В Библиотеке «Огонька» вышла книжка И. Ильфа и Евг. Петрова — «Двенадцать стульев». Это — лучшие швы из недавно вышедшего романа, имеющего выдающийся успех и уже переведенного на несколько европейских языков. Как в советской, так и в иностранной критике роман признан лучшим юмористическим романом, изданным в СССР» (Календарь журнала «Огонек», 1929).
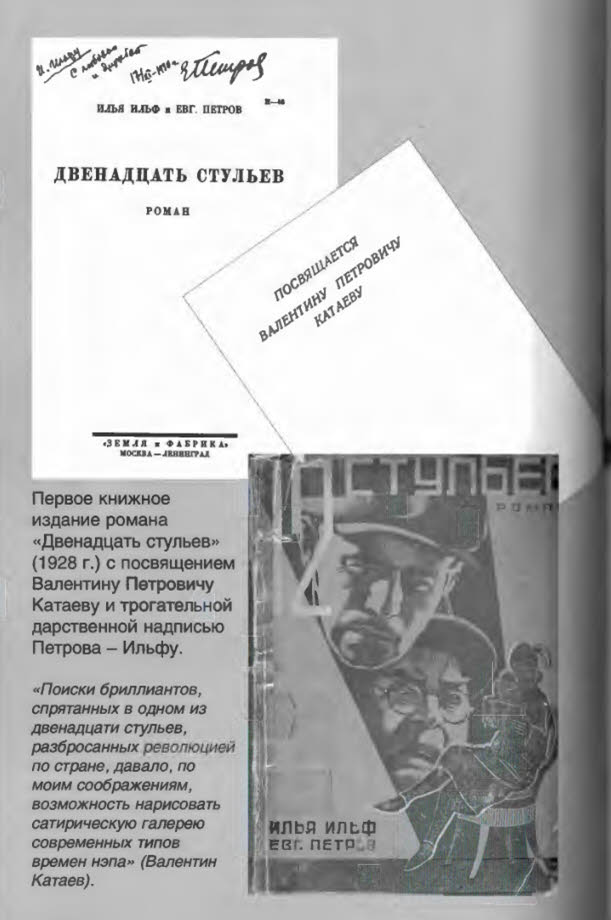
Текст к предыдущей иллюстрации
Первое книжное издание романа «Двенадцать стульев» (1928 г.) с посвящением Валентину Петровичу Катаеву и трогательной дарственной надписью Петрова — Ильфу.
«Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэпа» (Валентин Катаев).

Ильф в Нескучном саду у гигантского панно с фигурой Сталина. 1931 г. Фото А. Козачинского
Нижняя конечность вождя, обутая в исторический сапог (вспомните Мандельштама: «…и сияют его голенища…»), смело может считаться символом той суровой эпохи.

Первое издание «Двенадцати стульев» на французском языке. 1929 г.
«Получив книгу «12 стульев» на французском языке, мы с Ильфом взяли по экземпляру и ходили показывать знакомым. Это было ужасное хвастовство». Французская печать о романе Ильфа и Петрова: «Пресса отмечает первоклассные достоинства этого юмористического романа и называет его Одним из замечательнейших произведений советской литературы».
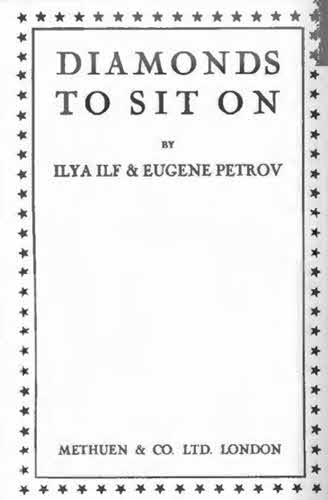
Первое издание «Двенадцати стульев» на английском языке. 1930 г.
«…Мы получили английский перевод нашего романа «12 стульев» под названием «Diamonds to Sit On», выпущенных в свет Вашим издательством. Мы очень польщены таким вниманием, тем более что книга издана прекрасно» (Из письма соавторов лондонскому издательству Methuen).
В день похорон Маяковского. 18 апреля 1930 г. Фото Ильфа

Валентин Катаев, Михаил Булгаков, Юрий Олеша.

Михаил Файнзильберг (брат Ильфа), Евгений Петров, Валентин Катаев, Серафима Суок-Нарбут, Юрий Олеша, Иосиф Уткин.
На похоронах Маяковского. Начальник милиции, извиняясь за беспорядок: Не имел опыта в похоронах поэта. Когда другой такой умрет, тогда буду знать, как хоронить. И только одного не знал начальник милиции, что такой поэт бывает раз в столетье» (Ильф-Петров. Из материалов к «Великому комбинатору»).

«В «Советской литературе» выходит новое издание книги И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Мы помещаем суперобложку работы КУКРЫНИКСОВ» (Литературная газета, 9.07.1934).

Шарж Валентина Катаева на Ильфа (он же Дюма-пэр, он же автор креативной идеи «Двенадцати стульев», он же брат и друг писателей). Петров назвал Ильфа «одним из советских Гонкуров», потому что соавторы шутливо сравнивали себя с Гонкурами: «Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые».

Профили Ильфа и Петрова, вырезанные Виктором Ардовым из черной бумаги. 27 октября 1933 г. Автографы Ю. Олеши, И. Ильфа, Е. Петрова, Л. Никулина, Вс. Иванова и В. Ардова.

Осенью 1933 года группа писателей и художников отправилась в поездку по Европе на кораблях Черноморской эскадры. На фото: Евгений Петров, Борис Ефимов, Илья Ильф в Неаполе. 1 ноября 1933 г. Позади — пассажирский трансатлантический пароход «Рекс». «Рекс» входит в гавань. Его огромные белые трубы с красными кольцами. Голубой вымпел на мачте — он взял голубую ленточку. Сегодня выходит в Америку» (Из записных книжек Ильфа).

«Я истратил на бессмысленный телефонный разговор 45 копеек. Верните мне эту сумму» (Из записных книжек Ильфа). Двойной фотопортрет Е. Лангмана. Не позже 1933 г.

Ильф с очередным, третьим, изданием «Двенадцати стульев» (1930 г.). Фото Е. Лангмана. Не позже 1933 г.

Илья Ильф. 1928 г. Фото Вс. Чекризова
«В первый раз автор «Двенадцати стульев» родился под видом Ильи Ильфа…» (Ильф-Петров. Двойная автобиография).

Дед и бабушка Файнзильберг.

Юный Илья, ученик Одесской ремесленной школы.
«Все равно про меня скажут: он родился в бедной еврейской семье и учился на медные деньги» (Из записных книжек Ильфа).

Одесса. Старопортофранковская улица, дом № 137. Здесь в 1897 году родился будущий писатель. Сейчас на этом доме мемориальная доска.

Семья Файнзильберг. Одесса, 1906/07 г. Будущий Ильф (крайний справа) с родителями и тремя братьями

Маруся Тарасенко, ученица художественной студии. Одесса, 1923 г.

Ильф, участник литературных сборищ в Коллективе поэтов. Одесса, 1920 г.
С будущей женой Ильф познакомился в Одессе. К осени 1922 года его чувства превратились в «сумасшедшую любовь». Живя в одном городе, они переписываются: «Мне нет спасения от шумящего твоего дыхания. Всё одно. Вечером в воротах гремит замок, я вхожу. Утром со звоном летит гидроплан, я просыпаюсь. Это ты и это любовь к тебе. Вначале тайная и неразличимая, теперь она стоит поперек моего дня. Нет пощады, в снах что мне видны, она шумит твоим дыханием. Мне нечего писать кроме как об этом. Это был ветреный апрель, в соседнем квартале кричали, потом выстрелили, и все побежали, я вздрогнул и вспомнил тебя. Звезды несло ветром, я вспомнил о тебе и засмеялся. Я люблю тебя, и когда ты меня ни позовешь, я приду» (Илья Ильф, или Письма о любви).

Приготовления к обеду. Фото В. Иваницкого. Весна 1933 г.
В 1923 году Ильф уезжает в Москву, где находит свою окончательную профессию — становится литератором, работает в газетах и юмористических журналах. Переписка с Марусей продолжается. Любовь тоже. Они женятся. В Москве жилищный кризис, они ютятся то в «Общежитии имени монаха Бертольда Шварца», то в страшной коммуналке на Сретенке, и только в 1928 году Ильфы переселяются в Соймоновский проезд, с видом на храм Христа Спасителя и панораму Московского Кремля. Начинают жить по-человечески.

Легендарный «Гудок». Сотрудники знаменитой четвертой полосы за работой. Слева направо: заведующий редакцией И. С. Овчинников, мастер стихотворного фельетона Ю. Слеш (Зубило), художник К. Н. Фридберг, «литобработчики» — М. Штих, И. Ильф, Б. Перелёшин. Декабрь 1925 г.
«В комнате четвертой полосы создалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь беспрерывно. Человек, попадавший в эту атмосферу, сам начинал острить, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков» (Евг. Петров).

Ильф с гудковцами на тиражном пароходе «Герцен». 1925 г.

Олеша и Ильф. Москва, начало мая 1923 г.
Подпись под фотографией: «Два монумента — я и Олеша в 1923 году. И. Ильф»; слева, почерком Олеши: «Уже памятник. Олеша».

Группа друзей на прогулке. Они фотографируются на ступенях храма Христа Спасителя. Слева направо: художник Михаил Файнзильберг, писатель и журналист Борис Левин, художница Ева Левина-Розенгольц. Мария Ильф, Евгений Петров Илья Ильф, журналист Александр Козачинский. 1931 г. Фото Вс. Чекризова


Ильф, Борис Левин и Петров. Зима 1929/30 г. «Щелкнул» аппаратом Ильфа поэт-юморист Михаил Пустынин.

Ильф с писателем-земляком Семеном Гехтом в Нескучном саду. 1933 г.
Фото А. Козачинского


Рисунки Марии Николаевны Ильф. 1933 г.

Вот один из снимков фотожурналиста Виктора Иваницкого, друга Ильфов. Весна 1933 г. Семейная жизнь в Соймоновском проезде.


«На даче было очень уютно и весело, и всегда приезжали гости, Однажды Илья Арнольдович, загадочно улыбаясь, сказал Марии Николаевне: «Завтра к нам на весь день приедет художник Кукрынию Рано утром открывается калитка и в сад входят… Трое мужчин, каждый с женой и детьми. Илья Арнольдович был очень доволен сюрприз удался!» (Из воспоминаний его свояченицы Н. Н. Рогинской).

Летом 1934 года Ильфы и Петровы отдыхали в Гаграх одновременно с Л. П. Орловой и Г. В. Александровым, Соавторы еще не знали тогда, что напишут либретто для Мюзик-холла «Под куполом цирка», что Александров будет ставить по их сценарию кинофильм «Цирк» и что вместе с В. Катаевым снимут свои имена с титров фильма, возмутившего их своей помпезностью.

Козачинский фотографирует Ильфа. Зима 1934/35 г.

На переднем плане — первое издание «Золотого теленка». Роман только что вышел в свет.
Фото В. Иваницкого. Весна 1933 г.

В Голливуде. Ильф с Рубеном Мамуляном, режиссером бродвейских спектаклей «Порги и Бесс», «Оклахома» и др., а также голливудским кинорежиссером. Декабрь 1935 г.

Перед поездкой в Соединенные Штаты. Ильф с маленькой Сашенькой. 1935 г.
Фото В. Иваницкого

Из Америки Ильф вернулся тяжело больным.
Фото В. Иваницкого. Зима 1936/37 г.

Из последних фотографий. Больше они не снимались втроем.
Фото В. Иваницкого. 19 февраля 1937 г.
«Утром после осмотра врача сказал жене: — Оставляю тебе мою Сашеньку. В память о себе». Евг. Петров
ИЛЬФ — ФОТОХУДОЖНИК

Илья Ильф с фотоаппаратом «бебе». Фото Вс. Чекризова. Зима 1929/30 г.
«Было у меня на книжке 800 рублей, и был чудный соавтор. А теперь Иля увлекся фотографией. Я одолжил ему мои 800 рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора… Мой бывший соавтор только снимает, проявляет и печатает. Печатает, проявляет и снимает…» (Евгений Петров).

Храм Христа Спасителя. Зима 1929/30 г.
«Окна его квартиры [в Соймоновском проезде] на шестом этаже и балкон выходили прямо на площадь, где стоял храм Христа Спасителя с его огромным, отовсюду видным золоченым куполом («шлемом пожарника» звали его москвичи)» (Сергей Токаревич).
_____
Излюбленный сюжет ранних фотосьемок Ильфа. Известны по крайней мере полтора десятка снимков.

Взрыв храма был назначен по указанию Сталина на 5 декабря 1931 года: «Ровно в 12 часов дня раздетой первый взрыв; рухнул один из 4 пилонов, на которых держался большой купол здания. Через полчаса другим взрывом был обрушен второй пилон, а еще через четверть часа и остальные.


Последующими взрывами были обрушены внутренние стены и части наружных. Остатки здания будут снесены через несколько дней» («Вечерняя Москва», 6 дек. 1931 г.). По воспоминаниям Сергея Бондарина, Ильф приравнял по событие к «извержению Везувия или отречению от престола».


Два снимка из серии «Балконы» (Соймоновский проезд), выполненные в стилистике Родченко. Весна 1930 г.

На Кремлевской набережной. Зима 1930 г.

Ильф любил называть себя зевакой. И действительно, он мог показаться зевакой. Вот он идет не спеша по Сретенке… с «лейкой» на узеньком ремешке через плечо. Что ему нужно на Сретенке?.. Вот он становится в очередь на трамвай, в котором он, может быть, и не поедет. Вот он любуется скатом крыши над тесным московским двориком…» (Валентин Катаев). 1930 г.

Ильф наскоро щелкнул Бориса Пастернака, торопящегося по снежной дорожке. 1930 г.

Александр Козачинский журналист и фотограф. 1932 г.
В повести Козачинского «Зеленый фургон» (1938 г.) прототипом инспектора угрозыска послужил юный Евгений Катаев, а бандитом, за которым он гонялся, оказался, к общему изумлению, сам автор.


Изысканные дамские портреты — не то офорты, не то гравюры. Перед вами — Варвара Окс, жена поэта и художника Евгения Окса, и Ольга Суок-Олеша, жена писателя Юрия Олеши. 1930 г.
«В сущности, фотографирование было для Ильфа еще одним способом поглубже залезать в делишки этой планеты. Ильф стал страстным фотографом-любителем. Он снимал с утра до ночи: родных, друзей, знакомых, товарищей по издательству, просто прохожих, забавные сценки, неожиданные повороты и оригинальные ракурсы обычных предметов. Он и фотографировал по-ильфовски» (Виктор Ардов).

Художник Медведев, ученик Ильи Репина. 1930 г.
Новаторская стилистическая форма: крупный план привлекает внимание зрителя к самым выразительным чертам лица.
Ильф был знаком с художником еще по Одессе: в 1921 году тот посещал «Коллектив художниц», где занималась Маруся Тарасенко. «Душою общества был ласковый и остроумный Михаил Александрович Медведев, седовласый художник, знававший Париж, Мюнхен, Вену» (Сергей Бондарин).


Любимая модель Ильфа — жена. 1930-е гг.



Натюрмортами становятся такие прозаические предметы, как промокшие ботики или целлулоидный воротничок на груде галстуков. 1930 г.
СТАЛИН ПОСЫЛАЕТ ИЛЬФА И ПЕТРОВА В СТРАНУ КОКА-КОЛЫ!

В Нью-Йорке, на 27-м этаже гостиницы. Начало октября 1935 г. Ильфа «щелкнул» Петров.

«Прогулка по Нью-Йорку. Улицы как улицы, но когда посмотришь наверх, то видишь, где ты находишься. Сатанинский город» (Из записных книжек Ильфа).

«Америка лежит на большой автомобильной дороге» («Одноэтажная Америка»).
КАРТИНКИ АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ

Реклама газолиновой станции: комический человечек, составленный из пустых банок от автомобильного масла.

«Сентрал-парк — это парк где гуляют автомобили (Из записных книжек Ильфа)
«Нельзя отделаться от мысли, что этот громадный парк, расположенный посредине Нью-Йорка, устроен для того, чтобы автомобили могли подышать свежим воздухом» («Одноэтажная Америка»).

В провинциальном городке.

Нищета Южных штатов. Почтовые ящики.

Отражение в зеркале: Ильф с фотокамерой. Зима 1929/30 г.
«Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!»
INFO
Ильф И., Петров Е. И 45 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 50 [1] / Илья Ильф, Евгений Петров. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с.: ил.
УДК 82-3 ББК 84(2 Рос-Рус)6-4
ISBN 978-5-699-17161-3 (т. 50 [1]) ISBN 978-5-699-17169-Х ISBN 978-5-04-003950-6
Литературно-художественное издание Илья Ильф и Евгений Петров АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Том пятидесятый [1]
Ответственный редактор М. Яновская Художественный редактор А. Мусин Технический редактор Н. Носова Компьютерная верстка Т. Комарова Корректоры М. Пыкина, О. Степанова
ООО «Издательство «Эксмо» 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21. Home раде: www.ekamo.ru E-mail: lnfo@eksmo.ru
Подписано в печать 19.09.2008. Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Букмэн». Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 49,56 + вкл. Доп. тираж 3000 экз. Заказ 3448.
Отпечатано с электронных носителей издательства. ОАО 'Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (4822)44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15 Home раде — www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) — sales@tverpk.ru
…………………..
Отсканировано Pretenders, обработано Superkaras и Siegetower
FB2 — mefysto, 2023

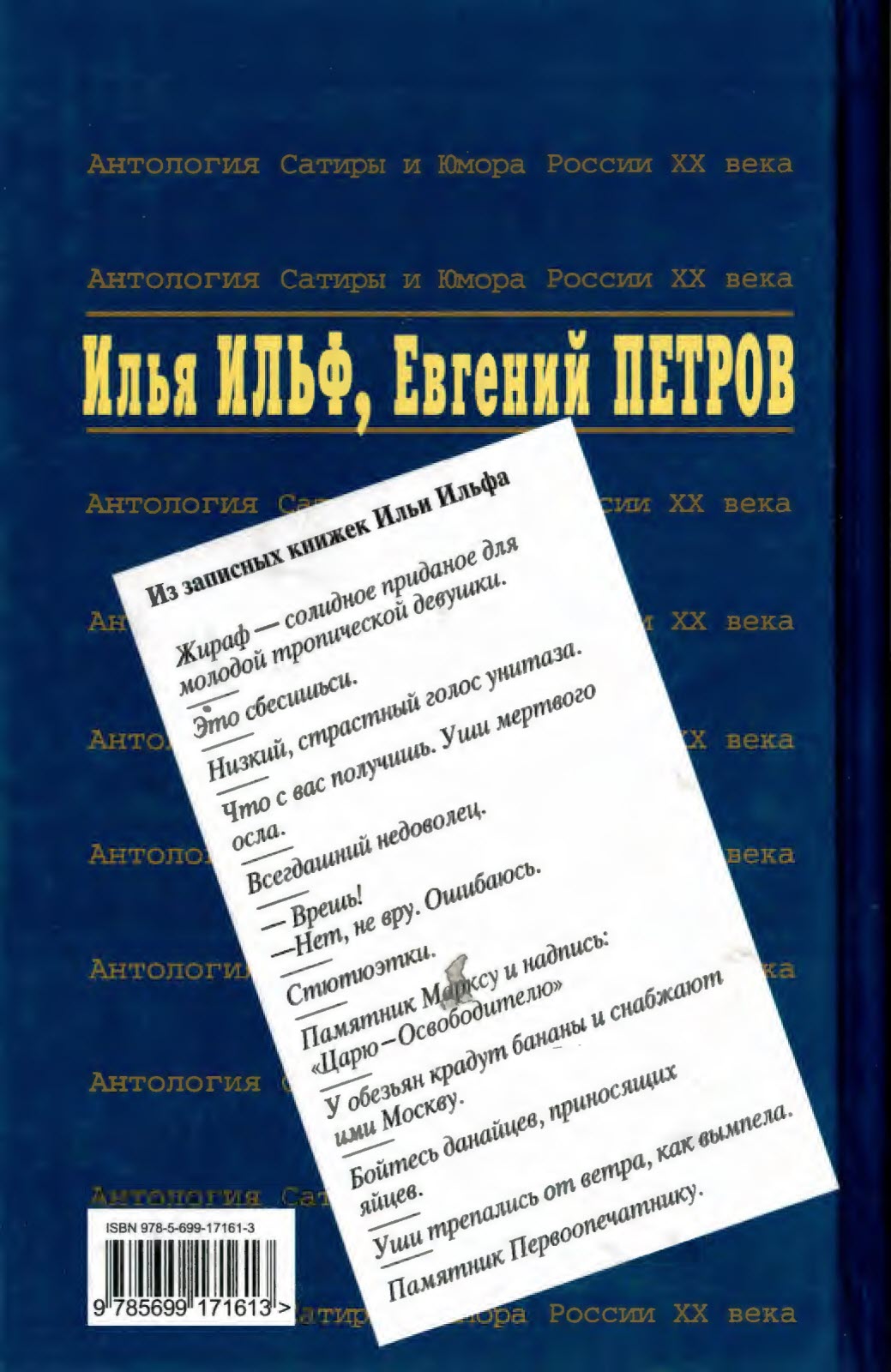
Последние комментарии
3 часов 5 минут назад
5 часов 23 минут назад
7 часов 13 минут назад
12 часов 59 минут назад
13 часов 4 минут назад
13 часов 8 минут назад