Еремей Иудович Парнов
Боги лотоса
Критические заметки о мифах, верованиях и мистике Востока

Москва
Издательство политической литературы
1980
БОГИ И МАГИ ЗОВ ИЗДАЛЕКА СВЕТ ВЕРШИН ПУТЕМ ТРЕЗУБЦА ПУТЯМИ ДРЕВНИХ КОЧЕВИЙ СОКРОВИЩЕ НА ЛОТОСЕ КОЛЕСО МИРА ДОЛИНА «БЕЛОГО КОНУСА» ПОЛЕТ СТРЕЛЫ ЖЕСТОКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КОЛЕСО «ЗОЛОТОЙ СРЕДИННОЙ ДОРОГИ» ПУТЕМ «ВЕЛИКОЙ КОЛЕСНИЦЫ» СВЕТ КАМНЕЙ СПЯЩЕЕ БОЖЕСТВО ОЧИ ЛОТОСА ТРАВА ЛУНЫ ПОД ЗНАКОМ ЛУННЫХ РОГОВ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ ПУТЕМ «ТРЕХ ПАГОД»

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О МИФАХ, ВЕРОВАНИЯХ И МИСТИКЕ ВОСТОКА
86.39 П18
Оформление художника В. ТОГОБИЦКОГО В книге использованы фотографии автора, а также материалы музеев и храмов стран Южной и Юго-Восточной Азии.
Парнов Е. И. П18 Боги лотоса: Критич. заметки о мифах, верованиях и мистике Востока. - Политиздат, 1980. - 239 с, ил. Читателям хорошо известны книги Еремея Парнова об истории и культуре стран Востока. В своей новой работе писатель обращается к восточным верованиям, мифологии и мистике, вокруг которых сложилось немало различных домыслов. Большой знаток Востока, он увлекательно, в форме путевых заметок, повествует о вековых обычаях, древнейших культах загадочного для многих мира, срывает окутывавший его мистический покров, показывает земные истоки мистических представлений. Написанная ярко, публицистически остро, основанная на личных впечатлениях и наблюдениях, книга, несомненно, вызовет интерес у самых широких читательских кругов.
10509 - 087 П ____________________282 - 80 0400000000 079(02) - 80
86.39 29
ПОЛИТИЗДАТ, 1980 г.
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Эта книга написана в своеобразной форме путевых заметок, хотя ее замысел состоит отнюдь не в том, чтобы просто познакомить читателей с жизнью тех стран, в которых довелось побывать автору. Личные впечатления, наблюдения, встречи дают писателю Еремею Парнову возможность раскрыть для читателя окутанный таинственностью мир восточных культов, мифологии и мистики, прояснить их земное содержание, ответить на вопросы, издавна будоражившие сознание людей. Ведь не секрет, что проповедники мистицизма и в прошлом и в настоящем всегда обращали взоры к Востоку, к отмеченным неповторимой спецификой религиозным культам, служившим основой для самых невероятных домыслов и фантазий. В значительной степени этому способствовало то, что еще сравнительно недавно лишь немногие исследователи непосредственно соприкасались с верованиями, обрядами, ритуалами тех народов Востока, которые обитают в труднодоступных, а следовательно, малоизученных районах Азии. А неведомое всегда представляется таинственным и загадочным. Только в последнее время целый ряд «загадок Востока» стал доступным для исследователей. Но одно дело исследование религиозных учений по дошедшим до нас памятникам письменности и культуры народов, а другое - по личным наблюдениям и впечатлениям. Еремею Парнову довелось лично побывать в тех местах, о которых сложено множество вымыслов и легенд. И потому его книга дает возможность читателям воочию увидеть и ощутить обстановку, в которой они рождались, познакомиться с особенностями восточных культов, с обычаями и обрядами буддизма, индуизма, многочисленных их разновидностей, с мистическими воззрениями их последователей. Это отнюдь не означает, что автор акцентирует внимание лишь на внешнем их проявлении, выступает в роли беспристрастного описателя. Напротив, он пытается подвергнуть анализу религиозно-мистические верования Востока, понять их истоки, постичь психологию людей, находящихся в их власти. И делает это интересно и увлекательно, избирая для повествования жанр научно-художественной публицистики. Академик М. Коростовцев, первым познакомившийся с рукописью книги «Боги лотоса», отмечал: «Зоркий писательский взгляд, знание обычаев, мифологии и прежде всего истории азиатских народов позволили автору преодолеть многие трудности, связанные с проникновением в причудливую атмосферу легенд, верований, которые по сей день накладывают отпечаток на все стороны жизни современного Востока». В книге убедительно разоблачаются всякого рода шарлатаны и провозвестники мнимых чудес, спекулирующие на интересе легковерных людей к загадкам «затерянного мира». Вместе с тем автор с глубокой симпатией повествует о простых людях далеких стран Востока, об их здравом смысле, который проявляется даже в условиях, когда вся их жизнь опутана мистическими верованиями, религиозными традициями. Он с оптимизмом смотрит в будущее, отмечая размывание этих верований и традиций, внутреннее стремление людей освободиться от сковывающих их религиозных пут, обрести духовную свободу. Увлекательное повествование Еремея Парнова поможет многим читателям иначе взглянуть На то, что еще недавно именовалось «извечными тайнами Востока».
БОГИ И МАГИ
(Интродукция на тему Восток - Запад)
Заросший, словно черный як, В звериную закутан шкуру, Идет брахман. Но он - дурак, А не святой и мудрый гуру. В его глаза ты посмотри - Там джунгли спрятаны внутри. Дхаммапада [1] [1 Здесь и далее текст Дхаммапады дается в стихотворном переложении автора.]
Автомобили шли сплошным потоком, и широкая, затененная небоскребами авеню туманилась в сизом мареве отработанного бензина. На разделительной полосе отцветали опаленные зноем розы. Низкорослые пальмы с коренастыми, словно обернутыми войлоком стволами, казались тусклыми от копоти и пыли. Нью-йоркские билдинги ультрасовременных моделей, где даже лифтом управляет ЭВМ третьего поколения, слепили зеркальной чернотой. Словно отлитые из вулканического стекла или изваянные из полированного базальта, они сужались к зениту. От этого геометрически безупречные конструкции казались незыблемыми памятниками. От непроницаемой глади, разделенной невесомыми прямоугольниками металлических ячеек, веяло космической отрешенностью. По-своему они были прекрасны, эти рукотворные скалы, воспевающие могущество и лаконизм «технотронной» эры. Но как бы там ни было, автострада, грохочущая и прямая, как стрела, чем-то напомнила мне затерянный в глубоком ущелье поток. И я не очень удивился, хоть меньше всего и ожидал увидеть в самом сердце Манхеттена буддийскую пагоду, когда услышал зов Гималаев: звенящую музыку, рев труб и раковин, ритмичное уханье «турецкого» барабана. Это было так непривычно для делового, сугубо прагматичного центра, что я решился пожертвовать экскурсией и попросил остановить машину у ближайшего перекрестка. В сумеречной теснине улицы предо мной предстала хорошо знакомая по многим азиатским поездкам картина. Вокруг храма, прилепившегося у подножия очередной многоэтажной призмы, вершился торжественный обход. В облаках душистого жертвенного дыма мелькали шафранные тоги бритоголовых монахов. Воздев руки - правое плечо согласно канону оставалось обнаженным, - они распевали священные мантры, призывая охранительное божество снизойти с горных высей и вселиться в уготованный ему храм. Девушки в цветастых сари, пританцовывая на ходу, размахивали молитвенными флагами, поднимали свитки с изображениями небесных божеств и жуликоватых земных гуру. Собственно, почему бы и нет, подумал я, любуясь красочным хороводом. Нью-Йорк - город многонациональный, и в принципе ничто не мешает распространить на его деловую часть мистерии, характерные для китайского или индийского квартала. Но, видимо, дело обстояло не так просто. Упитанные, с хорошо развитой мускулатурой, бритоголовые парни выглядели в подавляющем большинстве типичными англосаксами, да и девицы, невзирая на красную точку над бровями, меньше всего напоминали переселенок из Индостана. Я решительно окунулся в сандаловый дым и примкнул к процессии, где разговорившись с одним весьма словоохотливым монахом, узнал, что собравшаяся на освящение храма толпа почти целиком состоит из студентов. - Это у вас серьезно? - спросил я собеседника, старательно выкрикивавшего слоги очистительной мантры. - Естественно, сэр, - скороговоркой бросил он в кратком перерыве. - У новой американской религии миллионы последователей. Он так и сказал: «новая американская религия». Не больше и не меньше… «Новым» была в ней чудовищная эклектика, объединившая махаяну тибетского толка с вишнуизмом; «американским» - урбанистический антураж и сладкий запашок бензинной гари, явственно вплетавшийся в мистический аромат сандаловых курений. Потом, уже по собственной инициативе, я посетил храм в честь ласкового индуистского бога Кришны и разговаривал с его адептами. Тоже бритоголовые, но с косичкой на темени на манер индокитайской секты хоа-хао, они носили белоснежные одежды, символизирующие чистоту и святость гималайских вершин, или желтые, как у буддистов, тоги. Лиц с «ярко выраженным азиатским генотипом» (цитирую статью в «Нью-Йорк тайме», посвященную бунту молодежи и «контркультуре») в «Миссии Кришны» я тоже обнаружил очень немного. Разве что седобородый гуру с волосами до плеч, похожий на старого капитана Немо из фильма «Таинственный остров», был несомненным индийцем. Кастовый шнур подчеркивал его высокое брахманское происхождение, а в горящих глазах пряталась далекая от фанатизма снисходительная усмешка. Он охотно прощал окружавшим его ученикам - брахмачаринам - невольные отступления от вед, одинаково священных для любой индуистской секты. - В чем существо вашего учения? - спросил я. - Чем отличается оно от традиционного вишнуизма? - «Те, которые, устремив свой ум на меня, всегда благозвучные, исполненные высшей веры, поклоняются мне, эти - по мысли моей - наиболее совершенны в единении», - многозначительно ответствовал он словами Кришны из «Бхагават Гиты». Тибетский буддизм тоже обрел в Америке второе существование. Ныне в Скалистых горах строится монастырь по образцу знаменитых амдосских обителей, разоренных в ходе пресловутой «культурной революции» и прочих маоистских акций, направленных на искоренение уникальной культуры Тибета. Едва ли эту разрушенную на наших глазах цивилизацию удастся возродить на почве чужой далекой страны, хоть ее горы, как и все горы на свете, чем-то напоминают легендарный Тибет. Но тибетский религиозный опыт, который, если верить авторам журнала «Америка», «хорошо соответствует складу мышления американских интеллектуалов», привлек к себе многих видных представителей творческой интеллигенции из поколения «битников», баловавшихся в молодые годы дзэн-буддизмом. Таких, например, как прославивший наркотики своеобразный поэт Аллен Гинзберг, певец Боб Дилан или недавние кумиры молодежи - битлы. Более строгий в своих философских канонах, чем завоевавшие такую популярность эклектичные индуистские культы, тибетский ламаизм завоевал пальму первенства и среди все возрастающей армии любителей созерцания. Технике ламаистской медитации охотно обучают и в Колорадо, где находится основанный ламой Чогьямом Трунгпа институт Наропа, и в Беркли (Калифорния), в институте Найингма. Как писал Толстой, «все смешалось в доме Облонских». В эпоху «креста и меча» жители покоренных земель насильно обращались колонизаторами в христианство. Европейские и американские миссии буквально наводнили Восток. Миссионеры с ухватками матерых разведчиков проникли в Японию, Бирму, Китай, в недоступные ранее долины Гималаев и тот же свято оберегаемый от иноземцев Тибет. После захвата португальцами Гоа католицизм начал бурно распространяться по заповедным дебрям Индостана, пока не встретился с протестантской волной, идущей из Бомбея и Калькутты - главных форпостов британской короны. Казалось, зародившееся в Западной Азии христианство овладеет всем миром, который кроили и перекраивали колониальные державы. Но древние боги Индостана, успевшие за сотни лет проникнуть далеко в Центральную и Восточную Азию, выжили. Ныне, кажется, наступил черед своего рода «реконкисты». При отсутствии какого бы то ни было противодействия основные религии Востока - индуизм и буддизм - начинают распространяться на Запад. Корни наблюдаемого ныне феномена много глубже и разветвленнее, чем может показаться при поверхностном взгляде. Этот феномен едва ли удастся понять без всестороннего исследования современного общественного сознания, без глубокого осмысления сокровенной сущности самих восточных вероучений. Иначе не избежать примитивных, а потому и неверных выводов. Ни тяготение к экзотике,, ни извращения и капризы моды, ни даже целенаправленная деятельность пропагандистских служб были бы не в состоянии совершить столь внезапный и резкий поворот в духовной жизни некоторых слоев населения промышленно развитых стран. Понадобилось совпадение самых разнородных пиков сейсмических волн современности: экономический спад, позорная война во Вьетнаме, постоянно растущие в обществе отчужденность и стресс, чтобы случайно или осознанно зароненные семена дали такие всходы. Разумеется, далеко не последнюю роль сыграла тут и гуманистическая начинка древнебуддийских и индуистских легенд, которой заполняют духовный вакуум в раздираемом противоречиями капиталистическом мире, где многие моральные ценности претерпели чудовищную девальвацию, куда большую, чем даже фунт или доллар, считавшиеся когда-то эталоном незыблемости. Разумеется, нельзя недооценивать и личный «магнетизм» некоторых проповедников. В толпе наводнивших Америку шарлатанов попадаются и незаурядные личности, прошедшие высокую школу гипноза. Кроме кришнаистов, буддистов-тантриков и последователей буддийской секты дзэн в стране действуют секты «черных мусульман», почитающих персидского «пророка» Бахуллу, и буддистов японского толка школы ничирен шошу, известной на дальневосточной родине как сока гаккай. Десятки тысяч последователей снискал себе культ иранской разновидности йоги Мехер-баба, не меньшее число молодых американцев ищут ответа на все жизненные вопросы в древнекитайской гадательной «Книге перемен» (И-цзин) или исповедуют «сайентологию» - эклектичное «религиозное постижение», ничего общего со словом «сайенс», то есть «наука», не имеющее, разработанное неким Роном Хаббардом, бывшим капитаном дальнего плавания и автором второразрядной фантастики. В известной клинике Менинджера, специализирующейся на «биологическом возврате вспять», регулярно проводятся опыты по парапсихологии и психоделии. В работе «Стремление к самопознанию» американский социолог Сэм Кин пытается дать анализ столь неожиданного пробуждения интереса к восточному мистицизму. «Минувшее десятилетие шестидесятых годов ознаменовалось в Америке зарождением нового духа, новых форм бытия, нового взгляда на мир, нового понимания природы и глубин человеческого сознания. Мы до сих пор стараемся распознать и понять это явление. Современные социологи резко расходятся друг с другом в интерпретации его значения. Для тех, кто к этому феномену относится с симпатией, это революция сознания, новое раскрытие целостного «Я», заря века Водолея, рождение контркультуры, новое пробуждение и проявление духовного потенциала человека. Критики же называют его психозом самолюбования, «созерцанием собственного пупа», безрассудным бегством в эмоции, рождением поколения эгоцентриков, мистическим уходом в скорлупу личной жизни, романтическим отказом признавать жесткую логику реальной жизни, труда и политики. Будущие историки, несомненно, будут более объективными в своих ретроспективных оценках этого явления. Пока же, перед лицом непроверенных фактов, каждому из нас приходится самому и по-своему пытаться понять природу, истолковывать историю и разгадывать тайну человеческого сознания. Какова же эта тайна? Что предопределяет непредсказуемый ход истории? Как расшифровать и осмыслить значение событий? В попытке найти ключи к разгадке этих вопросов обратимся к нижеследующим фактам, явлениям и надеждам, возлагаемым на будущее». Среди «фактов», которыми оперирует Кин, нахватанные отрывки знаний о природе левого и правого полушарий человеческого мозга, и телепатия, и левитация, и «неопознанные летающие объекты», и разум дельфинов, и, разумеется, чудеса йоги. «Разве не парадоксален тот факт, что жившие в пещерах 4000 лет тому назад люди, владевшие техникой йоги, сумели создать далеко еще нам не доступные (несмотря на имеющуюся в нашем распоряжении технику) методы контроля над физиологическими процессами человеческого организма? Йоги могли замедлять деятельность сердца, по собственной воле ее останавливать и возобновлять; путем созерцательного самоуглубления и контроля над дыханием они умели замедлять процесс обмена веществ до такой степени, что длительное пребывание в заколоченном ящике под землей не причиняло им вреда. Древний мистицизм и современная наука стали, наконец, партнерами в области исследования сознания». Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Обвенчав по старому рецепту теософов религию и науку, Кин переходит к изложению своего кредо. Эта часть статьи содержит любопытные статистические выкладки, показывающие действительные масштабы охватившего Америку поветрия. Миллионы американцев, пользуясь тем или иным методом, занимаются теперь самосозерцанием. Программа «трансцендентального созерцания» (ТС), например, уже насчитывает около одного миллиона последователей, которые дважды в день на 20 минут отключаются от окружающего и, сосредоточивая внимание на специально выбранном слове (или сочетании звуков), называемом «мантра», погружаются в состояние расслабленности, более глубокой и более обновляющей, чем сон. Проведенное Институтом Гэллапа обследование показывает, что «удивительно высокий процент американцев проявляет интерес к внутренней и духовной жизни, очевидно ища в ней убежища от проблем и напряжений повседневного быта». Данные Института Гэллапа, основывающиеся на выборочных опросах, свидетельствуют о том, что миллионы американцев - около 12 процентов опрошенных - занимаются расширяющей сознание тренировкой, используя различные методы, о существовании которых мало кто имел понятие еще несколько лет тому назад. Наблюдения специалистов, по словам Кина, подтверждают предположения, что программа ТС способствует снижению нервных стрессов и увеличению энергии; потому в некоторых промышленных и профессиональных организациях вместо перерывов на кофе проводятся «медитационные сеансы». Другие, численно меньшие группы, следуя учению дзэн-буддизма, практикуют уже не просто «духовную» зарядку, а занимаются психосинтезом и другими формами созерцания. Созерцательный процесс, считает Кин, в любом из своих вариантов, развивает способность к концентрации внимания, углублению воображения, умственному и физическому умиротворению. Созерцатели - это своего рода «психонавты», в атмосфере тишины и самоуглубления уносящиеся «на край сознания». Далее, когда речь пойдет об основах главных религиозных течений Востока, я покажу, что выражение «созерцание собственного пупа» характеризует вполне конкретное действие, а «край сознания», о котором пишет Кин, на деле является границей добровольного безумия, носящего на санскрите наименование «самадхи». Пока же коротко познакомимся с основными институтами, где психически здоровых, надо думать, людей учат погружению в себя или, как еще говорят, «психонавтике», приближающейся к опасной границе утраты собственного «Я». Не касаясь учений вроде «Трансакционального анализа», разработанного калифорнийским врачом Эриком Берни, или «Групповых встреч», что практикует психолог Карл Роджерс, являющихся лишь дальнейшей модернизацией психоаналитических установок Фрейда, коснемся религиозных течений с ярко выраженной ориенталистской основой. Псевдонаучная начинка и ученые степени новоявленных «пророков» едва ли могут ввести в заблуждение критически мыслящего человека. Они призваны модернизировать обветшалые истины, которые жрецы всех мировых религий вот уже третье тысячелетие не устают провозглашать с амвонов, придать им известную достоверность в глазах образованной паствы. Очевидно, «новая американская религия» просто не может обойтись без авансов в сторону современной науки, чьи подлинно революционные свершения тут же перетолковываются как новое подтверждение старых чудес. В статье «Образцы методов самопознания», опубликованной в октябрьском номере (за 1977 г.) журнала «Америка», Нед Райли не без иронии отзывается о нашумевшей «Ари-ке», чья назойливая реклама не сходит со страниц печати. «Арика-институт, - пишет Райли, - можно сравнить со столом, уставленным различными яствами. Яства эти - самые различные методы расширения самосознания (от древнейших эзотерических учений Востока до современнейших методов психотерапии). И сервирует их боливийский мистик Оскар Ичасо, который считает подобную «трапезу» действительно новым подходом к самопознанию». Основанный в 1971 году, «Арика»-институт успел за короткий срок подготовить более двух тысяч инструкторов, точнее, коммивояжеров, которые разнесли его сомнительную стряпню во все концы света. На сегодняшний день курс «Арики» (главная квартира находится в том же Нью-Йорке) прошли почти 30 тысяч человек. Ныне филиалы института открыты в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Бостоне, Сан-Диего и Гонолулу на Гавайских островах. Как утверждают рекламные проспекты, «учебная» программа включает в себя методы созерцания, физические и дыхательные упражнения, питательный режим и развитие концентрации духа с помощью мистических диаграмм - янтр и заклинаний, то есть, короче говоря, все то, что входит в обязательный курс любого буддийского монаха или индуистского бхикшу. Не надо быть специалистом в области религиозных течений Востока, чтобы понять простой факт: в мистической кухне «Арики» нет никаких новых блюд. Ее «меню» рассчитано на профанов, знающих обо всем лишь понаслышке. «Каждый человек, - считает Ичасо, - по существу своему совершенен, бесстрашен и находится в любовном (курсив мой. - Е. П.) единении с космосом». Как мы увидим далее, даже здесь «боливийский мистик» далек от оригинальности, беззастенчиво заимствуя «сексокосмические идеи» из трактатов шактистов и Каббалы. Туманно намекая, что учение «Арики» уходит корнями в суфизм, буддизм и даосизм, он самонадеянно обещает своим последователям гармонию с миром и полное освобождение от притворств и иллюзий. На самом же деле имеет место полная подмена понятий. Завороженные экзотикой, люди не замечают, что бегут от подлинных страхов и тревог окружающего их мира в самую откровенную иллюзию. Вот взятые наугад объявления, которые регулярно публикуются на рекламных страницах нью-йоркской прессы: «Школа мистических наук: Каббала и астрология»; «Центр Гурджиев: открытие жизненной игры. 50 долларов в день. Кредитные карточки принимаются»; «Духовное паломничество в горы Джетскилл и отдых в монастыре дзэн Дай Босатзу»; «Встречи с чувственным йогом»; «Позвольте открыть ваше сердце и освободить любовь, которая там спрятана»… Характерны и заголовки рекламируемых книг: «Секс и йога», «Гороскопные позы для сексуальной любви», «По пути к перевоплощению», «Трансцендентное размышление для деловых людей», «Духовно развиться с помощью своего духовного мотора», «75 трансцендентальных рецептов, чтобы хорошо жить и питаться», «Тантра и ваш сексуальный опыт», «Нирвана доступна для всех» и т. д. «Тантра», «нирвана», «лотос»… Сокровенные понятия индо-буддийской метафизики были низведены для пропаганды откровенной порнографии. Для одних восточная мистика - щекочущая нервы игра, для других - смертельный прыжок в омут, откуда не бывает возврата. Практику индийских ашрамов, где к трансцендентальному знанию добираются, так сказать, усилиями коллектива, успешно заимствует основатель «Тренировочных семинаров Эрхарда». В недалеком прошлом торговец подержанными автомобилями Вернер Эрхард с присущей преуспевающему бизнесмену энергией и сноровкой распродает ныне плоды «духовного просветления», которое пережил, по собственному признанию, в пиковой ситуации на скоростной автостраде. За первые пять лет через его семинары прошло свыше 100 тысяч человек, а доход за один только 1975 год достиг почти десяти миллионов долларов. Просветление, которое пережил «гуру» за баранкой на Калифорнийском шоссе, воистину принесло золотые плоды. Подобные дивиденды и не снились Гарви Дженкинсу - профсоюзному боссу и математику по образованию, который разработал доктрину, известную как «Переоценка негативного опыта». Не случайно марионетки массовой культуры уже не довольствуются вавилонским зодиаком, а перепевают на все лады древнекитайскую систему с ее анималистским набором, цветами стихий и знаками пола. «Год Синего Зайца, год Красного Тигра, год Черной Лошади… - передается ныне из уст в уста символ очередного года. - Красное платье, зеленое платье, синее…» И очень мало кто знает, что китайский лунный цикл не совпадает с нашим календарем и выбранная для новогоднего застолья расцветка платья оказывается явно преждевременной. Но это лишь пустячки, далекие отголоски подлинного бума, где не знаешь, чему более изумляться - чудовищному апломбу новоявленных пророков или их совершенно дремучему невежеству. Коктейль из плохо усвоенной научной терминологии и случайных отрывков древнего мистицизма порой просто ошарашивает. Не верится, что люди могут клевать на столь жалкую приманку. Но, однако, они клюют. Особенно, если непонятный древний символ сочетается со столь же непонятным современным прибором. Не мудрено поэтому, что в поисках новых путей самоуглубления все чаще начинают использоваться тончайшие электронные аппараты, способные регистрировать и усиливать едва уловимые электрические импульсы, сопутствующие нервным процессам и мышечным сокращениям. Познавая сокровенную электрическую деятельность собственного организма, человек учится управлять протекающими в нем процессами. Это, безусловно, имеет не только большое познавательное, но и чисто практическое значение. С помощью усилия воли можно сознательно контролировать давление крови, сердечный ритм, мышечное напряжение и даже характер мозговых биотоков. Такие опыты были поставлены и дали весьма обнадеживающие результаты. Подобный метод «обратной связи» ныне широко применяется в некоторых клиниках для лечения головных болей, сердечной аритмии, лицевого нерва и всевозможных фобий. Казалось бы, какое отношение может иметь чуткая, собранная на печатных схемах электроаппаратура к эзотерическим культам Востока? Однако канзасские врачи Элмер и Грин, исследуя проблему взаимосвязи между мозговыми биотоками и творческими способностями человека, почему-то начали с изучения мозговой активности йога Свами Рамы, который последовательно переходил из одной стадии самопогружения в другую. Изучать, конечно, можно и должно самые различные явления. Настораживает лишь широковещательная шумиха, сопутствовавшая начинанию американских врачей. Совершенно очевидно, что сделано это было в целях откровенной рекламы, йога, точнее, ее некогда тайные мистические отделы, медитация по системе дзэн и глубокое погружение в самадхи, перестав быть занятием узкого круга посвященных, сделались ныне непреложными элементами пресловутого «маскульта», и заинтересованные в коммерческом успехе люди, в том числе и серьезные ученые, уже не решаются сбрасывать их со счетов. Спрос, как известно, определяет предложение. Таковы, по крайней мере, законы рынка. Действуют они и в том случае, когда товаром, и, надо сказать, ходким, становятся идеи. Созерцание и самогипноз, который отшельники и монахи веками практиковали в темных пещерах и уединенных кельях, требовали долгой подготовки. Расплатой за этот сомнительный дар служила, по сути, вся жизнь. Видения, которые извлекал из собственного мозга голый, обмазанный кизячным пеплом садху, были оплачены ценой многолетнего подвижничества. Грезящий учился дыханию и сложной науке асан, где в зависимости от принятой, часто невероятной для европейца позы менялась функция органов и отправлений тела. Он прибегал к аскетической диете и всевозможным очищениям организма, многие из которых способны вызвать, опять же у постороннего, лишь дрожь отвращения и страха. Оборвав все человеческие связи, как семейные, так и чисто дружественные, он покидал «мир», чтобы в строгом уединении научиться страну ному искусству грезить наяву, когда жизнь становится как сон, а сон неотличим от жизни. Конечная цель созерцания: постижение божества, полное мистическое слияние с ним. Разумеется, в наш трезвый атомный век никакой здравомыслящий человек не может позволить себе подобной роскоши не только на индустриальном Западе, но и на давным-давно пробудившемся к новой жизни Востоке, где неуклонно уменьшается число истинных подвижников веры. Но в соответствии со спросом жадных до экзотики туристов растут ряды шарлатанов. Да, истинные подвижники встречаются не часто. Тем не менее миф о том, что гималайские пещеры сплошь набиты отшельниками, продолжает существовать, равно как и вера в творимые ими чудеса. Дабы лишний раз подчеркнуть коренные отличия европейского образа мысли от грез «дремотной Азии», часто цитируют Киплинга: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут…» При этом не только игнорируется непреложная реальность, поскольку под влиянием бурных социальных изменений нашего века все страны света давно сошли с незыблемых для викторианской эпохи мест, но и слова того же Киплинга. Ведь несколькими строками ниже прославленный поэт и ориенталист утверждает совершенно противоположное: «Но нет Востока, и Запада нет, что - племя, родина, род…» Это, конечно, парадокс. Но то, что «медлительный» Восток устремился навстречу ожиданиям жаждущего поиграть в мистическую жуть Запада, не составляет секрета. Когда-то поездка за океан была для истинного брахмана равносильна потере касты. Пусть временной, на период командировки, но от этого не менее реальной и грозной, потому что потеря касты была много страшнее смерти. Ведь смерть считалась лишь переходом в иное существование и подводила итог всего одному из множества проблесков - в теле человека ли, животного или мерзкого гада. Коварство смерти крылось не в бесконечных метаморфозах духа, а лишь во внезапности, ибо кончина могла подстеречь человека в тот самый опасный момент, когда он оставил свою касту. Последствия этого ужасного акта сказывались на всех последующих перевоплощениях. Вот почему просто умереть зачастую казалось легче, чем утратить некое качество, которое представлялось божественным и предвечным. Ныне дух просвещения, скорость межконтинентальных перелетов и успехи медицины подточили и эту, далеко не последнюю, догму. Среди гуру, наивысшей касты и высокого посвящения, пожелавших протянуть руку помощи страждущим заокеанским братьям, пребывающим в темноте невежества, оказался и «великий святой» - махариши Махеш Йога, шестидесятилетний монах из Уттар-Каши. Монашеский сан не помешал ему отнестись к делу сугубо практично. Понимая, очевидно, что притягательность восточной экзотики, как всякая, хоть и затянувшаяся изрядно мода, преходяща, он взял курс на «среднестатистического» делового европейца. Система Махеша Йоги не только не требует перестройки сложившегося образа жизни, но и не несет никакой религиозной окраски. По сути, это один из многих вариантов аутотренинга, который так увлекательно и аргументированно пропагандирует писатель и врач Владимир Леви, автор книги «Искусство быть собой». Махеш отнюдь не новатор. Система самоуспокоения и снятия стресса с помощью аутогенной тренировки, начало которой положил немецкий психиатр Иоганн Шульц, критически изучивший практику йоги, находит ныне все более широкое применение. Преспокойно отделив медитацию от ее откровенно мистических целей, Махеш разработал и программу тренировки, доступную для любого человека, испытывающего весь комплекс стрессовых нагрузок, который несет современная цивилизация. Возвышенное созерцание сводится, таким образом, к психологической самонастройке и снятию нагрузки. Ныне в США действуют около четырехсот учебных центров, где по меньшей мере миллион американцев прошли четырехдневный курс «Трансцендентального созерцания» и теперь ежедневно 20 минут перед завтраком и столько же перед ужином - принимают уставную позу. Судя по отзывам, подобное времяпровождение приносит не столько духовную, сколько чисто житейскую пользу: повышает оптимизм, снижает кровяное давление, улучшает сон. Короче говоря, наблюдается тот же эффект, что и в любой другой системе аутотренинга. Во всяком случае, снятие хотя бы части того постоянного напряжения, в котором пребывает житель большого индустриального города, вполне оправдывает вступительный взнос в 125 долларов. Почему же программа махариши все же носит завлекательное название «трансцендентальный»? Сообщая перед окончанием курса очередному неофиту «тайную», «индивидуальную», лично для него предназначенную мантру, наставник как бы приобщает его к секте посвященных. На самом же деле не имеющие для американских ушей никакого смысла сочетания звуков - все эти «ом», «хум» и тому подобное - играют ту же роль, что и пароли, которые предлагает книга «Искусство быть собой», - «Это проходит» или «Я радуюсь». Формулы для индивидуальной настройки могут быть самыми разными, но механизм их воздействия един и ничего общего не имеет с приобщением к брахману, абсолюту и т. д. «Самовнушение не что-то сверхобычное, - говорит В. Леви, - но постоянно действующий и потому почти незаметный механизм нашей психики. Самовнушениями становятся все воспроизводимые нами внушения извне, но сверх того у нас еще много собственных. Самовнушения могут и вредить, и исцелять. Скрытые резервы психической саморегуляции выявляются экспериментально». Такова истинная подоплека успеха предприимчивого махариши. Ни секретная мантра, ни туманные рассуждения о «четвертом состоянии сознания» не имеют абсолютно никакого отношения к нехитрым упражнениям, позволяющим избавиться от нервной перегрузки. Механизм снятия напряжения настолько очевиден, а техника настолько проста и совместима с любыми убеждениями, что ими может без всякой опаски воспользоваться каждый. В равной мере это относится к упражнениям йоги. Взятые сами по себе, вне связи с их изначальным предназначением, они представляют великолепный физкультурный и даже лечебный комплекс, который скрывает великое множество еще неизвестных для нас резервов. Но оказывается, достаточно даже нескольких магически звучащих слов, вроде «йога», «асана», «мудра» и «мантра», чтобы самое элементарное действо обрело облик таинства, а люди уверовали в чудо, хоть и было оно достигнуто их же собственными усилиями. Вольно или невольно, но успехи модернизированной йоги тоже сработали для вящей славы «дремотных идолов» Индостана. Анализ явно беспрецедентного реванша, который взяли гонимые еще недавно вероучения Востока, неизбежно приводит к выводу, что дело здесь не только в сознательном отвлечении молодежи капиталистических стран от коренных социальных проблем, но и в кризисе устоявшихся представлений, в утрате привычных духовных ценностей. Традиционные церкви едва ли бы столь безропотно уступили место загадочным индуистским и буддийским богам, если бы по-прежнему ощущали былую силу и власть. Еще недавно и в страшном сне не могло присниться, чтобы с христианских амвонов проповедовали свою истину бритоголовые ламы или заросшие до предела садху. Причем не какие-нибудь случайные гастролеры, а приехавшие по специальному приглашению руководителей местных религиозных общин. И это не только специфически американское явление. В Старом свете, особенно в Англии, наблюдается точно такая же картина. Та же нью-йоркская «Миссия Кришны», основанная в 1965 году бенгальским гуру Прабхупада, имеет свои представительства в городах США, Канады и Англии, крупные центры индуизма существуют ныне в Японии, ФРГ и Скандинавии. Грандиозная процессия кришнаистов, которым, согласно уставу, надлежит быть «прямодушными, скромными, милосердными и не стремиться к обогащению», недавно несколько часов блокировала движение по Оксфорд-стрит, в самом центре Лондона. Число английских последователей Кришны, а также махариши Махеша неуклонно возрастает. Ныне в кришнаистскую веру обратился и один из битлов Джордж Гаррисон, закативша.яся звезда, чье имя вновь замелькало на страницах английских газет именно в связи с «обращением». «Эгокультурная революция, - отмечал в 1976 году парижский журнал «Экспресс», - взорвалась в начале этого десятилетия. Со своим кортежем гуру, психотерапевтов, лам, дервишей, биосоветников, экологов души, торговцев богом, опасных сумасшедших и рядовых шарлатанов она опустошает сегодня добропорядочную Америку. Говорят, существует уже более 8000 рецептов того, как достичь мистического опьянения, открытия истины, полного самосознания…» «Эгокультурный» ареал, конечно, не ограничивается Америкой. Еще в 1967 году французские исследователи установили, что половина взрослых мужчин и две трети женщин интересуются предсказаниями астрологов. Недаром с 1970 года крупнейшая радиостанция «Эроп-1» отвела постоянное время для программы мадам Солей - известной гадалки и составительницы гороскопов. И не мудрено, потому что за «прогноз» грядущего французы ежегодно платят свыше миллиарда франков. В 1973 году в стране насчитывалось около четырех тысяч ясновидящих, в том числе и тибетского толка.

Возвращение Кришны. Джайпурская миниатюра
Кстати, гадание по «Книге перемен» особой популярностью пользуется на Уолл-стрите. Мелкие биржевые маклеры и крупные финансисты, служащие солидных банков и всяческого рода посредники посвящают свои вечера знакомству с «образом жизни» современных даосов и толкованию мистических знаков - триграмм. Не знаю, какую связь можно уловить между мистическими фигурами «И-цзин» и цифрами и биржевыми индексами Доу-Джонса, но любителям спекуляций не мешало бы знать, что символы, которым они доверяют судьбу своего состояния, навеяны черточками на стебле тысячелистника и панцире черепахи. Именно по ним гадали предсказатели в Китае времен Инь и Чжоу, когда хотели получить ответ на вопросы жизненной важности. Едва ли миллионы американцев, пожелавших приобрести «И-цзин», снабженную обширным предисловием известного фрейдиста К. Юнга, смогут докопаться до изначального происхождения таинственных триграмм и- прочих загадочных фигур. Да это, видимо, и не очень нужно. Вера не обращается к логике, и успех того или иного религиозного воздействия вовсе не связан с его доходчивостью. Скорее напротив. Несмотря на то что многие гуру вещают на своем языке, не пользуясь услугами переводчиков, религиозный экстаз ничуть не ослабевает. В секте ничирен шошу богослужение вообще ведется исключительно на японском языке, которым едва ли владеют новоявленные прихожане из числа белых англосаксов баптистского в недалеком прошлом вероисповедания. Красочные шоу, даваемые сектой по праздникам, с парадом и голоногими барабанщицами отличаются куда большим универсализмом, хоть и не в них кроется причина столь бурного просперити… Вообще, пышные карнавалы и праздники в традиции американцев, которые охотно выходят на улицы полюбоваться красочным зрелищем и принять участие в общем веселье. Восточный колорит лишь сообщает мероприятию большую притягательную силу, что немало способствует увеличению рядов сектантов. Это хорошо понимают знакомые с американской спецификой жрецы «потусторонних» наук. Вокруг Колумбийского университета, в квартале Литл Итали, где сосредоточена студенческая молодежь и богема, чуть ли не каждый месяц устраиваются «психологические» (?) ярмарки, где всевозможные йоги, гадатели, ясновидящие и пророки загодя устанавливают рекламные стенды и столики, заваленные таинственным барахлом. Самое темное суеверие уютно уживается под сенью университетского свободомыслия и просвещения. Наконец, еще один факт, о котором почему-то редко вспоминают исследователи «эгокуль-турного феномена». Помимо постепенной дискредитации официальных доктрин дорогу восточным культам, несомненно, умостили и поколения оккультистов, теософов и прочих пловцов в «море непознаваемого», которых щедро плодила предшествовавшая историческая эпоха. Та самая, которую устами своего Заратустры, ничего общего с древнеиранским пророком не имеющего, возвестил Фридрих Ницше: «Бог умер». Именно тогда теософы всех мастей помогли всевышнему воскреснуть в иной, многоглавой и многорукой, ипостаси индуистских кумиров. Вначале, как и положено, был разработан соответствующий миф, якобы уходящий корнями в непостижимую древность. «Традиция или предание оккультизма восходит к самой далекой древности, - писал в 20-х годах мистик С. Тохолка в книге «Оккультизм и магия». - Она представляет тайны, которые раньше хранились египетскими жрецами и индийскими браминами… Предания оккультизма разделяются на две ветви: западную (египетского происхождения) и восточную, индийскую, доныне культивируемую в Индии». Варево, приготовленное оккультистами, являло собой чудовищную мешанину из восточной мифологии и самых темных суеверий европейского средневековья. Но именно на нем, как на питательном бульоне, взросло теософское древо. «В чем же заключается тот великий и жизненный принцип, на который опираются все верования Востока? Что это за истина, так разнообразно выражающаяся, но все же единая и в индуизме, и шинтоизме [1], и буддизме, и во многих других религиозных верованиях, и в философии Лаотзе и Конфуция? [1 В цитируемых отрывках сохранена транскрипция подлинника.]
В чем состоит это понимание мира, одинаково приемлемое и принцем, и земледельцем, и философом, и рабочим, и солдатом, и заключенным в темнице; в чем заключается основное положение этой истины? Запад в своих исканиях ее пришел к заключению, что с «Востока идет свет», - возвестил в начале века теософ X. Фильдинг Холл. «Посвящайте себя Учителю», - говорит нам религиозное чувство, - вторил ему индийский партнер брамин Чаттерджи. - И если мы знаем истинную суть нашего Учителя, будет ли его имя Будда, Кришна или Иисус, мы знаем, куда он нас ведет, ибо, тождественный сбогом под всеми своими видами, он может привести нас только к единому». Не надо быть провидцем, чтобы различить на религиозной ниве Запада первоначально зароненные зерна. Скрытую в них генетическую информацию, обернувшуюся неожиданным для столь многих взрывом. Выдумки, которые распространяются ныне о «тайнах» Востока, ничем почти не отличаются от тех бредней, что изобильно распространялись в Европе перед первой мировой войной. Некто Г. Арнольд в своей книжке «Тайны индийских факиров, полное практическое руководство для развития в себе сверхъестественных магических сил, при помощи которых можно производить поразительные явления» невольно приоткрыл социальную подоплеку явления: «Более всего поразило Макса Сальса приветствие индуса, где в 20 словах три раза упоминалось имя бога и в такой форме, которая сейчас же обнаруживала глубокую веру и благочестие, так что Макс Сальс в своем безбожии почувствовал себя неловко…» Далее дается история «просветления» самого индуса, которое снизошло на него, конечно же, после поездки в Гималаи: «Он… принялся за изучение чужих стран и примкнул наконец к экспедиции, целью которой было исследование Гималаев. Во время путешествия он познакомился с брамином, которому удалось благодаря мудрости и с помощью поражающих фактов (из реквизита Блаватской. - Е. П.) поколебать и совершенно уничтожить его атеистические взгляды». Яснее не скажешь. Уже тогда повсеместное распространение атеизма и материалистической философии волновало и церковь, и власть предержащую. Отсюда и наивная попытка противопоставить им еще только входивший в моду «гималайский вариант». Примерно в том же духе характеризовались и сами «чудеса». П. Седир, автор книги «Индийский факиризм», устами некоего д-ра Поля сообщает: «Из числа трех встреченных мною в течение 25-летней моей карьеры в Индии раджа-йогов ни один не решился открыть мне малейшей из приписываемых им великих тайн природы, невзирая на их ко мне расположение. Один напрямик отказался от приписываемого ему могущества; другой откровенно сознался, что обладает таким могуществом, и даже не раз доказывал мне оное на деле, но отказался ото всякого по этому поводу объяснения. Наконец, третий согласился кое-что объяснить мне, если я ему поклянусь никогда и никому не объявлять того, что от него узнаю, даже на смертном одре. Так как в этом случае моею единственною целью было желание просветить погрязший в невежестве и атеизме мир, то, признаюсь, я отказался. А дар раджа-йогов несравненно интереснее и в тысячу раз важнее для мира, нежели феномены хатти-йогов. Этот дар чисто психический: раджа-йоги к знанию хатти-йогов присоединяют всю скалу умственных феноменов. Приписываемые им дары, по крайней мере в священных книгах, следующие: 1) дар пророчества и предвидения грядущих событий; 2) понимание всех незнакомых им языков; 3) исцеление недугов; 4) искусство читать чужие мысли; 5) способность слышать разговоры и все происходящее за несколько тысяч верст; 6) понимание языка зверей и птиц; 7) прокамия - искусство останавливать реку времени, сохраняя юношескую наружность в продолжение долгого, почти невероятного периода; 8) способность оставлять собственное тело и переходить в другое; 9) вазитва - дар укрощать и даже убивать самых диких зверей одним взглядом и, наконец, самое ужасное - месмерическая сила, вполне подчиняющая себе людей и одним действием воли заставляющая их бессознательно повиноваться невыраженным предсказаниям йогов». Подумать только, какого могущества лишился западный мир из-за нежелания щепетильного мосье Поля чуточку покривить душой и дать факиру просимое слово. Даже пожалеть можно, если, конечно, не знать о том, что откровения д-ра Поля - чистейший вымысел, почти целиком переписанный из книги «Из пещер и дебрей Индостана». Автор ее, пресловутая Радда-Бай, она же Елена Петровна Блаватская, основала вместе с полковником Олькоттом, принявшим буддизм, теософское общество, которое и поныне существует в Индии, несмотря на многочисленные разоблачения фантастических измышлений, которыми переполнены писания теософов. Некогда нашумевшая афера Блаватской списана, как говорится, в архив. Основательно забыты не только ее трюки и фальшивые письма, но и она сама. Продолжает жить лишь теософский миф о Махатмах - бессмертных учителях раздираемого враждой человечества. Речения и деяния их, кстати, поразительно напоминают досужие вымыслы о пришельцах, следящих с летающих тарелок за ростом ядерного потенциала Земли. Но такова природа мифа, его суть и гносеология, что он переживает любые, даже самые беспощадные разоблачения. Вымысел и знание сосуществуют долгое время как бы на параллельных уровнях. «Г-жа Блаватская, - говорилось еще в давнем отчете Ходжсона, которого Лондонское общество психических исследований специально направило в Индию проверить теософские чудеса, - самая образованная, остроумная и интересная обманщица, какую только знает история». Поистине в британской манере формулировать мысль есть непреходящая прелесть. В своем капитальном труде «Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней» (Москва, 1900 г.) А. Леман с холодной иронией пересказывает официальную биографию основательницы теософского учения Блаватской, урожденной фон Ган-Роттенштерн: «По ее собственным словам, она провела это время у махатм в Гималае. Эти махатмы, честь отыскания которых принадлежит г-же Блаватской, представляют, как оказывается, общество мудрых мужей, которые живут в самых недоступных местностях Тибета и своей святой жизнью и прилежным исследованием тайн природы достигли почти божественной прозорливости и мощи. Махатма, или адепт, обладает способностью читать мысли людей и оказывать внушение на каком угодно отдаленном расстоянии Он может разнимать или разлагать материальные предметы на их составные части, с помощью тайных сил он в состоянии «устремлять» эти части в любое место, где он снова собирает их в первоначальную форму: таким путем какой-нибудь предмет может внезапно появиться в замкнутом пространстве. Далее адепт может вызывать звуки, приводить тела в движение, не касаясь их, и с помощью невидимой силы препятствовать перемещению предметов. Он может на всяком расстоянии без материального посредства делать сообщения другим адептам и, наконец, на некоторое время отделять душу от тела, так как она получает возможность по собственной инициативе предпринимать экскурсии независимо от времени и пространства. При этом вымышленном братстве мудрых мужей, которое по ее словам существует тысячелетия, г-жа Блаватская будто бы провела семь лет, была посвящена в его тайны и сама сделалась адепткою». Современные писания провозвестников идущего с Востока мистического озарения как две капли воды похожи на сказки Блаватской, Ани Безант и прочих ее последователей. С одной лишь разницей. Адрес пресловутых махатм указывается несколько более точно. Не Индия вообще, страна атомной энергии и металлургических гигантов, построенных с помощью Советского Союза, открытая страна массового туризма, а «отдаленные районы Индостана», «недоступные долины Гималаев», «сокровенные уголки Непала, Бутана и прочих загадочных королевств». Именно туда на поиски последних святынь отправляются толпы паломников: любителей сильных ощущений, очарованных простаков, наркоманов и одураченных хиппи. О «таинственном Тибете», разоренном великодержавным своеволием китайцев, новоиспеченные буддисты, как правило, уже не вспоминают. Более того, писания некоторых левацки настроенных мистиков отчетливо попахивают маоистским душком. Особенно в той их части, где идут дебаты касательно «Света с Востока». Так и мерещится набивший оскомину рефрен: «Ветер с Востока одолеет ветер с Запада…» Трудно отделаться от впечатления, что такое уже было, и не раз, на протяжении человеческой истории. Аналогии, конечно, не могут служить доказательством, но вспоминать время от времени прошлое, даже отдаленное, никогда не вредно. В западной прессе все чаще проскальзывают многозначительные сопоставления современной действительности с агонией, парализовавшей Рим периода упадка. Тогда тоже не было недостатка в проповедниках, пришедших с восточных приделов. Отшатнувшись от олимпийцев, римское общество спешно принялось воздвигать алтари в честь иноземных богов. В тайных капищах приносились обильные жертвы на алтари Митры и Великой Матери, Осириса-Сераписа и сирийской богини, египетской Исиды, ведического Варуны, иранского Ахурамазды. Все уже было во времена оны, как горько заметил Экклезиаст: восторг перед экзотическими кумирами, проповедь аскетизма и презрения к миру. Жан Ревиль в своем скрупулезном обзоре «Религия в Риме при Северах» (Москва, 1898 г.) писал по этому поводу: «Для удовлетворения многосложных религиозных потребностей, волновавших римское общество III в., недостаточно было богов Греции и Рима, культа божественных Августов, толпы гениев, демонов и обоготворенных абстракций. Исчерпав весь жизненный сок своих собственных религиозных и философских принципов, развив во всех возможных направлениях свою собственную религиозную традицию, это общество, жаждавшее душевных волнений и верований, страстно предалось многочисленным восточным культам, последовательно укоренявшимся в столице». Как поразительно похоже! Словно клинический диагноз одной и той же болезни. Недаром в «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббон с присущим ему бесстрастием замечает: «Различные культы… верующими рассматривались как равно истинные, философами - как равно ложные, а властями - как равно полезные». Мне посчастливилось за несколько сравнительно длительных поездок по Индии и Гималаям побывать в ряде отдаленных и труднодоступных районов Центральной и Юго-Восточной Азии, где я так или иначе соприкасался с бытом лесных и горных племен, чья жизнь почти не изменилась за последние сто - двести лет. Религиозную жизнь Индии и сопредельных с ней стран едва ли можно понять в отрыве от величайшей горной системы нашей планеты, наложившей неизгладимый отпечаток на быт и сознание самых разных народов, живущих в благодатных долинах и непролазных джунглях, в пустынях и суровых плоскогорьях, на самой границе вечного снега. Вот почему, задумав книгу о богах, я написал ее прежде всего о людях, об их поразительной истории, обычаях, верованиях, об уникальной гималайской культуре, оказавшей определяющее влияние на всю Южную и Юго-Восточную Азию от Шри Ланки до Японии. Да и не только на Азию, но, как мы видели, на Европу, Америку. Бог создал человека по своему образу и подобию, говаривал Генрих Гейне, а человек отплатил ему тем же… Посещая индуистские и буддийские храмы самого разнообразного толка, я был свидетелем того, как удивительно уживаются под их сенью все элементы магии: врачевательной, промысловой, любовной. Я был удостоен аудиенции «живой богини» Кумари - восьмилетней девочки, живущей в неварвском храме, где также встречался с приставленными к ее особе астрологами, геомантами, заклинателями духов, которые, видимо, мало чем отличаются от своих собратьев в Древнем Вавилоне, Элладе и Риме, от чернокнижников средневековой Европы и шарлатанов современного Запада. Неизгладимую печать магии легко заметить в обрядности японского «синто» и тант-рийских культах Тибета, ясно различима она в ритуалах древнего зороастризма и сравнительно молодой религии индийских сикхов. Индия, как известно, дала приют всем, какие только существуют, верованиям мира. Известный востоковед И. Гольдциер писал: «Индия с пестрой смесью развертывающихся в ней религиозных феноменов представляется исследователю своеобразной школой сравнительного изучения религии». Другой «моделью» для исследования магических культов в недрах религий может служить Непал, который вплоть до 1951 года считался «закрытой» страной. Отрезанная от остального мира высочайшей цепью хребтов, она веками сохраняла древний феодальный уклад. Однако «непостижимых тайн», на которые привыкли ссылаться оккультисты всех мастей, нет ни в пещерах Индостана, ни в Непале, ни в прочих, ранее недоступных местах. Да и не осталось заповедных уголков на земном шаре. Даже в Тхимпху, столицу малоизвестного Бутана, или, как сами жители называют свою страну, «Друк-юл» («Королевство драконов грома»), о котором, к счастью, не подозревали европейские шарлатаны, можно добраться теперь из пограничного штата Ассам на автомобиле. Разумеется, если есть личное приглашение короля… Отсталая феодальная система, которая искусственно культивировалась колонизаторами, подорвана на корню повсюду. Пусть медленно и неохотно - особенно это заметно в отдаленных лесных или высокогорных уголках, - но она сдает позиции. По-прежнему бродят по древним караванным дорогам гадатели, продавцы приворотного зелья, специалисты по общению с потусторонним миром. Но все больше людей предпочитают лечиться в современных больницах и учить своих детей грамоте в современных, а не монастырских школах. Трудно не усмотреть горькой иронии в том, что магические культы, теряющие мало-помалу свое значение на исконной почве, обретают вторую, причудливую жизнь за океаном. Молодцов из «корпуса мира», одетых в желтые монашеские тоги, я встречал в Европе и Америке, Индии, Непале, Малайзии и Таиланде. Темные тантрийские культы, подобно медитации по системе дзэн, тоже завоевали себе последователей на Западе, где «календарь» гороскопных любовных поз стал не менее распространенным явлением, чем традиционные астрологические предсказания. В поисках решения столь парадоксальной загадки я посещал уединенные монастыри «закрытых» стран; беседовал с крестьянами, шерпами-проводниками, ламами, наркоманами-хиппи. И тем сильнее было впечатление, производимое приметами нового. На седых дорогах Азии я всюду встречал ростки той нови, которая властно соединила легендарные, некогда замкнутые и недоступные уголки с остальным человечеством. Современный уклад жизни проник даже в Мустанг, расположенный на северном склоне Аннапурны, тот самый Мустанг, который этнограф Мишель Пессель назвал «затерянным королевством». Слишком долгое время все, что касалось Тибета, Бутана, Сиккима, Ладакха, Мустанга, было тайной для внешнего мира: причудливый пантеон многоруких и многоголовых богов, удивительное смешение философских откровений с самым примитивным шаманством, сокровенные обряды магического тантризма, секреты индо-тибетской медицины, летописи, которые велись с древних времен, и чудесная власть, которую якобы обретали аскеты-отшельники над телом и духом. Этим, как мы видели, в свое время ловко пользовались теософские фантазеры, а ныне - их прямые духовные наследники. Я хочу провести читателя по таким некогда заповедным местам и познакомить его не только с религиозными традициями, но и с уникальными творениями скульптуры и зодчества, с замечательными памятниками искусства, которые до недавнего времени были почти неизвестны миру. Для нашего читателя это станет знакомством с беспримерной гималайской культурой. Он познакомится со строгими канонами индийской магической мудры, где малейший жест выражает определенную мысль, пантеоном индуистских и буддийских божеств, древнейшими астральными представлениями, которые стали впоследствии составными частями религиозных культов. В поисках разгадки мнимых чудес и действительных тайн прошлого я поведу своего читателя в увлекательное путешествие по горным долинам, нетронутым рощам, пещерам и сказочным высокогорным озерам. Его ждут восхождения к ледникам и переходы по шатким, сплетенным из лиан мостам через пропасти, на дне которых несутся бурные реки; заснеженные перевалы и жаркие джунгли, где, подобно дождю, падают с высоты пиявки. К сожалению, в последней трети XX века науке приходится бороться не только с исконными суевериями, но и развенчивать модернизированную псевдокосмическую мифологию, согласно которой всеми своими достижениями человечество обязано культуртрегерам с других звезд и даже галактик. В соответствии с той же шарлатанской традицией пропагандисты богов-космонавтов ищут подтверждения своим бредням в древних памятниках, сохранившихся в гималайских долинах, джунглях Юго-Восточной Азии или горах Центральной и Южной Америки. Если следовать пресловутому Деникену и его эпигонам, все складывается схематически и элементарно: прибыли сверхразвитые существа из других миров, ошеломили простодушных землян своими «чудесами» и улетели, оставив на память загадочные сооружения вроде Баальбекской постройки или колонны из нержавеющего железа в Дели. Налицо все та же социальная сверхзадача: верьте в богов всех религий, ибо они реально существующие, стоящие на исключительно высокой ступени развития внеземные пришельцы, в чьих руках судьба нашей планеты! Рассказывая о древних памятниках культуры, я намерен остановиться и на «квазикосмическом» истолковании их происхождения. Это тем более уместно, что рассказ о той же делийской колонне или о «мирах Вишну» и «мирах Будды», которыми грезят впавшие в добровольное помешательство созерцатели, разоблачает не только «технологию» магического чуда теософов и модернизированных гуру, но и завлекательные откровения новой космической религии.
ЗОВ ИЗДАЛЕКА
Сверкают льды под горным солнцем, Издалека зовет хребет. Так добрых дел извечный свет Во все концы Вселенной льется. Дхаммапада
«И в этом пространстве он встретил женщину великой красоты, Уму, дочь Химавата, и спросил ее: «Кто этот дух?» - говорит «Кена упанишада». Химават, или Хималая, - так зовется хозяин величайшей горной страны. Так же называют древние веды и упанишады Гималайские горы - прекраснейшую из корон, возложенных природой на чело Земли. Каждый день, проведенный в Дели, открывал мне что-нибудь новое, неизвестное, но я торопил время, одержимый мечтой о Гималаях. В Красном форте, в цитадели Великих Моголов, возрожденном для новой жизни бурными переменами нашего века, 15 августа 1947 года был спущен с флагштока британский «Юнион-Джек» и поднят государственный флаг независимой Индии, а 26 января 1950 года Индия стала республикой. Ее трехцветный оранжево-бело-зеленый флаг олицетворяет сложную символику. Оранжевый цвет - цвет монашеской тоги - означает отрешенность, покорность и бескорыстие; белый - свет, истину; зеленый - буйную силу плодотворящей природы. Синее колесо в центре - чакра в двадцать четыре спицы - объединило небо и море с древним солнечным знаком. Это колесо крестьянской прялки и магический атрибут брахманистского бога Вишну, преобразившийся потом в символ буддийского закона, в самого Будду. Флаг, предложенный Конституционной ассамблеей от имени индийских женщин, вобрал в себя основные принципы философской системы Махатмы Ганди. Знаменательно, что впервые поднял его над Красным фортом, над Дели, над Индией Джава-харлал Неру. На правом берегу Джамны стоят каменные прямоугольники, окруженные кольцами тихих аллей. Здесь, на зеленых холмах Раджгхата, были преданы огню тела Ганди и Неру. Пламя в индуистской космогонии олицетворяет творческое начало вселенной. В огне погребальных костров ушли в бессмертие два несгибаемых борца за независимость и счастье Индии. Раджгхат - одна из наиболее почитаемых в стране святынь. Бок о бок склоняются здесь в молитвенном молчании индуи-сты, мусульмане, парсы, джайны, буддисты, сикхи, христиане, анимисты, верящие в горных и лесных духов, и атеисты, не признающие богов. Бессмертие даруется не высшей силой, но вечной памятью благодарных людей. Перешагнув через барьеры каст и религий, сюда устремляются помыслы новой Индии, которая никогда не забудет своих основателей и учителей. День за днем она осыпает над ними лепестки своих лучших цветов. Мы, советские писатели, тоже пришли возложить венки к подножию поминальных камней. «ОМ РАМ». «О, РАМА!» - высечено на строгом черном монолите Ганди его последнее слово. Сраженный пулей религиозного фанатика, он унес с собой неистребимую веру в идею ненасилия. Жизнь и учение Ганди нельзя оторвать от духовных традиций Индии. Древние принципы сатья и ахинса - правда и ненасилие - стали основой учения Ганди. «Я никогда не делал различия между родными и чужими, между соотечественниками и чужестранцами, белыми и цветными, индусами и индийцами иного вероисповедания: мусульманами, парсами, христианами или иудеями», - говорил он о себе. Индийским пророкам свойственно было проповедовать свое учение на примере собственной жизни. В этом проявлялись их стремление к правде, самоотверженность. Ганди свято верил в то, что все человеческие существа неразрывно связаны друг с другом. Но, несмотря на эту непоколебимую веру, было бы ошибкой принимать его за некоего святого, наподобие тех, кого канонизирует официальная церковь. Каждодневно руководствуясь принципом ненасилия, даже распространив его на политическую жизнь, он отчетливо представлял себе реальное состояние вещей. Его учение вмещало в себя тысячелетний опыт Индии, потенциальную мощь правды и светлую мечту о прекрасном будущем человечества. Хотя он прекрасно понимал, что зло не победить одними словами, а правда сама по себе не может освободить человека от гнета внешних сил и от внутреннего страха перед этими силами. В Ведах и Упанишадах, Махабхарате и Рамаяне - во всех великих древнеиндийских книгах мы найдем среди всевозможных людских добродетелей бесстрашие (абхай). Это бесстрашие тела и духа. Бесстрашие перед физическими испытаниями и гонениями, бесстрашие перед бездной мироздания и глубинами собственной души. «Не бойтесь», - говорил Ганди. В книге «Открытие Индии» Джавахарлал Неру писал: «При владычестве англичан самым распространенным в Индии чувством был страх - всепроникающий, подавляющий, удушающий страх: страх перед армией, полицией, вездесущей секретной службой, страх перед чиновниками, перед законами, несущими угнетение, перед тюрьмой; страх перед приказчиком помещика, перед ростовщиком; страх перед безработицей и голодом, всегда стоявшими у порога. Против этого всеохватывающего страха поднялся спокойный и решительный голос Ганди. «Не бойтесь», - говорил он». Ганди понимал, что только бесстрашный человек может говорить о ненасилии так, чтобы его слова внушали уважение. Запуганный раб, поверженный наземь и содрогающийся под занесенной плетью, тоже может взывать к ненасилию. Но это будет уже мольба о пощаде. Спокойное мужество, сознание глубокой правоты и сила всепобеждающей человечности - вот что должно было стоять за словами о ненасилии. «Не понимая ясно, что представляет собой ненасилие, многие искренне думают, что добродетель требует бежать от опасности, а не сопротивляться ей, особенно если она угрожает жизни. Проповедуя ненасилие, я должен в полную меру своих возможностей предостеречь против такого его понимания, недостойного мужественного человека». И еще: «Моя идея ненасилия отнюдь не предполагает, что можно бежать от опасности и оставить своих близких без защиты. Если надо выбрать между насилием и трусливым бегством, я предпочту насилие трусости. Я не могу научить труса ненасилию, как не могу и соблазнить слепого прекрасным зрелищем. Ненасилие - это кульминация мужества». Здесь ключ к пониманию истинной сущности гандизма. И, как это мы вскоре увидим, водораздел, отделяющий его от религиозного всепрощения. Думается, что сам Ганди сознавал, как в действительности долог и труден его путь. Тысячелетние религиозные предрассудки, кастовое разделение, незажившие язвы колониального угнетения - все это и еще многое другое стояло на пути индийского народа в будущее. Согласно индуистской традиции, душа человека слагается из двух начал: истинно человеческого, великого, устремленного ввысь и животного, низменного, которое можно победить только силой Любви. Ганди целиком включил эти принципы в свое учение: «Ненасилие - это закон рода человеческого, подобно тому как насилие - закон зверей. Душа в звере спит, и он не знает иного закона кроме физической силы. Достоинство человека требует от него подчинения высшему закону - силе духа». Когда первая атомная бомба унесла сотни тысяч жизней, Ганди сказал, что, если человечество не примет теперь идею ненасилия, оно сгорит в термоядерном огне. Мы знаем, что не проповедь ненасилия, а мощь социалистического лагеря, возглавляемого Советским Союзом, позволила обуздать безудержную термоядерную гонку. Постоянные усилия Советского правительства, направленные на запрещение оружия массового истребления, на всеобщее и полное разоружение, являются надежной гарантией светлого будущего всех народов земли. Мы знаем также, что действительным двигателем истории является революционная борьба классов и многие противоречия современного мира прямо обусловлены конкретными социальными причинами. Но это не мешает нам отдать должное великому сыну Индии. «Путь мира - не путь слабости, - говорил Ганди. - Путь мира - это жертва собой». Советский народ постиг эти суровые истины в упорной борьбе. Мы свергли самодержавие, открыв всему человечеству путь к свободе и независимости. Мы грудью заслонили мир от фашистской чумы и спасли мировую цивилизацию от уничтожения. Наша победа в Великой Отечественной войне принесла освобождение многим народам, в том числе и народам колониальных и зависимых стран. Индия Ганди была в числе первых государств, получивших независимость в послевоенные годы. Люди не забывают своих учителей. Навсегда сохранят они и память- о доброй улыбке Ганди, его глазах, зорко всматривающихся в будущее сквозь стекла круглых простых очков. Он был нашим современником. Недавно Индия отмечала столетие со дня его рождения. Слова «столетие» и «современник» нелегко связать между собой. Так же трудно, наверное, видеть в крупном историческом деятеле просто мудрого и хорошего человека. Он очень любил людей и верил, что сможет освободить их от насилия и страха. Можно не признавать в Ганди пророка, но нельзя не восхищаться непоколебимой верой доброго человека, который жил среди нас, кого миллионы людей называли Гандиджи, кто всегда обращался к лучшему, что заложено в человеческом сердце. Шелест травы под стенами старого форта. Шепот ветра, смутный лепет далекого прошлого, отголосок недавнего. Неразрывная связь времен. Зазвенели гонги в скромном шиваистском храме, где над белеными воротами полощутся красные флажки. Разворачиваясь для посадки в международном аэропорту, над Красным фортом с громом пронесся «Боинг». Как разобраться в мешанине эпох, верований, укладов? Как разглядеть в невероятной головокружительной кутерьме истинное лицо Дели? Да и есть ли оно? Что, если город так же многолик, как и его боги? Что, если он, как Брахма, обратил свои очи ко всем временам: прошедшим и будущим? На все, даже взаимоисключающие, вопросы он дает утвердительный ответ.

Разрушенный храм

Храм Дурги
Вот покинутый, полуразвалившийся храм, куда от нечего делать забредают городские коровы, уставшие пережевывать - в прямом значении слова - старые газеты. А в двух кварталах от него - новый, что называется, с иголочки, чья лубочная роспись сохранила еще запах краски. Сооружен он на средства богатейшего клана Бирла, о чем свидетельствует медная табличка. Видимо, с точки зрения финансовых королей, единственное, на что смеют надеяться миллионы обездоленных индийцев, - это лучшее перерождение в будущей жизни. Но совсем иначе думают передовые люди индийской столицы. Они считают, что миллионы, израсходованные на строительство храма, следовало направить на удовлетворение первостепенных нужд беднейшего населения. По данным официальной индийской статистики, только в Дели насчитывается 50 тысяч нищих, 70 тысяч бездомных, 200 тысяч обитателей трущоб. Когда блуждаешь в пыльном, продымленном лабиринте старого города, статистика обрастает горькой плотью. Не случайно ликвидация нищеты стала главнейшей общенациональной задачей. Разглядывая румяные лица ярко раскрашенных богов, исполинских слонов, львов и прочих королевских зверей, я мысленно прикидывал, во сколько обошелся этот грандиозный балаган с садами на террасах, фонтанами, искусственными пещерами. Он был очень похож на сингапурский парк «Тигрового бальзама», построенный в рекламных целях братьями Ау, составившими себе фантастическое состояние на снадобье, которое ныне завоевало всю Азию. Но в «Тайгер Балм-парк» всевластный чистоган выставлял себя в самом откровенном и наглом облике, здесь же - пытался спрятаться за мистическую вуаль богов тримурти - индийской троицы. Я следил за тем, как скатывались беззаботно хохочущие ребятишки с гладкой спины каменного носорога и тут же снова карабкались наверх или, расталкивая друг друга, стремились поскорее проникнуть в пасть исполинского крокодила, окруженного тенистыми пальмами, шпалерами малиновых, желтых, белых цветов. Знали ли они, сколько домов, школ и больниц отняли у них занятные аттракционы, завлекающие под сень роскошнейшего из храмов, сберегаемого великанами, затребованными в наш век из сказочных далей Рамаяны. Вызванные из небытия силой денег, эти ярмарочные истуканы так и не обрели живой плоти. Дели - рабочий город. Особенно ясно это видно, когда выезжаешь за его пределы. На многие километры тянутся вдоль дорог фактории, бесконечные цехи, склады, мастерские. На безлесной равнине уже издали видна каждая заводская труба, каждый виадук над полотном железной дороги, по которому со стуком пролетают платформы, груженные машинами, нефтеналивными цистернами, рудой, камнем. Если раньше Дели пользовался широкой известностью как город мастеров, поставлявших на мировой рынок филигранные изделия из золота и серебра, богато тисненные кожи, резную слоновую кость и непревзойденные по тонкости вышитые гобелены, то теперь тут производятся еще и всевозможные радиодетали, электромоторы, кондиционеры воздуха, станки, буровые машины, запасные части к автомобилям. Здесь сосредоточены предприятия хлопчатобумажной, кожевенной, обувной, пищевой и химико-фармацевтической промышленности. В потоке транспорта, запруживающего проспекты столицы в час пик, с каждым днем становится все больше индийских «Амбассадоров». Щедро разукрашенные, как и повсюду в этой части мира, могучие грузовики перевозят из конца в конец исконные продукты экспорта: драгоценное дерево, металлические слитки, рулоны тканей, копру, цветное стекло. Дели быстро растет и расширяется. В новом городе повсюду видны ажурные каркасы многоэтажных банков, деловых контор, универсальных магазинов, отелей. Но башенных кранов, экскаваторов, бульдозеров не видно. Почти все работы выполняются вручную. Окруженные бамбуковыми лесами, стальные остовы небоскребов поражают чудовищным смешением далекого прошлого с реалиями сегодняшнего дня. Каменотесы, облицовщики, подсобные рабочие деловито снуют с этажа на этаж, постукивая зубилами и мастерками. Не только в рабочих кварталах, но и в центре нового города, на кольцевой Коннаут Плейс, заборы, стены и даже колонны домов оклеены плакатами, щедро разрисованы всевозможными лозунгами. Это живое зеркало острых социально-политических конфликтов четырехмиллионного города, занимающего по плотности населения первое место в стране. Разобраться в особенностях здешней политической жизни далеко не просто. И уж меньше всего можно доверяться знакам и символам, начертанным на стенах углем либо мелом. Серп и молот, например, может сопровождать авантюристические призывы каких-нибудь безответственных леваков, абсолютно далеких от марксизма, а свастика совсем не обязательно означает принадлежность к организации фашистского толка типа «Шив Сен». В книгах на индийскую тему, в газетных и журнальных статьях часто встречается заезженная сентенция: «Дели - это не Индия». Такой журналистский штамп, претендующий на оригинальность видения, свидетельствует лишь о шаблонном подходе. Разумеется, столицы отличаются от других городов страны темпом жизни, приметами державного величия, большей этнической пестротой и т. д. Это сразу бросается в глаза. И все же надо быть слепым, чтобы не разглядеть за оболочкой очевидного глубинной сути. Столица непроизвольно вбирает в себя самую динамичную часть населения. Недаром говорят, что все дороги ведут в Рим. Все характерные особенности страны, ее неповторимый характер яснее всего видны под увеличительным стеклом столичного неба. Под ним раньше всего пробиваются из пластов истории ростки будущего. Я абсолютно уверен, что столица - зеркало государства. Да и может ли сердце пребывать в разладе с организмом? Дели - это именно Индия. Чтобы убедиться в этом, достаточно потолкаться в толпе, снующей по Чандни-чоук. Когда-то это была чуть ли не самая богатая улица мира. Да и теперь здесь можно купить уникальные бриллианты, баснословно дорогие украшения из платины и белого золота, тройку рабочих слонов, эротическую скульптуру из нефрита. Не случайно торговцы, разбогатевшие на местном базаре, не спешат расстаться с тесными лавчонками, положившими начало бурному процветанию. А ведь у многих из них есть роскошные магазины в Новом городе, офисы в Бомбее, охотничьи домики на гималайских курортах. И дело тут не в суеверии и не в сентиментальных мотивах. Чандни-чоук - все еще главная «толкучка» Индии. Здесь совершенно неожиданно может подвернуться сделка, которой бы не побрезговали даже дельцы с Уолл-стрита. Я знаю одного токийского толстосума, который держит в Старом городе филиал своей фирмы. На всякий случай, в преддверии выгодного заказа. Стоит пройтись по многокилометровой оглушительной улице Лунного света с ее тесно прижатыми друг к другу лавчонками и магазинами, чьи фасады пестрят миллионами вывесок и рекламных щитов, постоять среди разносчиков и перекупщиков, невозмутимых садху, паломников, ошарашенных столпотворением крестьян и профессиональных нищих, и вы увидите именно Индию. Повозки, запряженные пони и зебу, слонов, верблюдов, велорикш и извозчиков-тонг. Разве это не Индия? И заклинатели змей с дудочкой из двойной тыквы и кобрами в плоских корзинах, и бродячие гуру, и сидящие на гвоздях йоги. Но ведь и спутник «Ариабата» собран в Индии, и металлургические гиганты в Бхилаи и Бокаро тоже построены на индийской земле. Как бы ни был сложен облик страны, он неделим. Чандни-чоук в Старом городе так же характерен для нее, как университет, музеи и научно-исследовательские центры Нью-Дели. Мрачной статистике, фиксирующей количество безработных и бездомных, новая Индия тоже противопоставляет свои цифры. Число объектов, сооруженных с помощью Советского Союза, - заводов и нефтепромыслов, электростанций и институтов, фабрик и ферм - приближается к восьмидесяти. Эти предприятия дают в настоящее время 20 процентов электроэнергии, 30 процентов стали, 50 процентов нефти, 60 процентов тяжелого электрооборудования, 80 процентов изделий металлургического производства, выпускаемых страной в целом. Это работа для миллионов высохших от нищеты рук. Среди делийской интеллигенции появляется все больше людей, изучающих советский опыт. Особенно памятен мне писатель Бхишам Сахни, который несколько лет прожил в Советском Союзе. Он не только говорит по-русски, но и постоянно подчеркивает ту роль, которую сыграла советская литература в его собственном творчестве. Сюрпризы начались сразу, едва мы вошли в уютную квартиру Сахни. Его жена - вскоре выяснилось, что она сотрудник корпункта АПН, - предложила нам охлажденный сок манго. Пока длилась неизбежная церемония знакомств и взаимных представлений, в комнату незаметно проскользнула удивительно красивая молодая женщина с подносом, уставленным бутылочками минеральной воды и тоника. Я смотрел на нее во все глаза, силясь вспомнить, где мы могли встречаться. Я не знал ее - это было очевидно, - но тем не менее не мог отделаться от навязчивого ощущения, что хорошо знаю и это одухотворенное лицо, и эти умные глубокие глаза, чуть прищуренные от еле сдерживаемого смеха. Однажды со мной уже было такое, когда я, лицом к лицу столкнувшись с популярной дикторшей телевидения, попытался «выяснить отношения». Ей такие ситуации были привычны, и все вскоре встало на свои места. Но Дели не Москва. Я решительно не знал, как вести себя со знакомой незнакомкой в белом сари. - Вы не узнаете меня? - спросила она на безукоризненном русском языке и, не выдержав, расхохоталась. - Мы же только вчера разговаривали с вами в Центре русских исследований. - Ах да! - Я беспомощно махнул рукой и попытался достойно выйти из положения: - Нет, вас-то я узнал сразу. Просто смешался от неожиданности… Не знал, что вы знакомы с мистером Сахни. - Вы уже познакомились с моей дочерью? - подошел к нам Бхишам. - Она в самом деле хорошо говорит по-русски? - Мы с ней старые друзья. - Теперь я чувствовал себя на коне и мог шутить: - У нас общее увлечение - Булгаков. - Я вспомнил вопросы, которые она задала мне на встрече в университетском городке. - Что же касается языка, то он безупречен. Вскоре мы уже непринужденно болтали о «Мастере и Маргарите», о московских общих знакомых. Незаметно разговор переключился на Гималаи, и я поведал о сокровенной мечте увидеть тайные святыни Непала и сопредельных стран. - Поразительное родство интересов! - В голосе моей очаровательной собеседницы вновь проскользнула веселая нота. - Вы любите Булгакова, как я, и бредите Гималаями, как мой муж. Сейчас я вытащу его из кабинета. У нас богатейшая коллекция слайдов. Муж объездил весь Ладакх, Сикким и Бутан и все заснял на цветную пленку. Даже подземные пещеры. - Но там же темно. Неужели ему разрешали пользоваться вспышкой? - О, это целая эпопея. Пусть лучше он сам расскажет, как расставлял зеркала из блестящей фольги и направлял солнечный свет в кромешную тьму. Гималаи - его конек, и мне не хочется отбивать чужой хлеб. Есть такая поговорка? Зеркала из фольги, которые практически ничего не весят, которые ничего не стоит скатать в рулон. Где-то я уже читал об этом: о неистовом солнце Гималаев, чьи лучи заставляют взрываться буйные краски росписей во мраке подземелий, и о зеркалах, что, в отличие от электрического освещения, не нарушают покоя тантрийских божеств. - Постойте! - Я чуть не вскочил со стула, пораженный внезапной догадкой. - Вашего мужа случайно зовут не Маданджат Сингх? Я уже заранее готов к любым чудесам. - И напрасно. Чудо не состоится. Но не огорчайтесь. Мы близко знакомы с Сингхом и с удовольствием устроим вам встречу с ним. Хотите? - Еще бы! Его «Гималайское искусство» стало моей настольной книгой. - Вот и прекрасно. А теперь займемся слайдами. И померк свет, и раздвинулись стены, а в белом прямоугольнике экрана вспыхнуло небо, невероятное, страшное, отрешенное небо без облаков. «Что отличает Гималаи от других горных стран? - думал я. - Высота? Затерянность? Недоступность?» «Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется дух человеческий, когда он, преодолевая трудности, всходит к этим вершинам. И сами трудности, порою очень опасные, становятся лишь нужнейшими и желаннейшими ступенями, делаются только преодолениями земных условностей. Все опасные бамбуковые переходы через гремящие горные потоки, все скользкие ступени вековых ледников над гибельными пропастями, все неизбежные спуски перед следующими подъемами, и вихрь, и голод, и холод, и жар преодолеваются там, где полна чаша нахождений. Не из спесивости и чванства столько путешественников, искателей устремлялись и вдохновлялись Гималаями». Так отвечал на этот вопрос Н. Рерих. «Когда вы смотрите на эти полотна, из которых многие отображают Гималаи, кажется, что вы улавливаете дух этих великих гор, которые, веками возвышаясь над равнинами Индии, были нашими стражами», - сказал Джавахарлал Неру, познакомившись с гималайским циклом великого художника. Дух Гималаев… Что это? Ветер, зеленый и горький от летящей пыльцы? Запах льдов или кедровой смолы? Скрежет льда и грохот лавин? След барса на девственной белизне снега или таинственный отпечаток пятипалой стопы? Люди? Боги? Демоны? Вещие камни? Гималаи дохнули навстречу морозной хвоей, и Дели, изнывающий от жары (плюс 44°С в тени), видится как в тумане. Мне слышится гул снежных обвалов, и рододендроны на границах вечной зимы расправляют навстречу языческому солнцу заповедных гор усыпанные цветами ветки. Напитанные светом капли, как глицериновые, тяжело переливаются на белых и розовых лепестках. Олень тычется горячим замшевым носом в мою ладонь и жадно слизывает шершавым языком живую соль. Снежный барс, яростно морщиня щеки, точит когти о кедр, и дерево гудит басовой струной, и кружится запрокинутая голова от игры света в растопыренных иглах, пьющих жадно дыхание гроз. Сумасшедшая пляска теней, и не отличить уже настоящего солнца от двух ложных, вспыхнувших нежданно где-то там, над неподвижно повисшим облаком, чья белизна белее ледников. «Путем Белого облака» назывался последний, прочитанный наспех бестселлер о «тайнах» Тибета. «Учением Белого лотоса» именовалась буддийская секта в сунском Китае. Это случайные, но, видимо, необходимые ассоциации. И еще вспоминаются волшебные строки Лонгфелло:
Если спросите - откуда Эти сказки и легенды С их лесным благоуханьем, Влажной свежестью долины, Голубым дымком вигвамов, Шумом рек и водопадов, Шумом, диким и стозвучным, Как в горах раскаты грома? - Я скажу вам, я отвечу.
Как будто бы о Гималаях… Но не о них, уж это точно. Как-то я, что называется, одним глазком заглянул в Канаду и сразу «узнал» лес и холмы Гайаваты. В том-то и дело, что многие горы похожи на Гималаи, да только сами Гималаи нельзя сравнить ни с чем на земле. Как верно это знал и чувствовал Рерих. И в живописных своих мыслеобразах, и в словах изреченных. «Даже скудно и убого было пытаться сопоставить Гималаи с прочими, лучшими нагорьями земного шара. Анды, Кавказ, Альпы, Алтай - все прекраснейшие высоты покажутся лишь отдельными вершинами, когда вы мысленно представите себе всю пышную нагорную страну гималайскую». Не случайно я вспомнил о знаменитом художнике и мудреце. Без «сказок и легенд» гималайских и Рериха понять нельзя. Вот сидит на берегу горной речки старец в позе медитации и грезит. О чем? Неизвестно. И название полотна «Сантана» вряд ли что подскажет неискушенному зрителю. Что за «Сантана» такая? Может, название реки, может, имя из легенды? Остается лишь интуитивно угадывать потаенную мысль автора, что неизбежно сопряжено с ошибками. Нет ниреки такой, ни человека с таким именем. В надлежащий момент, когда речь зайдет о дхармах и карме, я расскажу, что значит сантана и какая связь у нее с вечно бегущим и. вечно изменчивым потоком. Пока же загадаю еще одну загадку, равно связанную с тайной Гималаев и тайной мысли русского живописца. Вспомните горы на фоне жуткого алого заката и темную фигуру на крайней скале с натянутым луком в руках. «Весть Шамбалы». Страну с таким названием не найти на географических картах, а вместе с тем в нее верят и тянутся к ней овцеводы Ладакха, охотники за орхидеями Сиккима, покорители высот - шерпа, колдуны заповедного (королевства? княжества? округа?) с неожиданно странным именем Мустанг. Стоит ли и далее пытать воображение? «Знамя мира», «Тень учителя», «Гессэр-Хан», «Конь счастья (знаки Чинтамани)», «Капля жизни», «Жемчуг исканий» и десятки, сотни замечательнейших полотен Рериха раскроются вдруг во всей удивительной своей полноте под ключом гималайских сказаний. Да и сами великие горы предстанут в ином освещении, и загорятся в них огни кочевий, и следы народов, ушедших в ночь, фосфорическим блеском вспыхнут на горных тропах. Свет, преломленный стократно меж Индией и Гималаями. Спустимся с гор и припомним еще одно полотно. В зеленых тонах, мерцающее колдовским самосвечением. «Огни на Ганге». Зачем эта женщина в сари пускает скорлупки с тлеющими фитильками, плавающими в кокосовом масле? Стоит лишь подсказать, что она молится о счастье детей, как в глубинном сумраке вспыхнет новое понимание, раскроется некая потаенная суть. Только довольно об этом. Мы еще не раз возвратимся на священную Гангу, принимающую пепел сожжений и огни торжества. Огненные феерии Бенареса! Это новый лик твой, непостижимый город, где остановилось и замерло на мгновение колесо пяти миров и двенадцати нидан. В Старом Дели я видел храм, обезображенный ревнителями нравственных установлений шариата. Он был превращен в мечеть после того, как долота каменотесов скололи с капителей образы героев «Махабхараты» и «Рамаяны». Разумеется, и мечети могут быть прекрасны, как делийская «Джама-Масджид», где хранится «волос из бороды пророка», как прекрасен по-своему семидесятипятиметровый минарет Кутб-минар. Просто каждое сооружение должно стоять на своем первозданном фундаменте. Попытка произвести тут некоторые перестановки не приносит успеха. Это бесславная попытка. Как и можно было ожидать, новоявленная мечеть не приблизилась к совершеннейшим образцам могольской архитектуры, и ее пришлось забросить. Ныне остатки храма - он расположен поблизости от Кутб-минар - воспринимаются лишь как архитектурная аранжировка чудеснейшего памятника индийской культуры - Железной колонны. Этот внушительный столп из чистого нержавеющего железа Деникен и иже с ним поспешили объявить памятником, оставленным звездными пришельцами. Где, мол, древним индийцам было выплавить такой металл! Рискуя разочаровать таких горе-фантастов, хочу сказать, что сам видел на колонне клеймо царя Чандрагупты. Да и по своей форме она очень похожа на памятники, которые сооружали в первых веках нашей эры индийские властители. Кстати, она подвержена окислению и хоть медленно, как положено металлу столь высокой чистоты, но тем не менее ржавеет с поверхности в сухом воздухе Дели.

Железная колонна
Мне куда ближе точка зрения исследователей, утверждающих, что древние знали рецепт порошковой металлургии. Впрочем, лично я склоняюсь к более простому объяснению. Как и римские монеты I - II веков, колонна могла быть изготовлена из метеоритного железа. Но как бы там ни было, а веселые делийцы ежедневно затевают вокруг нее шутливое состязание. Тот, кто, прижавшись к колонне спиной, сумеет обхватить ее руками, становится победителем. Считается, что все желания такого счастливчика обязательно исполнятся. Если бы я попытался объяснить этим юношам и девушкам, старательно заводившим руки назад, что они дерзнули коснуться святыни, оставленной марсианами, меня бы наверняка подняли на смех. В индуизме, насчитывающем миллионы богов, в том числе и богов бесчисленных миров (не имеющих, как мы увидим далее, отношения к реальным планетным системам), культ инопланетян не привился. Несмотря на ежегодные радения, которые устраивают возле Железной колонны «тарелкоманы» с Запада, индийцы не спешат примкнуть к новому вероучению. Ну, еще одна секта, еще один полупомешанный пророк - эка невидаль. Делийские улицы видели и не такое. Что же касается космических путешествий, то образованные, свободомыслящие люди предпочитают реальность, а не фантазию. Тем более что делийское телевидение подробно освещает полеты советских и американских космонавтов. Даже глубоко религиозные йоги, как показал опрос, проведенный «Хиндустан тайме», интересуются космическими программами, хоть и уверены, что сами способны воспарить духом в самые отдаленные просторы вселенной. Право, на фоне примитивных верований, с которыми мне пришлось познакомиться за время поездок по странам Азии, «космическое» суеверие выглядит особенно диким. По сути, оно отрицает всю современную науку, бездумно отбрасывает прочь накопленный человечеством опыт. Великая эра космических полетов породила, к сожалению, и свою мифологию. Шарлатанскую, если следовать точному, на мой взгляд, определению известного писателя-фантаста Артура Кларка. В жизни бывает множество знаменательных, чуть ли не «роковых» совпадений. Меня немало позабавил тот факт, что на следующий день после свистопляски, учиненной студентами Кембриджского университета вокруг колонны Чандрагупты, неподалеку, на границе между Старым и Новым Дели, устроили грандиозную манифестацию кришнаиты. Не местные, что было бы неудивительно, а тоже заокеанские, из тех, с кем год спустя я встретился на улицах Нью-Йорка. На огромном травяном поле «Рамлила граунд», поблизости от Красного форта, Пятничной мечети и одного из самых гомонливых в мире базаров, разворачивалось непривычное действо. Вместо традиционных для этого живописного пустыря представлений на темы Рамаяны ожидалась проповедь гуру из миссии «Божественный свет». На ярко освещенной сцене с роскошным шатром покачивался упитанный юноша с неподвижной, как у каменного бодхисаттвы, улыбкой на довольно миловидном лице. Это был знаменитый Махарадж Джи, верховный гуру «Божественного света», озарившего ныне Старую и Новую Англию. Монахи в шафрановых тогах и прозелиты в белых одеждах, окружавшие святого, прилетели вместе с ним на специально зафрахтованном «Боинге-707». Приблизив на манер кинозвезды микрофон к самым губам, Махарадж Джи выбросил несколько довольно банальных лозунгов о мире, всеобщей гармонии и чистоте души, после чего скрылся в шатре. Из репродукторов полилась плавная мелодия гимна, и золотоволосые девушки в неумело намотанных сари закружились в экстатическом танце. Зрители поднялись с земли, где сидели на обрывках пластика, картонных ящиках и кусках брезента, и приняли участие в общем веселье. Народу собралось много, не менее пяти тысяч. Вокруг, насколько хватал глаз, были разбиты палатки, в котлах возле импровизированной столовой кипело какое-то сугубо вегетарианское варево, белый флажок с красным знаком секты отмечал месторасположение походного госпиталя. Операция развивалась с военной четкостью и типично американской деловитостью. Народ на «Рамлила граунд» собрался дисциплинированный, привыкший к тяготам кочевой жизни и, самое главное, молодой. Доброй половине миссионеров и миссионерок было не больше восемнадцати лет. В отличие от хиппи, которых я перевидел великое множество, все были тщательно вымыты, ухожены и старались не шокировать чопорных индийцев разбитными манерами. О таких привычных для хиппи вещах, как наркотики и публичные «сексуальные мероприятия», здесь и речи быть не могло. Это был показной «реэкспорт» индуизма, возвращение его из дальнего вояжа на исконную почву. Словно колесо Вишну сделало еще один полный оборот. В книге Н. Р. Гусевой «Индуизм: истоки и современность» так говорится об иноземных последователях индийских религий: «К истинным адептам предъявляется требование, классическое для индийских садху, отойти от всякой общественно полезной деятельности, забыть о насущных требованиях своей страны и своего народа и проводить дни в украшении молитвенных домов и в пении мантры как во время собраний верующих, так и дома и на улицах. Им рекомендуется ходить группами по учебным заведениям и местам, где собирается молодежь, чтобы привлечь к движению как можно больше сторонников». Надо ли говорить, что проповедь социальной пассивности не встречает сопротивления дальновидных администраторов, ответственных за воспитание молодежи. Что же касается аскетических обетов, которые возлагают на себя садху, то здесь дело обстоит несколько сложнее. Пример нарушения сакральной чистоты подал сам гуру Махарадж Джи, сын популярного в Индии хардаварского йога. Женившись на собственной секретарше-американке, которая старше его на восемь лет, он не только нарушил обет безбрачия кришнаитов, но и бросил вызов кастовым обычаям и семейным аристократическим традициям. Разгневанная мать, в чьих руках находились финансовые дела секты, попыталась произвести «государственный переворот» и поставить во главе движения старшего брата Махараджа Джи. Процесс, в который были вовлечены суды Индии и Великобритании, тянется по сей день, и пока неизвестно, кому перейдет недвижимое имущество миссии «Божественный свет». Но репутации гуру, по крайней мере в глазах американских последователей, семейный скандал нисколько не повредил. Движение ширится, доходы растут, хотя Махарадж Джи и не снисходит до таких пустяков, как мелкие чудеса, которые способен сотворить любой бродячий фокусник. Его дело вещать. Без малейшего смущения этот вполне заурядный молодой человек, разъезжающий в роскошном «роллс-ройсе» индивидуальной модели, заявляет, что послан на землю богом, дабы установить мир. Доказательств, разумеется, Махарадж Джи не приводит. И ему верят. Многие тысячи. Потому что вера вообще не нуждается в доказательствах и, по словам «пресс-агентства» миссии, «никто не может создать гуру, существующего сам по себе». Чем, спрашивается, не бог?… Но не единственный, что находится в полном соответствии с традициями многомиллионного индуистского пантеона. Гуру Абой Черан Джи, который еще в 1950 году оставил семью, чтобы целиком посвятить себя вере, основал новую секту «Международное общество распространения веры в Кришну», тоже рассчитанную на широкий импорт и высокие дивиденды. Во многих крупных городах на севере Индии можно встретить теперь молодых американок и американцев в длинных (последователи Махараджа носили обычное индийское платье) белых одеждах. У мужчин бритые головы и индуистский символ. Они убеждают индуистов, прежде всего в Индии, чтобы те не стремились к материальному благополучию, а все свои силы посвящали Кришне, почитаемому как воплощение бога Вишну. Общество официально зарегистрировано в США и имеет представительство в Дели, где провело свою международную конференцию. Оно уже привлекло внимание крупными суммами, которые поступают в его адрес из США и других западных стран. В штате Западная Бенгалия общество начало в 1972 году строительство так называемого «священного центра распространения веры в Кришну». Это будет крупный храмовый комплекс: святилище высотой 100 метров, «равного которому нет в Индии», университет изучения вед, парк с большим озером, аэродром, дороги, дома, отели и другие объекты. Строительство только одного храма оценивается в 30 миллионов рупий. Абой Черан Джи, которому давно перевалило за восемьдесят, уверяет, что обрел истинное бессмертие. Краткий период, когда Америка беспрекословно внимала божественному свету с Востока, закончился. Ныне многочисленные брошюры и книги, отпечатанные в США, не только пытаются распространить среди индийцев общие духовные принципы, но и наставляют их в вере в исконных богов. Еще один оборот колеса…
СВЕТ ВЕРШИН
Лишь миг прозренья и полета, Когда на Дальнем берегу Мелькнет неведомое что-то И озарит сияньем лотос В туман одетую Реку. Хоть блестку, что волна качала, Успеть урвать у темноты, Увидеть, как с концом начала Слились сквозь муки немоты. И этот миг и блестка эта Желаннее стократ, чем век Стяжателя, глупца-поэта, Чем жизнь твоя, о человек! Дхаммапада
Н. Рерих писал о Сринагаре - Великом граде: «Где проходили орды Великих Моголов?… Где «Трон Соломона»? Где пути Христа-странника? Где зарево шаманской бон религии демонов? Где Шалимар - сады Джахангира? Где пути Памира, Лхасы, Хотана? Где таинственная пещера Амаранта? Где тропа великого Александра к забытой Таксиле? Где стены Акбара? Где учил Ашвагоша? Где мудрые камни царя Ашоки? Все прошло по Кашмиру. Здесь старые пути Азии. И каждый караван мелькает, как звенья сочетаний великого тела Востока». Ни одна горная система в мире не оказывает такого глубокого и всестороннего влияния на жизнь сопредельных стран, как Гималаи на Индию. Великий горный барьер оплодотворил дыханием своих высот одну, из наиболее замечательных мировых цивилизаций. Тесно связаны с Гималаями не только религии, мифология, литература, искусство, климат, но даже история Индии. Сверкающие вершины являются объектом неустанного восхищения и преклонения. Они - наглядный символ торжества жизни не только для обитателей гангской долины, но и для народов многоязычного юга, удаленного на две с лишним тысячи километров от обители снегов, для кочевников раджастханской пустыни, рыбаков побережья, лесных жителей Голубых скал. Зарождающиеся высоко в горах священные реки несут на равнины плодотворящую энергию Химавата, его неистребимую жизненную силу, щедро дарующую новую жизнь. Видимая издалека, обнимающая весь горизонт ледяная корона вечно пребудет эталоном космического величия и совершеннейшей красоты.

Индийские Гималаи
Моя встреча с Гималаями произошла в одном из наиболее древних и густонаселенных районов. В прославленной поэтами и мудрецами Кашмирской долине, которая и поныне хранит свидетельства великих переселений, неведомые отпечатки взлетов и падений навсегда ушедших племен. Знаки на камнях, словно проблески в кромешной тьме праистории. Ворота Сиккима открываются в Дарджи-линге, ворота Ладакха - в Сринагаре. Здесь начало пути в индийские Гималаи. Отсюда Рерих ушел в беспримерное путешествие по Центральной Азии. Отсюда отправился в Малый Тибет Бернгард Келлерман. Город Солнца. Солнечное сплетение кровеносных артерий Азии, нервный узел истории, ее живая, волнующая загадка. Современному Сринагару едва ли более трехсот лет. Но его сады помнят могольских императоров Акбара и Джахангира, а камни, положенные в основания мечетей, хранят таинственные знаки ушедших народов, разрушенных цивилизаций. Он раскрывается очень постепенно, этот причудливый город, возникший в неведомые времена на берегах реки, порожденной гималайскими ледниками, на берегах озер, воспетых поэтами Туркестана и сказителями сибирских лесов. С чего же начать мне рассказ о городе «Сотни имен»? С его легенд, подаривших эти имена, благоухающие дремотной поэтической сказкой? С могольских садов, где был найден и утрачен затем секрет черной розы, или с садов на воде? Но одно цепляется за другое, как цветки в гирлянде, которой привечают гостя. Состоятельные делийцы бегут в Кашмир от летнего зноя. На высокогорных курортах Гуль-марга и Пахалгама обретают они целительное отдохновение от горячих, доводящих до умопомрачения ветров, предвещающих начало муссонов. Не оттого ли так удивляет первозданная тишина здешних ледниковых озер? Привыкшие к лицезрению выжженной желтой земли, глаза тонут в их прохладной завораживающей синеве, изменчивой и бездонной. В неутолимой жажде зрения есть много общего с жаждой опаленной пустыней гортани. В алых от киновари священных скалах Шан-карачарья я нашел камень с высеченными на нем волнистыми линиями. Древнейший знак вод - одинаковый у всех народов земли. Праматерь стихий. Источник жизни. Пусть под знаком ее откроется живительный родник Кашмира. Вместе с молодым кашмирским поэтом Моти Лал Кемму я иду по бульвару вдоль набережной озера Дал. Это его восточный берег, восточная граница Сринагара, нарисованная дорогой в Гималаи. У противоположного, поросшего буйным тростником берега лепятся борт к борту знаменитые плавучие отели: большие лодки-шикары, поставленные на прикол. Повернутые кормой к дороге, они соблазняют туристов романтическими названиями: «Гонконг», «Синяя птица», «Голос Непала», «Париж», «Золотой дом» и «Белый дом», «Мона Лиза», «Новый мир», «Новый Сан-Суси», «Новая Австралия», а также «Купальный бот», «Удача» (туалеты для леди и джентльменов). Названия прогулочных лодок, бесшумно взрезающих зеркальную гладь, тоже не страдают бедностью воображения: «Мать Индия», «Честь», «Виктория», «Ожидание», «Счастливый голубок» и даже «Кашмирский писатель». Само собой, мы нанимаем именно эту шикару. Шелковый тент с золотыми кистями и бухарские ковры на скамьях вполне оправдывают завлекающий лозунг «de luxe», намалеванный на борту. Пожилой гребец опускает в воду весло с сердцевидной лопастью, и мы скользим в тишину летейских вод. Десятки таких же лодок плывут нам навстречу, обгоняют, пересекают путь. Обмениваются веселой шуткой гребцы. Мальчишки на вертких челнах хватаются за борт и засыпают наши роскошные ковры мокрыми кувшинками. Холодный нежный запах. Навязчивые ощущения, что так уже было когда-то и где-то. Вспоминаю, что читал о чем-то подобном все у того же Рериха: «И откуда эти шикары - легкие гондолоподобные лодки?» Кажется, он удивлялся еще и форме рулевого весла. В этом лабиринте зеркальных вод, отражающих изменчивые краски горных вершин, легко заблудиться. Лишь ежеминутно сверяясь с планом, можно уловить момент перехода из Гагрибала в Локут Дал или Буд Дал. Три отдельных озера, по сути составляющие одно. Трудно поверить, что прямые, как стрелы, дамбы были построены четыреста лет назад. Озера, сады, фонтаны… От них веет жизнерадостной силой, столь непривычной для могольрких творений. То ли прохладный воздух Кашмира сотворил это чудо, то ли напитанные колдовской силой гималайские воды, но даже в сринагарском Красном форте, построенном Акбаром, не ощущается неизбывный и горький запах загубленных надежд. Не забвение после взлета, но непрерывный взлет. А ведь это тот самый Кашмир, который служил разменной монетой в битвах с соседями и в междоусобных стычках. Творческий порыв Туркестана, охлажденный благодатным дыханием снежных вершин. Неудивительно, что даже типично могольская архитектура мягко уступила здесь властному влиянию гор. Возьмем хоть эти башенки в Нишаде - саду Акбара. Куда девались стрельчатые арки и витые столбы? Крытые массивной черепицей, они не столько похожи на мавританские беседки, сколько на тибетские дзонги с их уплощенной кровлей и стенами, чуть наклонными кверху, как неприступные скалы. Власть гор, их отчетливая тамга. Да и нет отсюда иного пути, кроме восхождения к пламенеющим вершинам. И сады Акбара тоже карабкаются на кручи. Вознесенные высоко над озером Дал, они примыкают к самым предгорьям, жмутся к отвесным стенам, поросшим вечнозеленым, терпко пахнущим лесом. Не наглядеться в небо, опрокинутое в чистейшие воды, не надышаться хвойным духом высот. Восхождение - это вдвойне, втройне путешествие. Бросок по вертикали в ускоренном ритме разительных перемен. Здесь не только лиственные леса сменяются хвойными, а мусульманская архитектура обретает ярко выраженный тибетский колорит, но и боги долин склоняются перед богами предгорий. Волны мусульманских нашествий проходили через Кашмир. Сравнительно молодой Сринагар не выбирал веру. Мусульманство стало его бесспорным историческим наследием. Оно широко распространилось по кашмирским долинам, воспринявшим могольскую, среднеазиатскую в своей основе, культуру как первозданную. Но обитатели высот - ревнивые боги вед - не уступили своей власти. Там, где вечнозеленый дуб склоняется перед стойкостью кедра, редко встретишь мечеть. Только храмы и каменные жертвенники в честь исконных богов Гималаев. Даже в самом городе и его окрестностях возвышения отданы на откуп индуистским жрецам. На горе Шанкарачарья, откуда хорошо виден весь город, построен новый и довольно безвкусный храм священной птицы, единственной достопримечательностью которого является большой красный камень. Даже строения мусульманских властителей с непременной кыблой - стеной, глядящей в сторону Мекки, не стерли память о древних хозяевах этих мест. До сих пор жители, как правило мусульмане, называют холм, на котором стоит крепость Акбара, «Драконом хозяина Шивы». Легенда рассказывает о том, что Шива отрубил чудовищу голову и освободил те самые воды, которые образовали нынешние озера Дал, Нагин и Анчар. Последнее. название заимствовано у легендарного дерева, о котором писал Пушкин: «К нему и птица не летит, и тигр нейдет…» Не такое уж губительное и, как это часто случается, ославленное молвой дерево. Вспоминаю вечер, проведенный в чайном павильоне над озером Нагин. Сонно плескалась рыба. Кинжально змеились звезды в черном лаке воды. Жалобно ныли струны сантура. Прием, который устроило правительство штата Джамму и Кашмир, закончился мушаирой - искрометным состязанием поэтов. Потом наши кашмирские друзья читали переводы из русской поэзии. - Советские люди - редкие гости в Кашмире, и это очень жаль. К нам культура пришла из Средней Азии, - сказал один из министров. - Мы особенно чутко прислушиваемся к вестям из Советского Союза. Не могли бы вы рассказать нам о Средней Азии? Я много ездил по Узбекистану и Туркмении, бывал на Памире. Поэтому мне было что рассказать. Я говорил о газопроводах в пустыне, о новом энергетическом каскаде Туя-Муюн, раскопках легендарной страны Маргуш, о хлопке, о золоте и, конечно, о литературе. Нигде и никогда меня не слушали с таким напряженным вниманием. Не надо думать, что я заворожил слушателей красноречием. Напротив, собираясь с мыслями, я надолго умолкал, сбивался с пятого на десятое, перескакивал с одного на другое. Нет, не мне внимали кашмирцы, с мечтательной улыбкой прислушивались они к самим себе, ловили отзвук далекой прародины в тех разрозненных набросках, что приходили мне на ум в ходе беседы. Кто-то из поэтов продекламировал свой перевод пушкинской «Черной шали», и все стали просить прочесть стихотворение на языке оригинала. Гляжу как безумный на черную шаль, И хладную душу терзает печаль. «Вах-вах!» - восхищенно вздыхали в темноте, вслушиваясь в завораживающую магию строк. Как передать жаркое вдохновенное ощущение духовной близости? Временами я просто забывал, что нахожусь в Индии. Мне казалось, что надо мной небо Ташкента, Душанбе или Самарканда. Я не раз потом ловил себя на таком смещении чувств. Чинары и пирамидальные тополя Кашмира властно напоминали мне кишлаки у подножий Памир-Алая, сринагарский базар переносил в шумную и веселую Бухару, напев струнных инструментов - рабаба или сара - воскрешал в памяти стены хивинского замка. Несомненно, много общего есть в природе нашей Средней Азии и Кашмира, отделенных друг от друга лишь полоской Афганистана. Географическая, этническая и культурная близость накладываются друг на друга, поражая и радуя неожиданными совпадениями. Но едва ли надежда встретить привычное гонит человека за тридевять земель. Скорее напротив. Нам свойственно искать нечто особенное, в корне отличное от виденного у себя дома. Было бы ошибкой не различить за цветистой завесой разительных среднеазиатских аналогий подлинный облик Кашмира, проглядеть его тонкое своеобразие. Могольская культура, принесенная султаном Бабуром, легла здесь на тысячелетний культурный пласт, который дает знать о себе повсеместными проявлениями. Оставив ботинки перед входом, я зашел в мечеть Шах-и-Хамадан, построенную в 1395 году из стволов деодара - гималайского кедра. Как и во всех молитвенных домах, посвященных аллаху, здесь был минбар, с которого мулла-проповедник выкликал слова салята, и пюпитр для Корана. Кыблу - восточную стену - украшал узкий серп выкованного из меди месяца. Выгнув спины, припадали лбом к молитвенным коврикам люди в чалмах. Одним словом, мечеть как мечеть. Не внутренность, а внешний вид здания вызвал мое любопытство. Основательность и прямота форм тибетской постройки сочетались тут с многоярусной, остроконечной кровлей, характерной для пагод. Более того, навершие мечети, заканчивающееся, как положено, полумесяцем, было сделано в виде сужающейся к небу зонтичной пирамиды, поразительно напоминавшей шпили буддийских ступ где-нибудь в Катманду или Бутане. Смешение культур, смешение религий, постоянная клокочущая диффузия - во все времена это было характерно для Гималаев. Летняя резиденция моголов тоже не могла избежать общей участи. Кашмир всегда легко заимствовал обычаи других народов, а мятежный каприз Акбара, тщетно мечтавшего о слиянии всех религий в одну, придал необходимую пластичность даже ортодоксальным основоположениям шариата. Обойдя мечеть, я спустился по каменным ступеням к реке. Извивы Джелама терялись за арками мостов. В плавучих домах, причаленных к замшелым сваям, готовили еду. Дразняще пахло рисом, приправленным острым кари и маринованным горным луком. На гранитной стене набережной я увидел абстрактную композицию из красных пятен и точек. Под ней тлели лампады. Абсолютно голый садху, закатив глаза, витал где-то в межзвездных пространствах. Здесь было святое место тантрийской секты. В каких-нибудь двух шагах от мечети.

Тантрийский алтарь
Я вспомнил об этом примере терпимости и мирного «сосуществования», когда увидел воочию, какие следы может оставить религиозный фанатизм. Мы с Кемму кейфовали на озере Дал, знакомясь с плавучими рынками цветов, овощей, фруктов, заплывая в очаровательные магазинчики, где радугой сверкали прославленные кашмирские ткани, громоздились всевозможные меха, переливались самоцветы. Там можно было приобрести резную мебель из благородной чинары, чеканную посуду, украшения из кости и двадцать сортов шотландского виски. На Джамму и Кашмир сухой закон не распространялся. - Это не с огнепоклонниками связано? - спросил я, обратив внимание на шикару «Мазда». - Не с маздаками, идущими благим путем Ахурамазды? - Не знаю, - пожал плечами Кемму. - Но в одно я верю абсолютно: каждый человек идет своим путем. Мы писатели и потому взяли шикару «Кашмирский писатель». А какой-нибудь парс возьмет «Мазду». И всем хорошо. Подобные соответствия показались мне по-детски наивными, и я рассмеялся. - Напрасно смеетесь, - обиделся Кемму. - Каждый находит лишь то, что желает найти. Последняя сентенция понравилась мне несколько больше. Я согласно кивнул и повернулся к гребцу. - Скажите, Касым-ака, почему вы так назвали свою лодку? - Не я назвал, дорогой друг, отец назвал. - А все-таки почему? - Отец - ученый человек был. Касыды писал, рубайаты. Поэтов возил, мудрецов. Хорошо было. Мушаира на воде под круглой луной. «Тепло, - сказал я сам себе. - Будем искать дальше». - Видимо, он не был слишком богат? - Отец? - Касым горько усмехнулся. - Поэт, если даже он и родится в богатой семье, скоро все пустит по ветру. Иначе какой же он поэт? Разве не так, достойнейший Кемму? «Писатель Кашмира» - это все, что осталось у отца после безумств молодости. Да будет к нему милосерден аллах, - опустив весло, он провел ладонями вдоль лица. - Каких людей она видела! - гребец любовно погладил сухое, нагретое солнцем дерево. - И ваши земляки тоже сиживали на этих скамьях, драгоценный наш гость, и вели с отцом умные речи, где что ни слово, то жемчужина. «Теплее», - подумал я. - И много их было? - спросил. - Много - не скажу, но гостили у нас мудрецы из далекого русского края. Один из них особенно запомнился отцу: величавый и статный, как древний пророк. Он рисовал наши горы на маленьких картонках, чтобы ничего не забыть. Отец, да пребудет он вечно в раю, возил русского господина вместе с его женой, прекрасной и гордой, как царица, по всем рукавам и каналам Джела-Ма. Потом они уехали на озеро Вулар. «Горячо! Совсем горячо!! Жарко!!!» - А что было дальше? - осторожно осведомился я, словно боялся спугнуть судьбу. - Больше отец ничего не рассказывал. - Он хоть узнал, как звали русского художника? - Зачем гребцу знать имя гостя? - Но ваш отец был поэтом, художником слова. - А поэту зачем знать имя, если он всему, что видит, дает свои имена? - Так-то оно так, - вздохнул я с сожалением. - Но было бы лучше, Касым-ака, если бы ваш праведный отец знал, кого довелось ему возить по протокам Джелама… Когда хоть это было? В каком году? - Не могу сказать точно, драгоценный. Только мне помнится, что вскоре после этого наступило мое совершеннолетие. - То есть вам исполнилось тринадцать лет? - Так, великодушный. Прошел год, а может быть, два с того времени, и я стал полноправным мужчиной. - А сколько вам сейчас? - Без малого шестьдесят. Путаясь от волнения в цифрах, я мысленно проделал необходимые вычисления и получил исходную дату: 1925 или 1926 год. Так и есть. Это были они: Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи. В «Листах дневника» Сринагар помечен 1925 годом. Все совпадает. Вплоть до озера Вулар. «На этом озере все привлекательно. Весь сияющий снегами Пир-Панджал на западе. Густые горы - на север и восток. Даль Сринагара - на юг». Лаконизм фотографии и точность географического справочника. Но поэзия, но волшебство… На следующее же утро я отправился на Вулар - самое большое из пресноводных озер Индии. Воздушные замки облаков рушились за острой каймой объятых пожарищем гор. Рулевое весло, словно плуг, вздымало желтовато-зеркальный отвал воды. И ветер нес душистую горечь с медовых высокогорных лугов. Мы обошли на челне все шикары, но никто не помнил, никто не слыхал о русском художнике, писавшем местные пейзажи пятьдесят лет назад. Они остались такими же, эти горы и воды эти, умеющие так светло и прозрачно грустить к вечеру. Имя Рериха здесь, как и всюду в Индии, знали и чтили свято. Лишь очевидцев не нашлось. Да и то сказать: полсотни лет. К тому же я допустил очевидное преувеличение, сказав, что осмотрел все шикары. Конечно же не все. Разве можно за один день обойти такое озеро (26 на 8 км). Если и дожила до нашего времени лодка, на которой Рерих рисовал бушующую Валгаллу над Пирпанджалом, то кто мог помешать ей уйти в любую минуту в Джелам? Случай всегда случай. Судьба не любит слепо разбрасываться удачами. «Довольствуйся малым» - излюбленный ее девиз. На острове, украденном из «Тысячи и одной ночи», который назывался Заин-аль-Аби-дин, я пил из тульского самовара братьев Баташовых чай с молоком, солью и кардамоном. - Вам очень повезло! - убеждали меня хозяева. - Вы только что видели «Соловья» - единственную моторную лодку на сринагарских озерах. Они даже не подозревали, насколько их слова били прямо в цель. Когда оглушительное тарахтение заглохло и вновь разгладилась блистающая латунью и бирюзовыми бликами гладь, я по-новому ощутил неторопливую прелесть шикары и тишину, освобождающую душу из оков. Он необходим был, этот мотор, хотя бы для сравнения. Как мимолетный, но разительный намек. На озерах нашей Прибалтики, откуда изгнаны теперь моторные лодки, я буду с благодарностью вспоминать урок Гималаев. Сама жизнь подсказывает, что таких озер должно быть все больше и больше. Чем напряженнее ритм города, чем больше становится на земле людей, тем острее зреет в нас потребность побыть наедине с природой, зорко вглядеться в ее безмолвные зеркала. Как медленно скользила лодка в зарослях белых и розовых лотосов на маленьком озере Манасбал. И белые облака, и снежные вершины, как айсберги, проплывали в синей глубине. Было жутко и радостно перевеситься через борт. Я вновь забегаю вперед, предвосхищаю события, нарушаю связь времен. Он еще не настал, хоть и близок, миг восхождения к алмазному сиянию вершин, где самая густая тень слепит нежнейшей, невиданной белизной. Лотосовые озера Гульмарга ожидали меня где-то на середине пути… В Сринагаре я жил в отеле «Недоу» - типичном деревянном сооружении викторианской эпохи, досконально описанном Киплингом. За узорчатой чугунной оградой был обширный парк с пустырем и разрушенными теплицами орхидей на задворках. Жилые покои находились в длинном двухэтажном флигеле. Все двери и окна выходили на крытую галерею, где было равно приятно и скрыться от солнца, и переждать бурный ливень. Видимо, поэтому здесь в каждой щели прятались ящерицы, пауки и прочие многоногие существа, затевавшие с наступлением темноты отчаянную возню. Порой, привлеченные этим немыслимым скрежетом, цокотом и треском, сюда спрыгивали с ближайших магнолий и чинар упитанные волосатые обезьяны. Как-то я был разбужен их жалобными причитаниями и негодующими воплями. Распахнув дверь, я вышел на галерею, пытаясь хоть что-нибудь увидеть в кромешной тьме. Верещание обезьян вспыхнуло от этого с удвоенной силой. Где-то поблизости хлестали, распрямляясь, упругие ветки, шелестела листва да звездной метелью клубились над невидимыми клумбами светлячки. Так я и не понял тогда, в чем дело. - Что это за переполох был ночью? - спросил я боя, принесшего вчерашний номер «Хиндустан тайме». - Да все эти разбойницы! - Он погрозил кулаком в сторону дерева. - Воруют по ночам кукурузу, а сюда собираются делить награбленное. Нашли место! Обнаглели совсем. - И давно они так? - Да всегда, можно сказать. - Бой явно удивлялся моей непонятливости. - Только созреет урожай, они тут как тут. Спускаются с гор на добычу. Опять крестьяне придут к хозяину с жалобой. - И что же ответит хозяин? - Выставит по бутылке пива на брата - и будет с них. Не заводить же сторожа с ружьем? Эдак всех гостей распугаешь. Я признал соображение достаточно веским. Постояльцев в гостинице и без того было раз-два и обчелся. В полупустом ресторанном зале, где за каждым занятым креслом зорко дежурили, как минимум, два официанта в малиновых тюрбанах, я за все время не увидел ни одного нового лица. Разве что полковник из контрольной комиссии ООН привозил на своем бело-голубом джипе очередного собутыльника. Мне казалось, что он не «просыхал» с тех самых пор, как в Кашмире воцарился мир. Мне очень нравилась эта патриархальная гостиница, где не умели готовить «хэм энд эге» и порридж, но зато доверху накладывали на тарелку простые местные блюда. После тушеной баранины с бобами и мускатом было приятно неторопливо пройтись вдоль стен, увешанных всевозможными дипломами и почетными отзывами. Крохотное уютное путешествие на пятьдесят, на сто лет назад. Лихой росчерк его высочества вице-короля, который «имел удовольствие быть принятым под гостеприимным кровом мадам Недоу», соседствует с бесхитростным автографом армейского полковника. Напыщенным референциям некоего виконта Гошена вторит полковой лекарь Вильсон, пробуждающий почему-то воспоминания о честном простаке Ватсоне, бескорыстно отдавшем себя в услужение гениальному Шерлоку Холмсу. Какие только особы не оказывали честь своим посещением предприятию «Миссис Недоу и сын»! Его высочество принц Уэльский; его светлость Эдуард Макланан, губернатор Пенджаба; фельдмаршал Уэкелл, вице-король и губернатор Индии… Где они теперь, все эти виконты и вице-короли? Как сухие листья под свежим порывом ветра, облетели они с ветвей могучего древа жизни великой страны, чьи разветвленные корни уходят в глубь истории на пять и более тысяч лет. Каждый человек следует предназначенным ему путем. Ничто не проходит бесследно. Даже мимолетные встречи и впечатления. Иначе зачем мне было читать какие-то пожелтевшие дипломы, да еще переписывать их в путевой дневник? На прощание я посоветовал хозяину завести в саду парочку хороших кобр. Он скорее всего принял меня за сумасшедшего. А я не стал его разубеждать. Несмотря на то что останавливался и безмятежно жил в домах, которые охраняли ручные кобры. Там обезьяны едва ли посмели бы затеять шумную свару! Впрочем, это всего лишь шутка, и я ничего не имею против обезьяньих концертов. Да и все хорошо на своем месте. Стать верным хранителем приходящего в ветхость пристанища вице-королей более подобает Рики-Тики-Тави, нежели Нагу. Прежде чем окончательно расстаться с милыми скрипучими половицами «Недоу», расскажу об одной встрече, которой целиком обязан высокой репутации отеля, отживающего свой век. Нужно ли говорить о том, что повсеместная мода на «все гималайское» возрастает в геометрической прогрессии с приближением к исконной обители Химавата? Спрос; как известно, определяет предложение. Поэтому если в отеле «Джанпатх» постояльцы довольствовались печатными изданиями, слайдами и более или менее искусными копиями, которые жуликоватый антиквар выдавал за подлинники, то «Недоу» предлагал только первосортный товар. Вся стена, за которой находился начисто сожранный термитами концертный зал, была здесь увешана превосходными свитками с изображениями самых свирепых тант-рийских божеств. В типичной для старинных мастеров Ладакха и Сиккима манере (в золотом пламени на черном фоне или в кроваво-красных языках) были изображены восемь главных гневных божеств: Махакала, Хаягрива, Яма, Ямантака, Ваджрапани, Самвара, Хэваджра и Сриматидэви, пожирающая трупы. Как и на православных иконах, посвященных житиям [1] святых, центральный образ окружали сопутствующие боги и будды. [1 Сцены из жизни святого, изображенные вокруг центрального образа иконы.]
На одном из свитков была изображена сложная диаграмма из обращенных вниз треугольников (знак женского лона). По-видимому, это была подлинная редкость, которую можно встретить лишь раз. В наших музеях я ничего подобного не встречал. Даже в обширной коллекции, которую привез Юрий Николаевич Рерих, - она хранится в кабинете его имени при Институте востоковедения АН СССР - нет подобного уникума. Да и все достопримечательности тибетского рынка бледнели рядом с ним. Можно было лишь догадываться о том, какие неведомые шедевры рекламирует подобная витрина. Взглянув на карточку, приколотую поблизости, я списал адрес с твердым намерением посетить антикварный магазин в ближайший свободный день. Впрочем, я заговариваюсь. У меня не было и не могло быть свободных дней, потому что время было расписано по часам и целиком посвящено гималайским поездкам. Отказаться от вылазки в горы, где ощущалось биение их реальной полнокровной жизни, я, разумеется, не мог. Так бы и осталась «лавка чудес», как я заглазно прозвал антикварный магазин, небрежной пометкой на плане Сринагара, если бы не одно обстоятельство… Я уже давно обратил внимание на невысокого усача в барашковой шапке и чекмене. Каждый раз, когда я шел к завтраку, он отделялся от стены, где задумчиво сосал туркестанский нас [1] и почтительно кланялся. Я отвечал ему не менее глубоким поклоном и шел своей дорогой. Так оно и продолжалось изо дня в день, пока таинственный незнакомец не решился вступить в разговор: [1 Нас - смесь табака и золы.] - Не желает ли господин посетить один замечательный магазин? - Что за магазин? - насторожился я, поскольку за этими словами могло скрываться все что угодно, вплоть до тайного притона или опиекурильни. - Это не магазин, а настоящий дворец. - От избытка чувств усач поцеловал кончики пальцев. - Все очень дешево. - Сожалею, но я не располагаю свободным временем. - Всего полчаса! - Он умоляюще прижал руки к груди. - Только не говорите «нет»! Я сейчас же найду автомобиль, который свезет вас туда и обратно. За мой счет. От вас не потребуется даже пайсы. Все было ясно. Передо мной стоял типичный посредник торговой фирмы. Как и многие, он жил на проценты от суммы, которую оставлял в магазине доставленный им клиент. Мои тайные опасения таким образом развеялись. Но и соблазна посетить дворец, где все очень дешево, я тоже не ощутил. Мало ли кругом продавалось драгоценных камней и роскошных материй? Нет, это было не для меня. - Как-нибудь в другой раз, - поспешил я отвязаться. - Тогда я приду завтра, - просиял черноусый искуситель. - Вы останетесь довольны. Какие там маски из папье-маше! - поцокал он языком. - Что? - не понял я. - Маски, в которых ламы Ладакха исполняют танец Смерти. - Вы хотите сказать: копии масок? Копии из папье-маше? - Как можно, господин! Все настоящие. У нас постоянные связи с горными монастырями. Никакой подделки. Значит, до завтра? - он с надеждой уставился на меня. - Там видно будет, - пробормотал я. Копии масок продавались повсюду, но упоминание о «связях» уже сделало свое дело, хотя я верил Папьемашисту (так само собой родилось прозвище), может быть, на 10 процентов или еще меньше. С того дня он сделался моей тенью. Мы уже обменивались приятельскими приветствиями и вместе шутили над его прозвищем, которое неожиданно распространилось среди обитателей и персонала гостиницы, а я все увиливал от поездки. И только когда ооновец (его тоже осаждал мой новый приятель) не выдержал и, находясь на крепком взводе, полез в черный рыдван образца 1924 года, услужливо подогнанный к подъезду, я дрогнул. - Ну как съездили? - спросил я, увидев бравого полковника за ужином. - А, чтоб их всех черти побрали, - разразился он изысканной англосаксонской руганью. - Пытались мне всучить какое-то старье. Столь компетентный отзыв решил дело. Улучив удобную минуту, я в свой черед забрался в рассыпающуюся на ходу колымагу - кажется, это была помесь «роллс-ройса» с допотопным «фордом» - и покатил по пыльным улочкам Сринагара.
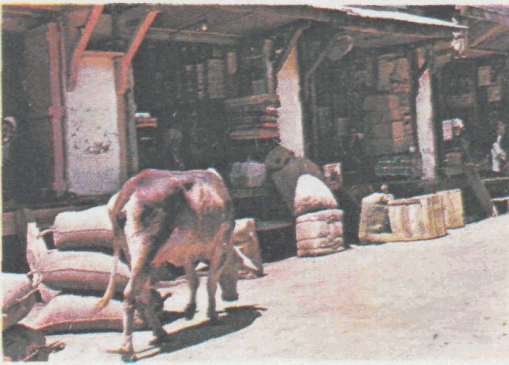
Сринагарская улица
Промчавшись вдоль набережной Джелама, где разгружались какие-то сампаны и баржи, мы оставили позади сады удовольствия шаха Акбара, а потом сказочные кущи Шалимара, в которых вкушал отдохновение шах Джахангир, и даже Чашма шахи, где напрасно искал утешения после внезапной кончины возлюбленной шах Джахан. И каждый раз машина сбавляла ход, а то и вовсе останавливалась, чтобы я смог полюбоваться террасами штамбовых роз, романтическими павильончиками, каскадами фонтанов, лотосовыми бассейнами. Конечно, могольские сады заслуживают того, чтобы взглянуть на них лишний раз. Но времени оставалось в обрез, а смысл этой незапланированной экскурсии не был ясен. - Если память мне не изменяет, мы едем в город, - осторожно заметил я. - Сейчас, сейчас, - заторопился Папьемашист. - Мы толькообогнем озеро. Пусть господин полюбуется чудесами наших царей. Красота обновляет душу. И тут я поймал его взгляд, тоскующий и заискивающий. Мне все сразу стало понятно. Он нарочно катал меня по городу на этом старом таксомоторе, чтобы пробудить во мне обязательство хоть чем-нибудь вознаградить фирму за расходы. От этого зависели его заработок, жизнь и благополучие семьи. Мне стало мучительно стыдно при виде этих золотисто-карих тоскующих глаз. - Сколько вы получаете от хозяина? - спросил я напрямик. - Две рупии с сотни, - ответил он, поколебавшись. - Если я ничего не куплю, то вы получите эти две рупии от меня, договорились? А теперь не будем терять времени. Про себя я надеялся отыскать какую-нибудь недорогую, но интересную для меня вещицу. Ритуальный нож - григук, например… Действительность, как принято говорить, превзошла все мои ожидания. За неказистым забором, в обветшавшем домишке с шаткой скрипучей лестницей, действительно, скрывался дворец, полный бесценных антиков. По диплому на стене, подписанному самим Неру, я догадался, что нахожусь в той самой «лавке чудес», чьи форпосты приковали мое внимание еще в «Недоу». От предначертанного не убежишь. Вольно или невольно, но я все же добрался сюда. Оставалось лишь провести миттельшпиль с максимальной пользой и найти достойный выход из игры. О том, чтобы купить одну из этих танка, которые прямо на полу, точно ковры, раскатывали передо мной спорые молодцы, внуки хозяина фирмы, об этом нечего было даже мечтать. Под стать свиткам была и скульптура - буддийская, индуистская и зеленая от патины угловатая бронза, раскопанная на неведомых курганах то ли Бактрии, то ли Кушанского царства. Пышные маски из папье-маше, которые сулил спервоначала мой похититель, мне даже не показывали. Они висели где-нибудь под лестницей или валялись в чулане, предназначенные для несерьезного покупателя, наивного и восторженного туриста. Я же в глазах седобородого патриарха, сдавшего меня проворным внукам, выглядел знатоком, и они демонстрировали мне настоящий товар. К сожалению или, возможно, к счастью, они не догадывались о моей ничтожной кредитоспособности. Конечно, я мог приобрести какую-нибудь дешевую поделку, на худой конец, один из этих сердоликовых шариков, что крупной картечью заполняли огромное бронзовое блюдо посреди комнаты, увешанной старинным тибетским оружием, рваными кольчугами и пробитыми шишаками. Но это было бы заведомо фальшивой нотой в слаженном оркестре нашей высокой беседы и едва ли могло удовлетворить хозяев. Поэтому я избрал иной путь. С холодным, непроницаемым лицом просмотрел все свитки, для пущей важности поименно называя изображенных на них персонажей, затем рассеянно потрогал скульптуру и с отсутствующим видом прошелся по комнатам, которым мог позавидовать любой музей. - Так, - глубокомысленно сказал я, закончив осмотр. - Ваш магазин великолепен, а подбор редкостей прямо-таки превосходит воображение. Но, к сожалению, это не то, что мне нужно. Хотя и крайне интересно, да, крайне… Я, видите ли, ищу григук… Как, вы не знаете, что это такое? - Я изобразил удивление и тут же, не сходя с места, нарисовал полукруглое лезвие секача, удивительно похожего на ритуальные ножи, которыми ацтекские жрецы вынимали сердца своих жертв. Молчание было мне ответом. Григуком сринагарские антиквары не располагали. Поблагодарив гостеприимных хозяев, я дождался такси и, вручив Папьемашисту его долю, отправился восвояси. При воспоминании об этом приключении я все еще испытываю легкий стыд. Но тем не менее всегда радуюсь, что повидал «волшебную лавку». Благоухающая свежесть сринагарских ночей. Переменчивые ветры доносят сладковатый дымок кизяка и щемящую тополиную горечь. После затянувшейся далеко за полночь мушаиры (состязания поэтов), я гоню от себя сон, прихлебывая крепкий сиккимский чай, щедро заправленный солью и оранжевым буйволиным маслом. Обложившись справочником, проспектами, картами, пытаюсь объять необъятное. Подсчитываю километры, часы, столбиками выписываю высоты и грузоподъемность мостов. Хочется побывать везде, увидеть как можно больше. Но где-то в области 3000 метров над уровнем моря обрываются автодороги. Раз-другой я, конечно, могу воспользоваться услугами конных проводников, но не больше. Ни средства не позволяют, ни время. Поэтому, не пытаясь объять необъятное, я попробую описать сумасшедший запах тающей кромки снега на самой границе с травой или ошарашивающую белизну вершины, внезапно выскочившей над зубчатой темно-зеленой стеной леса, и небо, кипящее ледяной синевой, словно сжиженный кислород. Начну с Гульмарга, потому что именно там мне было дано впервые принять причастие Гималаев, которые много больше, чем просто горы. Порой мне кажется, что стоит лишь чисто интуитивно понять тайну их удивительной притягательности, и сами собой вдруг разрешатся все загадки мироздания. Наверное, нечто подобное, только сильнее неизмеримо, испытывали древние пилигримы, когда после долгих месяцев пути им открывалось зубчатое полукольцо над горизонтом. Атавистический голос веков, смутное похмелье чьих-то безумных пиров. Одним словом, я выехал из Сринагара перед рассветом, когда луна еще в полную силу сияла над кронами карагачей. В солнечном озарении долина засверкала мириадами влажных ослепительных бликов. Камни, окрасившись в нежные аметистовые тона, словно обрели матовую прозрачность. А секундой раньше, когда первая капля солнечного расплава прорвала доменную летку ущелья, все вокруг лучилось невероятной зеленой радугой. Восход как взрыв. «Словно гром из-за морей» - так определил Киплинг зарю над Бирмой. Пусть о рассвете над Гималаями скажет риши Виаса, автор «Бхагават Гиты» - «Священной песни»:
Силой безмерной и грозной Небо над миром пылало б, Если бы тысяча солнц Разом над ним заблистала.
Не знаю, как насчет тысячи, но два солнца я видел: одно рядом с другим. Потом они слились воедино, и небо наполнилось солнечными фантомами. Словно вырезанные по точному размеру слепящего диска из зеленого целлофана, они пятнали облака, горы, кукурузные поля, рисовые чеки. Пятна чуть подрагивали в воздухе в такт морганию, но не исчезали. И все выглядело зеленым сквозь них. Я жмурился, отворачивался, чтобы украдкой глянуть из-за плеча, даже накрывался ладонью, но ничего не менялось. Зеленые кружки - их не убавлялось, не прибавлялось - лишь поднимались над долиной вместе с Сурьей - лучезарным богом вед. Исчезли они так же неожиданно, как и появились, когда разгорелся день. Прошло два года, и я вновь стал свидетелем подобного явления. Случилось это на хмуром ледниковом озере в Карелии перед самым закатом. Поэтому и тона были другие, сдвинутые в сторону длинных волн: багровый солнечный шар и лилово-малиновые пятна. И в тот и в этот раз я не был одинок и подверг своих спутников дотошному допросу. Все мы видели одно и то же. Даже число фантомов оказалось одинаковым. Так что о галлюцинации не может быть и речи. Виток за витком дорога наматывалась на гору. Вокруг шумели яркие праздничные дубравы. На освещенных камнях грелись большие красно-рыжие обезьяны. Они зевали, почесывались и не обращали ни малейшего внимания на фотоаппарат. - В этом лесу жили отшельники, - сказал шофер Осман. - И теперь тоже живут. Говорят, что где-то неподалеку старик в пещере поселился. - «У Дивьего камня неведомый старик поселился», - пошутил я, вспомнив картину Н. Рериха. - А что ты думаешь? - Очень может быть, Осман, - сказал я. - Отчего бы и нет? - Так ведь холодно. Замерзнет он зимой у себя в пещере. - Можно ниже спуститься, - предположил я. - Обычная сезонная миграция. Целые гималайские племена так кочуют. - Кто его знает, - усомнился Осман. - Я слышал, что старик круглый год тут живет. - Нечему особенно удивляться. У нас в старину подобные старцы живали и на Онеге, и в Соловках, в Сибири. И то ничего. А тут климат мягкий. - Завидую я тебе, - вздохнул Осман. - Сколько мест интересных знаешь. Мне бы в Москве побывать. Мы с Османом были на «ты». Началось с того, что перед одной из поездок он попросил у меня значок с изображением Ленина. Я тут же приколол ему на грудь красный флажок с золотым профилем Ильича. Осман не скрывал радости. - Ты мне теперь как брат. - Он легонько обнял меня. - Ведь я коммунист, знаешь? - Теперь буду знать, брат, - сказал я. Сразу же за Тангмаргом я увидел журавль над бережно выложенным камнями колодцем и босоногого подпаска, согнавшего овец с проезжей части, - шоссе кончилось, и машина запрыгала по грубому булыжнику. Появились серебристые ели и удивительно стройные, отдельно стоящие сосны. По мере подъема их становилось все больше. Лес ощутимо мрачнел. В его нахмуренных глубинах таилась немая мощь и вместе с тем дряхлость мудрой и вещей старости. Камни пятнала короста лишайников. С нижних сухих ветвей свисали бороды мха. Резко изменился и облик придорожных деревень. Вместо глухих глинобитных дувалов всюду были невысокие ограды из окатанной гальки. Стали плоскими крыши. В бревенчатых двухэтажных домах, обмазанных глиной и укрепленных валунами, нижнее помещение занимала скотина. Все чаще стали попадаться темные волосатые свиньи. Видимо, мы въезжали в новый «религиозный пояс», оставив владения аллаха внизу. Гульмарг открылся совершенно неожиданно и поразил меня жизнерадостной открытостью неровных лужаек, поросших яркой невысокой травой. Вдали темнел лес и, как уже говорилось, белая глыба над ним, застывшая в немыслимой, продутой вьюгами синеве. Разом сгинули живописные домики тибетского типа, тесные дворы, скученные, жмущиеся друг к другу сараи. Зеленая равнина с разбросанными по ней валунами, крытые толем бараки, обшитые вагонкой коттеджи, прямоугольники участков, огороженные проволокой, протянутой меж редко стоящих столбиков. Дальние пригороды Ленинграда, Финляндии, а может, даже Мурманск. «Скорее всего Финляндия», - решил я, когда увидел озерцо в ложбинке и холмик в цветочках, как на банке с сыром «Виола». - Останови, Осман, - попросил я. - Дай хоть полюбоваться вечными снегами. - Так ведь дальше еще лучше будет! Красивее. - Все равно погоди. Мы вышли из машины и по каменистой тропе стали взбираться на холм, где краснели на солнце кедровые срубы, чем-то похожие на сибирский острог времен Аракчеева. Еще выше начинался сосновый бор. На опушке была коновязь, окруженная барьером из окоренных стволов. Десятка четыре лошадок караковой масти терпеливо обмахивались хвостами от наседавших оводов. Неподалеку, присев на корточки, чинно беседовали низкорослые мужчины - издали я было принял их за подростков - с шерстяными одеялами на плечах. Все они держали в руках длинные, окованные медью трубочки. - Проводники? - догадался я. Осман согласно кивнул. Но не успели мы взобраться наверх, как завыла сирена и нас обогнала открытая машина, набитая орущими, бурно жестикулирующими людьми. Один из них размахивал зеленым флагом с белыми буквами куфического письма, другой что-то надсадно выкликал в мегафон. - Подонки, - процедил сквозь зубы Осман. - Кто это? - Местная партия ислама. Агитируют против центрального правительства. Но людей не обманешь. Дураки нынче повывелись. - Мне здесь взять лошадь? - Погоди. Мы можем еще метров на двести подняться на машине. У «Гольф-клуба» всегда кто-нибудь ошивается, там и наймешь. Пусть проводят тебя до канатной дороги. Мы подлезли под ограждающее бревно и, обогнув сруб изнутри, вышли на утоптанный пятачок, где притаился крохотный базарчик, куда горцы приносят на продажу нехитрые плоды своих трудов: красные от специй бараньи туши, молоко в горшках, колобы овечьего сыра, шарики масла, клубки шерсти. Так я впервые встретился с гуджарами и гадди. Впоследствии мне удалось побывать в их деревнях и даже проехаться по летовкам. Расскажу коротко об этих пастушеских племенах, а заодно и об их соседях: джадхах, бхотах, марчах, анвалах, джохори. С бхотами и анвалами я сталкивался постоянно в своих поездках по Гималаям, об остальных знаю из рассказов этнографов. Описывая их жилища, одежду и образ жизни, я использовал статью индийского этнографа С. К. Боза, посвященную гималайским кочевникам. Гуджары строят свои дома только из кедра и густо покрывают крышу (скатом назад) речной глиной. Выход всегда направлен вниз по склону, чтобы дожди не заливали жилище. Для защиты от снегопадов дома располагаются вблизи кромки леса, прикрывающего их сверху. Каждый двор окружает высокий забор с резными, любовно разукрашенными воротами, которые не забывают запереть на ночь. По происхождению гуджары не являются коренными кашмирцами. И хотя они тоже исповедуют мусульманство, их язык ближе к пенджабскому диалекту. Раньше они постоянно враждовали с кашмирцами и поэтому редко опускались в долину. Ныне же, когда туризм принял масштабы настоящего наводнения, гуджары все чаще встречают в родных горах представителей самых разных племен и наречий. В Гульмарг и Пахалгам они ежедневно приносят на продажу свои замечательные молочные изделия, вобравшие в себя буйную силу гималайских трав. Никогда еще холодное молоко не казалось мне таким упоительно вкусным. Гуджары довольно общительны и охотно позируют перед объективом за самое скромное вознаграждение. Но их родичи, проживающие в отдаленных долинах, куда еще не докатился туристский бум, сторонятся чужеземцев и не пускают посторонних в свою надежно сработанную крепость. Подобно шерпа, тибетцам и в прошлом сванам грузинских гор, они всегда готовы выдержать длительную осаду. Даже мечети в гуджарских селениях на южном склоне Пирпанджала, в Кистваре и Бхадарвахе делают с крохотными окошками, скорее похожими на бойницы. Веселые и жизнерадостные гадди обитают среди заснеженных хребтов Дауладхара и Пирпанджала в верховьях реки Биас. В отличие от гуджаров-мусульман, они исповедуют индуизм. Причем в самой ортодоксальной форме. Это порой приводит к конфликтам. Известны случаи, когда они прогоняли лесорубов, посягнувших на их заповедные леса. Как правило, гадди не забираются высоко в горы, а постоянно живут в деревнях почти в самом низу долины. Лишь молодые пастухи поднимаются в летнюю пору на альпийские луга. Жизнь пастухов на высокогорных пастбищах сопряжена со многими опасностями. Нередко им приходится спасаться в пещерах от диких зверей или вступать в единоборство со свирепым гималайским медведем, с пантерами. Неоценимую помощь им при этом оказывают сильные пастушьи собаки. После долгих дней одиночества пастухи любят повеселиться. Знаменитая ярмарка в Кулу никогда не обходится без лихих молодцев - гадди. Они ведут бойкую торговлю, продавая необработанную шерсть и нежные, как пух, шали «пашмина». Покупают же различные современные товары, например электрические фонарики и даже транзисторы, которые практически бесполезны в горах, где напрочь поглощаются радиоволны. Многие туристы обзаводятся в Кулу изящными шапочками, изготовляемыми гадди. Медленное, но неотвратимое наступление цивилизации размывает границы, смешивает обычаи и привычки. Я встречал молодых девушек гадди в джинсах и хиппи в шалях «пашмина». Анвалы не столько племя, сколько профессия. Любой горец района Пиндар-Ганги, нанимающийся пасти скот на высокогорных лугах, становится анвалом. Его труд вознаграждается натурой: пшеничной мукой, топленым маслом, тростниковым сахаром, солью. Работу он находит обычно с помощью прадхана - старосты своей деревни. В начале лета владельцы скота и анвалы являются к старосте, который и решает, кому чей скот пасти, и договаривается об оплате. Затем анвал гонит свое стадо на высокогорные пастбища, называемые бугьялами. За каждым пастухом закреплен определенный луговой участок, границами которого служат горные потоки. Анвал не отвечает за потерю овцы, если ее загрызет леопард или медведь. На то воля божья. Однако он должен сохранить хоть какую-нибудь часть туши зарезанного животного для хозяина. Иногда это копыта, иногда ухо. На большой высоте анвалы строят себе каменные хижины. Подобно другим гималайским кочевникам, они держат свирепых собак, которые помогают им пасти скот. Система наемных пастухов-анвалов сложилась в незапамятные времена и действует по сей день. Однако рано или поздно анвалам будут платить не натурой, а деньгами. Норов у нашего века крутой. Проводник-гадди в круглой шапочке, удивительно напоминающей грузинскую, вопросительно похлопал по кожаному седлу с высокой лукой. Я согласно (в Индии это знак утверждения) покачал головой. Критически оглядев меня, он выбрал пони повыше, удлинил веревочные стремена. И тут мне в голову пришла крамольная мысль. Я вдруг понял, что историки, посвятившие себя изучению кавалерии, возможно, ошибаются. Не может быть, чтобы люди, приручившие лошадей на заре цивилизации, только в середине века додумались до стремян. Просто тысячи лет они пользовались вот такими веревочными петлями, которые не попались на глаза археологам по той простой причине, что истлели в земле. Гадди, видимо, ложно истолковав мой несколько обалделый вид, опустил веревки чуть ли не до земли. Их тут же пришлось укорачивать, когда я взгромоздился на смирную замученную лошадку. Погладив черную оттопыренную челку, я взялся было за ременную уздечку, но горбоносый, с лихими цыганскими глазами проводник уперся и повел пони на поводу. Сперва я не знал, куда девать руки, но тут с холма открылись зовущие лесистые дали, и пришлось достать фотоаппарат. Потом дорога свернула под сень черноствольных елей, где от умопомрачительного хвойного духа начала приятно покруживаться голова. Решив, что я задремал, гадди занялся своей трубкой, предоставив мне известную свободу. Я тут же ею и злоупотребил, попытавшись чуточку пришпорить лошадку резиновыми нашлепками кед, что абсолютно не отразилось на ее аллюре. Так и ползли мы по звонкой кремнистой тропе, делая от силы два километра в час. Петляя меж замшелых валунов, белизной соперничающих со снегами, мы пересекали широкие галечные русла, пронизанные извилистыми лентами стремительных водных струй. Грохотали каменья под маленькими копытцами. Брызги ледяной дробью обдавали лицо. Когда вода доходила лошадке до брюха, я высвобождал ноги и подтягивал их к седлу. Потом мне это надоело, и, основательно намочив джинсы, я перестал обращать внимание на бесконечные броды.

Гималайский пони. Гульмарг.
За елью пошла сосна серебристая. Высоченные великаны, окруженные зарослями белого рододендрона, заслоняли солнце, которое пробивалось сквозь сверкающую, как фольга, хвою косыми струящимися столбами. Вскоре впереди показалась станция канатной дороги, уходящей двумя рядами ажурных мачт прямо к сияющим вершинам. Я приобрел билет и устроился на уютной скамеечке, подвешенной к роликовой каретке на мощной штанге. Только взмыв над лесом, долиной и каменными осыпями, я увидел, как они далеки, эти сахарные головы, равнодушно поблескивающие острыми ребрами склонов. Навстречу, болтая ногами в эфирной голубизне, плыли разбитные, длинноволосые парни, чинно сложив руки на коленях, ехал офицер в сикхском тюрбане, красавица в пурпурном с золотой нитью сари укачивала заснувшего малыша. Не только дорогу в космос открыл перед человечеством XX век. Он заново подарил нам собственную землю. В сравнении с экскурсией в Гульмарг поездка в Пахалгам, удаленный от Сринагара на добрую сотню километров, может показаться настоящим путешествием. Тут воочию убеждаешься в своеобразии гималайских дорог. Вместо того чтобы сразу взять курс на восток, где расположена долина, мы были вынуждены проехать 55 километров в южном направлении и только у города Анантната повернули на север. Говоря языком Евклида, короткому отрезку прямой мы предпочли острейший угол. Таковы Гималаи, где прямые пути никогда не ведут к цели, где вообще не бывает прямых путей. В Анантнате мне запомнился большой, и само собой разумеется священный, бассейн. Теплая минерализованная вода, бившая из источника, скрытого деревянной беседкой, наполняла каменный прямоугольник, разделенный на несколько отсеков. Здесь совершали омовение, лечили болезни, стирали белье, ныряли и даже ловили рыбу. Судя по сари различных цветов, по домотканым вышитым платьям или шальварам, на помосте для стирки собирались женщины разных каст и религий: индуистки, мусульманки, очарии-горянки, возможно даже и не подозревавшие о своей неприкасаемости. Одним словом, святой источник, не опасаясь скверны, исправно служил житейскому делу. Это было зримым следствием не только мусульманского воспитания, отрицающего кастовое деление, но и приметой новых отношений между людьми, провозглашенных Джавахар-лалом Неру с первых дней независимости. В Индии повседневно сталкиваешься с благотворными переменами, и такой малозначительный эпизод мог бы пройти незамеченным, если бы дело происходило не в горах. Гималаи придавали ему особую окраску. Именно здесь, на исконных путях переселений народов, прежде чем это произошло на равнине, пустило корни молодое деревце терпимости. Весенний ветер, согревающий сердца, раньше всего повеял в горных долинах. Обойдя каменный прямоугольник, где в темно-зеленых струях дрожали ветви склоненных ив, я зашел в беседку. На круглом камне увядали луговые цветы. Ароматным завитком поднимался дым курений. Немудреный знак благодарности божеству вод. Я опустился на дощатый пол и глазом прильнул к щели. Внизу белым шумящим каскадом из-под скалы изливался поток. Медная труба, подводившая его к бассейну, заканчивалась страшным ликом гималайского демона. Вода хлестала прямо из глотки. Пеной гнева вскипала на яростном кинжале языка, на удлиненных резцах. Мне вспомнился рисунок в старинной тибетской книге: стилизованные горбы гор и штрихи водопада, за которым проглядывает такая же оскаленная маска в диадеме из черепов. И зло, и добро обрели в Гималаях одинаково устрашающие черты. В свое время я расскажу, чем это обусловлено. Близ анантнатской дороги высятся величественные руины индуистского храма. Кроме арки торана уцелело лишь несколько колонн. По тщательно пригнанным каменным блокам основания можно было легко составить представление о планировке древнего святилища. Этот храм мог бы стоять тысячелетия. Его разрушило не только время, но прежде всего варварское безумие религиозных фанатиков. Пленительные формы юных богинь, стесанные кувалдой, едва различались на искалеченном камне. Лишь по отдельным атрибутам удавалось угадать, кому принадлежали фрагменты ног, осколки торса, выбоины, оставшиеся на месте лиц. От нежного Кришны уцелела лишь рука с неразлучной флейтой, Сарасва-ти - покровительницу искусств - я распознал по ее лютне. Не боги были разбиты в этой жуткой каменоломне, но сотворивший их человек, его устремленность к прекрасному и вечному, его жажда идеальной любви. Но, как говаривал Воланд, «рукописи не горят». Дух неистребим. Трещинка, в которой поселилась изумрудная ящерица, расколола округлый стан трепетной Парвати, слившейся в вечных объятиях с Шивой, но не разлучила божественных супругов. Хоть раковина, да осталась от Вишну, а метательный диск Дур-ги, словно летающее блюдце, загадочно высвечивался из груды каменного мусора, поросшей сорняком.

В горах Пахалгама
В овраге, под наружной стеной, оказалась ниша, в которой, как в гнезде, были аккуратно уложены округлые лингамы. Обрывки красной ленточки и огарки свечек свидетельствовали о том, что кто-то еще приходит в оскверненное святилище с надеждой в душе. Я не раз потом натыкался в Кашмире на такие развалины. Сразу же за Анантнатом открылась долина Лиддара. Вспоенная не иссякающим глетчером, неукротимая река исступленно билась в узком каньоне, наращивая галечные мысы на излуках, снося деревянные мосты, ломая строевой лес. Ее вспененные водокруты проблескивали яростной голубизной. Перекатываясь над зализанными валунами, свивались в тугие косички быстрые струи и расплетались, проскакивая теснины, чтобы тут же обрушиться со скальной плиты в клокочущую пропасть. И всюду были тайные знаки. Недобрым накалом горели красные камни посреди потока. Высеченный на отвесной стене трезубец косым изломом тонул в пузырящейся глубине, светоносной и непроглядной, как нефрит. Словно завороженная магической силой реки, дорога повторяла прихотливую игру русла. Виток за витком она возвращалась на узенький карниз и пресмыкалась над бездной. Затем следовал головокружительный поворот, когда колеса чиркали над обрывом, осыпая гремучий гравий в туманную глубину, и впереди открывалось небо. Срезанное темными силуэтами склонов, оно было как перевернутый треугольник, в котором зарождалась жемчужина жизни - ледяной конус Амарнатха. Лингам в треугольнике - тантрийская сокровенная диаграмма.
ПУТЕМ ТРЕЗУБЦА
Покоя не найти в песках, Нет амбры, в испареньях серных. Блаженства - в нищенских кусках И одиночества - в пещерах. Отшельника вне мира - нет, Без темноты немыслим свет. Не убегай же, словно ртуть, Когда душа взлететь готова. Есть только восьмеричный путь И истины четыре слова. Дхаммапада
Невероятны и грозны краски заката в горной стране Химавата. Словно длится и длится кровавая битва богов и асуров. Словно сами горные пики ставят нескончаемый грандиозный спектакль из «Махабхараты». Послушаем же, что шепчет нам бессмертная эпическая поэма. Грозный Рудра, подобный языку испепеляющего пламени, взметнулся к небу, выйдя из чела миросоздателя Брахмы. Порожденный гневом величайшего из богов, в ком заключены все боги и все их имена, одинокий, свирепый и мрачный, он избрал путь отшельника и устроил себе жилище в царстве вечной зимы. Похожий на дикого охотника, скитался он по горным ущельям, с черным луком в руках блуждал по кедровым лесам. Закутавшись в лохматую ячью шкуру, жег костры среди ледяной пустыни, и лик его принял багровый оттенок огня. Хищные звери, ласкаясь, ползали перед ним на брюхе и целовали его следы, ибо дана была ему великая власть над всеми животными. Пашупати - владыка зверей - звали еще Рудру. Но не только над миром бессловесных существ простиралась могучая рука Гневного. Вездесущий, он оставлял горные долины, ослепительные снега и летел на крыльях траура над миром. Его огненные стрелы не знали промаха, болезни и мор невидимым дождем опадали на села и города. Но в сердце его всегда теплилось сострадание. Внимая мольбам о пощаде, он не только казнил, но и миловал: насылая болезни, сам же давал исцеление от них. Поэтому люди все чаще стали называть его Шивой, что значит Милостивый. Долгое время он был безраздельным хозяином Гималаев. Боги Индии и по сей день живут в обители вечной зимы. С ледяных сверкающих пиков следят они за неподвластным даже божеской воле бесконечным вращением колеса причин и следствий. Спит занесенное песками время фараонов, календарные стелы толтеков и майя поглотила зеленая тьма сельвы, и только маятник Гималаев все еще отстукивает секунды и века полузабытых, почти легендарных эр. Порой кажется, что сама вечность потерянно бродит по замкнутому кругу в этих горных дуарах (террасах), где окоем сокрыт зубчатым снеговым ожерельем. На перевалах, рядом с каменной пирамидкой, украшенной цветными ленточками, можно увидеть железный трезубец, дерзко вонзившийся в небосвод. Это знак здешнего властелина - Шивы. Вот как характеризуют его строки поэта и слова священных книг:
И тут же в гневе, что нарушена аскеза, С лицом, от сдвинутых бровей ужасным, Из глаза третьего метнул огонь, Вверх пламенем слепящим взмывший. Калидаса
Пребывающий во всех лицах, головах, шеях, в тайнике всех существ, Он - всепроникающий, владыка и потому - вездесущий Шива. Шветашватара упанишада
Я вздымаю высокую молитву К высокому, бурому, светлому быку. Поклонись пестро пламенеющему поклонениями! Мы воспеваем буйное имя Рудры.
Ригведа

Шива
Далее станет ясно, что все это значит… Создатель несравненной йоги Шива по обыкновению предавался высшему искусству созерцания на ледяной вершине Кайласы. С того страшного дня, когда он повздорил с тестем на празднике жертвоприношения в честь богов и его обожаемая жена Сита бросилась в пламя костра, он умерщвлял свою плоть непрерывной аскезой и укреплял дух медитацией. Он и думать не хотел о том, что старшие и младшие боги пребывают в смятении из-за Тараки, ставшего непобедимым для всех живых существ всех миров. Недаром же при его появлении на свет ревели ослы и гнусно рыдали шакалы, а в потемневшем небе раздавались мерзкие звуки. Чтобы скопить силу, этот неведомо откуда взявшийся Тарака, сын Ваджранги, стойко выдержал покаяние, длившееся тысячу лет, из которых целый век он стоял, подняв руки, на одном лишь большом пальце правой ноги; век не брал в рот ничего, кроме чистой воды, и столько же лет провел в молитве на голой скале. Индра и все тридцать три миллиона младших богов дрожали от ужаса перед такой волей. Но уже ничего нельзя было поделать. Творец Брахма связал себя словом, а метательные диски охранителя Вишну отскакивали от Тараки, словно горошины от стены. Только Шива, которому было предначертано родить сына-победителя, мог бы спасти богов от уничтожения. Но он был теперь одинок и слышать не хотел о женщинах. И тогда Гималаи - вечная защита Индии - пришли на выручку ведийским богам. Жена хозяина Химавата с давних пор приносила жертвы в роще Богини-Матери. Она была жрицей великой Шакти, олицетворявшей таинственное женское начало. Неотделимое от Шивы, это божественное пламя время от времени проявляло себя в виде прекрасной женщины, созревшей для материнства. На круглую каменную плиту, пронзенную округлым сверху столбом, - алтарь божеств - и приносила жертвы жена Химавата. Лишь немногие посвященные знали, что в ночь первого весеннего полнолуния по черным камням стекает человеческая кровь. Она давала плодоносную силу земле и женщине - продолжательнице рода. Когда в дружной семье гималайского властителя появилась дочь, знамения свидетельствовали, что пришла долгожданная спасительница мира. Но только мать знала, кого она произвела на свет, ибо в облике крохотного человеческого существа ей явилась однажды сама Богиня. Когда девочка подросла, отец стал брать ее с собой в горы, где на вершине Кайласы по-прежнему сидел в позе медитирующего аскета упрямый Шива. «Не отвлекай меня, - сказал он однажды Химавату. - И не приводи сюда женщин». Но Парвати - так звали дочь Гималаев - с первого взгляда влюбилась в сурового аскета, хотя он и предстал перед ней в образе высохшего до костей старика. Она сама стала приходить на Кайласу, чтобы прислуживать грозному богу и охранять его покой. Боги, от которых не укрылось благоговейное и сильное чувство Парвати, решили во что бы то ни стало разбудить в сердце Шивы ответную страсть. Но как могла любовь проникнуть в душу аскета? Оставалось прибегнуть к искусству Камы - бога любви. Правда, однажды он потерпел поражение, попытавшись заразить любовным недугом Ишвару - предвечного создателя всех богов, но другого выхода не было. Напрасно Кама уверял, что Шива - это тот же Ишвара и его не проймешь цветочными стрелами. Боги не отставали. Да и дева Парвати была так прекрасна и так самозабвенно влюблена, что бог вожделения сам зажегся идеей помочь дочери Химавата и позвал на помощь свою верную подругу Рати - любовную страсть. Спрятавшись в кустах рододендрона, на самой границе вечных снегов, он подстерег удобный момент, когда Парвати приблизилась к Шиве с благоухающими весенним дурманом цветами, и натянул свой лук из стебля сахарного тростника с тетивой, образованной сцепившимися пчелками. Шива не почувствовал, как горячая стрела с цветком вместо наконечника проникла в его сердце. Но впервые за все то время, что Парвати прислуживала ему, он увидел не только яркие цветы на плетеном подносе, но и душистые розовые пальчики, намазанные киноварью. «Цветы это или пальцы?» - пронеслась в голове непрошеная мысль. Но первый из йогов оборвал ее и, опустив веки, погрузился в созерцание. Кама не терял надежды. Призвав еще одного помощника - Васанту, бога весны, которого сотворил ему в помощь Брахма, он заставил его превратиться в кукушку. И тогда любовная жалоба огласила ледяные просторы вершин. Шива приоткрыл чуть веки и увидел все ту же Парвати, сметавшую в этот миг сухие листья. Когда его взгляд остановился на ее нежных и сочных губах, опытный Кама выпустил еще одну стрелу. «Губы это или спелые вишни?» - успел подумать Шива, прежде чем кануть в глубины собственной души. Распаляясь охотой, Кама пускал стрелу за стрелой. Часть их попала в Шиву, часть пролетела мимо, а несколько цветочных стебельков вонзились в Парвати. Она и думать забыла про свои обязанности. Опаленная сухим жаром, она, словно в танце, раскачивала бедрами, а ее сари призывно шуршало вокруг стройных, объятых незнакомым, расслабляющим томлением ног. Ах, это было необычное сари! Парвати, решившая завоевать аскета таким же суровым покаянием, сняла с себя - так говорит «Матсья пурана» - свои роскошные одеяния и драгоценные украшения, надела одежду из коры и стала купаться три раза в день в горном источнике. Сто лет она питалась листьями с деревьев, сто лет - опавшими листьями и сто лет строго постилась. Но теперь в танце вся прелесть вновь возвратилась к Парвати, и, шурша, опадала с нее сухая кора. Шива больше уже не закрывал глаз. Все его мысли, помимо воли, сосредоточились на прелестном видении, заслонившем ему вид на голубую долину, в котором он черпал успокоение и отрешенность. Но только он подумал о том, что видит перед собой все ту же девушку, что так беззаветно ему служила, только успел понять, что видит ее совсем по-новому, как неосторожный Кама высунулся из-за куста. И великий бог увидел нацеленную на него цветочную стрелу. Он раскрыл свой третий надбровный глаз и метнул в незадачливого стрелка пламя, которое некогда спалило целый город асуров под названием Трипура. От Камы осталась лишь легкая горсточка пепла. Некоторое время спустя Шива внял мольбам Рати, жены бога любви, и вновь воскресил его. С того дня Каму стали называть Анангой - Бестелесным, а о Шиве говорили: «Тот, что убил рождающегося в сердце». Но это было ошибкой. Рождающегося в сердце Шива как раз и не убил. В каменных чертогах Химавата между тем воцарилось уныние. Забыв о своей божественной сущности, горько плакала безутешная Парвати. На счастье, гостивший у Химавата мудрец Нара-да, перед кем были открыты двери всех миров, дал ей хороший совет: «Не надейся увлечь Шиву красотой и юностью. Продолжи путь аскезы, и ты завоюешь его силой духа. Возвращайся на Кайласу и поселись в пещере». А еще он научил ее мантре «Ом нама Шивая» - сильнейшему из заклинаний, означающему «О, поклоняюсь Шиве». И настал величайший из дней, когда семь мудрецов пришли к подножию Гималайского хребта поклониться Химавату. «Шива спрашивает тебя, Химават, не отдашь ли ты ему в жены ту, которую называют Парвати и Умой?» - сказали они. А горы уже тряслись под могучей поступью быка Нанди, на котором скакал в сопровождении миллионов счастливых существ сам Шива - Грядущий Жених. И земля радостно гудела, словно бронзовый колокол. И Парвати, сгорая нетерпением, ждала возлюбленного. Травы Гималаев стали им брачным ложем. В густых лесах горы Мандару нашли они уединенное прибежище для великой своей любви. Однажды в мечтах о сыне Парвати слепила куколку - пузатого человечка с головой слона. Она и сама не понимала, как у нее могло выйти такое чудовище. Посмеявшись и пресытившись игрушкой, она бросила ее в исток Ганги. Но в священных водах чудная фигурка стала быстро расти, так что обычно рассеянный и погруженный в созерцание Шива даже принял ее за собственного сына. Так и появился на свет Ганеша - «Властитель Сонма», бог успеха, покровитель слонов, писателей и купцов. Шива на радостях отдал ему в подчинение всех карликов и духов своей свиты. Короче говоря, целый сонм. Впоследствии со слов Вьясы Ганеша записал на пальмовых листьях «Махабхарату». Причем Вьяса, который по условию должен был продиктовать поэму без единой запинки, читал так быстро, что Ганеше не хватило палочек для письма. Пришлось даже сломать для этого бивень. Так он и изображается - с обломанным правым бивнем. Но это ничуть не отпугивает от него почитателей, потому что обращенная к нему молитва устраняет любое препятствие. А возомнившего о себе столпника Тараку, наделавшего столько шума в собрании богов, уничтожил другой сын Шивы - Субрахманья, рожденный Парвати там же, в гималайских кущах. Когда дочь Химавата зачинала от Шивы сына, в горах бушевали грозы, из облаков лилась кровь и сыпались кости, ураганные ветры ломали леса, со склонов обрушивались снежные лавины и камнепады, и всю ночь падали с неба горящие метеориты. Все четыре стороны света полыхали в огне. В Канчипураме, на юге Индии, я зашел в древний храм, посвященный слоноголовому богу. Украшенные множеством ярких фигур, отражались в лотосовом озере ступенчатые усеченные пирамиды надвратных башен, издали так похожие на святилища древних майя. Слоны, которые усердно трудились поблизости, перетаскивая тюки с травой, едва ли догадывались, что где-то совсем рядом всемогущие хозяева - люди склоняются перед хоботом божественного защитника. Субрахманья, или Сканда, пришел в мир шестиликим, а ваханой его стал чудесный павлин, в чьем хвосте переливались все краски Гималаев. Совершив великий подвиг, он вместе с названым братом Ганешей поселился на Кайласе. С тех пор ежедневно на высокую гору взбирается неустанная Ума-Парвати, чтобы накормить детей и прибрать их жилище. На Шиву надежда плоха, потому что, как и положено аскету, он живет лишь на убогое подаяние, о котором не просит, за которое не благодарит. Такова простая мистерия Гималаев, олицетворяющая их первобытную свежесть, дикую красоту и величавую мощь. В ней, словно капельки света в бегущем потоке, отражается и сокровенная тайна великих вершин, увенчанных шулой - трезубцем Шивы и золотыми колесами ламаистских монастырей. Она будет раскрываться перед нами постепенно, как выплывают друг из-за друга волнистые синие гряды гор. Истоки ее спрятаны в пуранах и ведах, повествующих о сотворении мира. Итак, начальный акт творенья… Халдейские маги учили, что вначале были только Апсу - океан и Тиамат - хаос. Потом, согласно вавилонским мифам, бог Мардук рассек Тиамат на части и сотворил всю окружающую нас природу. Но вначале, как говорит вавилонский жрец Берос, «был мрак и вода». Именно над этим мраком и водой «пребывал» (обычно переводится словом «носился») дух библейского Элогима, который разделил потом воды и сделал из них Небо и Землю. Это чудотворное разделение вод мы встречаем во всех, без исключения, мифах о сотворении мира. «Вначале Небо (Нут) и Земля (Кеб) лежали, крепко обнявшись, в первобытной Воде (Ну). В день творения из вод поднялся новый бог Шу и поднял богиню Нут так высоко, что только пальцами рук и ног она могла коснуться земли. Что и есть четыре столба, поддерживающие усеянный звездами небосвод - прекрасное тело богини». Так представляли себе рождение мира бритоголовые жрецы в дельте Нила. А Гесиод в своей «Теогонии» пел:
Здравствуйте, дочери Зевса, и дайте желанную песню. Славьте священное племя бессмертных, от века живущих, Кои от звездного неба и ночи глубокой родились, И от Земли, и которых соленое море питало…
«Я рождаюсь, как только у людей исчезает справедливость и усиливается несправедливость. Я рождаюсь из века в век, чтобы спасти добро, уничтожить зло и установить господство справедливости». Так говорит о себе Вишну в «Бхагавадгите». Древние оставили нам прекрасные сказания, в которых отразили свои воззрения на природу и человека. Они написаны на языке искусства, которому свойственны особый образный строй и удивительная наивность ребенка, открывающего для себя мир. И вот эту-то поэтическую наивность мы принимаем за подлинные, если можно так сказать, «протонаучные» воззрения древних. Возможно, мы допускаем ошибку. Иначе необъясним невероятный скачок от прекрасного поэтического лепета к стройным системам греческих философов и пророческим идеям вед и упанишад. Тем не менее, если мы хотим хоть что-то сказать о далеких истоках нашего знания, мы просто вынуждены обращаться к мифам и поэмам. Пусть древнеиранский бог света Ахурамазда создал из первичной материи сначала шесть верховных божеств, а уж потом небо, солнце, огонь и воду. Пусть Брахма, который «сам себя родил и непостижим для нашего ума», сделал первобытный океан доступным чувствам через пять стихий. Согласимся на минуту, что люди действительно думали так, как говорили о том в своих священных песнях. Меня в данном случае интересует другое. Суть в том, что современные космогонические теории кое в чем приблизились к своим, затерянным во мгле поколений истокам. Если вдуматься, то стройная и величественная современная картина «большой вспышки», несмотря на всю ее математическую строгость, несет в себе весьма похожий на древние легенды аромат романтики, поэзии. Мы стоим сейчас в эпицентре «большого взрыва» и следим, как раздувается чудовищный пузырь, имя которому - вселенная. На «границах» вселенной разлетающееся вещество достигает световых скоростей. Мчась по замкнутым траекториям, световые кванты наливают внутреннюю поверхность раздувающегося «пузыря» ослепительным сиянием. Но мы не видим сияющих этих границ, ибо они постоянно убегают от нас со скоростью света. Да и разве можно назвать границами то, что отделяет нас от Ничто и уносится в Никуда? Индуистская история сотворения мира, которую донесли до нас «Манусмрити» и древние пураны, рисует вселенную бесконечной. Она наполнена бесчисленными мирами, построенными из грубой или тонкой материи, и каждый из них имеет свое начало и конец. Вселенная, таким образом, представляет собой вечно изменчивый сонм рождающихся и гибнущих миров. Вопрос лишь в том, что следует понимать под словами «вселенная» и «мир». Приведу в этой связи выдержку из популярной книги современного автора Александра Горбовского «Загадки древней истории». «17 февраля 1600 года после восьмилетнего заключения был сожжен Джордано Бруно. Он был сожжен за то, что высказал мысль о бесконечности Вселенной и множественности обитаемых миров, подобных нашей Земле. Но за тысячи лет до него эту же идею (и не в качестве предположения, а как непреложную истину)излагали тексты пирамид, священные книги древней Индии и Тибета. В одном из самых ранних текстов пирамид (14346) высказывается идея бесконечного космоса. А в древней санскритской книге «Вишну-Пурана» прямо говорится, что наша Земля - лишь один из тысяч миллионов подобных ей обитаемых миров, находящихся во вселенной. Согласно одному из тибетских текстов, «во вселенной так много миров, что даже сам Будда не может сосчитать их». Как гласит буддийская традиция, «каждый из этих миров окружен оболочкой голубого воздуха, или эфира». Оставляя точность цитат на совести автора, я позволю себе усомниться по поводу этой самой «традиции». В том-то и суть, что в индо-буддийском космосе в понятие «мир» вкладывается смысл, резко отличный от нашего. Ничего общего с планетой, да еще окруженной атмосферой и населенной людьми, такой мир не имеет. Он заселен существами иной, мистической природы: богами, асурами, тенгриями, буддами, демонами. Я много часов провел в библиотеках музеев, университетов, монастырей, в том числе и тибетского толка, но нигде не нашел сочинения, в котором хотя бы вскользь упоминалось о крамольной, поистине революционной идее множественности обитаемых миров, за которую Бруно взошел на костер. Конечно, у него были предшественники. Николай Кузанский в том числе. Но все они имели в виду обитаемые острова во вселенной, а не обители небожителей, о которых говорится в пуранах. Ведь даже нашу грешную землю санскритские рукописи рисуют как плоский океан с четырьмя островами и горой Сумер в центре. Где уж тут говорить об обитаемых планетах. Зато «космография» миров, которых «не может сосчитать сам Будда», разработана очень детально. И не только «космография», но также изощренная дисциплина души и тела, позволяющая такие миры лицезреть. Мне довелось побывать в гротах, в которых живут созерцатели, всецело посвятившие себя искусству (или добровольному безумию?) самадхи. Проводя свои дни в темных подземельях, почти без еды и питья, они впадают в транс и погружаются в созерцание множества блистающих будд, которые заполняют собой все видимое пространство. Небезынтересно, что появляются будды из пупка созерцателя. Так что название «созерцатель собственного пупа» придумано не для красного словца. Продолжим, однако, рассказ о сотворении мира, возникшего из первозданной вселенной, которая пребывала в форме сплошной и неощутимой тьмы, погруженная в вечный сон. Но по воле божественной силы, чья творческая энергия развеяла мрак, начали проявляться формы. Как тут не вспомнить Пастернака: «И образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство». Вначале возникли воды, оплодотворенные божественным семенем, в которых созрело золотое яйцо, сиянием соперничающее с солнцем. Из яйца-то и родился миросоздатель Брахма и прожил в нем свой первый «год». Я не случайно прибег к кавычкам. В непостижимом стремлении как можно точнее очертить временной период существования вселенной брахманы создали беспрецедентную систему подсчета. Она свободно жонглирует миллиардами и миллионами лет, не снисходя до такой малости, как тысячелетие. По современным представлениям, после «большого взрыва» прошло 15 - 20 миллиардов лет. Но что это по сравнению с «веком Брахмы», длящимся 311040 000 000 000 человеческих лет? Капля воды в море! «Век Брахмы» - наибольший цикл, по завершении которого вселенная возвращается к непознаваемому мировому духу и ожидает появления нового миросоздателя. Срок существования миров, или калпа, исчисляется в один «день Брахмы», равный 4320 млн. человеческих лет. Столько времени и пребывал Брахма в яйце. Каждый космический день бог создает и поглощает вселенную. Ночью, когда он спит, она пребывает в нем как некая потенция, ожидающая реализации. В каждой калпе насчитывается четырнадцать манвантар, или вторичных, разделенных долгими интервалами циклов. В течение манван-тары, равной 306 720 тысячам лет, мир воссоздается заново и появляется новый Ману - прародитель человечества. В настоящий момент мир пребывает в седьмой манвантаре калпы, где Ману носит добавочное имя Вай-васваты. Далее идет дробление на махаюги и эпохи. Мы живем в эпоху Калиюги, начавшуюся в год войны, описанной в «Махабхарате», или в 3102 году до нашей эры. Усилием мысли Брахма разделил мировое яйцо на две половины, из которых образовались земля, небо и разделяющий их воздух. Затем началась отделка здания и заселение его жильцами. Появился живой дух, мысль, основные стихии. Брахма сам сотворил богов и вечную жертву, три веды, время, планеты, реки, моря, горы и, конечно, людей, способных говорить, страдать, радоваться, испытывать страсть и гнев, совершать покаяние. Дабы возможно стало различие в непробужденном еще к действию мире, Брахма отделил благодать от греха и подчинил себе живые существа через идею двойственности, расколовшей все сущее на противоположные начала: свет и тьму, жар и холод, радость и горе. Но лишь тогда все окончательно сформировалось, когда миросоздатель сам себя разделил на две составляющие: мужскую и женскую. Тогда-то установилась властительная связь, объединяющая людей и богов, насекомых, демонов, животных и растения. Души живых существ, погруженные в сон, подобно тому, как засыпает сам создатель, когда наступает «ночь Брахмы», могут обретать одну из видимых форм, в зависимости от кармы, своего рода ценза, накопленного в предшествующих существованиях. Я пока не стану останавливаться на этом подробно и Лишь упомяну о главном различии в проявлении душ. Согласно «Манусмрити», земные существа появляются одним из четырех способов: из семени, яйца, жары и холода или из чрева. Так появляются на свет растения, насекомые, звери, птицы и рыбы, люди. Зато обитатели адских и небесных миров (именно такие миры описывает «Вишну-пурана») святые отшельники, а также астральные образы, созданные созерцателями и демонами, проявляют себя несколько по-иному. Не вдаваясь в излишние тонкости, скажу лишь, что все эти существа населяют грубые материальные сферы, имеющие яйцеобразную форму. Такие «миры», окруженные оболочкой, отделяющей их от внешнего пространства, и составляют вселенную. Так что едва ли Бруно что-нибудь мог почерпнуть для своей теории из индуистской мифологии. Под миром людей и зверей находятся семь нижних, миров, где данавы, дайтьи и наги вместе со своими пленительными дочерями вкушают райское блаженство. Воздаяние за совершенное зло ожидает, как и полагается, в аду, который расположен несколько глубже. Небо, естественно, вознесено на самый верх и достигает крайних пределов скорлупы мирового яйца. Между ним и нижними морями плавает плоская тарелка земли, разделенной концентрическими кругами на семь островных материков - Джамбу, Остров смоковниц, Хлопковый остров, остров травы Куша, Крауинча, Шака и Лотоса. Они отделены друг от друга поясами морей - моря соленых вод, сока сахарного тростника, вина, топленого масла, молока, простокваши и сладкой воды. В центре земли, как уже говорилось, возвышается Меру, вокруг которой обращаются семь планет. Материк Джамбу находится у самого подножия божественного пика. На нем как раз и находится Индия, самая прекрасная из девяти областей Джамбу. Название это связано с деревом, которое, если верить «Вишну-пуране», является благодатью для живых существ: «Плоды этого дерева велики, как слоны. Когда они созревают и падают на землю, то возникает река сока; люди пьют его и становятся довольными и здоровыми». Такова индийская космология - родоначальница буддийской. В глухих деревнях Индии и Непала я встречал людей, которые смотрели на мир через призму пуран. Как-то это уживалось у них с разрозненными осколками современных знаний и теми нехитрыми плодами цивилизации, которые рано или поздно добираются до самых дремучих уголков. На лубках, что сотнями продаются у индуистских храмов, Брахма изображается в виде четырехликого кармино-красного гиганта. В его восьми руках веды, жезл, чаша с водой Ганги, жертвенная ложка, ожерелье, лук и падма - цветок белого лотоса. Вахана миро-создателя - белоснежный лебедь, скользящий по невозмутимой глади первозданных вод. В образе лебедя Зевс соблазнил прекрасную афинянку Леду. Миросоздатель, сотворивший женское начало, стал его жертвой. Очевидно, влечение к прекрасному полу - непреложное свойство всех верховных богов. В «Матсья-пуране» рассказывается о том, как у Брахмы появился пятый лик: Когда Брахма создал своих сыновей, он не был доволен тем, что получилось, и стал думать, что еще сделать для облегчения своего существования. Он повторял священный слог до тех пор, пока из половины его тела не вышла богиня Гаятари, известная под разными именами - Савитри, Шатарупа, Сарасвати, Брахмани и др. Брахма ошибочно считал ее своей дочерью и тем не менее, увидев ее необычайную красоту, воспылал к ней любовью. Его сыновья, принимавшие Савитри за сестру, были возмущены поведением отца. Савитри учтиво его приветствовала и всячески ему угождала. Брахма смотрел на нее и не мог оторвать глаз. Поскольку в присутствии сыновей он стеснялся следить за идущей Савитри, он создал себе четыре головы, которые смотрели в четыре стороны света и постоянно любовались ею. Когда Савитри увидела, что Брахма воспылал к ней любовью, она отправилась с братьями на небо. И в тот же чудесный миг возник пятый лик творца, обрамленный длинными спутанными волосами и обращенный вверх. Какая непритязательная житейская история! Утонченная метафизика, пронизывающая миф о сотворении мира из яйца, и патриархальная байка, навеянная бытом крестьянской общины.

Сарасвати и лебедь Брахмы
В Варанаси я видел гладкий продолговатый камень с желтой прожилкой на молочном фоне. Это было «мировое яйцо». Оно лежало на прилавке рядом с шиваистскими лингами, символизирующими мужское начало, раковинами-каури, олицетворяющими женственность (йони), и магическими черными камешками. Его отдавали за две рупии… Кровосмесительной связи положил конец Шива, отрубив, очевидно, в назидание пятую голову отца богов. Анализируя этот миф, чешская исследовательница Элишка Мергаутова справедливо отмечает: «Из этого следует, что Брахма не пользовался особым уважением шиваитов; вишнуиты, правда, тоже не особенно почитали его. Вообще индуистов, поклоняющихся по преимуществу одному Брахме, было чрезвычайно мало: во всей Индии ему было посвящено не более десяти храмов». Зато в Гималаях творец сумел взять реванш. Но какою ценой! Приобщенный к пантеону тантрийского буддизма, он превратился в одного из второстепенных юдамов - охранителей, призванных отпугивать злые, враждебные силы. Поистине пиррова победа! Я видел два изображения Брахмы: на одном он представлен в облике четырехликого титана, стоящего на черепах, на другом - в виде могучего махараджи. Эту одноголовую ипостась ламы называли Белым Брахмой. Таков был закономерный финал первого столкновения творца с противоборствующей волей Шивы. Вишну лишь довершил частичное ниспровержение Брахмы. На сей раз отец всего сущего впал в противоположную крайность и проявил излишний пуританизм. Вечно молодая Мохини, у которой, согласно «Брахмавайватра-пуране», «были широкие бедра, крепкие ягодицы, высокая грудь и лицо прекрасное, как луна в осеннее полнолуние», воспылала любовью к верховному, но не смогла добиться взаимности. Не помогла даже помощь вездесущего Камы - владыки любовных влечений. Поддавшись на мгновение его чарам, Брахма опомнился и оттолкнул от себя изнывавшую в страстном томлении нимфу. И тогда разъяренная Мохини прокляла его: «Отныне всякий, кто примет от тебя амулет, мантру или гимн, будет на каждом шагу сталкиваться с препятствием и над ним станут смеяться. Оттого тебя не будут почитать так, как ежегодно почитают всех богов». Брахма в смятении бросился к Вишну за советом и получил следующую отповедь: «Хоть ты знаешь веду, ты совершил преступление, которое не совершит даже убийца. Женщина есть пальцы природы и драгоценные камни мира. Мир Брахмы - мир радостей. Зачем ты укротил свои страсти? Если женщина неожиданно воспылает любовью к мужчине и придет к нему, мечтая о соединении с ним, мужчина, пусть он и не испытывает к ней страсти, не должен отвергать ее. Если же он отвергнет ее, то в этом мире навлечет на себя различные несчастья, а в том мире попадет в ад. Мужчину не осквернит связь с женщиной, добровольно ищущей его общества, даже если она куртизанка или замужем». Нужно ли после этого удивляться, что второразрядный ведический бог Вишну постепенно занял одно из главных мест на индуистском Олимпе? В нем обожествлялась сама природа, ее сокровенная весенняя мощь, буйный всеочищающий вихрь обновления. В культе Вишну, особенно в тайных мистериях, посвященных пастушку Кришне, прекраснейшему из его воплощений, есть много общего с орфическими оргиями Древней Греции. Кстати, именно грек Мегасфен, посетивший Индию в 311 - 302 годах до нашей эры, отметил, что в эти годы высшего подъема буддизма в горах уже царил Шива, а в долинах люди убирали цветами статуи ласкового Кришны. Его любовь к темнолицей крестьянке Радхе, с которой он тайно встречался в священных рощах и на зеленых речных бережках, была нежной и трепетной. Он не спускался за ней в преисподнюю, подобно Орфею, искавшему всюду свою Эвридику. Вход вишнуистского храма стережет коршун Гаруда. Алтарь Шивы оберегает могучий бык Нанди, слизывающий плодотворящее млеко с каменного символа акта творения жизни. Но шиваистские святилища обычно открыты для иноверцев, тогда как внутрь вишнуистского храма не сумел проникнуть ни один посторонний. По крайней мере никто не рассказал о том, что он там видел. Даже во время владычества англичан попытки тайно подсмотреть церемонии в честь добрейшего из богов кончались трагически. В нетальском городе Бхадгаон мне удалось попасть внутрь заколоченного святилища, охраняемого Гарудой в образе человека. Я нашел там бедный алтарь с обычными атрибутами индуизма и запыленные каменные изображения богов и богинь. Жертвенник был затянут плотной паутиной. Масло в лампадах высохло и стало черным, словно мазут. Белая поющая раковина дала трещину. Я понял, что сберегаются лишь живые тайны. Другим воплощением Вишну является На-раяна - «высший созерцающий», как о том говорит «Маханараяна упанишада». Это первый удар пульса новорожденной вселенной, сплошь заполненной водами, первое движение плода под сердцем матери. В индуистской иконографии он изображается спящим. Безмятежно дремлет прелестное дитя на листе лотоса, по которому, как жемчужины, перекатываются капли. Спит в кольцах змея Шеши четырехрукий царевич с лицом темно-синим, как ночь. А змей плывет в волнах промежуточного неверного бытия, когда одна вселенная уже погибла, а другая еще не пробудилась для жизни. Это Вишну, присвоивший себе прерогативы Брахмы. Так отвлеченная идея миротворения оделась в царский пурпур. Простые люди чтили в образе Вишну прекрасного, окруженного немыслимой роскошью миротворителя, защитника угнетенных, милостивого и справедливого владыку рая. В этой обширной стране блаженных вся земная прелесть была омыта божественной благодатью, словно луг росой, блистающий в первых лучах солнца. Чудесные рыбы плавают в шелковистых струях небесной Ганги, в озерных долинах изливают благоухание белые, голубые и розовые лотосы. И на самом чудесном из них восседает Вишну, окутанный дивным ароматом, затмевающий сияние солнца. По правую руку от него Лакшми - богиня красоты, богатства и счастья, хранительница всех верных и любящих жен. Вот уже больше тысячи лет особо красивым девочкам дают имя богини, самой любимой, самой доброй и кроткой, ни на шаг не отставшей от мужа в его причудливых странствиях. Назовите им первую встречную, и где бы то ни было: в Непале, Индонезии, на Цейлоне - наградой вам будет благодарная улыбка. В отличие от мятущегося, раздираемого противоположными страстями Шивы, Вишну всегда выступает как благодетель человечества, как его избавитель. Когда в конце предыдущей калпы Брахма решил затопить сушу водами океана, Вишну поспешил обратиться в рыбу и спас Ману - праотца человечества, которого не только предупредил о надвигающемся потопе, но и снабдил спасительным ковчегом. Как тут не вспомнить библейскую историю о праведном Ное? Сказание о Гильгамеше? Как говорится, все тот же сон. Только с вариациями. В индуистском мифе праведник взял с собой в ковчег не только «семена создания», но и семерых праведников. А спасительным Араратом явился для него золотой рог Вишну - рыбы «длиною 10 000 йоджан», то есть 72 тысячи километров [1]. Девять раз вмешивался Вишну в течение мировых событий, когда они начинали приобретать для человека грозный смысл. Стоило демонам чуточку потеснить богов и покуситься на мир людей, как он явился с рецептом напитка бессмертия. [1 Считается, что йоджана Брахмагупты равна малой лиге, или 7,2 километра.]

Бык Нанди
«Сделайте то, что я вам скажу! - говорится в «Вишну-пуране». - Пусть все боги вместе с демонами бросают в море различные виды лечебных трав. Потом пусть они возьмут гору Мандару как мутовку и змея Васуки как шнур и пахтают океан до тех пор, пока получится напиток бессмертия». Приняв облик черепахи, Вишну нырнул на самое дно, чтобы поддержать гору, что не помешало ему остаться в человеческом четырехруком воплощении и помочь пахтать океан. Когда же напиток после долгих усилий и многих чудес был наконец приготовлен, он не только лишил обманутых демонов драгоценной влаги, но и оказал решительную поддержку богам в последней схватке с силами зла. Интересно, что шиваиты добавляют к рассказу о великом подвиге Вишну славословия в честь своего патрона: «Из морской глубины пошел густой ядовитый дым, вырвались языки пламени и появилось грозное чудовище с горящими волосами. Его дыхание обожгло Вишну, богов и демонов. И задрожал от страха Вишну…» Именно в этот критический момент и появляется на сцене Шива, чтобы объяснить богам и демонам роковую ошибку: «Вместо напитка бессмертия мы сбили напиток гибели, сильнейший яд, который грозит уничтожить весь мир и который предлагает: выпейте меня или я вас поглощу! Даже сверкающий, как сто полных лун, Вишну почернел от одного его дыхания… И сказал тогда господин мира: «Я выпью яд и избавлю вас от болезней и страха». Так он и поступил, когда примчался к морю на своем верном Нанди. Яд не причинил ему особого вреда, оставив по себе лишь памятную метку: горло Шивы сделалось густо-синим. Синегорлый стало новое имя его. Несколько позднее я расскажу о своей встрече с Синегорлым владыкой, представленным в облике Вишну. Вишнуисты приняли, таким образом, шиваистскую добавку, но переиначили ее на свой лад. Так общими усилиями противоборствующих сект творилась противоречивая мифология богов тримурти, напоминающая «Диспут» Генриха Гейне, где капуцин и раввин спорят о мощи своих богов… Приняв обличье вепря, Вишну извлек землю из первозданной пучины, подменив тем самым творца; сделавшись нарасинхой (помесь человека со львом), победил демона Хиранья-кашипу, который чуть ли не силой вырвал охранную грамоту у того же Брахмы; обратившись в уродливого карлика, завоевал для богов все три мира. Это была последняя из «странных» аватар Вишну. Далее он воплощался уже лишь в человеческий образ. Передав всю власть над мирами громовержцу Индре, он оставил первозданные бездны и занялся непосредственно грешной землей. Поэтому люди особо почитают эти его последние воплощения. Это стойкий воитель Парашурам, сын мудреца и принцессы, это Рама, герой «Рамаяны», и конечно же чудесный Кришну. Последней земной аватарой под давлением обстоятельств был признан Гаутама, ставший Буддой - основателем мирового вероучения, завоевавшего миллионы ревностных почитателей. Вместо того чтобы вступить в борьбу с новым богом, жрецы Вишну включили его в лоно своей религии. Буддийские проповедники, как мы вскоре увидим, отплатили им той же монетой. Но вынужденное слияние редко бывает органичным. Признав буддизм как факт, брах-манисты не приняли его основных заветов. Особенно резко обрушились они на те места учения, в которых отрицались кастовые различия между людьми. Таким охранительным духом проникнута «Агни-пурана», где говорится о том, что демоны, отрекшиеся под влиянием Вишну в образе Будды от вед, поспешили и других отвратить от истинной веры, «совершали злые поступки» и «принимали еду от низких людей». Последнее особенно важно, поскольку здесь виден прямой намек на неприкасаемых. Для правоверного индуиста нет осквернения страшнее, нежели совместная трапеза с людьми низших каст. Подобная ограниченная дискредитация девятой аватары выглядит особенно уместной, когда знакомишься с предсказаниями «Агни-пураны» по части десятого, грядущего воплощения: «В конце темного века наступит полное смешение каст, среди людей возобладают негодяи. Под видом религии станет проповедоваться безверие. Варвары-владыки будут эксплуатировать народ. И тогда явится Калка в латах и с оружием, наведет порядок, восстановит достоинство четырех варн и четырех жизненных стадий». Целиком направленная против буддизма, «Агни-пурана» в наши дни стала в устах реакционных клерикалов лишним поводом для поношения прогрессивных мероприятий республики, сделавшей всех людей равными перед законом. Древние мифы тоже служат средством политики. Известны случаи, когда в разных штатах Индии за аватару Вишну принимали реальных исторических лиц, снискавших известность стойкостью в борьбе с угнетением и несправедливостью. В качестве примера такого «обожествления задним числом» можно привести молву о Ганди, который при жизни многими считался святым, а ныне почитается как воплощение божественной эманации. Все возвращается на круги своя. Живая мифология с неизбежностью продолжает творить новые мифы. Вращается чакра - божественное колесо. Знаки трезубца, выбитые в скалах, проводят к заброшенным алтарям бога огня Агни. Железные трезубцы на перевалах отметят тайники, где ищет уединения Шива - хозяин гор. В ритуале шиваизма постоянно господствует мотив рождения и гибели вселенной. В поэме «Шивамахимнастава» («Хвалебная песнь великому Шиве») он предстает в мрачном образе, отличном от четырехрукого Натараджи - Владыки танца:
Могучий бык, палица со знаком мертвой головы, топор, шкура тигра, пепел, змеи И череп - это, и ничто другое, - главное достояние твое; Однако, если боги обладают каждый своей особенной силой, То это ты наделяешь их ею, стоит тебе только двинуть бровью; Ибо иллюзорность чувственных объектов не обманет того, кто в духе твоем обрел блаженство.
Ты забавляешься в местах сожжения трупов, о Губитель Смары [1]; пишачи [2] - твоя свита; Ты умащаешь тело пеплом с погребальных костров; в гирлянде твоей нанизаны человеческие черепа, Пусть облик твой, равно и имя твое - зловещи, И все же, податель даров, для тех, кто мыслью обращается к тебе, в тебе - залог высочайшей благодати. [1 Другое имя Камы, означающее память.] [2 Ведьмы - пожиратели трупов.]
Не только на животворных просторах Гималаев, на вершинах гор и в холодных пещерах предавался Шива аскетическим размышлениям. Места кремации, где разбросаны полусожженные кости, кладбища, где бродят шакалы - любители падали, тоже излюбленные его места. И подобно своему покровителю, садху особой мрачной секты бродят совершенно обнаженными, вменяя себе в обязанность есть падаль. Покрытые пеплом, со спутанными волосами, в которых прячут змей, они наводят суеверный ужас на простых людей. Секты странствующих шиваитов бродят по всей Индии. С посохом или трезубцем в руках обходят они бесчисленные храмы, торгуя по пути амулетами, выманивают деньги у легковерных, уверяя, что могут творить чудеса. Часто их сопровождают послушницы столь же дикого и неопрятного вида. В лохмотьях, с большими, оттягивающими мочки серьгами. Но поскольку, согласно традиции, каждый из них олицетворяет отшельника Шиву, люди встречают их благосклонно, несмотря на худую славу. Темные шиваистские обряды, как мы увидим далее, проникли в буддийское вероучение под видом тантризма. Многочисленные секты дьяволопоклонников на современном Западе вовсю заимствуют их для своих внушающих отвращение «черных месс». В журнале «Наука и религия» (1974 г., № 12) была перепечатана из английских газет небольшая заметка, которую мне хочется здесь привести. «За столом - судьи в средневековых тогах и париках. На скамье подсудимых - молодая девушка и 26-летний мужчина. Их судят за черную магию, за ограбление старинных склепов и обесчещение останков, у которых «изымались» черепа для исполнения ритуальных обрядов и установления «контактов» с потусторонним миром. Все это происходит не в средние века, а в наши дни - в лондонском суде Олд Бейли. В качестве истца на этом процессе выступает общественность. Совершенно случайно обратили внимание, что кто-то разорил несколько склепов на одном из самых старых лондонских кладбищ - Хайгетском. Было обнаружено, что из вскрытых гробов исчезли черепа и кости. Следствие показало, что виновны в этом члены тайного общества черной магии, верховным жрецом которого был некий Роберт Фаррант. Вместе со своей помощницей он вламывался в склепы и разорял могилы, а затем его напарница тут же раздевалась донага и с костями в руках исполняла ритуальный танец. Последний якобы призван был обеспечить контакт между покойниками и участниками этого чудовищного обряда, дать «магам» власть над духами и способность предвидеть будущее. Финал уже известен». Это далеко не единичный случай в практике британских судов. Все чаще и чаще на скамью подсудимых попадают дьяволоманы, изуверы, практикующие «изгнание дьявола», полубезумные некрофилы, называющие себя адептами «черной йоги».
ПУТЯМИ ДРЕВНИХ КОЧЕВИЙ
Бессонница страшней врага, Тиранит мыслью беспрестанно. Как для уставшего йоджана, Сансара для глупца долга. Дхаммапада
Мы забирались в самые заповедные места. Именно сюда удалился от мира хозяин Шива. Именно здесь, в ледяной пещере, ждала его страстная и целомудренная Парвати, Вечная Жена и Мать. По преданию, которое широко распространено средь местных анвалов, божественная чета должна обязательно вернуться в эти места, одухотворенная великой любовью. И в самом деле, нельзя забыть опьяняющие луга Пахалгама, где по ветру летит золотая пыльца. Чувство Парвати, ее чистая, юная жажда оказались сильнее аскетических обетов Шивы. Оно возобладало над сверхчеловеческой волей и бездонным омутом самопогружения. Мне казалось, что все вокруг пронизано этим нескончаемым противоборством. Холодный блеск глетчеров и целебный пар горячих источников, суровая лаконичность каменных оград и праздничное сверкание хвои, мрачные пещеры и скот на летовках, дуновение снегов и мирный дух навоза. На Чанданвари (2923 м) я пил густое теплое молоко. Причастие Парвати, хмельное таинство торжествующей жизни. Синеватая пыльца уже тронула ягоды можжевельника. Кузнечики стрекотали в траве. И лошади, погружаясь в росу, вспугивали их отрывистым фырканьем. И, как отзвук дальнего грома, перекатывался по долинам ликующий бычий рев. Сокрушающий миры не смог совладать с беззаботным проказником Камой. Эллинские боги тоже трепетали перед голеньким пухленьким мальчиком с луком и стрелами в колчане из роз. Стрелы Камы и стрелы Эроса. Я дышал медвяными росами Кама-сутры, Поэмы Любви, ее бродильной закваской. Навстречу горным высям вздымалась горячая волна. А вот и местный Амур - замурзанный карапуз с яркими шариками из коралла и бирюзы вокруг загорелой шейки. Пуская пузыри от натуги и важности, он наполнил розовым молоком деревянные, черные от старости чашки. Его отец - сухощавый бхота, чья разлохмаченная черная шевелюра не знала ни гребня, ни ножниц, - выразительно щелкнул себя по горлу. Смеясь, мы сдвинули чашки и, окропив воздух, где, надо полагать, алкали голодные духи, на едином дыхании испили напиток бессмертия. Так я отпраздновал пересечение трехтысячной высотной отметки. Настанет мгновение, и я выпью ячменного пива на высоте, где уже не растет ячмень. Это будет в непальских горах, в десятке-другом километров от Джомолунгмы. Вместе с бхота-проводниками я вот так же накормлю духов, но они сыграют со мной жестокую шутку. За вершину мира я приму совсем другую гору. Но это будет не скоро, и я еще не могу об этом знать. Поэтому с тайной гордостью заношу в записную книжку высоту Шешната (3568 м). Ищу в себе признаки горной болезни, не нахожу их и жестом прошу еще молока. - Do you like? [1] - интересуется бхота-отец. - Каи чаи на [2], - отвечаю я, не зная, как будет «восхитительно», и потом добавляю по-английски: - delightful. [1 Нравится? (апгл)] [2 Ничего (тибет.).]
Мне все кажется здесь delightful: воздух, влажная теплота лошадиных ноздрей, щербатая улыбка горного Эрота. Но я забываю это емкое слово, когда, раздвинув колючие лапы елей, вижу изумрудную гладь замерзшего озера. Нежным молочным светом лучатся замурованные в толще льда газовые пузыри. Фиолетовые, испещренные снеговыми наносами хребты обретают в этом зеленом зеркале расплывчатый розоватый отсвет. - Обычно лед держится здесь до июля, - объясняет бхота. - Но нынешнее лето выдалось жарким, и, наверное, недели через три все растает. Мысленно поздравляю себя с удачей. Горные озера великолепны, спящие подо льдом, они ослепляют и завораживают. Зеркала зачарованных королевств. Бросаю шиферную плитку. Она долго несется по ледяной глади, наполняя пронизанную светом тишину медленно затухающим шелестом. Застывший мир остановленных движений. Тишина, пойманная в зеленых кристаллических гранях. Далеко внизу, словно утыканные иголками подушечки, круглятся лесистые склоны. Игрушечные домики пастушьей деревни словно забыты кем-то навсегда у излучины реки. Как затвердевшая струйка кедровой живицы, видится отсюда Лиддар. Только облако медленно перемещается в небе, выплывая из-за острого каменного ребра, и ледяной конус светится отрешенно и ярко. Лишь он один возвышается над нами. Остальная вселенная - у наших ног. Маленький бхота, поковыряв в носу, показывает на бледную тень луны в иссиня-солнечном небе. - Хотите подняться на глетчер? - спрашивает бхота-отец. - Это можно устроить. В Альпийском клубе сдаются напрокат теплые вещи. - Сколько это займет времени? - О, пустяки! - Он пренебрежительно сплевывает. - Каких-нибудь три дня. И в самом деле, что для него, познавшего зов вечности, могут значить жалкие эти три дня? Мне же остается лишь улыбнуться снисходительно и вместе с тем жалко. Если бы он знал, сколько «о'кэй» уже проставлено в моих авиабилетах и как мало осталось времени до отлета. Прослеживаю извивы Лиддара, пытаясь разглядеть вдали священную для индуистов гору Хармукх (5148 м). Там, в долине Сон-марга, прячутся высотные озера Вишнасар, Кришнасар, Гангабал, названные именами самых щедрых и милостивых богов, руины забытых храмов, укромные источники, чья целительная сила прославлена в золотых письменах Сиккима и Леха. Да что там золото! В Дели и музеях Улан-Батора я держал в руках книги, сделанные из листьев пальмы, горного дуба, магнолии, в которых чернилами, изготовленными из «семи драгоценностей», воспевались чары Кашмира. По берегу Лиддара дорога из Пахалгама в Сон-марг занимает пять дней, то есть почти столько же, сколько восхождение на глетчер. Если бы пришлось выбирать, я бы предпочел именно это путешествие по каньону, где на каждом шагу встречаются священные зарубки истории. Но, располагая часами вместо дней, я не мог даже мечтать о длительных пешеходных прогулках. Куда реальнее было добраться до Сон-марга кружным путем, через Сринагар, на автомобиле. Или вообще слетать в Кулу, где так отчетливо видны, говоря словами Блока, «забытые следы чьей-то глубины». В этой долине меня привлекало многое: поразительное смешение племен, капища, в которых еще не так давно приносились кровавые жертвы Богине-Матери, институт Уру-свати, основанный Рерихом. Там я надеялся найти исток одной кашмирской легенды, которая вот уже многие годы смущает умы исследователей. Речь идет о путешествии молодого Иисуса Христа в Индию и Тибет. Неизбежную дань отдал ей и Рерих: «В один день три рукописи об Иисусе. Индиец говорит: «Я слыхал от одного из ладакхских официальных лиц со слов бывшего настоятеля монастыря Хеми, что в Лехе было дерево и маленький пруд, около которого Иисус учил». И еще: «Хороший и чуткий индиец значительно говорит о манускрипте жизни Иссы: «Почему всегда направляют Иссу на время (его) отсутствия из Палестины в Египет? Его молодые годы, конечно, прошли в изучении. Следы (буддийского) учения, конечно, сказались на последующих проповедях. К каким же истокам ведут эти проповеди? Что в них египетского? И неужели не видны следы буддизма Индии? Не понятно, почему так яростно отрицается хождение Иссы караванным путем в Индию и в область, занимаемую ныне Тибетом». Яростное отрицание, возмутившее индийского собеседника Рериха, было вызвано прежде всего полной бездоказательностью версии о гималайском путешествии Иссы. Согласно почти единодушному убеждению этнографов, легенда об этом могла появиться никак не ранее XVI - XVII веков. Во всяком случае, Рерих, отнесшийся к рассказам об Иссе с полным доверием, не обнаружил в ладакхских хранилищах таинственных манускриптов. С тех пор многое изменилось под нашим зодиаком. За полстолетия легенда обросла такими живописными подробностями, что Сринагар, того и гляди, превратится в святое место христианства. По крайней мере, к этому направлены усилия туристических агентств. В самом центре города, недалеко от мечети Джама Масджид и госпитальной миссии, есть место, которое зовут Martyres Tomb - Могила мучеников. Меня заинтересовало, почему местные жители, будь то мусульмане, индуисты или же сикхи, с поразительным единодушием употребляют это английское название. Неужели нет местных эквивалентов? Или мученики были исключительно англичанами? Европейцами, если смотреть шире? И я решил взглянуть на эту могилу. Старый, но крайне подвижный сторож в зеленой чалме хаджи взялся быть моим гидом. Едва я раскрыл рот, чтобы задать вопрос о том, кому, собственно, принадлежит могила, как он обрушил на меня каскады красноречия. Большей нелепицы мне не приходилось слышать нигде. Это была чудовищная мешанина эпох, стран и языков. Перемежая евангелие и Коран с приключениями Насреддина и эпизодами из жизни Будды, он с грациозной легкостью соединял Мекку с Иерусалимом, рисовавшимся ему как некие предместья Сринагара. Меня эта беседа обогатила новым апокрифическим сказанием. Передаю его в несколько очищенном от явных несообразностей варианте. Христос, если я только правильно понял достойного хаджи, родился вовсе не в Назарете, а в Индии. Здесь он овладел тайнами йоги, научился творить чудеса и отправился по миру проповедовать свое учение. В отличие от Будды, обещавшего новообращенным лишь избавление от страданий, он нес в себе спасение и вечную жизнь. С тем и прибыл в конце концов в святую землю, где и совершил свой подвиг, описанный четырьмя евангелистами. Разночтения от сринагарского хаджи начинаются только с Голгофы. Знакомому с практикой йоги Иссе легко удалось впасть в состояние, неотличимое от смерти, и восстать невредимым уже после снятия с креста. Великолепно разрешив, таким образом, все трудности, связанные с воскресением, сринагарский хаджи поспешил возвратить Сына человеческого на родину. - Тут он и умер у нас, в Сринагаре, дожив до преклонных лет, - последовал неожиданный хэппи-энд, - и похоронен в этой трижды священной могиле. В подземном склепе. Очень большое тело, сэр! Очень! Я сам видел: настоящий великан! И Павлиний трон тоже у нас спрятан. Старики знают где, скажут, когда пробьет час. Я был настолько ошеломлен, что дал старику пять рупий. Столько же дала пожилая экзальтированная американка и, рыдая, побрела прочь от Могилы мучеников. Хотел бы я знать, отчего она так расстроилась… Едва ли стоит обсуждать сринагарское дополнение к «Холли Байбл». Злак, взошедший из зерна, зароненного в XVI или XVII веке на путях из Индии в Тибет, интересен лишь своей поразительно цельной рациональностью. Сделав Иссу йогом, сторож-магометанин употреблял, естественно, слово «факир» - кашмирская молва одним разом объяснила и все его чудеса. На моих делийских друзей, не бывавших в Кашмире, это произвело наиболее сильное впечатление. Кажется, мы проспорили целый вечер о том, что могло, а чего - ни при каких обстоятельствах - не могло быть. По-моему, мы очень скоро отклонились от темы, целиком переключившись на сакраментальные загадки факиров: «фокус с канатом» и «фокус с деревом манго». Ни они, ни тем более я этих фокусов не видели, но вполне допускали массовый гипноз. Вот в какие дебри может завести цветистая молва Кашмира. Самой историей ему предназначено было стать шумным перекрестком вселенского рынка, горнилом, в котором пошли на переплавку предания самых разных народов. Акбар, задумавший слить воедино все религии, лишь добавил ничтожную лепту в этот бронзовый сплав, в колокольный металл, звенящий преданиями манихеев, несториан, суфийских дервишей, буддийских путешественников с лессовых долин Хуанхэ и твердых в вере, но гибких на ее путях иезуитских миссионеров. Все они прошли здесь по тополиным дорогам Города Солнца. Золотая кашмирская пыль замела отпечатки миллионов следов. В манихействе, в несторианских проповедях, а не в забытых манускриптах неведомых монастырей следовало искать первоистоки мессианских устремлений Кашмира. Рерих, в котором индуктивный опыт исследователя зачастую брал верх над восторженным легковерием, не мог этого не понимать: «Манихейство жило долго. В самой Италии манихеи, преследуемые, жили до XIV века. Может быть, от них Беноццо Гоццоли воспринял содержание иизанской фрески о четырех встречах царевича Сиддхартхи - Будды, озаривших его сознание. Вместо индийского владетеля движется кавалькада итальянских синьоров… Или более древняя организация синтеза и верований Мани пронизала и связала сознание Востока и Запада?…» Я вспомнил беседу в местном музее. После того, как мы осмотрели экспонаты в сумрачных, неуютных залах, директор провел меня в сад, где среди пальм и розовых шпалер стояли каменные статуи, жертвенники и лингамы, привезенные из разрушенных во времена войн и стихийных бедствий храмов. Здесь было тепло и покойно. Журчал фонтан. Бабочки-нектарницы, трепеща, парили над чашечками цветов. Солнце вытапливало аромат древних смол из кедровых досок, которыми был обшит музей. Ноздреватые серые камни прекрасно смотрелись на зеленом ковре подстриженного газона. Я сразу же обратил внимание на знак двойного тримурти с тюркскими буквами в каждом зубце. - Откуда у вас эта плита? - спросил я директора. - Из долины Кулу. Там все так перемежалось, что не разберешь. Где-то я слыхал, то и интересующие вас манускрипты об Иссе тоже хранятся в древней Кулуте.

Реликвии Кулу
Это было весьма сомнительно, потому что в Кулу долгие годы жили Рерихи, и Николай Константинович не преминул бы отыскать драгоценные документы. Замечание директора я, естественно, пропустил мимо ушей. Но слова о возвращении к истокам нежданно-негаданно помогли мне докопаться до истины. Я подумал о том, что печатные работы Рериха и породили новые слухи о манускриптах, якобы объявившихся в Кулу! Так след замкнулся, рисуя круг, который никуда не ведет. Легенда творит легенду. Великая жизнь тоже творит ее. Вспоминая серую плиту на зеленой травке музея, я мысленно видел камень в цветущей роще Кулуты. Строгие буквы вещего алфавита деванагири, общего для санскрита и хинди, рождали слова, исполненные величия и потаенного смысла: «Тело махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на сем месте 30 магхар 2004 года Бикрам эры, отвечающего 15 декабря 1947 года. ОМ РАМ». «О, Рама!» - вспомнил я восклицание на камне Гандиджи… Смерть застала Рериха за подготовкой к возвращению на родину. Он умер гражданином Советского Союза, а похоронен был по обычаям Индии. «Алтай - Гималаи». Мост дружбы. Последний день в Сринагаре я провел в радиоцентре. Я много упустил из живой и наглядной лекции по истории индийской музыки. Каюсь. Но как ясно, как хорошо думалось под волнистый узор флейт и короткие пассажи та-рангов. Единый мотив, звучащий от Канья-кумари до Гималаев, чудился мне. И синие перевалы Леха, где так одичало свистят вьюги, вставали во мгле. Студию озаряли новейшие люминесцентные светильники, и поэтому мглы не могло быть и в помине. Просто я не знаю, как иначе назвать тонкую границу, отделяющую обычное зрение от внутреннего ока. И вне, где сверкала медь инструментов и переливались краски костюмов, и внутри, где волнами бежали за хребтами хребты, было светло. Но полем мглы пролегала разделительная полоска. Все, что рождалось внутри, было творчеством ночи. И поэтому перевалы Леха, где так одичало свистят вьюги, вставали во мгле.
СОКРОВИЩЕ НА ЛОТОСЕ
По каплям созревает зло, Не в одночасье ослепляет. И чудотворность верных слов Оно сперва не ослабляет. Но неизбежен страшный миг, Когда сольются капли в массу - Зловеще искривится мир В уродливую злую маску И тьма окружит палача Красней травы на поле битвы. Не застонать, не закричать, И позабудутся молитвы. Дхаммапада
От Джомолунгмы до Аннапурны, от Кариолунги до Лхоце и Канченджанги слышится серебристый перезвон колокольчиков, костяной рокот барабанов, изготовленных из черепных крышек самых благочестивых людей. На горных лихих перевалах, где за поясом многоцветных рододендронов начинается блистательное колдовство вечной зимы, высятся каменные пирамиды, куда каждый новый путешественник добавляет еще одну круглую гальку или плоскую слюдяную плитку, взятую у подножия пощадившей его горы. Ослепленный снегами, обожженный беспощадным солнцем, восходит путник на перевал, носящий имя грозного бога Хэваджры, где над каменным обо полощутся по ветру пять разноцветных флагов, олицетворяющих стихии вселенной. Падает камень в гремящую кучу, и, сложив ладони, путник бормочет тибетское заклинание: «Лхачжа-ло!» («Дай мне сто лет!») Но он не знает, что будет с ним через минуту. Твердыня каменных стен осталась внизу. По-разному освещенные солнцем, драконьи хребты суровеют пронзительной синью, отливают медной зеленью, слабо отсвечиваютжелтизной ртутных паров. Пленки тумана бросают влажные сумрачные тени. Белые потоки водопадов кажутся недвижимыми на отвесных обрывах. Не хватит сердца, чтобы вместить эту дикую, отрешенную от человека и вечно равнодушную красоту. Все здесь превосходит разум. И нерожденные слова умирают в горле перед бездной, которую нельзя измерить ни страхом, ни восхищением. За сизым туманом угадывается индиговая гряда величайших восьмитысячников, за наполненной синим крахмалом пропастью лежат невидимые в сиреневой мгле долины. А внизу уже вечер. Курится, застывая, туман. В молчаливой немыслимой синеве, в угасающем люминесцентном свечении четко вырисовываются острые контуры скал. Закончен долгий подъем. Впереди спуск в долины. Могли ли горцы, вся жизнь которых зависит от капризов могучих стихий, не обожествить свои величавые горы? Прислушиваясь в ночи к ужасающему реву и скрежету ползущего льда, они населили их страшными демонами. Окруженные ложными солнцами, чьи преломленные интерферирующие лучи ткут чудесную иллюзию, они внимали поучениям отшельников об изначальной пустоте и щемящей иллюзорности мира. В радуге, замкнутой в правильный круг, мнился им нимб, увенчавший лик будды Ами-табхи - владыки западного рая. Всюду были тайные знаки. Волшебные заклинания высечены у горных проходов, вода и ветер без устали вращают цилиндры, наполненные молитвенными свитками. Каждый оборот уносит в беспредельную высь миллионы чудодейственных «мани». А небо в ответ шлет свои веления, дожди при шести ложных солнцах, ночные огни, что тлеют в сухом разреженном воздухе на золотых навершиях монастырей, трагическое многоцветье прекрасного, жуткого, необыкновенного неба. На каждом шагу здесь встречаешь чор-тэнь - сооружение, олицетворяющее индо-буд-дийский космос с его землей и небом, пустотой и вечным огнем вселенной, солнцем, луной и странами света. По символическим знакам и форме колокола можно узнать, какой ступени «восьмеричного пути» к совершенству посвящено это причудливое строение, так удивительно гармонирующее с дикой прелестью первозданной природы.

Святое место
Гималаи - все еще изолированная область планеты. То, что горские племена, говорящие на языке тибето-бирманской группы, именуют словом лэм - дорога или даже чжя-лэм - большая дорога, зачастую обернется узенькой тропкой, петляющей по дну пропасти, вдоль стремительного потока, который редко удается перейти вброд. Мостов почти нет. Лишь изредка можно увидеть два-три бамбуковых ствола, переброшенных над ревущим, белым от бешеной пены омутом. А «подвесные» мосты целиком сплетены из лиан. Они качаются над обрывом, как матросская люлька в семибалльный шторм. Ни пони, ни як не отважатся войти на эту шаткую скрипучую паутину. Весь груз переносят в заплечных корзинах, широкая лямка которых плотно обхватывает лоб. Именно этот исконный способ породил миф о том, что в Гималаях не знают колеса. Французский этнограф Мишель Пессель тоже отдал дань этой выдумке в своей последней книге «Путешествие в затерянное королевство». Колесо пришло в эти края еще с первыми буддийскими проповедниками как символ мирового закона. У каждого храма стоят сотни молитвенных колес, которые прилежно вращают монахи и прихожане. Здесь неведома всего лишь повозка, потому что нет для нее дорог. Запутанный лэм змеится по крутым отрогам, вздымающимся на пять и более тысяч метров. Рядом сияют облака и кружат колючие метели, а снежные лавины ломают, словно спички, исполинские кедры и черно-ствольные серебристые сосны. Порой лэм превращают в тонкую ленту, заброшенную на скальный карниз, заледенелый, скользкий, повисший над ревущим ущельем. Там можно только стоять, прилепившись спиной к скале. Недаром горцы говорят, что путник в горах подобен слезе на реснице. Стоит моргнуть - и… Щебнистый трек над отвесным обрывом, где потрясенный путешественник, полагаясь только на везение и лошадь, бросает поводья, считается здесь хорошей дорогой: чжя-лэм! Неудивительно, что в этом фантастическом мире родилась не менее фантастическая «география» и был создан самый причудливый в истории пантеон. Вот несколько выдержек из старинных источников:
«На север лежит верховное царство Шамбала и принадлежащие к нему царства: Цзамбека, обезьян, золотоглазых, Ругма, Бур-батма, Золотое и прочие 96 царств. Также и не принадлежащие к ним некоторые страны турок и монголов, мусульман и не причисляющихся к ним других языческих племен, кроме того, царства: Дэв, Асур, Каннара, Гандар-ва, Якшасов, Ракшасов и других нечеловеческих племен». Маньчжул Хутукту. География Тибета
«То, что этот нефрит заострен кверху и закруглен снизу, - очень плохо. Он годится только на то, чтобы вырезать изваяние Гуань-инь». Нефритовая Гуаньинь (анонимная повесть Сунской эпохи 960 - 1279 гг.)
«Дорога шла через горы Тайхан. Вдруг из гор выскочил великан ростом с дерево». Пу Сун лин. Вероучение Белого лотоса

В гостях у лам
Ламаистское учение делит все стоящие над обычным человеком существа на восемь классов. И к первому классу причисляются ламы. Ламами были Будда Шакья-Муни и восемнадцать его ближайших учеников, потом на землю пришли и другие учителя, чтобы напомнить людям о законе, растолковать им смысл вращения мирового колеса. Это были проповедники и основатели сект: создатель махаяны Нагарджуна и его любимый ученик Адиша, распространивший буддизм в Тибете, реформатор Цзонхава, гуру Падмасамбава, поэт и кудесник Миларайпа - все те, кого почитают превыше богов. Строго говоря, лама - это настоятель монастыря, а рядовое духовенство нельзя относить к ламам. Людей в желтых или красных шапках лишь из уважения именуют столь высоко. Но даже это чисто формальное употребление титула ламы как бы приобщает священнослужителей к миру высших существ. Простой народ не подозревает о таких тонкостях догматики, а духовенство не проявляло особых стремлений его просветить. Второй класс составляют верховные «юда-мы», или «охраняющие божества». Главный среди них - непостижимый Адибудда, первейший из будд, «господин и хранитель всех тайн». Третий класс объединяет многочисленный пантеон «специализированных» будд: врачевания, покаяния, желания, созерцания, тысячу будд текущего мирового периода, будд, предшествовавших Щакья-Муни, грядущего будду Майтрею.

Ужасный повелитель преисподней
Затем следуют классы бодхисаттв, женских божеств, класс чойчжинов или дхармапал - хранителей закона, которых тибетцы именуют «драг-шед» - ужасные палачи (докшит по-монгольски). Ламаисты считают, как мы увидим далее, вполне обоснованно, что все чойч-жины были когда-то богами других религий, которые обратились в буддизм и стали ревностными его хранителями. Таков, например, Хаяграва - воплощение Вишну, наказавшего похитителей вед. В ламаизме он стал повелителем тайных сил и патроном лошадей. Чойчжины изображаются сидящими на драконах, львах, буйволах и т. д., пожирающими чудовищ или стоящими на солнечном круге, что имеет магический смысл. Они могут быть представлены в одной из трех форм: ужасной, богатырской или сладострастной. Все чойчжины с пятью черепами в короне принадлежат к разряду бодхисаттв. Лишь победитель смерти Ямантака и Махакала - Великое время возведены в класс будд. Второстепенные местные боги чужих народов тоже вошли в пантеон Северного буддизма. Они составляют седьмой класс - юллу. Последний, восьмой класс объединяет сабдыков - хозяев земли. Это духи рек, гор, лесов, источников, стран света и даже отдельных деревень. Пантеоны буддизма и индуизма частично пересекаются, заимствуя друг у друга различных богов. При этом, естественно, меняется место небожителя-перебежчика на иерархической лестнице. Особенно заметны подобные явления в современном Непале, который часто называют страной «тридцати трех миллиардов богов». Если реальное число и преувеличено, то не столь уж существенно, потому что нет особой разницы, идет счет на миллиарды или же «только» на миллионы. Живший в V веке нашей эры неоплатоник Прокл разработал в своих «Первоосновах теологии» основные принципы, по которым строится божественный пантеон. «Хотя божественное просто, первично и самодовлеюще, все-таки оно иерархично в зависимости от той или иной близости к единому». «Всякое множество божественных единиц численно ограничено, объединяясь с самим собой в своем начале, середине и конце». «Будучи соединением беспредельности и предела, боги в разной степени предельны и беспредельны. Выше всего боги отчие, функции которых - порождать бытие; дальше следуют боги живородящие, порождающие жизнь, являясь в то же время породительными, хотя не все породительные суть животворящие; и затем боги формообразующие или демиургические. Все это - параллельно основному делению на бытие, жизнь и ум. Но так как совершенство есть особый фактор богов, то возможно также деление богов на богов охранительных, очистительных и возводительных». Эти принципы одинаково хорошо подходят и к олимпийцам, и к «сокровищам на лотосе». Название «лама» дословно означает «выше нет». И действительно, ламы безраздельно главенствуют в сложной иерархии ламаизма. Лишь где-то в самом низу под ними находятся бодхисаттвы, ужасные устрашители, могущественные боги соседних народов: Брахма, Индра и Шива, духи рек и духи гор. Столь же строгой иерархии подчиняется и закон перерождений. «Магическое тело» будды или бодхисаттвы - это нить, на которую нанизываются жемчужины человеческих воплощений. Первоначально «право на божественное перерождение» принадлежало лишь главам ламаистской церкви. Но вскоре оно распространилось и на духовенство второго ранга - настоятелей знаменитых монастырей, заместителей далай-ламы в провинциях, высших иерархов других, более древних сект. Тибетское название таких перерожденцев - «ринпоче», что значит «великая драгоценность». К этому титулу часто добавляют еще и слово «паг-ба» - «благородный, возвышенный». Монголы вслед за тибетцами называли перерожденцев хутухту. За ринпоче-хутухту следуют перерожденцы тулкулам, или хубилганы (по-монгольски). Это перерожденцы настоятелей крупных монастырей. И если ринпоче почитаются как воплощения будд, бодхисаттв, юдамов и знаменитых индийских проповедников, то тулку рассматриваются в качестве перерожденцев богов и святых нижних разрядов. Наконец, сравнительно недавно возник и четвертый ранг перерожденцев. Всякий влиятельный лама уже может рассчитывать на то, что его станут рассматривать как воплощение какого-нибудь прославившегося благочестивой жизнью монаха. Одним словом, ламы стремились придать реальный смысл высокому своему званию. Те же кого будущее воплощение заботило куда больше, чем нынешнее, уходили в ледяной мрак подземелий и, замурованные в каменных могилах, предавались созерцанию. Мир богов на северной стене храмов зеркально отражает обрядность клира. Статуи и свитки изображают будд, бодхисаттв и святых проповедников с теми же атрибутами нездешней власти: магическими колокольчиками, барабанами, книгами, нищенскими чашами, белыми цветками лотоса и красным бутоном цветка ашоки. Боги украшены узорным орнаментом, разноцветными цветочными гирляндами, лентами и радужными нимбами, указывающими на особую святость. Троном им, как правило, служит цветок лотоса, символизирующий божественное происхождение и причастность к Будде. Отсюда падмасана - характерная поза лотоса и главная мани - мантра, прославляющая «сокровище лотоса». Отсюда же и имя Падмапани - Держащий лотос, данное двурукому воплощению Авалокитешвары. Поза божества, его асана, так же как и положение рук - мудра, строго определены каноном и имеют тайный символический смысл. Знатоки мудры насчитывают сотни значений, гкрытых в различных фигурах пальцев. Будда чаще всего изображается держащим одну раскрытую ладонь над другой, что означает медитацию, или касается средним пальцем -равой руки земли, призывая ее в свидетели. Другие мудры символизируют милость, уверение, внимание, размышление, поучение, колесо закона, угрозу, нирвану и др. Есть еще мудра колесницы, мудра лотоса и много других фигур, которые характеризовали раньше тайный язык брахманистских божеств, но утратили в Гималаях свой первоначальный смысл.

Коралловая маска дхармапалы
Бесконечны языковые возможности пальцев в индийском классическом танце, который всегда содержит в себе откровение, понятное лишь посвященным. Часто ламаистские боги держат в руках особые символы величия, устрашения или милости: колесо закона, лук и стрелы, зонтик, жезл из скелета, чашу из черепа, в которой пенится кровь. «Страшные» дхармапалы иногда сжимают мерзких животных, арканы для улавливания грешников, трезубцы, мечи, а то и венки из черепов, пучки вырванных глаз, кровоточащие сердца, оторванные руки и ноги. Лики богов, их волосы, руки, одежды раскрашиваются в уставные цвета, имеющие магическое значение. Главными вершителями судеб считаются будды, которые время от времени спускались на землю проповедовать учение, спасая людей от мук низших перерождений. Чаще всего изображают наиболее чтимых земных будд, которые когда-то явили себя миру в образе людей. Первый из них, Дипанкара, отличался гигантским ростом. Но постепенно снисходившие до земной жизни будды делались все меньше, и последний из них - Будда Шакья-Муни - уже ничем не отличался от обычных людей. В священных текстах приводятся различные списки существовавших до Шакья-Муни земных будд. Одни секты считают, что их было всего четыре, другие - семь или даже двадцать четыре. Наиболее канонизировано число четыре. Согласно одной из схем, земными буддами являются: Дипанкара, Касьяпа, Шакья-Муни, грядущий будда Майтрея и будда врачевания Бхайсаджаттуру, или Манла. Им соответствуют пять небесных будд созерцания, в которых проявляется все та же, присущая ламаизму, космическая универсальность. Она как бы устанавливает неразрывную связь между вселенной, божеством и человеком, все звенья которой отражаются друг в друге. Каждому будде созерцания поэтому соответствует определенная страна света, стихия, символический цвет и одно из человеческих чувств. Белый будда Вайрачана, который изображается с колесом закона, размещается в центре мироздания. Он олицетворяет эфир и звук. Тот самый звук, которым Шива пробуждает мироздание от спячки и который может быть услышан человеческим ухом. Синий Акшобхия царит на востоке. Его стихия - воздух, чувство - осязание. Желтый Ратнасамбхава опекает юг и властвует над огнем и зрением. Красный Амитабха, которого особо почитают в странах Дальнего Востока как Амиду и Амита-фо, олицетворяет запад, воду и ощущение вкуса. Зеленый Амогхасиддха отвечает за север и обоняние. Его стихия - земля. По канонической схеме небесному Вайрача не соответствует земной Кракучанда, Акшоб-хии - Канакамуни, Ратнасамбхаве - Касьяпа, Амитабхе - Шакья-Муни, Амогхасиддхе - Майтрея. Хранители-локапалы, которым присущи те же цвета, являются лишь младшими служителями будд-основоположников. Непосредственными восприемниками будд созерцания, их эманацией, или духовными сыновьями, как для большей простоты объясняют простому народу ламы, выступают бодхисаттвы созерцания. Если следовать приведенному порядку, буддам соответствуют следующие бодхисаттвы, связующие их с миром людей: Самантабхадра, Ваджрапани, Ратнапани, Авалокитешвара и Висвапани.

Ваджрапани в милостивом облике (эманация будды Акшобхии)
Самым распространенным является образ Будды Шакья-Муни. Чаще всего он предстает сидящим на алмазном престоле и достигшим высшего просветления. Тело алмазопрестольного Будду Гаутамы покрывают позолотой либо, на худой конец, желтой краской. У ног лежит жезл громовержца - ваджра. Гималайские племена, говорящие на тибетских диалектах, именуют Гаутаму Шакья тхубпа, монголы - Шигемюни, китайцы - Кяо-та-мо, японцы - Шакамуни. Его основные мудры: уверение, колесо жизни, свидетельство и медитация. Символ - нищенская чаша. Цвет - золотой. Трон - красный лотос. Как сам Шакья-Муни, так и все его предшественники и потомки являются правителями нашего мира. Но были, есть и будут святые наставники иных неисчислимых миров. Все они, согласно сокровенным трактатам ламаизма, проистекают из единого тела верховного Адибудды, «будды будд», предвечного и самотворящего, как Брахма. Он выступает в роли не только мудреца, «переплывшего своею нравственной силой бурное море перерождений и достигшего благополучно того берега освобождения», но существа бесконечного и безначального. Это буддийский вариант абсолюта. Он премудр, всемогущ, вездесущ, и никто не может исчислить и уяснить всех его свойств. Даже величайший из магов, способных «зачерпнуть всю воду морскую, поднять ее в воздух и пересчитать каждую каплю». Так как Адибудда в своем бытии ни от кого не зависит, то его называют еще и Сваям-бху - Божество самотворящее. О древнейшем непальском храме Сваямбхунатх речь пойдет впереди. Здесь лишь упомяну о том, что видел рукопись, где говорилось о том, как Адибудда ощутил желание «выйти из единства во множество». Из этого желания и произошли все пять «дхьяни-будд» - небесных будд созерцания. Из них наибольшим почетом окружен Амитабха - владыка западного рая Сукхава-ти. В странах Дальнего Востока он превратился в главное божество, которому приписывается закладка фундамента вселенной. Верующие в Амитабху попадают в «страну совершенного блаженства», где перерождаются для высшего бытия. На иконах китайской школы часто можно видеть различные вариации одной и той же сценки, где будда Амитабха встречает душу умершего праведника.

Будда Шакья-Муни
Обыкновенно он изображается стоящим на лотосе, окруженный радужным сиянием. Крутыми спиралями исходят от его чела лучи благости. Будду сопровождает сонм бодхи-саттв с цветками лотоса в руках. На один из бутонов всходит крохотный ребенок, символизирующий безгрешную душу. В раю несущий праведную душу лотос распустится, а праведник обретет блаженство. Иногда на иконах рая Сукхавати будду и бодхисаттв сопровождают музыканты и прекрасные танцовщицы. Вообще рай часто условно изображается в виде чудесных летающих в небе музыкальных инструментов, которые, «некасаемые сами, звучат» над прекрасными синими озерами, поросшими огромными розоватыми лотосами, где покоятся праведные души. Над зеркальной водой пролетают пестрые птицы. Тянется к западу журавлиный клин. Вот как говорят о рае сутры: «В стране совершенного блаженства есть семь драгоценных прудов, наполненных водой восьми заслуг… В пруду лотосы с большое колесо, благоухающие тонким ароматом. В стране совершенного блаженства, в чистой земле Будды, есть всевозможные красивые птицы разных цветов - домашние и дикие гуси, цапли, аисты, журавли, павлины, попугаи, калавинки, двухголовые птицы мичмин и другие. Во все часы дня и ночи они общим хором стройно поют». В гималайском пантеоне Амитабха является духовным отцом Авалокитешвары, перерожденцами которого считаются далай-ламы. Интересно отметить, что на Дальнем Востоке милосердный бодхисаттва превратился в женское божество. В токийском храме Каннон, в районе Асакуса, я видел тысячерукую статую этой милосердной богини, вобравшей в себя силу мужчины и женщины, соединившей дух Авалокиты с духом его божественной жены. В медицинских дацанах свисают с потолка гигантские изображения Будды - «владыки врачевания», учителя и покровителя лам-лекарей. На санскрите он зовется Бхайсаджат-туру -или Пиндола, на тибетских диалектах - Манла, по-монгольски - Оточи и по-японски - Якуши. Его одежда красится в синий цвет. В левой руке он держит патру - чашу нищего или золотой плод миробалана. В Гандантэкчэнлине - единственном из действующих монастырей Монголии - я присутствовал на празднике в честь Манлы. Для того чтобы развернуть исполинский свиток с его изображением, ламам пришлось разобрать часть крыши. Наследником Шакья-Муни - последнего земного будды - считается, как уже говорилось, Майтрея. Этот грядущий будда, с именем которого простые люди в Гималаях связывали надежды на лучшую жизнь, должен, как и будды первых воплощений, явиться в мир великаном. Его изображают с маленькой ступой на голове и в желтых одеждах. Перед тем как сойти с неба на землю, Шакья-Муни возложил свою диадему бодхисаттвы на голову Майтреи. Когда придет его черед появиться на земле, раскроется священная гора Кукупада, чтобы новый будда смог взять спрятанные там монашеские одежды и чашу Шакья-Муни. «Не раскрылась ли гора Кукупада?» - спрашивают друг друга простые люди, ощутив толчок землетрясения или большой горной лавины. Но Майтрея-победитель все еще пребывает в заточении. Как и все бодхисаттвы, он изображается в виде индийского принца с роскошной диадемой на голове, с драгоценными браслетами на руках и ногах. На нем богатое одеяние. С его плечей свешивается развевающийся шарф. Его символ - белый с желтой серединой цветок чампа, который на юге Индии зовут нага-пушна. Реже Майтрея изображается в виде будды - нищего монаха с высоким шиньоном - ушнишей, украшенным ступа-чортэнем. Наиболее чтимым божеством из разряда бодхисаттв является Авалокитешвара, перерожденцами которого считаются далай-ламы. Авалокитешвара, он же Арьяболо, Львиного-лосый и т. п., - духовный сын владыки западного рая Амитабхи, одного из пяти будд созерцания. Авалокитешвара сходит со священного лотоса на землю, чтобы уничтожить страдание. Он отказывается превратиться в будду до тех пор, пока все люди земли не встанут на путь высшего познания, избавляющий от страданий, рассеивающий власть иллюзии - Майи. Священные книги говорят, что великий бодхисаттва, «обладая могущественным знанием, замечает создания, осажденные многими сотнями бед и огорченные многими печалями. Поэтому он является спасителем мира, включая богов». Дословно его имя переводится как Всматривающийся хозяин, почему его часто именуют просто Авалокитой - Всматривающимся. Его мудра - благочестие, символ - четки или бутон лотоса. Изображается он во множестве форм: как обычный человек (Падмапани, Локешвара, Авалокита, ставший буддой и т. д.), четырехруким (именно в этой форме он воплощается в далай-лам), с тремя, пятью, шестью и девятью парами рук. Порой он предстает трехглавым, пятиглавым и даже одиннадцатиглавым. При этом у него может быть шесть, восемь, двенадцать, двадцать четыре, а то и тысяча рук. Японская форма Канной и китайская Гуанинь рисуются с 22 000 рук. Я видел такие изображения в Киото, Пинанге и Сингапуре. Руки божества располагаются концентрическими кругами вокруг туловища, как спицы в колесе, как лучи на солярном диске.

Авалокитешвара в облике тысячерукой Каннон
В Гималаях Авалокитешвару чаще всего изображают с одиннадцатью головами. Это связано с интересной легендой. Как-то взглянув с небес на землю, Всматривающийся был настолько поражен открывшейся ему безотрадной картиной, что не смог сдержать рыданий. Потрясенный жестокими страданиями живых существ, он плакал до тех пор, пока голова его не раскололась на десять частей. Амитабха собрал осколки и сделал из них новые головы, прибавив к ним свою собственную. Так и рисуют с тех пор Авалокитешвару. Поразительно, но он отнюдь не выглядит чудовищем. Напротив, в его многоликой и многорукой фигуре ощущается удивительная соразмерность. Головы, которые суживаются кверху, как многоэтажная пагода, скорее похожи на остроконечный колпак халдейских звездочетов. Три трехликих «этажа» увенчивает маска устрашителя, которая кончается шиньоном Амитабхи. Каждая голова раскрашивается в особый цвет. Центральный лик Авалокитешвары белый, лицо справа зеленое, слева красное. Следующие два «этажа» содержат иные комбинации тех же красок, Устра-шитель выкрашен в черный цвет, Амитабха - в красный. Каждая из десяти голов (кроме Амитабхи) увенчана золотой диадемой, усыпанной самоцветами. У такой одиннадцати-главой формы Авалокитешвары восемь рук. Есть еще десятиликое, более редкое изображение, где две непропорционально большие руки сидящего Аволокиты служат троном для крохотной статуи Амитабхи. Изображение этого будды помещается перед ушнишей че-тырехрукого Арьяболо и двурукого Локанатхи. Авалокитешвара олицетворяет милость и несет улыбку сочувствия. Тибетцы зовут его Шенрезиг - Белый и милосердный ликом, монголы - Хоншим, Улыбающийся. Основной его цвет белый, цвет траура и сострадания. Лишь в Непале он изображается в красных одеждах. В Патане я долго выспрашивал главного ламу старинного монастыря, посвященного Одиннадцатиликому, с чем связана столь резкая перемена уставных цветов. Но он только улыбался в ответ и показывал на кружку для подаяний. Я опустил в щель бумажку в одну рупию и вновь пристал к монаху с расспросами. Тогда он показал мне альбом, где за фотографией главной святыни храма следовал текст, начинавшийся многообещающим: «Я, всемилостивый бодхисаттва Авалокитешвара…» Но все заканчивалось призывом жертвовать на храм. Объяснения красному цвету я так и не нашел. Скорее всего в Непале действует своя система, согласно которой эманации будд созерцания получают цвета только своих патронов (Амитабха - красный). Вообще в разных странах существуют свои вариации раскраски и «соподчиненности» божеств, отличные от канонических. Особенно резкие отличия можно встретить на Цейлоне и в Таиланде. Мудра Авалокиты: намахкара - молитва Это ему посвящена знаменитая мантра: «Ом-мани-падмэ-хум». А его заклинание: «Хрй!» В ламаистских монастырях хранится множество изображений и других бодх.исаттв: Манджушри, Ваджрапани, Ямантаки и т. п. Особую группу составляют женские божества: милосердные Тары, и прежде всего белая - дочь и тантрийская жена, или шакти, Авалокиты, богиня любви и богатства Куркулла, Сриматидэви, ужасная веприца Ваджраварахи, четырехрукая Дуккар, пляшущие на трупах дакини и т. д. Белая Тара родилась из одной слезы Авалокитешвары, когда тот рыдал над ужасами мира. Это единственная богиня, к которой простой человек может обратиться сам, помимо посредника - ламы. Из сострадания к людям она сама проводит их через мучительную цепь перерождений прямо в нирвану. За то и зовут ее Тара - Милосердная. Вместе с Ава-локитешварой она защищает бедный человеческий род и всегда откликается на молитвы несчастных. Она часто спускается с небес на гору Потала, откуда внимательно следит за каждой слезой, оброненной безвинным страдальцем. Жена и дочь Всматривающегося… Тибетские племена называют ее Долмой или Ролмой, монголы - Дара-эке, то есть Мать Тара, китайцы - Толо, японцы - Ротара-ни-би. Ее символ: белый лотос, а мудра обещает покровительство. Уставные цвета: белый и зеленый. Белая, она супруга Авалокиты, зеленая - его шакти. В тантрических формах она может предстать синей, желтой и красной. В тайной книге «Калачакра» сказано, что богиня может быть красной, как солнце, синей, как сапфир, сверкающей, как золото. Она известна под именами Джангули, Экаджаты, Бхрикути, Куркуллы и Ситатары.

Тара
Зеленая форма Тары пользуется особой любовью в Гималаях. Считается, что она пришла на землю в образе непальской принцессы, ставшей женой царя Сранцзангамбо, утвердившего в Тибете буддизм. Сиаматара - Зеленая Тара - изображается сидящей на лотосе с маленьким цветком лотоса в руке. Одна нога ее спущена с трона и опирается на такой же цветок лотоса. Символ белой жены - раскрытый лотос, цветок тайной шакти - закрыт. Любопытно, что монголы считали Белую Тару воплощением русских царей. Дело в том, что впервые ламаисты познакомились с русскими во время царствования Екатерины II и долго продолжали считать, что в России по-прежнему правит красивая женщина в царской короне, очень похожая на Белую Тару. По всей вероятности, они видели изображение государыни на монетах.

Ушнишавиджая
Одиннадцатиликого кроме четок, бутона и цветочного лука характеризует еще один очень своеобразный признак: глаза на открытых ладонях. Этот же специфический атрибут присущ и Белой Таре, которую часто зовут Семиглазкой. Кроме обычных глаз и третьего глаза во лбу ей даровано по паре глаз на ступнях и ладонях, чтобы ни одна несправедливость не осталась незамеченной. Существует и трехглавая форма Тары - Победная Ушнишавиджая, которая держит в руках скрещенные ваджры - висуваджру, фигурку Амитабхи, цветочный лук и кувшинчик с амритой. Одноликая Ситатара, или Ушнишасита, - богиня Белого зонта. Среди женских богинь и унаследованные буддизмом прекрасная Сарасвати, покровительница поэзии и музыки, чья вахана - павлин; Праджняпарамита (Совершенство прозрения), олицетворяющая трансцендентальную мудрость, и богиня зари Маричи, запрягающая в свою колесницу семерых поросят. Кроме будд и бодхисаттв ламаистский пантеон, как уже упоминалось, состоит из сотен других, часто имеющих страшный облик божеств. Многорукие и многоголовые, зачастую они действительно выглядят весьма устрашающе. Но к буддистам «ужасные палачи» весьма милостивы. Ведь чем больше рук у бога, тем непобедимее он в борьбе с силами зла, тем больше сможет принести добра верующим. Это древнее языческое верование усвоили многие религии. Следы его можно обнаружить и в православии. На одной из икон («Троеручица») божья матерь представлена с тремя руками. С оскаленными клыками, с искаженными яростью лицами рисуют божеств - охранителей закона, стражей веры и царей - хранителей стран света. Они изображаются либо нагими со всеми натуралистическими подробностями, либо в доспехах, с грозным оружием в руках. Украшенные колесами закона на вздутом животе и запястьях, с черепами на лбу и волочащейся по земле перевязью, они скачут на разъяренных животных, подминая под себя поверженные тела врагов. Бог смерти Яма то один, то с близнецовой сестрой Ями пляшет на буйволе, который соединяется с женщиной. «Никогда не стану я соединять тело с твоим телом», - говорится еще в Ригведе (Яма и Ями). Сриматидэви, или Палданлхамо (по-тибетски), скачет на муле, взнузданном зелеными змеями, и седлом ей служит кожа собственного сына, сделавшегося отступником. Варуну несет по водам дракон. Владыка севера Вайсравана, он же индуистский Кубера, восседает на льве Орслане. Каждый монастырь, секта и просто отдельный буддист-мирянин выбирают себе личного юдама - покровителя. Порой такой юдам берется на всю жизнь, порой - только на время, для выполнения той или иной цели. Для того чтобы умилостивить страшного защитника, совершают сложные, большей частью тайные обряды. Традиция тантр [1] считает, что особое могущество бог-покровитель обретает в момент соединения со своей духовной женой - шакти. [1 Тантры - общее название особых текстов, выражающих идеи шактизма и тантризма. Обычно они построены в виде диалога Шивы и Парвати и содержат наставления по произнесению мантр и шактийской обрядности. В ламаизме приняты свои тантры.] Отсюда изображения богов, сплетенных в самых откровенных позах, многоликих и многоруких, оскаливших страшные рты. Самвара, Ямантака, Калачакра большей частью изображаются вместе с шакти. Чтобы подчеркнуть неистовство объятий, развевающиеся волосы, чувственные губы и сладострастие, высунутые острые языки раскрашивают киноварью. На иконах эти боги окружены языками пламени. Порой они пролетают над кладбищами, где дикие звери разрывают могилы и терзают мертвецов. Сриматидэви, считающаяся покровительницей Лхасы и беременных женщин, сама пожирает на скаку трупы. Одним словом, чем страшнее, тем лучше, ибо божества призваны прогонять орды демонов, несущих болезни и смерть. Такова, например, веприца Ваджраварахи - отвратительная краснокожая женщина со свиной мордой. На шее нагой богини - традиционное ожерелье из черепов, в руках - жезл в виде детского скелета, унизанного мертвыми головами, и наполненная чаша из черепной коробки. Как и положено, веприца пляшет на трупе грешника или поверженного демона. В короне из черепов предстает перед нами и ацтекская богиня жизни и смерти Коатликуэ. На груди мексиканской Кали тоже висит мертвая голова. Можно провести удивительные параллели между мифологическими системами Азии (и Европы) и доколумбовой Америки. Вера ацтеков в верховное двойственное начало, мать и отца всего сущего, так же как и их представления о небесных сферах и подземном царстве мертвых, обнаруживают несомненное сходство с аналогичными воззрениями индийцев, китайцев, тибетцев.

Монах в маске Ямы
Еще более поразительную аналогию можно усмотреть в картине мироздания. Индо-тибет-ские четыре страны света, охраняемые лока-палами, и соответствующие им цвета имеют несомненного двойника в Мезоамерике. Много общего и в космогонических мифах. Индийская махаюга делится, как известно, на четыре юги, или эпохи, - Крита, Трета, Двапара и Кали, которым тоже соответствует определенный цвет. Упоминание о четырех эпохах, исчисляющих время существования человеческого рода, мы находим в греческой мифологии, в преданиях кельтов и майя. Вот как выглядит распределение цветов по эпохам в мифологии различных культур:

Уродливые, отвратительные черты чойчжинов особым образом истолковываются в тантрийских сочинениях. Согласно традиции, именно так подчеркивается присущее могучим богам отвращение к предметам материального мира, стремление подавить греховное начало. Чудовищные формы тела символизируют, как уже говорилось, силу в борьбе со злом. Нагота свидетельствует о свободе, которая достигается преодолением препятствий на пути к спасению. Чудовища и грешники, попираемые ногами, олицетворяют укрощенные людские страсти. Здесь каждый жест, самая незначительная деталь что-нибудь да значит. Оскаленные клыки олицетворяют силу, укрощающую язык, а выпученные глаза - греховные мысли. Особое внимание уделяют тантрийские книги дуализму полов. Как и в индуизме, в гималайском буддизме одной из главных доктрин является тайный культ духовно-сексуального принципа единства противоположностей. Созерцание - дхьяна - рассматривается здесь как мужской принцип, который остается инертным, пока его не пробудит космическая женская энергия - праджьяна, или шакти. В Непале я видел тибетскую икону танка с изображением нагой, пляшущей на трупе дакини, из лона которой исходил шлейф энергии, рождающей миры и богов.

Дакини. Тантрийская икона
Дакини (бесовка), матанги (неприкасаемая), пишачи (ведьма), йогини (колдунья) - все эти низшие женские божества с демоническими именами и соответствующей внешностью воплощают, подобно тарам, творческую энергию шакти. Как и в эпоху брахман, современные ламаисты считают, что на таких богов можно скорее воздействовать принуждением, чем мольбой. Якутские шаманы, подвергавшие своих вырезанных из моржовой кости божков - пеликенов - порке, довели этот принцип до крайности. Буддийские божества часто изображаются с третьим глазом на лбу. Это «урна», знак особой мудрости и могущества. Иногда он едва намечен и представляет собой точку, наподобие индийского тилака, но чаще всего это вполне сформировавшийся глаз, расположенный вдоль линии носа. Так рисуют и чойчжинов, и милостивых богов. В храмах я часто встречал маски в виде черепов с тремя пустыми глазницами. Третий глаз символизирует особое божественное зрение, не подвластное ни времени, ни пространству, проницающее стены, читающее мысли людей. С тилаком, или драгоценным камешком во лбу, изображаются не только будды, но и проповедники, которые почитаются за святую жизнь, глубокую мудрость и за то, что несли свет учения другим народам. То же можно сказать и об иконах далай-лам. Пропорции тела и раскраска богов, их атрибуты, позы, число голов, глаз, рук, даже выражение лиц - все это раз навсегда определено и не подлежит изменениям. Лишь изображения учителей и монахов не столь строго канонизированы. Здесь еще возможны различные вариации. Мандалы, изображающие мироздание в форме диска, и миниатюрные ступы тоже создаются по строгому канону. Мандала представляет собой круг, в который вписан квадрат с отходящими от него фигурами в виде буквы «Т» и маленьким кружком посередине. Это наглядная карта индо-буддийского космоса, символическое изображение мира. В центре ее обычно помещают фигуру божества, крторому данная мандала посвящена, или отдельный атрибут типа лотоса, ваджры. Бывают мандалы с горой Сумер, окруженной поясами главных стихий, четырьмя островами - материками. При богослужении лама сжигает перед мандалой благовония, приносит дары и непрерывно читает мантры, вызывая время от времени нужное ему божество. Часто он впадает при этом в экстаз, начинает шаманить, изменившимся голосом выкрикивает пророчества. Считается, что в эти минуты на него находит божественное откровение или что выкликаемое божество вселяется в ламу. В книге Мишеля Песселя «Путешествие в затерянное королевство» мандала прямо названа «географической картой». Разумеется, это не так, поскольку она изображает не реальный, а все тот же мистический индо-буддийский мир. И вообще понятие «мандала» гораздо более широкое, нежели просто наглядная схема космоса. Оно тесно связано с практикой йоги. Мандала призвана вызвать видение божества. Это своего рода адхара, или опора, помогающая достичь основной цели медитации. Все упражнения сводятся в конечном счете к одному: слиянию с Адибуддой, абсолютом или Брахманом индуистской философии. Проявлением такого абсолюта может быть любое божество. Наставники по медитации обычно сами выбирают для своих молодых учеников того или иного представителя единой божественной сущности. Это и будет юдам в строгом соответствии со смыслом понятия. При посвящении в высшие степени лама, избравший путь медитации, берет себе имя своего юдама. Но это тайное имя, о котором, кроме наставника, никто не должен знать. Юдам как бы обретает реальное существование за счет духовных сил своего подзащитного. Это проекция вовне внутреннего психического состояния человека в момент наивысшего сосредоточения. Неудивительно, что многие ламы отличаются глубокой и совершенно искренней религиозностью, далекой от ханжества и обмана. Они так часто погружаются в мир своих видений, что уже не отличают его от яви. В сугубо психиатрическом смысле это больные люди, погружающиеся в безумие, чтобы стать Ваджрасаттвой, олицетворяющим Адибудду, семиглавым Хэваджрой, Сангдуем - покровителем тайных сект, Самварой или Калачакрой - Кругом времен. Тантрический буддизм усовершенствовал технику психической тренировки, пронизывающую все религиозные учения Индии. Претерпела изменения и конечная цель медитации. Погружение в самадхи было направлено на приобретение магической власти, развитие сверхъестественных способностей. Медитация, таким образом, обрела явно психопатический оттенок. При помощи самогипноза созерцатель мог вообразить, что он рождается сыном Тары, убивает своего отца Будду и занимает его место. В ходе ритуального сближения со своей шакти он становился Буддой, а она - Тарой. Чем не Эдипов комплекс, возведенный в мистический абсолют? Более того, медитирующий монах воображал, что и он сам становится Тарой, воплощением женской мощи. Зрительное воплощение фигуры божества ускоряли заклинания, янтры и, конечно, ман-дала - олицетворение космоса. В Патане и Бхадгаоне я видел рисованные мандалы, специально предназначенные для этой цели. Они отличаются строгой геометрией, оптическим узором из треугольников и кругов, чистыми и яркими цветами, расположенными четкими концентрированными массами. Для тренированного созерцателя достаточно одного взгляда на такую диаграмму, чтобы впасть в прострацию. В тантрийской мандале двойственная сущность индийского искусства доведена до крайнего предела. Именно этим объясняется появление большого числа изображений с несложной композицией, предназначенных сугубо для медитации. Они подробно описаны в иконографических трактатах «Гухьясамаджа» и «Таттвасанграха». Мандала - это не только круг (дкилкхор по-тибетски), но и любая икона с ее центральным образом, луной и солнцем. Это и бронзовая статуэтка чойчжина на солнечном круге, и чортэнь, который в плане суть мандала, и Даже целый архитектурный комплекс. Многие древнейшие храмы в Индии, Индонезии, Бирме, Камбодже, Таиланде построены в виде мандал. Грандиозные Борубодур и Ангкорват, буддийские памятники в Санчи и Амаравати рисуют нам образы вселенной богов. Один полубезумный кхмерский властитель собирался даже застроить культовыми сооружениями всю свою страну, которая мыслилась ему гигантской мистической диаграммой. Использование формальной структуры мандалы характерно и для искусства Гималаев. Храмовая живопись, пластика и архитектура - все направлено на то, чтобы облегчить блуждания духа по космическим сферам. Помочь совершить восхождение к высшим ступеням отрешенности через постижение вселенской гармонии.

Бодхи-саттва Маниви-мала. Монгольская икона на шелке
И далеко не последнюю роль играли тут сверкающие вершины гор. Они занимали важнейшее место при размещении всех без исключения архитектурных ансамблей. И ламы, и брамины выбирали для строительства храмов самые лучшие, самые красивые места. Монастыри же всегда располагались только на возвышенностях, куда, согласно уставу, не должен был доходить шум ближайших селений. «Спросите, какое здесь самое древнее место, оно же обязательно окажется и самым красивым» - этот безотказный рецепт Азии полностью сохраняет свою силу и в Гималаях. Красота гор стала и священной мистерией их. Золотой ганджир на крыше, как последняя сверкающая точка на голубой мандале горизонта. Чтобы показать, насколько канонизированы все священные изображения и как они соотносятся с понятием мандалы, я хочу привести несколько выдержек из древних манускриптов. В них таится поразительное, ускользающее от разума, но явственно осязаемое своеобразие, которое пронизывает все сферы гималайской жизни: культуру, религию, медицину и сугубо утилитарное ремесло богомазов. Триединство космоса, человека и божества - имя его. Этим пронизан тантрийский цикл Самвары,воплощенный в трех мандалах: тела, речи и мысли - основных элементах, связующих человека со вселенной. В Гималаях юдама Самвару, имеющего ранг будды, называют тибетским именем Дэм-чок, что означает Доброе счастье. Вот несколько выдержек из специальных трактатов.
«Характерные признаки круга сердца Будды: от середины мандала сердца до горла и пупка - половина меры, или 12,5. От горла до пупка - мера 25 - таковы признаки поясняемой маидалы тела». Данджур (Отдел комментариев к тантрам)
Голова подобна возвышающейся башне. Пять органов чувств подобны окнам. Кости черепа подобны крыше. Темя подобно открытому отверстию раковины. Уши подобны склоненным головам Гаруды. Ноздри подобны украшениям навершия. Волосы подобны кирпичикам глиняной черепицы. Руки подобны шелковым подвесным украшениям. Остов груди и бедер, как верхняя и нижняя веранды. Диафрагма подобна шелковой занавеси. Сердце подобно царю, восседающему на троне. Пять больших долей легких подобны министрам. Пять малых долей подобны принцам. Печень и селезенка подобны старшей и младшей царицам. Почки подобны сановникам внешних дел или силачам, поддерживающим балки. Медицинский трактат «Чжудши» (учение о структуре тела)
«Мудрецами давних лет составленные трактаты непонятны. Чтобы поздним поколениям было легко постигнуть первоначальную методу, основные правила этой системы изложены в письменном руководстве». Лобсан-Данби- Чжалцхан. Добрый путь благого начала
«Мера обыкновенных людей в высоту - 84 пальца, а в ширину - 96. Ширина и высота их тела неодинакова, тогда как тело будды равно и в высоту и в ширину». Трактат Таранатхи
«Очи всесовершенного будды имеют в ширину два ячменных зерна, а в длину - два пальца и шесть ячменных зерен, по форме они подобны луку». Трактат Цагун-хурдэ
«Будда начертил своим лучом на чистой бумажной ткани изображение собственного тела, а когда мудрый художник закрепил его красками, повелел под этим изображением (нарисовать) колесо Сансары с пятью мирами и двенадцатью ниданами круговорота (бытия), написать шлоки: наверху о том, к чему следует стремиться, внизу - о том, что следует оставить». Лобсан-Данби- Чжалцхан. Переправа мудрецов (трактат о соразмерности облика богов)
КОЛЕСО МИРА
Мы шли дорогой суеты, И вот мы сохнем, как цветы Среди заброшенных руин. Брели, толкаясь, сквозь толпу И угасаем, как рубин У бога мертвого во лбу. Все цапли, как одна, умрут, Когда покинет рыба пруд, Уснет в плену речных излук… Куда тогда пойдете вы? О чем вздохнет, ломаясь, лук, Дрожа обрывком тетивы? Дхаммапада
Настала пора поближе познакомиться с этим роковым колесом. Западный мир узнал о нем, как ни странно, от Киплинга. В его «Киме» таинственную диаграмму якобы открывает старый лама. На самом же деле эта нагляднейшая из мандал издавна украшала стены бесчисленных монастырей, дворцов и самых захудалых молелен, разбросанных на неоглядных просторах Азии. В дореволюционной Монголии картинка «сансарийн хурдэ», что означает «колесо мира», висела чуть ли не в каждой юрте. Оно и понятно. Пиктографический рисунок о нравственном учении буддизма, о воздаянии за добрые и злые дела могли «прочитать» самые темные люди, ни разу не державшие в руках книгу. Диаграмма составлена из трех концентрических кругов. Центральный представляет собой эмблему трех зол, коренящихся в человеческом сердце. Свинья - символ невежества, змея - олицетворение гнева - и курица - воплощение сладострастия - образуют дьявольский хоровод, кусая друг друга за хвосты. Средний круг радиусами разделен на пять миров. В самом низу размещается мир ада, состоящий из двадцати отделов. Там восседает синий якоглавый Яма, вершащий загробный суд. В его магическом зеркале отражены все добрые и худые деяния, которые будут точно взвешены. Куда склонится чаша весов, туда и отправится трепещущая душа в белом наряде смерти. Добрый и злой гении, сопутствовавшие ей в течение жизни, тоже вели подробный учет всех деяний и помыслов. Они присутствуют на суде, чтобы самая малость, могущая подчас решить судьбу грешника, не укрылась от владыки ада. Несмотря на зеркало, весы и свидетельские показания гениев, каждый обязан рассказать о себе сам. Это первое наказание Ямы. На рисунке изображается как раз такой момент. Коленопреклоненная душа, молитвенно сложив руки, ведет свое печальное повествование, а гении, черпая из мешков, сыплют на чаши весов белые и черные шарики. Просто и понятно. Если белых шариков окажется больше, душа сможет покинуть скорбные своды первого отдела. Из остальных девятнадцати выхода нет. Там живописуются жутчайшие пытки, которым подвергают грешников черти, точнее, прислужники Ямы, ибо ламаизм не признает абсолютной полярности мира, присущей христианству. Тем не менее «Ад» Данте или православная икона, изображающие страшный суд, могут дать исчерпывающее представление и о преисподней Ямы. Другие миры «колеса жизни» изображают царства биритов - мерзких скелетов с безобразно всклокоченными волосами, животных и людей, а также рати тенгриев и асуров, ведущих между собой беспрерывно войну. Асуры ощетинились луками, копьями и мечами, а тенгрии обрушивают на них с облаков ваджры - стрелы небесного огня. («Небесный бой» Рериха, где нет ни тенгриев, ни асуров, а только мятущиеся тучи и вещая нахмуренная земля). Последний, третий круг, или обод «колеса мира», разделен на двенадцать нидан. Настала пора рассказать об этом подробнее. Учение о ниданах - причинах в цепи бытия - приписывается самому Шакья-Муни. «Тогда он припомнил связь своих многочисленных прежних перерождений и перерождений других существ», - говорится в «Лалита-вистаре». Короче говоря, кольцо нидан призвано напомнить верующим основное учение буддизма о причинах и следствиях, объясняющее происхождение материального и духовного начал и тайну перерождений. Первая нидана в образе старика, едва стоящего на ногах, говорит о закате жизни. Вторая - о начале ее: на рисунке показана роженица с младенцем. Далее следуют аллегорические картинки, говорящие о греховности материального мира и тщете человеческих желаний: курица, высиживающая яйца; крестьянин, собирающий плоды с дерева; пьяница с чашей вина; ослепленный стрелой человек, безуспешно пытающийся вытащить ее из своего глаза; мужчина и женщина в любовных объятиях. Восьмая нидана представлена видом опустевшего дома. В буддийской символике это означает оболочку, живое тело. Человек словно дом без хозяина, куда забрались воры, действующие по собственному произволу. Под ворами подразумеваются пять чувств, отвлекающих дух от сосредоточенности. Девятая аллегория рисует лодку посреди реки, десятая - обезьяну, бессмысленно мечущуюся от предмета к предмету, одиннадцатая - горшечника, вылепившего три сосуда, символизирующие людские деяния: благие, греховные и непоколебимые. Все завершается фигурой слепой старухи, которая сама не ведает, куда и зачем бредет. Даже не зная буддийской символики, легко уловить основную идею мандалы. Она наглядно убеждает верующего в том, что видимый мир призрачен и лишен смысла. Одно лишь невежество может придавать хоть какую-то цену его обманчивым соблазнам. Они ничто. Привязываясь к миру, к его призрачным ценностям, человек лишь увеличивает свои страдания, ибо приверженность эта влечет за собой перерождение и новые муки. «Колесо мира» держит в зубах и когтях чудовищный красный мангус - прислужник повелителя смерти. Но над головой демона нарисованы космические знаки луны и солнца и лама в монашеской тоге, объясняющий тайный смысл колеса пыток. Единственная надежда ослепленного, страдающего люда… Когда вблизи гигантской ступы Боднатх я рылся в лавке, завешанной сотнями больших и малых свитков с рисунками колеса, то думал, что обязательно начну книгу с этого эпизода. Но автор не всегда властен над собственным замыслом. Ослепительное великолепие Гималаев, их полнокровная хмельная сила властно перекроили мои намерения. Чистота снегов и ликующая зелень альпийских лугов взывали к исконной праязыческой мощи старика Химавата, породившего, кстати сказать, богов индоевропейских народов - славянского Перуна и Перкинса прибалтов. Пусть же рассказ о колесе сансары станет прологом истории о том, почему именно в Гималаях утвердилась буддийская вера. От Сринагара до Леха - главного города Ладакха - всего 430 километров. Но это была гималайская дорога, джялэм, проложенная через перевалы Малого Тибета. Нормальное шоссе кончалось где-то за Гандербалом, на берегу грохочущего Зинда, прыгающего по рыжим обкатанным валунам. Змеясь вдоль галечного русла, в котором среди каменного хаоса и вывороченных с корнем стволов беснуется, неистовствует, гневно клокочет мутный поток, джялэм сворачивал к долине Инда, нырял в котловины, наполненные влажным застойным жаром, взлетал под облака. Бесконечные «ла» - перевалы, увенчанные каменными горками и выцветшими полосками материи, сурово отсчитывали отрезки изнурительного пути. Буйные ветры проносятся над Цоджи-ла, Намике-ла и Фоту-ла, вознесенными на высоту в три и четыре километра. Колючая пыль и снег, сухой, как наждак, шлифуют выбеленные, истонченные до ломкого целлулоида кости лошадей и баранов, верблюжьи остовы и рогатые черепа яков. На подходе к Цоджи-ла небольшое кладбище. Камнем с блестящей прожилкой, рогом архара, а то и морской раковиной отмечены могилы безымянных путников. Быть может, они везли шерсть и соль с далеких северных плоскогорий или гнали мулов, навьюченных пряностями и кашмирскими тканями? Может, тайно переправляли золото на сринагарские рынки? Направляли караван яков, груженный священными книгами лехских монастырей Лама-Юру, Хемис, Спитуг? Этого никто не узнает… Снега, которые на долгие месяцы закрывают перевалы, год за годом заносили следы, и талые воды смывали память. Святой ли проповедник схоронен в неведомой могиле или горный лихой разбойник - грабитель караванов, не стоит задумываться. Путешествующие по привычке бросают кто камешек, кто монетку и проезжают мимо. Горы Ладакха не пустыня. В укромных, защищенных от буйной игры стихий ущельях стоят сложенные из сланцевых плит хижины анвалов, естественные и прекрасные, как скалы. Извивы каменных стен поддерживают террасы, где ячменные зерна наливаются буйной силой высокогорного солнца. В ямах, выдолбленных в твердых пластах, медленно вызревают упорные бледно-лазоревые клубеньки картофеля. Ладакх, входящий в штат Джамму и Кашмир, наверное, самая «заоблачная» страна в мире. Люди живут тут даже на высоте 4500 метров, где скудная земля не родит ни злаков, ни клубней. Так же высоко укрылись от мирских тревог и многочисленные монашеские общины, живущие грезами о прошедших временах. Сам Лех - крохотная столица, насчитывающая что-то около девяти тысяч жителей, расположен на отметке 11500 футов (3450 м). Примыкая к Тибетскому нагорью географически, Малый Тибет сотни лет находился под юрисдикцией далай-лам. Неудивительно, что Лех с его старинным замком и монастырями тибетской архитектуры напоминает Лхасу в миниатюре. Те же белые стены, наклоненные внутрь, и плоские крыши. Почти такие же многоэтажные фронтоны с узкими окнами, которые издали кажутся Т-образными из-за нависающих над амбразурами обширных карнизов. Поразительное смешение красоты и уродства, роскоши и убожества Многочисленные тибетского толка чортэни и мэньдоны охраняют подступы к Стране Красных Лам, как именуют Ладакх древние рукописи. Восьмиметровая статуя Майтреи задумчивой улыбкой приветствует караваны на подходе к «маленькой Лхасе». Чело Будды грядущего мирового периода увенчано чортэнем, а в цветах, что он держит в руках, священные атрибуты: чакра и кувшинчик с амритой. Скальный конус, в котором высечена статуя, символизирует гору, где уже тысячи лет пребывает бодхисаттва. Когда исполнятся сроки, он выйдет на белый свет и пройдет тем же самым караванным путем в Лхасу. Ламаистские памятники и мани на придорожных камнях укажут ему дорогу в Ладакх и Тибет, как они испокон веков направляли туда путников. Вспыхнет небо над Гималаями. Красный всадник Ригден Джапо, как объятое огнем облако, пронесется над снежными вершинами. И вспыхнет небесный бой, победная «северная война», и откроется путь в сказочную страну счастливых праведников, где сядет на небесный престол Красный всадник - двадцать пятый царь Шамбалы. Шамбала! Загадочное название. Мы уже встречали его, когда речь шла о фантастической географии Гималаев. Есть Шангрила, то есть «Закрытая страна», как до недавнего времени называли Непал, но Шамбала… А что, если это Чампала, Перевал Майтреи? Так как Чампой, Королем Возлюбленным, зовут в Гималаях грядущего учителя веры, а Ла - перевал… Если это действительно так, то Шамбала не более чем наглядный символ веры. Это внутренняя страна, которую каждый может открыть в себе на вершине восьмеричного пути к совершенству. Но не будем вдаваться в тонкости буддийской метафизики. Кочевые племена Гималаев сотни лет ждали пришествия Майтреи. Для них Шамбала стала символом воздаяния за все несправедливости жизни. В образе легендарного Ригден Джапо, или Эрэгдын-Догбохана, Рерих воспел революцию. В 1926 году он написал свое знаменитое полотно «Красный всадник», которое подарил правительству Монгольской Народной Республики. Я видел эту картину в Улан-Баторе. Прообразом ее послужила тибетская танка, которую ярко описал сам Рерих:

Страж ворот
«На красном коне, с красным знаменем неудержимо несется защищенный доспехами красный всадник и трубит в белую раковину. От него несутся брызги алого пламени, и впереди летят красные птицы. За ним горы Белухи, снега, и Белая Тара шлет благословение. Над ним ликует собрание великих лам. Под ним - охранители и стада домашних животных, как символы места. Эта замечательная старинная тибетская картина принесена нам в последний день жизни в Ладакхе». Ветер играет лохматыми хвостами яков, знаменами, обесцвеченными до белизны тряпками. Отполированная ладонями паломников, лоснится медь больших молитвенных цилиндров перед воротами монастыря. Темно-красные тоги и высокие, гребенчатые, словно у героев Троянской войны, шапки лам ярко рдеют на плоских каменных крышах. Время словно пронеслось мимо заповедного места, как река, огибающая скалу, протекло по обе стороны горной цитадели, напружив пенный бурун далеко на севере, где вновь сомкнулись струи. Войдем же в один из этих обветшалых храмов, возведенных в строгом соответствии с каноном. Не знаю, можно ли по одному-единственному дереву судить обо всем лесе, но внутреннее убранство любого ламаистского святилища дает довольно полное представление о храмах Тибета и Монголии, Бутана и высокогорного Непала. Ворота стерегут стилизованные львы, скорее похожие на широкомордых курчавых собак. Их так и называют «львы-собачки Будды». Сразу же за воротами большая бронзовая курильница, в которой пылают связки можжевеловых палочек. Их благовонный дым отгоняет всякую скверну. Перед тем как войти внутрь, богомольцы подставляют лицо и грудь дымным прядям. Вход всегда расположен с южной стороны, а главная сокровищница - на севере, где находится Шамбала и пребывает в нирване Шакья-Муни. Через позолоченное навершие в виде полумесяца, увенчанного языком огня солнечного диска, храм как бы проникается творческой силой космоса. Предстает в облике миниатюрной, но законченной вселенной, замкнувшей в себе основные стихии. В центре крыши помещают ганчжир - позолоченный сосуд, наполненный священными текстами. По-тибетски он так и называется «полный сокровищ» - «цзутдан». По углам возвышаются вазы поменьше - «знаки победителя», в которые кладутся не только мани, но и оттиски сочинений буддийского проповедника Адиши. Пройдя от Индии до Тибета, он всюду оставлял за собой «знаки победителя». Проповедовал учение, взывал к отрешенности помыслов и чистоте поступков. Над дверями, на которых обычно рисуются устрашающие охранители или маски чудовищ, сверкает восьмирадиусный круг с двумя оленями по бокам. Четыре локапалы - хранители стран света - стерегут преддверие святилища. Космическая символика, пронизывающая все индо-буддийские вероучения. Красные четырехугольные колонны обычно расписаны золотыми фантастическими фигурами: драконами, птицами-гарудами, змеями-нага-ми. Так посланцы Вишну и Шивы проникли в оплоты буддизма.
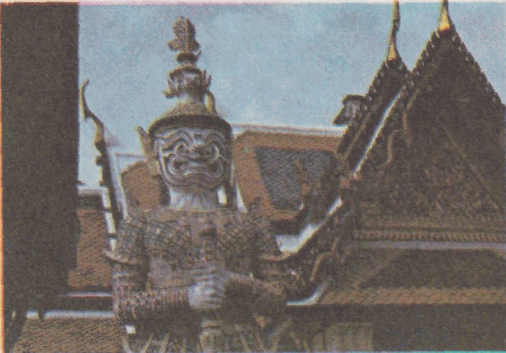
Великан-охранитель (Таиланд)
Места лам распределяются в зависимости от степени и чина. Чем значительнее, тем ближе к святыне. Самым почетным считается место на северной стене, левее от алтаря. Его обычно занимают святые перерожденцы-хутух-ту. Степень старшинства ламы можно установить по количеству подушек на сиденье: от одной до семи. Причем нижняя - для многих она единственная - обязательно плетется из трав. Эта циновка нищего («бхикшу»), который отрекся от мира ради познания высших истин, должна повседневно напоминать об аскетических заветах буддизма. О том же свидетельствует и ромбовидная заплатка на монашеском тюфячке. Когда по прошествии шести лет такой тюфячок заменяют, заплатка аккуратно перешивается на новый, напоминая о нищете, о высоком благе довольствоваться только самым необходимым. Я не раз беседовал с ламами о символике храмовых причиндалов. Мало кто из них знал об истинном смысле заплатки. Почти все полагали, что это просто украшение. Так оно и есть в теперешнее время. Перед старшими ламами (в Таиланде они различаются по веерам) обязательно стоит низенький, увитый драконами столик, куда ставятся колокольчик с ваджрой, барабанчик или набор чайных чашек, прикрытых узорными крышками из серебра. При богослужениях столик убирают цветами. На нем могут лежать стопки священных страниц Ганджура, музыкальные инструменты. Перед статуями богов-бурханов на северной стене находится жертвенник, на котором постоянно стоят восемь счастливых драгоценностей: белый зонт, парные рыбы счастья - талисманы из озера Яндок, белый лотос, сосуд с амритой - бумба, хитроумно закрученная нить счастья, победный бунчук и тысячерадиусное колесо. На этих традиционных жертвах стоит остановиться особо. Рожденные в Индии, эти символы разлетелись далеко за ее пределы, утратив зачастую конкретный смысл и превратившись в элементы орнамента. В Гималаях они встречаются повсеместно: в резных наличниках окон и чеканном узоре сбруи, на вышивках и детских игрушках, женских платках, табакерках, оружии. Они составляют основу затейливых узоров в жилищах, одежде и утвари монголов, калмыков, бурят, тувинцев. Они проникли даже туда, куда не забирались буддийские проповедники. Характерное сплетение нити счастья («балбэ» по-монгольски) я встречал на фресках церквей в Ростове Великом, на каменном саркофаге мусульманского святого в Хиве, николаевских банкнотах, даже на стальных немецких латах в «Рыцарском зале» Эрмитажа. Эту диаграмму, указывающую счастливый путь в лабиринте перерождений бхоты, не совсем почтительно именуют «кишками Будды». Многое в гималайской действительности осталось бы для меня тайной за семью печатями, если бы не эти знаки. Они раскрывали смысл ритуалов, предназначение раскрашенных киноварью камней, сложную символику танцев, брачных церемоний, праздничных подарков. Читая сочинения иных авторов, я с грустью понимал, что они взирали на Гималаи незрячими глазами. Не владея тайным кодом, они буквально пропускали чудеса, проплывавшие перед их глазами. «Звезды появятся - небо украсят, знания появятся - ум украсят», - говорят монголы. «Сколько наизусть выучишь, столько и знать будешь; сколько земли выроешь, столько и воды добудешь», - вторят им непальские шерпа. В народном узоре всегда записана История. Орнаменты Гималаев - это еще и живая быль. За рядом «счастливых драгоценностей» часто ставится еще один символический набор, известный как «сокровища хана Чакраварти-на»: восьмирадиусный круг; камень чандамани, испускающий радужные лучина «восемь углов вселенной» и дарующий исполнение желаний; прекрасная царица; мудрый министр; слон, несущий на себе 84 000 священных книг; конь с чандамани на седле и храбрый военачальник. Перед жертвами постоянно стоят семь бронзовых чаш на лотосовых ножках: две с водой, одна с цветами, одна с курительными свечками, одна с коровьим маслом, в котором плавает горящий фитиль, затем еще одна с водой и, наконец, последняя - с яствами. Это дары привета. Они позволяют нам воскресить древнейшую церемонию встречи царей. Не так уж трудно представить себе, как склоняется перед усыпанным бриллиантами махараджей прекрасная индианка в багряном сари, как подает ему воду - сначала для ног, потом для лица, - посыпает цветами путь и ложе, окуривает благовониями комнату, поит и кормит. В Гималаях осталось только два короля: непальский шах и бутанский «король грома», если, конечно, не считать спорного раджу Мустанга. Хотя мне и доводилось наблюдать некоторые королевские церемонии, я не знаю, как привечают сейчас высочайших особ в частных домах и храмах. Возможно, в полном соответствии с традицией. Но простые смертные могут лицезреть воскрешение древних обрядов. Когда мне случалось забираться на горные кручи по вырубленным в скале ступенькам, чтобы осмотреть затерянные монастыри «затерянных королевств», то первым делом служка подносил таз с горячей подсоленной водой для ног и кувшин для умывания. Приходило отдохновение, спадала усталость, ровнее становилось дыхание. Перед «чашами привета» зажигают еще одну негасимую лампаду с коровьим маслом и фитилем, сделанным из дерева гуша. Как правило, ее окружают сеткой, чтобы мошки, летящие на огонь, не сгорели перед ликом Будды. Подобная предосторожность соблюдается и в других случаях. Курительные палочки, изготовленные из сердцевины можжевельника и ароматических веществ, не должны содержать мускуса, дабы не отпугивать змей, которые часто заползают в храмы. Отдельную группу составляют «жертвы очищения»: «мелон» - металлическое зеркало, кувшин с кислым молоком и «дунг» - поющая белая раковина. С культом верховных будд созерцания связаны «жертвы пяти органов чувств»: тот же «дунг», освящающий слух; то же зеркало - зрение, мускатный орех - обоняние, сахар - вкус и желтый блестящий шелк - осязание. Еще среди храмовой утвари можно увидеть мечи и стрелы для особых церемоний в честь бога войны Бегче, черную глиняную патру нищего аскета и хорсил - посох странствующих учеников Будды. На почетном месте стоят реликварии в виде чортэней, часто хранящие пепел благочестивых лам, а также кованная из золота или серебра, украшенная самоцветами мандала - символ мироздания. На нее в праздник мандалы сыплют монетки, пшеничные и рисовые зерна. На ежедневной церемонии «принесения в жертву вселенной» ее торжественно выносят из храма. Рядом с мандалой может лежать серебряное зеркало для освящения вод и «бумба» - кувшин с кропилом из павлиньих перьев. В тантрийских служениях, посвященных страшным богам, употребляется «габал», который всегда ставится напротив мандалы. Для его изготовления берут черепную крышку человека, который умер естественной смертью, остался девственником и сознательно не убил ни одного живого существа. Кроме того, на темени должно находиться ясное изображение ваджры. В крайнем случае его специально вырезают. Точно так же извилистые швы на внутренней поверхности крышки должны образовывать особый, известный лишь избранным ламам, узор. Знатоки примет еще на живом человеке определяют, годится его череп на габал или же нет. Если годится, то к отмеченному самим богом избраннику отправляется целая депутация с просьбой пожертвовать после смерти свои кости храму. Это считается высокой честью и обеспечивает удачное перерождение, поэтому отказов не бывает. Из человеческих костей делают еще музыкальные инструменты, четки, орнаментальные украшения для тантрийских церемоний. Поскольку черепа, отвечающие всем необходимым признакам, довольно редки, габал разрешают отливать из серебра или бронзы. Мандала и габал располагаются на жертвеннике справа, а мэлон и бумба - слева от центрального будды. Сверху над богами свешиваются сшитый из пяти драгоценных материй, чем-то похожий на абажур «бадан», прославляющий пятью цветами будд созерцания, и многочисленные цилиндры, изготовленные из материй трех цветов - желтого, красного, синего, - выражающих три отдела учения. Кроме того, с колонн и потолка свисают бесчисленные иконы, многоцветные ленты с шариками из стекла, бирюзы, сердолика и приветственные шарфы - хадаки - желтых, черных, белых и сиреневых тонов. В озарении лампад, всевозможных фонарей и курительных свечек сверкает, переливается красными искрами позолота бурханов. Ароматный тревожный дымок колеблется и тает перед многоцветными завесами свитков и лент. Там же висят двойные барабанчики, шары, сшитые из мешочков, наполненных одиннадцатью благовониями, музыкальные инструменты. В полном соответствии с доктриной дхьяни-будд храм нажимает на все пять чувственных клавиш, заставляя звучать шестую струну, интуитивно протянутую между человеческим сердцем и мирозданием. Изощренная практика «обработки душ», торжественность обрядов, чин и бьющая в глаза роскошь внутренних убранств сближают ламаистскую церковь с католической. На это обращали внимание еще первые иезуитские миссионеры. Интересно привести в этой связи свидетельство полковника Остина Уоддела, одного из организаторов британской военной экспедиции 1904 года, закончившейся оккупацией Лхасы: «Вышло около 100 монахов в красных одеяниях, все они сели на подушки, разложенные вдоль средней части храма; главный священник, в желтой шапке (остальные были с открытыми головами), занял более высокую подушку во главе ряда, с левой стороны, подле алтаря; служки зажгли несколько сот добавочных маленьких ламп. Когда все было готово, монахи запели гимн, который очень напоминал католическую службу у нас. Глубокий, похожий на орган, бас певцов, усиление и падение звука, серебристые колокольчики, время от времени глухой грохот барабанов во втором ряду - все вместе придавало величественный и священный характер службе. Огни дрожали; фигуры священников выходили из тьмы и, закрытые тонкими облаками дыма ладана, казались тенями живыми, но туманными и производили сильное впечатление. Католические миссионеры ранней эпохи, так же как и Хук, заметили поразительное сходство многих ламаистских обрядов со службой римской церкви; Хук даже воскликнул, что дьявол в своей злобе на христианство предупредил его появление».

Храмовые маски
Не берусь судить о дьяволе, но ревность достопочтенного Хука обернулась откровенной злобой. Как и многим другим, ему было невдомек, что демоническая внешность тантрийских божеств символизирует душевные качества прямо противоположного свойства. Да и стоило ли доискиваться потаенного смысла чудовищных дикарских обрядов, если их очевидный дьяволизм лишний раз оправдывал «цивилизаторскую миссию» британской короны? Я читал отчеты о деятельности католических и протестантских миссионеров в Гималаях. За редким исключением, все они с особым старанием, я бы даже сказал, смакованием стремились выявить темные «омерзительно непристойные» черты ламаистского культа. Когда же речь заходила о поразительной общности обеих церквей, то тут же срабатывал принцип нетерпимости: «тем хуже» - и повторялись проклятия Хука. Мне вспомнилась превосходная побасенка Карела Чапека, где кроликовод, простая душа, не скрывает своего недоумения: «Не понимаю, как это можно быть голубеводом». Интересно, что ответит на это голубевод? Насколько мудрее и, главное, честнее была позиция Доньи Бланки в том же гейневском «Диспуте»:
Ничего не поняла Я ни в той, ни в этой вере, Но мне кажется, что оба Портят воздух в равной мере.
Отдав дань юмору, я хочу вновь обратить внимание на своеобразие гималайской культуры. Путешественника, исследователя, туриста здесь на каждом шагу подстерегают большие и маленькие ловушки, основанные на кажущемся сходстве. Словно Майя, коварная богиня иллюзий, нарочито подбрасывает знакомую приманку, которая, едва вы успели клюнуть, оборачивается досадным промахом. И долго слышится смех Майи, ускользнувшей за туманный занавес. Далее станет ясно, насколько абсурдно, несмотря на тьму внешних аналогий, сопоставление ламаизма с римско-католической церковью. Поэтому, оставив пока в стороне серьезные материи, я остановлюсь на мелочах. Тот же Уоддел, например, пишет о «дыме ладана». Но ламы вообще не знают ладана! Они окуривают свои кумирни дымом травы аваганги, сандала или можжевельника. Уоддел просто сделался жертвой иллюзии, оказался в плену привычных аналогий. Возьмем, наконец, путевые заметки такого уважаемого автора, как Бернгард Келлерман. Описывая святыни Леха, он отмечает: «Молитвенные барабаны непрерывно гудят: ни один лама не пройдет мимо без того, чтобы не привести их в движение. На всех стенах длинных переходов стоят ряды их, и монахи ударяют по ним одной рукой, проходя мимо». Как будто бы все верно. Такие барабаны - количество их доходит до сакрального числа 108 - действительно окружают храм, и богомольцы, прежде чем войти внутрь, приводят их в движение. Зрение не обмануло писателя. Над ним подшутил будда Вайрачана, ответственный за слух. Молитвенные барабаны не могут гудеть. Это, так сказать, барабаны только по форме - цилиндры, наполненные мани. Они предназначены для «прочтения» молитв, которое достигается вращением, а не для музыкальных эффектов. На то есть плоские «турецкие» барабаны и катушкообразные дамару с двумя шариками. Вновь подвела кажущаяся очевидность. Но коль скоро речь зашла о музыке, скажу несколько слов об экипировке ламского оркестра. Благо те же самые инструменты, во всяком случае большая их часть, используются и мирянами. Кроме колокольчика «дрилбу» («гханга» на санскрите и «хонха» по-монгольски) с вад-жрой и головкой богини Тары на ручке, в богослужении используется еще и упомянутый дамару. У них, так сказать, ведущие партии. Кроме того, монашеская капелла располагает украшенным переплетенными драконами «турецким» барабаном «бхери», медными тарелками «цан» и «цэльнин» с магическими буквами внутри; маленькими тарелочками «дэн-шик», которые держат в одной руке за связывающий их ремешок; «дудармой» (двенадцать тарелочек в клетках на деревянной раме); раковиной «дун-гар»; свирелью «биш-хур» из раковины или рога и «ганлином» - берцовой костью, оправленной в серебро. Эта труба, согласно канону, «должна напоминать ржание коня, уносящего праведников в рай Сукхавати». Для изготовления ганлина берут кость девственницы, умершей в юности ненасильственной смертью. И в звенящей меди оркестра пусть неявно, должен присутствовать мотив смерти. Безнадежная мелодия, отрицающая привязанность к соблазнам преходящего мира. Вечная тема буддизма. В чинном строю храмовых скульптур и ярком хаосе рисованных свитков она тоже оставила свой отпечаток. Я говорю о читипати - хранителях кладбищ. Образ супружеской пары скелетов, лихо отплясывающих на озаренных потусторонним светом могильных плитах, на самых законных основаниях дополняет ламаистский пантеон. Оскаленные в бесшабашной улыбке читипати стоят в одном ряду с духами мест и демонами вроде владыки Данкана из почитаемой в Тибете группы «великих царей», гарудами, нагами. Это низшая ступень неоглядной пирамиды, чья вершина купается в сиянии непостижимого Адибудды. Медленно и постепенно приобщаются Гималаи к ритму современной жизни. Оно и понятно. В том же Лехе едва ли не самую многочисленную группу населения составляют монахи. Очень много и пришлых людей: стариков, обходящих гималайские святыни, и молодых послушников, которые, подобно школярам средневековой Европы, бродят от монастыря к монастырю. Постигая глубины метафизики, они принимают участие в диспутах или учатся под руководством старших наставников музыке, врачеванию, живописи. Прожив в монастыре с полгода, они без особой на то причины снимаются с места и перекочевывают в другую общину. Одни уходят в Бутан, другие в Сикким, третьи навсегда оседают в Дарджилинге или Калимпонге. Как и наиболее рьяные богомольцы, они живут за счет общины или, точнее, на доброхотные даяния прихожан и уходят, не благодаря за приют. Да никто и не ожидает от них благодарности. Любой из монахов Спитуга тоже может в один прекрасный день отправиться в странствие, чтобы набраться мудрости в далеком Непале. И точно так же его радушно встретят и приютят в Сваямбунатхе или в Лумбини, где родился Будда. Если проявит особое прилежание и понятливость, ему могут предложить постоянное место, не проявит - его дело. То же благожелательное равнодушие встретит он и по возвращении. Ни отчета о командировке, ни экзаменов начальство с него не потребует. Да и какой может быть отчет? Командировочных ему дали, что называется, только-только: едва на проезд хватило, да и то в один конец. И жил он не в отелях Обероя с пятью звездочками, а в полуразрушенных, обветшавших галереях, в продуваемых всеми ветрами кельях. Почти не видно внешних перемен в гималайских городах-крепостях, городах-монастырях. Но одно ощущается ясно: их время безвозвратно уходит. Подобно тому как заглохли некогда шумные базары, на которых встречались три мира: Индия, Туркестан и Тибет, пустеют монастырские кельи. Разбредаются кто куда молодые послушники, скудеет доброхотное подношение мирян. Низкий и захламленный Лама-Юру навевает тоску и уныние. В мерцании редких лампад тьма кажется еще гуще. Отчетливый запашок тления и настороженная тишина довершают общую картину. Обвешанные истлевшим шелком, пыльно золотятся лики восемнадцати учеников Будды, прославленных проповедников, канонизированных настоятелей этого некогда процветающего монастыря. С облупленных фресок, с капителей колонн скалятся клыками звериные головы и трехглазые черепа из папье-маше. Старая краска растрескалась и шелушится, словно и будды, и чудовища страдают от кожной инфекции. Только тысячерукий Авалокитешвара, как и сотни лет назад, стремится заключить всю землю в свои спасительные объятия, и сверкают вечной позолотой колеса закона в его изящных перстах. Милосердный бодхисаттва не заметит, когда окончательно опустеет его стареющий храм. Как не заметил этого гигантский Майтрея, оставшись в полном одиночестве. Даже редкие туристы, украдкой выколупывающие кораллы из ножных браслетов, не пробудили его. Даже Дуккар с ее четырьмя тысячами глаз проглядела, как разрушился замок Сенге-Намгьял с его заживо сгнившими залами, лабиринтом обрушенных лестниц и пустотой переходов, не ведущих более никуда. По-прежнему идет служба в монастыре «желтой веры» Санкар, исполняют танец масок в «красношапочном» Спитуге, печатают с древних досок религиозные тексты в Хеми-се. Но время прежнего Леха, который и по сей день живет по календарю шестидесятилетних циклов, прошло. Полнокровная жизнь сменилась неизбежной старостью, которая может продлиться неопределенно долго. Ужас перед мучениями на том свете сотни лет заставлял ладакхцев кормить и обслуживать тех, кто избрал для себя путь святости. Крошечная страна работала на лам и жила только для того, чтобы поддерживать их жизнь. В монастырях была сосредоточена вся общественная деятельность: школы и типографии, в которых печатались священные книги, иконописные мастерские и литейные дворы, где изготовлялись бронзовые будды. Врачи, астрологи и тантрийские заклинатели, без которых нельзя было ни родиться, ни умереть, тоже были ламами. Вся социальная система держалась только на вере. Больше всего боялись кроткие ладакхцы перевоплотиться после смерти в какое-нибудь животное. Постоянный страх перед низким перерождением заставлял их терпеливо сносить все тяготы жизни. Впрочем существовала и еще одна вполне реальная сила: крупные феодалы, на которых работали тысячи крепостных. Государственные должности занимали всегда двое: лама (он был главным) и представитель одной из семей. Перед главным священнослужителем трепетал даже местный раджа. Англичане сохранили этот порядок в неприкосновенности. Новые руки взяли старые рычаги власти. Это всегда надежно и, главное, не требует рискованных перемен. «Над городом материально и духовно господствовал монастырь, - еще в сороковых годах писал некто Форд, агент Интеллидженс сервис. - Он был самым крупным землевладельцем района, а арендаторы, которым сдавались участки, фактически были, как повсеместно в Гималаях, его крепостными. Для того чтобы нанять слугу, мне пришлось испрашивать официальное разрешение у владельца поместья, на земле которого родился этот слуга… Монахов обслуживало местное трехтысячное население, которое поставляло им все необходимое. Монахи не работали, можно сказать даже, что они решительно ничего не делали. Несколько женщин от зари до сумерек носили шестнадцатилитровые баки с водой на самую вершину холма. Жили эти женщины у подножья, рядом с радиостанцией, и я не мог высунуть носа за дверь, чтобы не увидеть их - они то поднимались на холм, то спускались с него. Местный житель выпивает в день по крайней мере пятьдесят пиал чая. Если бы к тому же монахи еще и мылись, этот отряд женщин пришлось бы намного увеличить». Английский разведчик нарисовал довольно верную картину, хотя многое и проглядел за «тибетским чаем». Он не заметил того, что ламы подчинялись весьма строгому уставу, что, помимо службы, занимались врачеванием, благотворительностью и т. п. Жизнь рядового монаха едва ли была легче жизни крестьянина. В праздности пребывали лишь перерожденцы, посвятившие себя медитации. Но присущий Гималаям дух неизменности Форд уловил верно. На неподвижном фоне особенно ясно замечается любое движение. Отрадно было видеть свежий асфальт, проложенный в каньоне Зинда. Только пережив все тяготы и превратности лэма, можно понять, что значит для Гималаев хорошая дорога. Особенно такая, как эта, неразрывно связавшая Сринагар с почти недоступным заоблачным Лехом! Незадолго до моего приезда в Кашмир Ладакх посетил премьер-министр штата Сайед Мир Касим, чтобы лично рассказать жителям о намеченной правительством новой пятилетней программе развития и реконструкции. Через министра, ведающего вопросами культуры, я обратился к господину Касиму с просьбой ознакомить меня с текстом его речи, произнесенной на митинге в Лехе. В тот же день я получил отпечатанную на ротапринте брошюру со множеством таблиц и графиков. - Всего две декады назад, - сказал премьер, - у меня появился наглядный повод вспомнить о том, с какими трудностями в течение многих недель добирались люди из Сринагара до Леха. Это было тяжелое путешествие по рискованному маршруту со многими остановками. Сегодня такой путь можно совершить всего лишь за несколько часов. Сгинули в прошлое трудности и неудобства, связанные с суровым климатом и капризами погоды. Прекрасная дорога соединила Сринагар с Лехом. Одна из многих высотных дорог нашего штата. Но она знаменует собой прогресс во многих областях: образовании, здравоохранении, животноводстве, градостроительстве, новый взлет наших достижений. Сегодня талантливый народ Ладакха располагает собственными учителями, техниками, врачами, агрономами, инженерами. Это их руками будет осуществляться развитие и реконструкция важнейшей области нашего обширного штата. Порой цифры бывают убедительнее всяких слов. Если средства, вложенные в развитие Ладакха в первую пятилетку, условно принять за единицу, то по второму пятилетнему плану они возросли в четыре, а по третьему - в шестьдесят раз! Еще больший рост предусмотрен текущей программой. «Пятилетка, которая началась с дороги», - говорят в Ладакхе. Встречные машины, прежде чем разъехаться, останавливаются, и шоферы обмениваются приветствием. - Салам-алейкум! - прижимают руку к сердцу кашмирцы. - Джух-ле! [1] - приветливо высовывают язык ладакхские горцы. [1 Ваш слуга (тибет.).]
Однажды я увидел за рулем девушку. Ее черные волосы были заплетены в косички, удлиненные шерстяными шнурками, а на висках широкая ременная повязка, унизанная бирюзой. По обычаю все свое богатство она носила с собой: и эту бирюзу, и серебряные гау на шее. Но это была современная девушка. Она водила машину с красным знаком медслужбы, и рядом с ней на сиденье лежала заложенная бамбуковым листиком книга. Современная книга, а не завязанная в цветной шелк стопка листов с магической вязью мантр. Ее крепкая маленькая рука уверенно передвинула рычаг скоростей. Словно качнула замерший маятник. Юная женщина, пробудившая время Гималаев. Новая интерпретация неисчерпаемого сюжета о «Матери мира».
ДОЛИНА «БЕЛОГО КОНУСА»
И Ганги ширь во всей красе, И звезды на исходе ночи. Идет убийца по росе, Цветы срывает и хохочет. Ему доступен детский смех, Ему еще понятны звезды, Еще он беспечально смел, И ничего еще не поздно, И нет смятения в груди… Но ждет убийство впереди. Дхаммапада
Бомбей… Ворота Индии находятся в Бомбее. Монументальная символическая арка стоит вблизи воды, бурой от мазута и нефти. В ее тени дремлют фокусники с обезьянами, продавцы открыток и бус из раковин каури. Здесь начинается прославленная Марин-драйв с ее белыми многоэтажными отелями, пальмами и фешенебельными магазинами. Ворота, сооруженные в 1911 году в память визита Георга Пятого и королевы Мэри, должны были символизировать незыблемость величия метрополии, властно распахнувшей двери Индостанского континента. Но двери захлопнулись. Именно здесь английским солдатам было суждено бросить прощальный взгляд на Индию. Перед тем как ступить на трап океанского транспорта, последний оккупационный отряд вышел из этих ворот. Навсегда. Музе Клио не чужда ирония. Легендарный император маратхов Шиваджи стоит на страже у памятной арки. В его лице многонациональный и не имеющий долгой истории Бомбей чтит своего покровителя. В дискотеке грандиозной гостиницы «Тадж Махал» я совершенно случайно познакомился с влиятельным руководителем парсской общины. Он был настроен весьма благодушно и пообещал сводить меня в главное святилище огня. Самый богатый, самый современный, самый многолюдный и процветающий город вИндии. Здесь все «самое-самое»: университеты, музеи, безумно роскошный «Оберой-Шератон» с поварами, получающими оклады генеральных директоров, школа йогов, замечательный аквариум, где можно увидеть акул и морских змей. Играя на противоположностях и сходствах, заманчиво было бы показать трущобы «Красных фонарей» вроде «Леди-стрит» на фоне фешенебельных дискотек «Плэй Бой» или, скажем, «Блу-Ап». Но это не моя задача. Я не собираюсь описывать город вопиющих контрастов, хотя не знаю другого места в Индии, где роскошь и нищета уживались бы в такой удручающей близости. В этой бывшей цитадели британского могущества жуткое наследие колониализма предстает во всей своей отвратительной наготе. Видя спящих на асфальте голых детишек со вздувшимися животиками, мы стыдились есть в ресторане и спать на мягких постелях роскошного «Ритца». У меня было много интересных встреч в этом великом и горьком городе, который справедливо называют «жемчужиной Индийского океана». Я беседовал с учеными и литераторами, выступал в местном отделении общества индийско-советской дружбы, дал несколько интервью газетчикам. Попутно ездил по городу и его окрестностям, заходил в джай-нистские, индуистские и сикхские храмы, безуспешно пытался проникнуть в святилище парсов, где горит негасимый священный огонь. Сильное впечатление произвел на меня «святой» джайн, единственным одеянием которого была марлевая повязка вокруг рта. Две старушки, одетые в белое, мели перед ним пол, дабы, паче чаяния, святой не раздавил какое-нибудь насекомое. Принцип ахинсы, доведенный до абсурда. По аналогии вспомнились гималайские сапоги без каблуков и с загнутыми кверху носками. Сколько усилий и ухищрений, чтобы не потревожить землю и обитающих в ней малых существ! Но, повторяю, я не стану описывать свои бомбейские впечатления хотя бы потому, что они требуют специального разговора. Прямое отношение к нашей теме имел лишь музей принца Уэльского с его уникальными археологическими коллекциями и внушительными залами, полными замечательных памятников индийской истории и искусства. В те дни там как раз экспонировались гималайские редкости из собрания миллиардера Тата, принадлежащего, кстати сказать, к древнейшей религиозной общине парсов. Но храм с крылатым Ахурамаздой, солнцем, луной и звездой Иштар - Венерой - на фронтоне, несмотря на мощную протекцию, так и остался тайной за семью печатями. - Сожалею, - объяснил мне жрец, - но сюда могут войти только парсы - дыхание человека чужой веры оскорбит огонь. - Я атеист, ваше преосвященство. - Тем хуже. - Может быть, вы разрешите мне только войти? Обещаю, что даже близко не подойду к занавесу святилища. - Не могу исполнить вашу просьбу. В противном случае нам пришлось бы заново очищать храм. А времени для этого нет. Завтра праздник. Посмотреть башню молчания, в которой парсы оставляют своих мертвых, мне тоже разрешили лишь издали. Жизнь, неотделимая от смерти, предстала предо мной на зеленой горе, окруженной высоким каменным забором. Сотни грифов кружили над траурным силуэтом дагобы, дожидаясь поживы. Сейчас, вспоминая Бомбей, я вижу сначала эту гору, а потом уже роскошные пальмы, гостиницы и дворцы. Город представляется мне вечным, мудро застраховавшим себя от смерти, которую уносят на своих крыльях могильщики-птицы. Разумеется, это всего лишь попытка передать обманчивое впечатление, капризный отбор памяти. Человеческая жизнь не зависит от способа захоронения мертвецов. Да и община парсов, несмотря на все ее финансовое влияние, одна из самых немногочисленных в городе, вобравшем в себя чуть ли не все верования земного шара. И не дагоба, а скорее, стодесятиметровая башня университетской библиотеки могла стать его символом. Но пора расставаться. Прощайте, мечети и атомные реакторы, узорная парча Джавери-базара, парк на холме и королевское ожерелье красивейшей набережной мира. Прощайте, белые исполины и слоны джайнов, крылатые быки зороастрийцев, цветы и фонтаны ботанического сада, уличные обезьянки, кобры и буйная роскошь даров океана, щедро выплеснутая на прилавки Нариман-Пойнта и Татароуд. Я спешу к Воротам Индии, где нетерпеливо трубит пароходик, отправляющийся на Элефанту. Крепкий норд гонит довольно-таки крутую волну, и нас заметно покачивает. Бурая вода Бомбейского залива с грохотом обрушивается на камни, защищающие набережную Маслянистой накипью оседает на них мазут. Но, как ни странно, море еще живет. Прыгая по камням, перепачканные мальчишки зорко выискивают в расселинах крабов. Все дальше уплывает Марин-драйв, чьи круглые матовые фонари и впрямь напоминают жемчужное ожерелье. Когда мы будем возвращаться, они встретят нас жесткой желтизной кадмиевого сияния. Не считаясь с энергетическим кризисом, богатый Бомбей озаряет свои ночи миганием исполинских реклам, огненной рекой набережной, молочным свечением гостиничных башен. Впрочем, это только так кажется. За пылающим приморским фасадом таится вкрадчивая бархатистая мгла. Город давно уже утонул в бензиновой дымке, а я все еще ощущаю его неотвязный призыв. Не могу отключиться от тоскливого шелеста ночных автострад, неясного шепота во мраке, гула и грохота международного аэропорта, перезвона велорикш, призывных кликов торговцев бетелем. Рассветы и ночи Бомбея закабалили мою память. Мне трудно настроиться на созерцательное спокойствие Элефанты, еще далекой и невидимой в створе запирающих гавань фортов, возведенных англичанами прямо посреди моря. В отличие от арки на площади, эти ворота надежно замыкали стальные стволы береговой артиллерии. Но и они оказались бессильными против пламени гнева великого народа. Вновь вспомнилась казнь сипаев: пушки из бирмингамской стали на высоких лафетах и люди в белом, привязанные к стволам. Пушки выстрелили в самое сердце Индии, пока настороженно молчали нацеленные «вовне» орудия бомбейских фортов. Угрюмые, непрозрачные волны разбиваются о скалы. Гудят суда у топливного причала, осененного зеленой раковиной «Барман шелл». То ли грозное эхо истории, то ли зов бомбейской наяды, трубящей в дунгар. От бетонного пирса на Элефанту ведет длинный деревянный мост, перекинутый над жаркой, вскипающей зловонными пузырями мангровой. Зеленые лакированные деревца неудержимо наступают на море, роняя в жирный перегной стреловидные отростки, созревающие прямо на кромке твердых восковых листков. Неправдоподобно пунцовые и ярко-голубые крабы шныряли меж стволов по бурой трясине, угрожающе пощелкивая кривой, разросшейся клешней. На облепленных илом воздушных корнях принимали солнечные ванны пучеглазые колючие рыбы. Интеллигентный старик американец, с которым я делил палубную скамью, сплюнул в мангрову изжеванную резинку и с некоторым сожалением заметил: - Когда я был здесь в двадцать девятом году, море плескалось чуть ли не под самой скалой. Теснит берег море, теснит… - Как быстро бежит время, - вздохнула его миловидная пожилая жена. У крутой лестницы, ведущей к лесистой вершине, сновала оживленная толпа. Новоприбывших атаковали вездесущие мальчишки, оглушительно требовавшие «бакшиш», фотографы и всевозможные разносчики туристских мелочей. Здесь же к услугам туристов, не желающих тратить силы на долгий подъем, были деревянные носилки. Две или три изнеженные леди тут же пожелали воспользоваться этим лифтом эпохи империи Мауриев. Мой весьма пожилой спутник тоже уселся на добротно сколоченный стул с длинными, как у тачки, ручками, отполированными ладонями носильщиков. Седая дама послала супругу воздушный поцелуй и храбро пошла на подъем. Я нацелил на американца, который, как престарелый фараон, возвышался над запруженной паломниками лестницей, фотоаппарат. - Бакшиш! - просительно пропел он, состроив жалобную физиономию, и протянул руку. Я не ударил в грязь лицом и дал ему мелкую алюминиевую монетку. Люди вокруг засмеялись. Только шутник из Оклахомы сохранил положенную серьезность. Дольше всех хохотала его жена, удивительно непосредственная женщина. Так, шутя и посмеиваясь, мы незаметно одолели подъем, опередив процессию с носилками. Благоуханная тень манго и тамариндов, продуваемая легким ласковым бризом, звала, как писали сентименталисты, к «заслуженному отдохновению». Но, как всегда, было жаль времени. Испив охлажденного кокосового молока и вдосталь налюбовавшись шиваистским садху, закаменевшим под украшенным пестрыми лоскутками священным деревом, я пошел к последней лестнице, ведущей к пещерам. Элефантой, то есть Слоновым, остров нарекли португальцы, потому что в те времена здесь стоял гигантский каменный слон. Впоследствии, если верить гиду, статую перевезли в Раджхат. Слон, равно как и многие другие уникальные изваяния Элефанты, сильно пострадал от огня португальских пушек. Для вандалов-колонизаторов, атаковавших остров с моря, каменные колоссы послужили хорошей мишенью. Об этом невольно думаешь, когда глаза останавливаются на, каверне, изуродовавшей строгий лик многорукой Дурги, на обезглавленных статуях и барельефах с отбитыми конечностями. Камень вечен, и его язвы кровоточат непрестанно. А ведь это была лишь «проба пера», первые шаги колонизаторов, рвавшихся в глубь Индостана. В прохладной тишине пещер вздыхает печальное эхо. Вспархивают и шарахаются в непроглядный сумрак сводов стаи летучих мышей. Удушливый и сладковатый запах помета режет глаза. Холодные капли, срывающиеся с базальтовых складок, тяжело и всегда неожиданно ударяют по темени, пробуждая в памяти детские рассказы об изощренной восточной пытке. Шесть пещер, населенных брахманистскими богами, одна за другой раскрывают передо мной свои сумрачные, исполненные затаенной мощи недра. Особенно неизгладимое впечатление оставляет исполинское изваяние верховного властелина Махешмурти, трехглавого Махадео, соединившего в себе создателя Брахму, Шиву, разрушающего миры, и Вишну, стража миропорядка. Эта завораживающая фигура являет высший взлет индуизма, воплощение в образах искусства самых усложненных и отвлеченных его идей. Оно же знаменует и апогей славы хозяина - Шивы. Некогда второстепенный горный божок, он представлен здесь центральной фигурой во всем своем победном величии. Увенчанный черепом Брахма слепо взирает на прошлое с его правого плеча, а грезящий Вишну смежил веки на левом, проницая дали будущих времен. Сам Шива тоже прикрыл очи, словно ограждая от внезапной вспышки неистового гнева наш теперешний суетный мир. Некоторые специалисты трактуют эту фигуру иначе, считая, что все три головы Махадео принадлежат Шиве: центральная - самому богу-разрушителю, левая - его грозной ипостаси Бхайраву, правая - жене Уме. Философской символикой, отражающей единение противоречивых начал бытия, проникнуты многие образы скальных храмов Элефанты. Сложные многофигурные композиции пещер рассеивают и одновременно приковывают внимание, заставляя человека всматриваться в глубины подсознания. Созданные в восьмом веке, эти скульптурные рельефы давно сделались эталоном для многих поколений индийских мастеров, воплощавших в образах богов буйные силы мироздания. Так, древнейший культ плодородия обрел здесь отражение в четырехрукой фигуре Ардханаришвары. Изобразив божество с мужской (правой) и подчеркнуто округлой (левой) женской грудью, древний скульптор выразил все ту же извечную идею «линга-йони». Лежащее в основе древнеиндийской философии слияние духов Пуруша и Пракрити. Единение мужского и женского начал. Обогнув остров, я попал в широкий извилистый каньон. На дне прыгал, теряясь в нагромождении камня, ручей. В долине, которая открывалась за скалами, зеленела буйная тропическая растительность. Метелки непролазных бамбуковых зарослей чередовались с широколопастными опахалами банановых пальм. На расчищенных заплатках росла кукуруза, желтели соломенные кровли хижин. Еще дальше, до самого горизонта, расстилался замшевый ковер тамариндового леса. Но все это я заметил лишь некоторое время спустя. Вначале взор был прикован к пологим склонам, на которых правильными прямоугольниками чернели провалы. Это был целый пещерный город, соединенный прихотливой горной тропинкой, которая то и дело терялась в скальном хаосе, пропадала, перерезанная нешироким провалом или гремучей осыпью. Перепрыгивая с камня на камень и петляя по склону, я добрался до первого яруса пещер, а там дело пошло легче, потому что кельи нависали одна над другой, как сакли в горном ауле. Все они, в отличие от главных каверн, были высечены рукой человека. Гладкие стены, изукрашенные орнаментом, правильные контуры входов и световых окон. Ступа, рельефно вырезанная на стене, и характерные «лотосовые» асаны буддийских божеств явно свидетельствовали, что здесь искали уединения последователи Гаутамы. Незатейливо украшенные «одиночки» - рисунок зачастую был только начат, но не закончен - чередовались с более или менее обширными помещениями, где между пилястрами виднелись изображения Будды и его первоначальных символов. Возможно, тут размещались чайтьи - храмы, или вихары, где собиралась монашеская братия. Но если индуистские скульптуры показывали брахманизм на взлете, торжествующий, несокрушимый, победный, то невыразительный, зачастую плоский буддийский рельеф свидетельствовал скорее о бессилии или об упадке творческого духа. Я «обосновался» в одной из келий, откуда открывался вид на всю долину. Что и говорить, монахи умели выбирать места для уединения. Ароматные ветры пролетали над ущельем, колебля сухие травы склона. Пахло океанской солью, лавром и совершенно упоительными цветами лимонного дерева. Сквозь ветви старого абрикоса, вцепившегося чуть ниже в скалу вздутиями корней, зеленели, переходя в полынную голубизну, манящие дали. Возможно, тут сказалась известная «запрограммированность», но открывшаяся глазу мягкая прелесть чаровала душу, переполняла созерцательным спокойствием и отрешенностью. Наверное, здесь хорошо было грезить о вечности или размышлять о ничтожности мирских соблазнов. Все казалось таким далеким и нереальным, словно вся жизнь была как долгий, но скоро изгладившийся сон, приснившийся в этих каменных стенах, у этого входного выреза, наполненного зеленью и голубизной. Старательно переплетя ноги, чтобы пятки покоились на коленных чашечках, я принял «падмасану» и попробовал вообразить себя аскетом. Но ничего не получилось. Две заботы смущали мой дух. Одна из них условно называлась «Колодец» и «Белый конус» - другая. В квадратной шахточке слева от входа действительно темнела и пахла тиной вода. Конденсируясь из воздуха на виртуозно спланированных каменных плоскостях, она по многочисленным желобам и канальчикам стекала в эту защищенную от солнца ловушку. Точно такие же колодцы, полные жаб, обнаружились у всех келий. Это был не просто «водопровод, сработанный еще рабами Рима», но настоящая установка для конденсации атмосферной влаги. Прошли сотни или даже тысячи лет, а она все так же исправно работала, хотя уже давным-давно ничьи уста и ладони не тянулись к благодатным резервуарам праны - жизненной силы. И еще пронесутся века, исчезнут и возникнут на новом месте города, а здесь по-прежнему будет журчать по лоткам вода, к которой никто не припадет алчущим ртом. Необитаемые, заброшенные пещеры будут жить своей неестественной заведенной жизнью, словно дом в рассказе Бредбери «Будет ласковый дождь».
И ни птица, ни ива Слезы не прольет…
Если мои размышления о воде хоть как-то соотносились с невеселыми грезами риши, то жгучее любопытство по поводу «Белого конуса» сводило на нет все жалкие успехи первой аскезы. Странное сооружение, сверкающее золотым острием над зелеными дебрями, не давало мне покоя. Не знающее стыда, суетное, кощунственное писательское нетерпение толкало меня поскорее разрушить пусть мнимое, но все-таки очарование. Лучась, как сахарная голова, таинственный конус возвышался над лесом и, как магнит, притягивал взгляд. Если бы я мог совладать с собой и не пойти на его властный зов! Может быть, я сумел бы тогда написать рассказ в духе лондоновского «Красного божества» или придумать еще какую-нибудь совершенно фантастическую историю. Но я знал себя и ни минуты не сомневался в том, что не успокоюсь, пока не разведаю, что там такое и почему. Меня удерживало лишь видимое отсутствие каких-либо путей, ведущих к «Белому божеству». Сидя в лотосовой позе на базальтовой плите, я уже давно не воображал себя монахом, а лихорадочно изыскивал способы пробраться сквозь чащу, казавшуюся непроходимой. Именно казавшуюся! По опыту, приобретенному в джунглях Юго-Восточной Азии, я знал, что пробиться нельзя только через бамбуковую поросль. Прикинув все «за» и «против», я взобрался на вершину и, пройдя по гребню, спустился по заросшему колючим кустарником подветренному склону. Лес, подступавший к самой подошве, просто и естественно принял меня в свое пряное лоно. Как и следовало ожидать, это был вполне проходимый окультуренный массив, где на залитых солнцем полянах зрели фрукты и овощи. Лесная тропа, хотя и напоминала джунгли скользким ковром перегнившей листвы, была тем не менее заботливо расчищена тесаком. Огибая бамбуковый частокол, она уводила все дальше в низину, где прела жаркая духота. Не стану описывать свой довольно долгий и утомительный путь, на котором, кроме гигантских зеленых жаб возле замшелого колодца, не встретилось ничего замечательного. Скажу только, что, дав изрядно лишку, я выбрался все же на поляну, где стоял «Белый конус» - то ли маленький храм, то ли часовня. По примеру двух смешливых молодых индианок я заглянул в замочную скважину - двери были на запоре - но, как и следовало ожидать, ничего интересного не увидел. Променяв прохладу и спокойствие горных высот на изнурительное подвижничество, я не удостоился благодати. Наградой мне было сознание исполненного, удовлетворение, которое достигается ценой преодоления, и воспоминания о щедрой красоте почти первозданного леса. Недалеко от «Белого конуса» находились крестьянская хижина, крытая рисовой соломой, и пристроенный к ней навес на бамбуковых шестах. Заметив стоявшего там человека, я подумал, что не худо будет купить кокос или просто спросить холодной воды. Но подойдя ближе, я понял, что едва ли дождусь чего-нибудь от лохматого, обросшего волосами существа, замершего под навесом. Передо мной предстал шиваит-подвижник, давший обет «танаса». Маленький острый трезубец, пронзивший высунутый язык и нижнюю губу, обрекал его на вечное молчание, а свисающая с потолка трапеция, обернутая подушкой, свидетельствовала о том, что «святой» не должен ни сидеть, ни лежать, а может лишь изредка облокотиться. Взлет силы и величия трехглавого Махадео, словно исчахнув в жаркой лихорадке низины, обернулся жутким самоизуверством. Закатившиеся глаза, застывшая идиотическая улыбка. Словоохотливый крестьянин, услужливо подставив кружку для подаяний, дал необходимые пояснения: - Вот уже тридцать лет, как стоит. - Довольным взглядом собственника окинул он фигуру подвижника, в котором не осталось почти ничего человеческого. - Мы и кормим его, и ходим за ним. Так и стоит все время молча… Великий подвиг! Не приходилось сомневаться в справедливости слов крестьянина. Всякий, кто хоть сколько-нибудь знает Индию, поймет, что это «чудо» чистое, без обмана. Но право, лучше бы это был обман, ибо нет здесь ни чуда, ни чистоты, а лишь одно надругательство над природой. Куда приятнее было бы сознавать, что по ночам, когда считанные посетители не отмеченной в путеводителях долины «Белого конуса» мирно покоятся в своих постелях, заросший столпник вытаскивает изо рта булавку и отправляется в дом почивать. Гнусное, оскорбительное ощущение полнейшего бессилия не давало мне покоя. Оно отравило всю прелесть Элефанты, которую по праву причисляют к чудесам света в одном ряду с Элорой и Аджантой. Шиваизм сегодня - это живая религия, насчитывающая сотни миллионов приверженцев. По сей день в тысячах храмов совершаются ежедневные обряды в честь Трехликого, равно как во многих деревнях, особенно на юге Индии, почитают его энергию под видом змей. Именно там, на юге, можно увидеть так называемые «хиростаунс» - изображения актов страшного жертвоприношения - само-отсечения головы. И это тоже не только дань древней истории. В 1967 году в промышленном городе Джамшедпуре два брата-рабочие, уповая на то, что Шива освободит их от кабалы ростовщика, одновременно отсекли друг другу головы. Чуда, разумеется, не произошло. Великий Разрушитель не прирастил их обратно. Так закончилось мое нисхождение в брах-манистский шеол, под базальтовые своды. Но мой рассказ о пещерах еще не закончен, потому что подземные храмы Аджанты имеют самое непосредственное отношение к повествованию. Их фрески связали концы и начала… «Фрески Аджанты, мощная Тримурти Элефанты и гигантская ступа в Сарнатхе - все это говорит о каких-то других временах», - писал Н. Рерих. В записках об Индии, принадлежащих перу путешествующего буддийского монаха Сюань Цзяна, есть одно любопытное место: «На востоке этой страны был горный хребет с кряжами один над другим, с ярусами пиков и с чистыми вершинами. Здесь был монастырь, нижние помещения которого находились в темном ущелье. Его величественные залы и глубокие пещеры высечены в отвесе скалы, а ряды его зал и расположенных этажами террас имели отвесную скалу позади, выходя передними фасадами к лощине. Этот монастырь был построен Ачалой из Западной Индии… Среди обителей монастыря был большой храм, свыше 30 метров высоты, в котором находилось каменное изображение Будды, более 21 метра вышины. Его увенчивали балдахины в семь ярусов, неприкрепленные и ничем не поддерживаемые, с промежутками между ними почти в один метр. На стенах этого храма изображены события из жизни Будды как бодхисаттвы, включая обстоятельства достижения им «бод-хи» и его ухода; все великое и малое было здесь начертано. За воротами монастыря, на обеих сторонах - северной и южной - было по каменному слону…» Это первое письменное свидетельство о пещерах прославленной ныне Аджанты. Европейцы узнали о ней со слов одного английского офицера, который, преследуя раненого леопарда, забрел в узкое ущелье, чьи каменные стены зияли темными провалами входов. Монастыря, о котором писал в VII веке Сюань Цзян, к тому времени уже давно не существовало. Только бродячие садху самых разных вер забредали сюда время от времени, чтобы задержаться ненадолго в одной из келий, вырубленных в горе. В составленном в 1843 году отчете археолога Дж. Фергюссона впервые были перечислены сокровища скульптуры и живописи, найденные в храмах Аджанты, в ее вихарах и сангхармах, вырубавшихся в течение восьми столетий, начиная с первого века до нашей эры. Считается, что этот беспримерный труд далеко перекрыл рекорд строителей пирамиды Хеопса. Если вытянуть в линию одни только кружева тончайшей резьбы, что покрывают стены, потолки и колонны двадцати девяти пещер, то эта линия достанет до снегов Джомолунгмы. Что труд Сизифа перед этим тысячелетним терпением и упорством? Что крепость базальтового монолита, дрогнувшего перед жалким ударом простого кайла или зубила? До сих пор археологи ломают голову над тем, как ухитрялись работать древние живописцы в полумраке пещер. Как смогли расписать их многокрасочными тончайшими рисунками? Возможно, они пользовались для этого зеркалами. Ловили солнце и посылали его во тьму, как это делают теперь мои новые друзья, фотографируя неведомые сокровища Гималаев. В пещеры Аджанты, однако, к услугам многочисленных туристов ныне проведено электричество. В его резком бестеневом озарении предстает цветная застывшая пантомима далекого прошлого. Уцелевшие фрагменты фресок, как осколки зеркала, в котором навеки застыли картины далекого прошлого: посольство персидского царя, разъяренные боевые слоны, топчущие поверженные рати, умирающая принцесса, юный Сиддхартха, тоскующий в роскошном дворце… Легенда и быль, переплетенные в сложном узоре. Блестки света, вспыхнувшие в водах летейской реки, остановленные в губительном полете метеоры. Но чудо, позволившее заглянуть в щелку запретных покоев минувшего, не может длиться вечно. Пещеры, ставшие прибежищем летучих мышей, подтачивает неизлечимый недуг. Осколки минувшего тускнеют, отслаиваются, смертная известковая бледность наползает на нежные ланиты прелестных куртизанок, мутная пелена заволакивает их золотые глаза. Убранные драгоценностями и цветами, еще вершат свой бессмертный полет красавицы апсары, услаждающие взоры царей совершенством и щедростью форм, опьяняющие любовников искрометной пантомимой танца. Их изощренные пальцы, не ведающие стыда, еще посылают во тьму веков откровенный и страстный призыв. Но никто не придет на ночное свидание. И зовущая ручка, устав от тысячелетнего ожидания, рассыпается прахом. Пир у Воланда. Золото ведьм, превращающееся утром в золу. На выставке в Дели я долго стоял перед витриной, где был представлен кропотливый процесс консервации фресок. За шприцами с антибиотиками, за флаконами освежительных эликсиров и синтетических клеев, за целительными бинтами и влагопоглощающим порошком мне мерещился аркан Махакалы: единоборство с демоном всеразрушающего времени. Непрекращающаяся битва, которую ведет человек с самой колыбели. Бесценны ее победы и стократ горьки невозвратимые потери. С надеждой следя за усилиями реставраторов, биологов, химиков и прочих специалистов спасти шедевры прошлого, мы невольно забываем, сколько всего, сами о том не ведая, потеряли за горами лет. И только внезапный удар, ибо встреча с чудом подобна удару молнии, приоткроет глубину окружающего мрака. Неисповедимы пути познания. Представьте себе, что вы стоите посреди одной из пещер - пусть это будет знаменитая «Рангмахала» с житиями Сиддхартхи или вихара № 1 с двумя красавицами - и бездумно любуетесь дивным совершенством полногрудых прелестниц. Вы можете думать при этом о чем угодно: о технике росписи на сухой штукатурке, о тайне чуть капризных губ, сохранивших жар и усталую припухлость бессонных ночей, об улыбке Моны Лизы по ассоциации или о том, зачем понадобилась в монашеской обители такая греховная, такая возмутительная красота. Затем вы уйдете, унося с собой свои впечатления и неразрешенные вопросы. Таков обычный путь. Однако он не раскрывает душу Аджанты. Но вот внезапно гаснет электричество, и, когда глаза свыкаются с мраком, вы приобщаетесь к сокровеннейшей тайне. Происходит нечто необъяснимое. Плоские фигуры на стенах наливаются призрачной жизнью, обретают объемность и цвет алебастровых статуй. Таинственное свечение древних красок набирает высшую силу, полностью освобожденные от покровов пленительные тела обретают прозрачность залитого лунным сиянием Тадж-Махала. Еще мгновение, и они, получив движение и свободу, сойдут с базальтовых стен. И никто не знает, что случится тогда с ними, с вами, со всем светом. Но тут свечение начинает ослабевать, меркнуть, и уставшие, дряхлые краски вновь погружаются в первозданную мглу. Фрески Аджанты служили образцом для всей Восточной Азии. Даже в стенных росписях старинных храмов далекой Японии легко отыщется неизгладимый их след. Но вечные цвета солей земли невидимы во мраке. Только краски Аджанты, не зная сна, живут странной призрачной жизнью. Если вас привлекает очарование тайны, не читайте приведенный ниже абзац. Эту короткую выдержку из книги А. Короцкой «Сокровища индийского искусства» я привожу лишь в качестве «информации к размышлению»: «Росписи в Аджанте, как и вся древнеиндийская стенопись, делались по сухой, а не по сырой штукатурке. Поверхность скалы вначале покрывалась составом, содержащим клей, коровий помет, тонко измолотую рисовую солому. Сверх него накладывался тончайший слой (толщиной в яичную скорлупу) штукатурки, которая тщательно полировалась. Возможно, поверхность стен на ночь смачивалась слабым известковым раствором… Скульптура покрывалась, судя по очень скудным следам, также тончайшим слоем штукатурки и раскрашивалась». Для человека, знакомого с основами физики, не составит труда построить на такой базе гипотезу. Я же, вместо ученых рассуждений об энергии возбуждения, сульфидах металлов и радиоактивности, приведу коротенький миф. Подобно Шиве, предавался в гималайских долинах аскетическому созерцанию и другой бог индуистской троицы - Вишну, воплощенный в Нараяну. Небесные апсары, видимо, не без влияния шалуна Камы задались целью свернуть доброго бога с изнурительной, хотя и благочестивой дороги. В отличие от вспыльчивого Трехглазого, Нараяна снисходительно отнесся к милым шалостям соблазнительниц. Взяв свежий сок дерева манго, он нарисовал обнаженную нимфу такой потрясающей красоты, что апсары пришли в уныние и оставили свои шашни. Так, с нимфы Урваши, ставшей идеалом женской прелести, началась история живописи. Нараяна передал секреты мастерства небесному зодчему Вишвакарме, а тот в свою очередь поведал о них людям - предкам бессмертных художников Аджанты. Именно в этих пещерах и было обнаружено древнейшее изображение колеса сансары, о котором Киплинг писал в «Киме». Пути искусства тоже неисповедимы.
ПОЛЕТ СТРЕЛЫ
(Интерлюдия на тему самадхи)
Недолог зыбкой формы плен. За пустотой таится тлен. Дхаммапада
Вновь гордая дуга Марин-драйв с белыми небоскребами, рекламными щитами, грохотом транспортного потока и уличными торговцами. Типично английский лаун с аккуратно подстриженной травкой, водяная вертушка, мокро блестящие листья веерной пальмы и радуга, дрожащая в водяном каскаде. Вблизи двухэтажного особняка, занимаемого прославленным институтом йоги Кайва-ледхама, уличный шум почти неощутим. Только журчание воды, источающей животворную прану, и шелест листьев. Ропот струй и плеск пролитой на пол воды слышится и за порогом. Не меньше десятка обнаженных до пояса мужчин, приникнув к водопроводным кранам, с натужным фырканьем и кашлем занимались промыванием носоглотки. Это начальный этап всякой йогической практики. Без него не может быть правильного дыхания, лежащего в основе упражнений. После многократного всасывания воды через ноздри - поочередно левой и правой - следует упражнение «нети». Оно заключается в том, что йог с помощью пропущенного через нос и рот шнура тщательно протирает носовые каналы, сохраняя при этом четкий ритм: вдох, выдох, задержка - постоянные, отмеренные ударами пульса интервалы. «Нети» устраняет препятствия для притока праны - жизненной энергии, которую несут влага, свет, воздух и плоды земли, питающей всякое живое существо. После водных процедур, позволю себе прибегнуть к привычной терминологии, практиканты проследовали в двухсветный тренировочный зал. Один за другим взбегали по лестнице босоногие юноши и поджарые седые джентльмены и ложились на коврики, хаотически разбросанные на теплом, ослепительно чистом паркете. Йоги высшей квалификации, как и положено, делали свои упражнения на шкурах зверей: барсов, леопардов и прочих пятнистых кошек. Залитое солнцем, пронизанное морским ветром помещение излучало бодрость и оптимизм. Не вдаваясь в перечисление характерных поз, носящих названия животных и растений, скажу, что некоторые я увидел впервые. Их явно не было в обычных руководствах и самоучителях, получивших в последнее время повсеместное распространение. Воистину лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Самые обыкновенные на вид люди, застывшие в невероятных, немыслимых асанах, молча демонстрировали беспредельную гибкость тела. Впрочем, они не демонстрировали. Каждый, не обращая внимания на соседей и случайных посетителей, занимался своим делом. Мне просто дано было мимолетно увидеть будничную сценку, сделать как бы мгновенный снимок, подстеречь рядовой этап долгого неведомого пути. Я не заметил ни тренеров, ни всеведущих гуру. Одни приходили и опускались на коврики, другие, закончив упражнения, вставали и уходили. В тишине, изредка нарушаемой потрескиванием суставов, не было слышно команд. Ничей посторонний шепот не вклинивался в слитный фон ритмичных вдохов и выдохов. Соответствующие асаны, видимо, уже были показаны и объяснены раньше. Изредка сверяясь с листком, люди отмечали выполненные упражнения и приступали к следующим. Деловито, просто, серьезно. У каждого было свое, индивидуальное задание. Одни пришли в Кайваледхаму, чтобы научиться правильно дышать и обрести власть над собственным телом, другие уповали на нечто большее, третьих привела сюда болезнь, с которой не могли совладать врачи. Таких было большинство. По-видимому, индийцы - в числе пациентов находились и живущие в Бомбее европейцы - хорошо знали, чего можно, а чего нельзя ждать от йоги. Неизлечимо больных, готовых уверовать в любое чудо, здесь не встретишь. А если и забредет случайно такой горемыка, ему деликатно посоветуют не рисковать. Только заведомый шарлатан вроде пресловутых филиппинских хирургов, «проникающих» в брюшную полость без скальпеля, способен пообещать загнанному в тупик, хватающемуся за любую соломинку человеку полное исцеление от злокачественной опухоли или мозговой травмы. К специалистам, вновь прибегну к привычной терминологии, по йогической «лечебной гимнастике» в основном обращаются страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей, всевозможными нервными расстройствами. Тут йога действительно помогает. Эксперимент, если можно так сказать, ставится в чистом виде, ибо йога отрицает любые медикаменты. Изощренная, до мелочей отработанная в течение пяти тысяч лет система, по-видимому, обладает многими преимуществами по сравнению с обычной лечебной гимнастикой, физиотерапией и прочими как бы вновь открытыми европейской наукой, средствами внешнего воздействия на организм. Неудивительно, что рекомендации йоги вдумчиво и кропотливо изучают в научно-исследовательских учреждениях всего мира. В том числе и у нас. Такие работы ведутся в Москве и Ленинграде, Киеве и Алма-Ате, Баку и Кисловодске. Широкую известность снискала, в частности, отснятая на Киевской студии научно-популярных фильмов лента с завлекательным названием «Индийские йоги, кто они?». Название выбрано очень точное. В самом деле, кто? Можем ли мы считать йогом генерального директора фирмы «Субраманья и сын», которого я застал в позе «павлина», исцеляющей от язвы желудка? Или художника-модерниста Рамучавана, который посредством многократного повторения «посчимасаны» наладил себе кровообращение ног? По всей видимости, нет. Да они и сами не претендуют на сей высокий титул со столь расплывчатым статусом. Ни генеральный директор, у которого еще все впереди, ни художник, уже вернувший себе здоровье, но пожелавший продолжить изучение йоги. Конечная цель - самадхи - их не волнует, образ жизни и, главное, работу менять они не собираются, хоть и вынуждены были следовать обязательным предписаниям руководителей: вегетарианская пища, посты, отказ от алкоголя, табака, чая и кофе. Не так просто, конечно, для современного человека, но чего не сделаешь ради здоровья. Художник, правда, мог бы вернуться к старым привычкам. За исключением сигарет - он ежедневно выкуривал по три пачки, - ему теперь все можно. Но он уже втянулся в йогу и не желает ее бросать. Проще окончательно отказаться от «ликера», как именуют горячительные напитки. Альтернатива жесткая: либо - либо. Его уже и не тянет к сомнительным допингам цивилизации. За год без малого тренировки он стал совершенно другим человеком. - Физически? - попытался уточнить я. - Может быть, и морально, - ответил он. - Хоть я и не ставил цель стать йогом. Кого же тогда считать «настоящим» йогом? Знакомых нам махариши Махеша, Махараджа Джи, у которого ближайшие родичи пытаются оттягать роскошную виллу в Гималаях с вертолетной площадкой и лотосовым бассейном? Или скромнейшего человека глубочайших знаний и необыкновенного благородства по имени Венкатарман, которого простые люди величают тем же высоким званием махариши? Несмотря на резкие различия, все они йоги. Великому сыну Индии Свами Вивекананде и его учителю йогу Рамакришне посвятил яркие, хоть и не свободные от преувеличений книги благодарный Ромен Роллан. В его глазах йог - это прежде всего гуманист, наделенный мудростью и личным обаянием. Но к йогам причисляет себя, наверное, и впавший в идиотизм столпник, которого я видел на Элефанте, и бомбейский абсолютно голый джайн с марлевой повязкой на губах, и мусульманский дервиш из сурового ордена суфи. Бродячие фокусники и обвешанные змеями заклинатели, глотатели огня и танцоры на раскаленных углях, одичавшие агхорапантхи, пожирающие, подобно гиенам, падаль, и отшельники, замурованные в глухих подземельях, равно именуются йогами. И толкователи вед, и ламы третьей степени посвящения, знающие наизусть сто восемь томов Ган-джура, тоже по всем показателям могут быть отнесены к этой удивительно неопределенной людской категории. Впрочем, только людской ли? Всех без исключения индуистских богов также, безусловно, следует причислить к йогам. Время от времени каждый из них принимает обет аскетизма и, удалившись в пустыню, принимается накапливать духовную силу, что внушает ревнивое беспокойство другим небожителям. Не только Шива, но и остальные боги часто изображаются в характерной йогической асане со сложенными одна над другой ладонями, передающими состояние медитации. Буддийский, ламаистский в частности, пантеон возводит этот принцип почти в абсолют. Поза лотоса - «падмасана» - основополагающая для будд, бодхи-саттв и их земных воплощений. Оно и понятно. Ведь и сам Гаутама, основатель буддизма, ушел из собственного дома и стал отшельником, йогом. Что же представляет собой это многочисленное и поразительно разномастное сообщество, чья история уходит в непроглядную тьму тысячелетий? Ведь печати с изображением медитирующего йога были обнаружены среди остатков доисторической Хараппской цивилизации, процветавшей в долине Инда в III и II тысячелетиях до нашей эры. В еженедельнике «Иллюстрейтед уикли» сообщалось, что в 1970 году в Индии насчитывалось восемь миллионов садху, то есть профессиональных бродячих йогов: шиваитов с горизонтальными белыми полосками на лбу, вишнуитов - с желтыми вертикальными. Сами индийцы относятся к этому институту довольно скептически. Нередко можно услышать и слова резкого осуждения. «Шафрановые тоги садху, - писал известный публицист Чандхи Сингх, - служат удобным одеянием для мошенников. Эти «святые нищие» бродят по стране и живут припеваючи, прикрываясь именем божьим». Подобные высказывания представляют собой крайнюю точку зрения. Вполне справедливые в оценке известной части нищенствующей братии, они не учитывают ее элиты. А именно в ней, в немногих незаурядных людях, подчинивших фанатической вере тело и дух, и заключается корень проблемы. Как и тысячи лет назад, бредут они, палимые солнцем, по деревенским тропам, собирая вокруг себя толпы последователей, уверовавших в сверхъестественные способности пришлого гуру и, следовательно, в его высокую миссию. Люди, достаточно долго прожившие в Индии, равно как и многие европейски образованные индийцы, далеки от того, чтобы стричь всех садху под одну гребенку. - Среди них, безусловно, есть и настоящие йоги, - сказал в беседе со мной известный физик, читающий курс лекций по квантовой механике в бомбейском университете. - Вы можете сформулировать точные критерии, отличающие настоящего йога? - спросил я. - Увы, нет, - несколько принужденно рассмеялся мой собеседник. - Явления, о которых идет речь, лежат пока за гранью индуктивных наук, хотя и не представляют собой, по моему глубокому убеждению, ничего сверхъестественного. Просто это очень тонкая материя, может быть, сверхслабые электромагнитные поля, уловить которые способен лишь мозг. Транс, понимаете ли, заразителен, чувствительные люди улавливают чужие видения и тянутся к ним. Это как эпидемия.

Странствующий йог
Обсуждая ту же тему, видный индолог У. Н. Браун выразился с большей определенностью: «Средний индиец может, конечно, иметь сомнения насчет того или иного садху, появившегося на территории общины; но в то же время он чувствует, что у него нет надежного критерия, чтобы отличить честного искателя истины от обманщика. Поэтому он не хочет, не смеет подвергать себя опасности, оскорбляя человека, который, возможно, повелевает сверхъестественными и разрушительными силами. Таково воздействие ореола, окружающего аскетизм и практику йоги; мифы, связанные с ними, входят составной частью в мифологию, концентрирующуюся вокруг величественной фигуры Шивы». «Воздействие ореола…» Оно ощущается далеко за пределами Индии, привлекая в различные «трансцендентальные» секты неофитов, которые чуть ли не с молоком матери всосали йогический миф. Что же говорить тогда о правоверных индуистах? Для них обет саниасина, уход из мира ради благочестивых размышлений о смысле жизни и молитв - высшая добродетель. Издавна было принято, что отец семейства передавал хозяйство в руки взрослого сына и, порвав всякую связь с семьей, уходил в леса или примыкал к какому-нибудь ашраму. Это считалось наиболее достойным завершением жизни. Недаром отшельник стал центральным персонажем легенд и эпических сказаний. В «Махабхарате», в «Океане сказаний» чудесного поэта Сомадевы немало эпизодов, где верховные боги буквально дрожат от страха, прослышав про какого-нибудь аскета, копящего духовную мощь. Что же это за сила, перед которой трепещут боги, в которую и по сей день веруют миллионы людей? Теории и практике йоги посвящены соответствующие разделы ранних упанишад («Чхан-догья» и «Шветашватара»). Но прошло более пятисот лет, прежде чем Патанджали систематизировал отрывочные сведения и рецепты и изложил их в изящных и лаконичных афоризмах, получивших название «Йога-сутра». Комментарии к ней и комментарии к комментариям, как это бывает в подобных случаях, в тысячи раз превысили объем канонического текста. Если же добавить сюда небылицы, сочиненные в Америке и Европе, то рекорд скромных диалогов Платона, породивших поток атлантологической литературы, будет далеко перекрыт. Подобное изобилие отнюдь не способствовало прояснению вопроса. Не существует не только строгого определения самого понятия «йога», нет даже единой точки зрения насчет общего количества ее разновидностей. «Бхагавадгита» называет одно число, средневековые авторы - другое, современные ученые - третье. Все зависит от принятой систематики и общей точки зрения на проблему в целом. Обычно выделяют пятьпоследовательных степеней: 1) хатха-йога [1] (собрание физических упражнений); 2) карма-йога (собрание действия); 3) бхакти-йога (собрание приверженности); 4) раджа-йога (собрание мысли) и 5) джнака-йога (собрание знания). [1 Слово «йога» образовано, по-видимому, от сансктского «йуг», что значит связываться, соединяться, образовывать союз.]
Такое деление приблизительно совпадает с доктриной популярного до революции йога Рамачараки, европейского самозванца, наводнившего книжный рынок оккультными сочинениями. Однако здесь выпадают такие важные разделы, как мантра-йога, содержащая в себе искусство магических заклинаний; янтра-йога, нацеленная на созерцание мистических диаграмм; лайя-йога, помогающая выскочить из-под контроля сознания; кунда-лини-йога, высвобождающая скрытую в человеческом организме энергию; шакти-йога, основанная на примате женской творческой энергии космоса, и дхьяна-йога, указывающая путь к высшим пределам созерцания. Мистические разделы йоги почти целиком перешли в ламаизм и широко практиковались в Тибете и сопредельных с ним Бутане, Сиккиме и Монголии. Китайская секта чань и японская дзэн возвели созерцание на высшую ступень божественного постижения. Невзирая на множество внешних различий, основной и единственной целью индо-буддийской медитации является состояние самадхи. Широко распространенный парадокс: «йога - это самадхи» - попадает в самое яблочко. Восемь космических начал, восемь триграмм, восемь ступеней на пути к нирване, восемь лепестков лотоса… У йоги тоже восемь последовательных стадий: самоограничение, чистота тела и духа, асаны, правильное дыхание - пранаяма, отключение сознания от органов чувств, сосредоточение, концентрация и полет в самадхи, подобно выпущенной из лука стреле. В начале книги я назвал самадхи добровольным безумием. Психиатры именуют его галлюцинацией, временным умопомрачением. Это очень близко к истине, но, к сожалению, не охватывает всех сторон, безусловно, необычного явления. В самадхи можно войти по своей воле и вернуться затем назад. Галлюцинацию удается вызвать как бы по заказу, чему предшествует постепенное и дотошное, вплоть до мелочей, ее изучение. Это безумие, которому можно научиться. Для более строгого определения я не нахожу слов. Собственно, не существует точной характеристики и таких понятий, как «абсолют», «брахман», «нирвана», то есть той вселенской сущности, с которой якобы сливается йог, достигший самадхи. О том, что состояние это нельзя описать словесно, предупреждают все канонические сочинения. Пытаясь передать его через отрицание («не то и не это») или сравнивая с пустотой, йогические авторы достигают немногого. Вполне естественно напрашивается мысль о том, что явление, которое никак нельзя передать словами, не существует как объективная реальность. «Бесполезно стремиться, как учат буддисты, к постепенному завоеванию Абсолюта, - писал Ромен Роллан в одном из примечаний к «Жизни Рамакришны», - ибо всякое движение индивидуального разума равно нулю». Итак, в момент слияния индивидуальный разум не существует. Когда же, отъединенный, он вновь обретает себя, то для него исчезает, становится нереальным достигнутый только что абсолют. Устами Рамакришны Ромен Роллан дает объяснение: «Даже святой, пробуждающийся от самадхи (экстаза) к обыденной жизни, принужден снова вернуться к оболочке своего «отдельного я», правда смягченного и очищенного». Получается замкнутый круг. Иллюзорность такой сугубо идеалистической системы для нас очевидна. Готовясь к поездке в Гималаи, я прочитал интереснейшую книгу Александры Дэвид Нейл «Магия и мистерии в Тибете». Знаток санскрита и тибетского языка - профессор Нейл несколько лет провела в Тибете, где была удостоена высшего посвящения. Раскрывая сущность медитации, она говорит, что была свидетельницей удивительных психических явлений, в которых, однако, нет и тени сверхъестественного. Именно путем систематической, веками отшлифованной психологической тренировки достигается «заранее намеченный результат». Речь, таким образом, идет именно об искусственном вызывании определенных видений, о добровольном безумии. В очерках о ламаизме я постараюсь рассказать о том, что представляют собой такие видения, порождающие иллюзию слияния с божеством. Чрезвычайно интересен и вывод, к которому приходит исследовательница: «Сведения, собираемые о подобной тренировке, дают ценнейший материал, достойный исключительно пристального внимания, несмотря на то что сами упражнения… основаны на теориях, с которыми далеко не всегда можно согласиться». В начале книги я упоминал об энцефалографическом анализе йога, переходящего «из одной долины в другую», то есть переживающего все более глубокие стадии погружения. Настала пора рассказать о результатах такого исследования. Ныне можно сказать с уверенностью, что мозг пребывающего в смуте погружения находится в своеобразном гипнотическом состоянии (не в трансе!), когда кора угнетена, а подкорка, напротив, переживает повышенную активность. При этом контроль сознания полностью не исчезает. Человек как бы со стороны следит за своими яркими, охватывающими все его существо видениями, различая, однако, и окружающую его обстановку. Внешние воздействия: направленный в глаза свет, прикосновения, шумы - совершенно не сказываются на характере энцефалограммы. Мозг словно отгораживается от них, как от досадных помех. С известной натяжкой это можно сравнить с захватывающим творческим порывом, когда художник, забыв обо всем на свете, отдается во власть вдохновения. Он, разумеется, не порывает связи с действительностью, которая до срока лишь отступает для него куда-то на задний план. В ярких, глубоких переживаниях таится необычайная притягательность. Их хочется ощущать вновь и вновь с той же первозданной остротой. Как сказал поэт, «и каждый день неповторим, и повторялся вновь без счета». Творчество - это всегда величайшее напряжение и упоительное ощущение высоты. Созданное художником произведение долго живет независимой от творца жизнью, даруя радость многим и многим. «В те дни, когда мой отец брался за кисть, - писал прославленный пейзажист Го Си, живший в XI веке, - он непременно садился у светлого окна за чистый стол, зажигал благовония, брал тонкую кисть и превосходную тушь, мыл руки, чистил тушечницу. Словно встречал большого гостя. Дух его был спокоен, мысли сосредоточены. Потом начинал работать». Это было сосредоточение ради творчества. Его «технология» была подробно разработана задолго до чань-буддизма. Наблюдение природы как один из путей постижения «цзин» (сущности) или «ли» (главного принципа мироздания) тоже требовало от художника полной отдачи, глубокого погружения, экстаза. Но целью такого сосредоточения духовных сил, «содружества с объектом», было не самадхи, а действительное постижение мира методами искусства. При всем сходстве внешних условий разница безмерная, ибо диаметрально противоположна конечная цель. Видения созерцателя, как бы ярки они ни были, сродни мыльным пузырям или галлюцинациям наркомана. Расплата за них одна - постепенный отход от реального мира. Не приходится сомневаться в том, что все разделы йоги устремлены к высшему пределу, за которым уже нет возврата к привычному человеческому бытию. Они смыкаются друг с другом, как реки в океане, в полном соответствии с доктриной абсолюта. Это ясно видно на примере учений о кундалини и шакти, краткое знакомство с которыми позволит нам понять движущее начало как шиваизма, так и гималайских форм буддизма. По-видимому, еще в третьем тысячелетии до новой эры в недрах тайных культов, связанных с поклонением шакти - женской творческой энергии, зародилось представление о спящей в человеке особой силе, названной кундалини. Графически ее изображали в виде змеи, тремя с половиной кольцами обвивающей лингам. Мифическая анатомия, соответствовавшая столь же фантастическим воззрениям на землю и окружающий ее космос, отвела для кундалини несуществующий в человеческом теле нервный центр - чакру, расположенную у основания позвоночного столба. Считалось, что пробудить «змею» и заставить ее подняться к другим позвоночным центрам можно лишь с помощью специальной йогической техники. Приближаясь к совершенству, человек продвигает кундалини все выше и выше, пока она не возвысится над последним, шестым центром и не достигнет тысячелепесткового лотоса, находящегося в верхней части черепа. Это и будет состоянием высшего совершенства. Акт, имеющий поистине космическое значение, причастный к рождению миров. «В различных источниках, - пишет У. Н. Браун, - эти шесть центров описываются в терминах, свидетельствующих, что они представляют в человеческом теле, как в микрокосме, аналогичные центры макрокосма - тела Дэви, а тысячелепестковым лотосом представлена сфера, где пребывает она в своей основной, лишенной материальности, форме. Из этого исходного состояния она, сочетавшись браком с Шивой, эволюционирует, претворяясь, ступень за ступенью, во все шесть элементов материальной вселенной. На высшей ступени она порождает сознание, на следующей - эфир, на еще более низкой - воздух и на остальных - огонь, воду и землю. Этим эволюция завершается; таким образом, Дэви и Шива, как мать и отец, порождают мир». Йог, побуждая «дремлющую змею» скользить по столбу позвоночника, как бы воспроизводит в себе сотворение мира. Когда же его кундалини достигает высшей цели, он высвобождается из-под власти эволюции, сливается с первоначалом, растворяется в океане блаженства. Конечная цель, таким образом, остается прежней: самадхи и абсолют. - Нет слов на людском языке, чтобы описать это состояние, - сказал мне Бахула, верховный лама Ладакха, которого причисляют к живым бодхисаттвам. «Объект является объектом для субъекта, субъект является субъектом для объекта. Знай, что относительность этих двух пребывает в абсолютно единой пустоте. В единой пустоте этих двух не расчленить. Нельзя сказать та и эта. Если сердцем постиг истину, десять тысяч вещей едины по своей природе. Одно во всем и все в одном» - примерно в тех же словах, но несколько более изощренно описал самадхи третий патриарх секты чань Сэн Цан. Пять лет спустя я посетил знаменитый «Вишваятан Йогашрам» в Дели. Его главный администратор и директор центрального совета по исследованию йоги и натуропатии Свами Мануварьяджи принял меня во дворе, где шли занятия с начинающими. - Йога завоевала мир в бескровной битве, - пошутил он. - В ней нет чудес, а лишь ежечасный упорный труд. Взгляните, как неловки на первых порах «новобранцы». Люди вокруг фонтана и впрямь захлебывались и кашляли, промывая носоглотку. Да и на площадке, где тренер показывал асаны, дела шли не совсем гладко. Щуплый подросток никак не мог сцепить руки под правой лопаткой, а пожилой, страдающий одышкой человек, обливался потом, безуспешно пытаясь надлежащим образом сплести ноги. - Научатся, - равнодушно изрек гуру Свами, проследив мой взгляд. - Все они научатся и обретут исцеление. - Исцеление? - Да. Мы успешно лечим астму, некоторые виды артритов, радикулит, желудочные болезни. - Рак? - Чудес не бывает. Процент смертности от рака среди йогов такой же, как и среди прочих… То, что вы видите, не йога. - Гуру говорил тихо, приветливо, четко артикулируя английские слова. - Лишь у одного из миллиона скрыта искра божественного огня. Это и есть йога, чудесный лотос Индии. Как и все профессиональные йоги, Свами Мануварьяджи выглядел, что называется, человеком без возраста. Ему можно было дать и пятьдесят и семьдесят лет. Временами он и вовсе казался мне столетним старцем, но глаза, жаркие и совсем молодые глаза, сбивали с толку. Гуру Свами отрицал расхожее понятие о чуде, сохраняя в душе веру в некий редко встречающийся феномен. И, судя по всему, не только верил, но и твердо знал, что существуют вещи, неведомые для простых смертных. - Существуют феномены, - он почти мгновенно ответил на невысказанный вопрос, - которые не поддаются научному исследованию. Вам не приходилось видеть йога высокой ступени в момент глубочайшего размышления? Я знал, какие феномены он имеет в виду, и знал также, что они вполне поддаются научному исследованию. Тибетский лама третьей степени посвящения даже раскрыл мне технологию самадхи. Это было недалеко от непальского города Покхары, затерянного в предгорьях великой Аннапурны - дарительницы жизни, названной так в честь Парвати - супруги грозного Шивы, покровителя йогической практики.
ЖЕСТОКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(Интерлюдия на тему «Дзэн и фантастика»)
Не создавай себе кумира: Любые формы преходящи. Снега горят в короне мира Лишь под лучом животворящим. Дхаммапада
В токийском районе Асакуса есть храм милосердной богини Каннон, построенный из стволов криптомерии. Перед входом стоит бронзовая курительница, окутанная благовонным дымом можжевельника. Рядом - выложенный замшелыми валунами колодец. Прежде чем ступить на храмовые ступени, богомольцы нагоняют на себя дым, дышащий беспокойной горечью, и, зачерпнув серебряным черпаком из колодца, очищают свое дыхание колодезной водой, от которой стынут зубы и тревожно заходится сердце. Под темные своды святилища, где перед изображениями богов жгучими огоньками тлели курительные палочки, я вошел вместе с Сакё Комацу, самым популярным фантастом Японии. Было это в год Пса и Металла, что соответствует 1970 году принятого у нас грегорианского календаря. По красной печати, которой пожилой буддийский монах деловито отметил наши буклеты с описанием храмовых святынь, я легко могу установить месяц и число. Для меня тот незабываемый день в известной мере стал знаменательным, ибо именно тогда я впервые увидел непередаваемое чудо - каменный сад. Случилось это уже под вечер, когда в закатной позолоте еще четко различимы контуры загнутых черепичных крыш, но уже непроглядны и неразличимы тени, и летучие мыши чертят в воздухе стремительные фигуры. Проделав на «Тоёте-корона» - с телевизором и кондиционером - бог знает сколько километров по скоростным токийским эстакадам, мы с Комацу оказались вдруг перед высокой стеной из грубого камня, за которой четко вырисовывались в холодеющем золоте почти черные сосны и криптомерии. - Помните «калитку в стене» Уэллса? - спросил Комацу, указывая на маленькую ка-литочку, которую я поначалу и не заметил. - Сейчас мы окажемся в ином времени, а может, и в ином пространстве, ибо они неразрывны - пространство и время. - Тоннель в эпоху Эдо? - пошутил я, намекая на прославленную повесть моего коллеги и проводника. - В чудесный мир, созданный Комацу? - Нет, - не принимая шутки, ответил он и молчаливым поклоном поблагодарил за комплимент. - И пространство, и время изначально слиты в пустоте, из которой рождается все. Мы идем приобщиться к этой творящей пустоте. Мятущееся сердце человека тянет излить туда суету и тревогу.

Храм секты дзэн (Токио)
- Здесь храм секты дзэн? - догадался я. - Хай, - утвердительно улыбнулся Комацу, и мы, ускоряя шаг, пошли по уложенной неровными каменными плитами тропе к торию - воротам, выполненным в виде «знака неба». Что знал я тогда об учении дзэн? Очень немногое. Мысли мои были смутны, ожидания ошибочны. «Секта дзэн не признает идолов, - писал Ясукари Кавабата, первый японский писатель, удостоенный Нобелевской премии. - Правда, в дзэнских храмах есть изображения Будды, но в местах для тренировки и в залах дзэн нет ни статуэток Будды, ни икон, ни сутр. В течение всего времени там сидят молча, неподвижно, с закрытыми глазами, пока не приходит состояние полной отрешенности. Тогда исчезает «я», наступает «ничто». Но это совсем не то «ничто», что понимается под ним на Западе. Скорее наоборот - это вселенная души, пустота, где вещи приобретают самостоятельность, где нет никаких преград, ограничений, где есть свободное общение всего во всем». Дзэн не только религиозная секта. Это своего рода миросозерцание и организация окружающего мира. Недавно вышедшая книга Е. В. Завадской «Культура Востока в современном западном мире» целиком посвящена влиянию философии чань-буддизма на западное искусство: литературу, живопись, музыку. Знаменитая «чайная церемония» - пережиток одной из дзэнских мистерий. Не случайно и теперь приглашенные на церемонию гости попадают в покой, предназначенный для чаепития, по узкому, темному лазу. Многим европейцам невдомек, что это символизирует блуждание духа. Точно так же не понимают они, что пузыри, тающие в фарфоровой чашке, указывают на преходящую и жалкую непрочность всего сущего. Именно в этой лопающейся пене, тщательно взбитой бамбуковым венчиком, и заключается смысл церемонии, а не в самом чае, зеленом и неподслащенном. И скупо написанное на тонком шелке какэмоно [1] - будь то иероглиф или ветка сосны, - которое вы обнаружите в нише вашего гостиничного номера, может иметь отношение к дзэн. Даже искусство аранжировки цветов в вазе - икебана - способно выразить идею пустоты: освобождения от форм бытия, восстановления подлинной первоприроды человека, возвращения к вечным истокам. [1 Картина, нарисованная тушью.]
Как сказать - В чем сердца Суть? Шум сосны На сумиэ.
Эти стихи принадлежат поэту-монаху, жившему в XV веке. В икебане есть три плана: земля, человек, небо. Человек объединяет - основное положение буддизма - землю и небо. В букете из какой-нибудь сосновой ветки, камыша и цветка хризантемы эта идея выражена с предельной простотой и отстраненностью. «Горсть воды или небольшое деревце вызывает в воображении громадные горы и огромные реки. В одно мгновение можно пережить таинства бесчисленных превращений», - говорит средневековый мастер икебаны. Та же идея отражения большого в малом, преломленная сквозь пустоту, заложена и в неповторимых японских садах. Минуя храм, мы обогнули крытую веранду и очутились на пустыре, с трех сторон огороженном высокой каменной стеной. Здесь были лишь камни разных размеров - неровные и замшелые - и мелкий гравий, который с помощью грабель уложили в нехитрый концентрический узор. Наглядная символика океана, окружающего скалистые острова. - С какого бы места вы ни смотрели на эти камни, вам никогда не увидеть их все сразу - объяснил Комацу. - Недосказанность природы. Он умолк и за все то время, что мы пробыли в саду «молчаливого созерцания», не проронил больше ни слова. О чем он думал, прислушиваясь к зову пустоты? Было ли дано ему пережить «сатори» - мгновенное озарение, приоткрывающее суть вещей? Не знаю… Зато на обратном пути, когда за поляроидными стеклами машины уже неистовствовала световая феерия Гиндзы, Комацу неожиданно сказал: - Для меня эти камни олицетворяют Японию. Непонятной игрушкой стихийных сил она поднялась из вод и в один кошмарный день исчезнет в волнах, унося в небытие все великое и низменное, что успело взрасти среди нагромождения камня. Я не придал тогда значения этой реплике, ибо догадывался, что лишь с очень большой натяжкой можно уподобить сад камней эдакой модели островной страны Ниппон. Не возражая вслух, я по японскому обычаю промолчал и не произнес вертевшегося на языке слова «отрешенность». Теперь я сожалею об этом, поскольку понимаю, что уже тогда Комацу замыслил свое большое программное произведение «Гибель Японии» (в русском переводе оно получило название «Гибель Дракона»: дракон - символ Японии). Стоило мне погрешить против этикета - тому, кто привык считать молчание знаком согласия, это простительно, - и мой собеседник, возможно, глубже раскрыл бы предо мной глубинную идею задуманной вещи. Потом, когда я работал над предисловием к русскому изданию книги Комацу, мне было бы куда легче истолковать ее подтекст, ее потаенный, а по японским канонам основной смысл. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Скорее всего, простив мою оплошность, Комацу едва ли позволил бы допустить неучтивость. На мое возражение он бы ответил только молчанием - знаком несогласия. Теперь, прочитав роман и даже посмотрев одноименный фильм, я совсем иначе понимаю его слова, оброненные на пути в отель Нью-Джапэн ясным вечером 29 августа 1970 года. И меня снедает беспокойство и неуверенность в том, что я понял их достаточно глубоко. Ни тогда, ни два года спустя, когда принимал Комацу в Москве, я не заговаривал с ним о саде камней. И это понятно, потому что «Гибель Японии» была тогда всего лишь «вещью в себе», которую мог ощутить только творец. Фабула романа очень точно, жестко детерминирована и вполне очевидна. Мне нечем ее дополнить, она не оставляет простора для толкований, без которых любой разговор об искусстве становится бессмысленным. Речь, таким образом, может идти именно о подтексте, глубинной идее, которая остается «за кадром». Повторяю, я не знаю, о чем думал автор нашумевшего бестселлера о новой Атлантиде, когда его взгляд блуждал по бесформенным глыбам. Но идея романа, его мрачный и тонкий колорит разрешает мне сделать некоторую реконструкцию. Она представляется мне тем более важной, что позволяет перекинуть мост между исконной религией синто, индуистской тантрой и дзэн. Японские мифы, записанные в книге «Код-зики» (буквально «Записки о древних делах»), повествуют о двух божественных началах бытия: мужском - Идзанати и женском - Идзанами. Соединившись, они породили главные острова Страны восходящего солнца, богов, людей и почти всю окружающую природу. Это была вполне благополучная космогоническая гипотеза, без взрывов и фантасмагорических катаклизмов, присущих борьбе Космоса с Хаосом. Но так продолжалось лишь до той минуты, пока Идзанами не надумала породить бога огня. Вырвавшись на волю, это божество, олицетворяющее потаенный пламень, основательно встряхнуло острова, продолжая трясти их по сей день, и внесло чудовищную неразбериху в сообщество первых небожителей. Не только неразбериху, а и саму смерть, потому что, когда из чресел первобогини-матери вырвались огненные языки, она застонала и умерла. Идзанати, подобно Орфею, отправился в преисподнюю, чтобы вырвать дорогую супругу из объятий смерти. Оскорбленная тем, что муж посмел взглянуть на ее обожженный, обезображенный труп, Идзанами наслала на него сонм бесовских отродий. Спасаясь от преследующих его отвратительных ведьм, Идзанати, подобно героям многих сказок, бросал за собой то гребешок, из которого вырастали непроходимые леса, то головную повязку, обернувшуюся цепкими лозами винограда. Теперь и ему в одиночестве предстояло продолжить великую миссию миротворения. Из обоих его глаз и из носа должны были родиться главные боги синто: солнечная Аматэ-расу-омиками, владыка луны Цукиёми и беспокойный Сусаноо, которому предстояло натворить в этом лучшем из миров немало бед. Такова мифологическая предыстория пленительной и суровой страны, чью страшную гибель столь наглядно и убедительно нарисовал на страницах своего романа Комацу. К счастью, романа фантастического… Казалось бы, какое место может занимать мифология в век атома и кибернетики? Но подобно тому как в тени небоскребов из стекла и стали скрываются каменные сады и храмы, возведенные из стволов священных криптомерии, она тайно пронизывает неповторимый образ мысли жителей древней страны Ниппон, сумевших покорить бесплодные камни. - Я не верю в богов, - с улыбкой ответил на мой вопрос Комацу. - И не занимаюсь созерцанием, - предупредил он новый вопрос. - Наука и искусство - мои единственные кумиры. Только через них человек может выразить себя. Нарисовав гибель Японии и поставив на самый край пропасти последних носителей японской культуры, Комацу действовал в строгом соответствии с этикой дзэн, требующей всегда и во всем прямоты сердца. «Тот, кто воплощает состояние самадхи, делает это повсюду: ходит ли, стоит ли, сидит или рассуждает о чем-нибудь», - писал Хой-нэн в «Алтарной сутре Шестого патриарха». Следуя этому принципу, разумеется, отнюдь не в религиозном, а сугубо этическом смысле, Комацу как бы продемонстрировал непричастность сердца «к миру пребывания добра и зла». В художественном образе воплотил идею бесстрастной медитации. Этот момент крайне важен для правильной оценки влияния дзэн на культурную жизнь Запада. Принципы, лежащие в основе той или иной художественной школы, принципы организации действительности могут быть интересными и сами по себе, вне связи с техникой медитации, которая, в сущности, всюду одинакова: в ортодоксальном буддизме, йоге и дзэн. В Токио в тот год стояла изнурительная жара. В пересыщенном влагой воздухе дышалось, как в джунглях. Люди искали спасения в чудесных парках столицы, под сенью деревьев, у зеленых прудов. С выпуклого, почти кукольного мостика парка Уэно я любовался ручьями, в которых играли радужные карпы, или искусственными водопадами, сбегавшими с живописных, умело декорированных зеленью скал. От причудливых, ветвями стелющихся по земле сосен и ив вновь тянуло к аскетической прелести каменного сада, где строгие линии причесанного граблями гравия бросали вызов застывшему хаосу каменных глыб. Это был акт творения, остановленный где-то в самом начале. Кем? Когда? Почему? В этом мнилась какая-то загадка, простая и неразрешимая, как жизнь. Сами собой всплывали основополагающие понятия японского искусства: «ёэн» - очарование, «югэн» - таинственное, «ёдзё» - недосказанное. В каменном бесцельном совершенстве мнилась разгадка непостижимого космического круговорота. Стихийная необузданность, постичь которую немыслимо, ибо она соединяет в себе и цель творения, и его процесс. Субъект и объект. «Ничто - это целостность, из которой рождается все». Таинственное очарование недосказанности.

Бог грозы (Япония)
«Нихон но бы» - красота Японии. Именно красота искусства, а не надежда на религиозное откровение привлекает к дзэн художников, философов и поэтов. Через каллиграфию, икебану, лаконичность японской игрушки и лаконичность стиха они постигли гармонию, ощутили могущество недосказанного. Обмен культурными ценностями и экспорт религии не имеют между собой ничего общего.
КОЛЕСО «ЗОЛОТОЙ СРЕДИННОЙ ДОРОГИ»
Про смерть не думают, а злоба все растет. Друг другу глотки рвут и бесятся от жира. Я ж вижу погребальный мой костер! Что для меня все свары мира? Дхаммапада
Все туристические проспекты Непала рекомендуют гостям обязательно побывать в Лумбини. «Как миллионы христиан стремятся увидеть Иерусалим, как миллионы мусульман отправляются на поклонение в Мекку, так триста миллионов буддистов видят свою святыню в королевстве Непал и несут свой привет к подножию колонны великого Ашоки, отмечающей место рождения Будды». Этот простой каменный столб, треснувший вдоль и потому схваченный двумя обручами, окружен четырехугольной железной оградой со стреловидными остриями, которую по традиции окрашивают в красный цвет. Он стоит посреди неровного поля, хранящего следы муссонных ливней. Поросшие осокой и лотосом лужи, непрозрачные, словно наполненные желтой охрой, пруды. Вся территория огорожена колючей проволокой и напоминает то ли пастбище, то ли запретную зону. Видимо, это вызвано тем, что в Лумбини намечается колоссальное строительство. Только на разработку, как говорят специалисты, «тотального проекта» реконструкции этих мест Международным фондом развития отпущено 5 660 000 американских долларов. Один из генеральных директоров японской фирмы, которой поручена прокладка дорог, сказал: - Это будет лучший уголок во всей Азии. План предусматривает не только систему коммуникаций, строительство отелей и прочих сооружений, необходимых для современного мирового центра. Будет изменена, точнее, вновь возрождена древняя природа этого места. Мы увидим священный сад, в котором воцарится атмосфера умиротворенности, ясности и того всеобъемлющего света, что лежит в самой основе буддизма. Не правда ли, это прекрасная идея - увековечить место рождения Шакья-Муни? Наши дизайнеры с увлечением работают над проектом. Впрочем, на мой взгляд, они уделяют недостаточное внимание инфраструктуре. А вы как считаете? Честно говоря, мне показалось немного странным сочетание слов «инфраструктура», «дизайн» с такими тонкими материями, как «всеобъемлющий свет». Но, видимо, современному инженерному гению под силу даже такая задача. Из всей поездки в Японию я вынес убеждение, что, несмотря на обилие синтоистских, буддийских и даже христианских храмов, японцы не отличаются особой религиозностью. Мой собеседник, в равной мере восторженный и практичный, согласился с этим. - Детей мы, так сказать, вводим в общество по обрядам синтоизма. Я усматриваю тут дань традиции, этическое приобщение ребенка к прекрасной природе Японии. А своих мертвых хороним по буддийскому канону. Буддизм - безутешная система (он так и сказал: «система»). Она как нельзя более уместна, когда прощаешься с дорогим тебе существом навсегда. Даже сам Будда отрицал загробную жизнь. К нам подошли бритоголовые монахи в желтых одеждах, и мы переменили тему разговора. Потом я узнал, что один из них, привлекший мое внимание водянисто-голубым цветом глаз и выцветшими бровями, уроженец ФРГ. Поселившись лет пятнадцать назад в одном из ламаистских монастырей, он с удовольствием позировал перед объективами соплеменников на фоне знамен со свастиками. Разумеется, религиозных знамен. Здесь есть о чем задуматься… Колонна, воздвигнутая по повелению индийского царя Ашоки в середине III века до нашей эры, - одно из свидетельств историчности основателя буддизма. Ашока даже дал жителям Лумбини некоторые льготы в честь их прославленного односельчанина. Впрочем, наиболее ранние жизнеописания Будды были составлены спустя несколько веков после его отхода в нирвану. Вот что по этому поводу пишут в своей фундаментальной монографии «Древняя Индия» известные востоковеды Г. М. Бонгард-Левин и Г. Ф. Ильин: «Некоторые факты из его (Будды. - Е. П.) жизни содержатся в текстах палийского канона, но и они отстоят от описываемых событий на сотни лет; редкие правдоподобные сведения тонут в потоке вымышленных, а то и просто фантастических рассказов. Это, очевидно, и породило сомнения в реальности существования Будды, хотя подавляющее большинство исследователей придерживается мнения, что он - личность историческая». Согласно религиозной традиции, Будда родился в мае 623 года до нашей эры и отошел в нирвану в день майского полнолуния 543 года, прожив на земле, таким образом, ровно восемьдесят лет. Однако современные ученые склонны считать более достоверным период между 560 и 480 годами до нашей эры. Странствующий отшельник Сиддхартха, как нарекли Будду ревностные почитатели, носил родовое имя Гаутама. Он принадлежал к небольшому племени шакьев, состоявшему, по преданию, из одних кшатриев - воинов. Среди шакьев не было ни брахманов, ни представителей других каст. Поэтому прирожденные кшатрии должны были сами заниматься земледелием, торговлей и другими, не подобающими воинам делами. Все шакьи, в том числе и их вождь - отец Гаутамы, сами ходили за плугом. Шакьи выбирали своих предводителей по принципу очередности. Отец Гаутамы не был царем. Слово «раджанья» означало просто любого кшатрия, имеющего право стать вождем. Это потом легенда превратила Гаутаму в сына царя - принца Сиддхартху, родившегося в роскошном дворце и выросшего среди развлечений и утонченных удовольствий. Простой народ нарек его Шакья-Муни - Отшельник из племени шакьев, а потом и Буддой, что означает Просветленный истиной. Буддийская легенда рассказывает, что после бесконечного множества перерождений грядущий Будда явился в мир со спасительной миссией указать человечеству выход из страданий. Последнее это перерождение и свершилось в образе Сиддхартхи - отпрыска знатного рода Гаутама. Шакьи жили на небольшой территории, расположенной по обе стороны теперешней индо-непальской границы в районе нынешних округов Басти и Горакхпур. Земли их были покрыты девственным лесом, с которым приходилось вести упорную борьбу. Жена вождя шакьев Майя, находясь в городе Капилавасту, увидела во сне, что божественные стражи четырех стран света будто бы перенесли ее вместе с ложем в Гималаи и бережно опустили под тенистым деревом. Затем явились их жены-богини, омыли ее в священном озере Анаватапта и нарядили в небесные одежды. Но не успела она вновь опуститься на ложе, как в бок ей вошел белый слон. Она не придала сну значения и вскоре забыла его. Но как-то она искупалась в священной пушкаре шакьев - искусственном водоеме с лотосами, после чего, стоя, родила в роще деревьев сал, посвященной богине-матери, мальчика, который вышел из ее правого бока. Новорожденный сразу же встал на ножки, сделал семь шагов и издал ликующий львиноголосый клич. А через семь дней Майя умерла. По другой версии, Майя не забыла свой сон, а рассказала о нем мужу. Тот созвал звездочетов, которые предрекли, что у Майи родится сын. И суждено ему стать либо миродержцем, либо просветителем мира. Образ Майя Дэви, великой Махамайи, с той поры бессчетное число раз вдохновлял кисть художника и резец скульптора. Одно из наиболее древних каменных изваяний ее можно видеть в Лумбини. На этом рельефе царица изображена в окружении богинь-служанок, а Будда-мальчик стоит у ее ног и левой рукой указует на небо, а правой - на землю. Во Вьетнаме это самое распространенное изображение Будды. Смысл его трактуется весьма просто: только человек связует мир животных с миром небожителей. Юный Гаутама получил обычное для всех кшатриев воспитание. Он прекрасно научился управлять боевой колесницей, владеть оружием, усвоил племенные обычаи. Он женился на девушке своего племени, принадлежавшей к знатному роду, и она родила ему сына. Отец Гаутамы Шуддходана как мог ограждал сына от теневых сторон жизни. Он помнил пророческие слова мудреца Аситы: «Я смеюсь от радости, что спаситель явился на землю, и плачу от того, что мне не выпадет счастье дожить до свершения его подвига». Потерявший любимую жену, Шуддходана не хотел утратить и сына, даже если тому и надлежит свершить подвиг. Поэтому жизнь Гаутамы (ему еще предстояло оправдать имя Сиддхартхи, которое значит «Выполнивший назначение») протекала легко и счастливо. Но однажды, проезжая на колеснице, окруженный друзьями и поющими девушками, он увидел согбенного годами старца, кровоточащие язвы на теле калеки, скорбную процессию, которая следовала за лежащим в гробу покойником, и погруженного в размышления аскета-саниасина. Это были четыре встречи Будды. - Кто это? - спросил он в первый раз, встретив старика. - Этот человек так непохож на других? - Ты видишь старость, - ответил возница. - Вот что делает она с людьми. - И я тоже стану когда-нибудь таким? - И я, и ты в урочный час. Это общий удел рода людского. «Горе рожденному, - подумал Гаутама, - ибо в том, что рождается, уже таится семя старости». - Кто это? - спросил он в другой раз, встретив калеку. - Больной, - ответил возница. - И я не избегну болезни? - Ни я, ни ты. Это общий удел всех живых существ. - Кто это? - спросил Гаутама, увидев покойника в белом саване. - Усопший, - было ему ответом. - Что это значит? И почему так плачут эти люди? - Кто умер, тот уже никогда не увидит ни мать, ни отца, никого из близких, и его они тоже никогда-никогда не увидят. - А это кто? - спросил в четвертый раз Гаутама, встретив отшельника. - Этот человек тоже не такой, как все люди. - Он ушел от мира, избрав благой путь сострадания всем живым существам. Острой молнией ранила сердце Гаутамы мысль о предназначенных человеку страданиях. Кто мы? Откуда мы? Куда идем? В чем конечный смысл наших страданий? И безнадежная тоска затмила его. Он задумался о муках тела и души, о всех утратах, которые ожидают человека на земле, затосковал в мыслях о том безжалостном и бессмысленном уничтожении, которое люди называют смертью Возвратившись домой, он погрузился в свои невеселые думы. Его пробовали развлечь пением и плясками, но он не обращал внимания на танцовщиц, не слышал музыки и песен. Незаметно он задремал с тяжким грузом в смятенном сердце. Развлекавшие его женщины притушили огни и тихо прилегли, чтобы не разбудить опечаленного хозяина. Проснулся он среди ночи, одержимый странной тревогой. В обширных покоях было тихо и темно. Повсюду лежали разметавшиеся во сне тела. И показалось ему, что он один живой среди мертвых. С горечью и отвращением Гаутама зажмурил очи. Он почувствовал, что настал час великой жизненной перемены, и решил без промедления уйти из мира. Кликнув возничего Чанну, он велел привести коня. Перед тем как окончательно порвать с прежней жизнью, он захотел в последний раз взглянуть на сына. Но личико мальчика было закрыто нежной материнской рукой. «Если я уберу ее руку, жена может проснуться, - подумал Гаутама, - и мне будет трудно уйти от них. Я вернусь сюда и увижу сына, когда обрету истину». Выбежав во двор, он вскочил на коня и поспешил поскорее покинуть селение. Верный Чанна поскакал за ним вслед. И тогда на пути явился коварный искуситель Мара, повелитель темной любви и смерти. - Возвратись! - попытался остановить он Гаутаму. - И через семь дней ты станешь владыкой мира! - Я ищу не власти, - ответил Гаутама, - но истины. Я иду, чтобы стать буддой. И Мара последовал за ним, как тень, чтобы подстеречь миг, когда настигнет Гаутаму темное вожделение и просочатся в его сердце неприязнь и зло. Когда людское жилье осталось далеко позади, Гаутама спешился, мечом срезал себе волосы, отдал меч и все украшения Чанне и велел ему подготовить родных к долгой разлуке. Чанна заплакал, а конь пал замертво под прощальной лаской хозяина. И он решил стать саниасином, чтобы в размышлениях обрести путь, ведущий к избавлению от мук. Обменяв свое платье на рубище у случайного прохожего, он вступил на трудный путь исканий. Семь лет он метался в поисках этого неведомого пути. Искал истину в священных тайнах брахманов, искал ее в себе, умерщвляя плоть голодом и бичеванием, подолгу жил в джунглях, где одни только звери могли слышать его. И вдруг на него снизошло откровение. Случилось это, когда он сидел, погруженный в себя под деревом пипалой на берегу реки Неранджары, вблизи города Гая (ныне Бодх-Гая, на юге Бихара). Демон зла, бог смерти Мара наслал на «просветленного» страшные бури. Но страха не было в сердце Будды. Мара послал ему своих дочерей, которые стали соблазнять отшельника всеми радостями жизни. Но желание было убито в сердце Будды. Только сомнение могло еще отвратить его от избранного пути. Четыре недели, днем и ночью, ходил Будда вокруг дерева, пытаясь одолеть сомнение. И победил. Гаутама сделался Буддой. Он познал «арь-ясатва» - «четыре благородные истины»: 1) существование страдания: существовать - значит страдать, 2) причина страдания - желание, которое только возрастает при удовлетворении, 3) прекращение страдания - уничтожение желаний, 4) путь, ведущий к такому уничтожению, - это благородный «восьмеричный путь» - «арьяштангамарга». Современный буддизм многолик. Сотни всевозможных сект в различных странах по-своему толкуют заповеди Шакья-Муни. Но и по сей день от Бирмы до Сингапура и от Сиккима до Японии неизменной остается основа учения - «арьясатва», ее «восьмеричный путь».

Буддийский праздник (Патан)
«Восьмеричный путь», или «арьяштангамарга», - своего рода лестница, ступенями которой являются: 1) «праведные воззрения», дающие понимание благородных истин; 2) «праведные устремления», предполагающие решимость следовать благородным истинам; 3) «праведные речи» (отказ от лжи, клеветы, поношения); 4) «праведное поведение», включающее запрет вредить всякой жизни; 5) «праведный образ жизни», или попросту честность в житейских делах; 6) «праведное усердие», то есть постоянство в преодолении дурных помыслов; 7) «праведная память», или постоянное самонапоминание о том, что все проявления мира не более чем иллюзия; 8) «праведное самоуглубление» - самоусовершенствование через отказ от всего земного, достижение внутреннего спокойствия, бесстрастия, избавление даже от такой благородной радости, которая следует за освобождением от мирских уз. Эта последняя ступень - квинтэссенция буддийской этики, ибо моральное самоусовершенствование буддистов резко разнится от христианского. Оно не предполагает абсолютизацию таких понятий, как «добродетель», «любовь к ближнему» и т. п. У него иная, высшая цель: спокойствие, самоуглубление, полная уравновешенность, совершенство. Знаменитое «самьяк-самадхи», о котором распространяется столько слухов, вокруг которого наворочено столько невежественной чепухи, в метафизике буддизма выступает синонимом полной невозмутимости. Как тут не вспомнить нарочито заостренные парадоксы древней секты чань, более известной в Европе как дзэн (по японскому прочтению этого же иероглифа): «Встретишь будду - убей будду». Это означает, что религиозную истину верующий может обрести лишь в самом себе. Путем сосредоточения и внезапного, как удар молнии, озарения. «Сатори» - по-японски. И еще одна аналогия по ходу дела. Заповедь из древнеиранской «Авесты»: «Благая мысль, благое слово, благое деяние». Первую проповедь нового учения Будда произнес в парке, недалеко от современного Бенареса. Бенарес, или Варанаси, встретил меня жарой и невиданным столпотворением. Казалось, вся Индия брела под убийственным солнцем на раскаленные бестеневые набережные Ганги. Сотни тысяч паломников в разноцветных сари и белых дхоти тянулись вдоль разгороженного толстыми бамбуковыми стволами спуска к ступеням, застроенным всевозможными культовыми сооружениями, к лодочным пристаням. В этой бурлящей толпе, над которой перетекали ясно видимые волны горячего воздуха, сновали фокусники, продавцы сластей, водоносы, заклинатели змей, ловкие воришки, соблазнительно накрашенные танцовщицы и хироманты. После Бомбея с его атомными лабораториями и ажурными антеннами нацеленных во вселенную радиотелескопов я почувствовал себя заброшенным в далекое прошлое. Вокруг меня была совершенно другая Индия, знакомая по сказкам «Тысячи и одной ночи», по набившим оскомину сказкам о факирах и волшебниках. Не знаю, как насчет волшебства, а факиров, точнее, бродячих садху (факиром, напомню, строго говоря, называется йог-мусульманин) я видел великое множество. Одни из них, прошив нижнюю губу и язык острым трезубцем, обрекли себя на вечное молчание. Другие, тяжело опираясь на посох, стучали по мостовой деревяшками, утыканными (остриями вверх!) гвоздями. - Можно взглянуть? - я подошел кодному из таких подвижников и опустил в его нищенскую чашку рупию. Он с готовностью показал стопу с привязанной веревками гвоздевой щеткой. - Снимите, пожалуйста, - я прибавил еще одну рупию. - Хотите купить, сэр? - «мученик» с неожиданно лукавой улыбкой протянул мне свою «босоножку». - Нет. У меня, кажется, другой размер. Но я хотел бы взглянуть на ваши подошвы. Отвязав и другую деревяшку, садху опустился на ступеньку и, приняв классическую асану «лотоса», сложил ноги пятками вверх. Следы от гвоздей были четкими и глубокими, но кожа выглядела совершенно целой, хотя и несколько воспаленной. Еще две рупии я истратил на право сфотографировать другого садху, поразившего меня синим цветом абсолютно нагого тела. Именно синим, а не серым, как у сотен его единоверцев. Оказалось, что аскет ежедневно намазывается коровьим навозом, который уже потом припудривает кизячьим пеплом. Эксцентричным подобный туалет выглядит лишь в глазах профана. Профессиональные йоги предпочитают именно этот наряд, который искусно дополняют высокий шиньон и шнур касты через плечо. Недаром ведическая мудрость гласит, что «все из коровы - чистое и священное». Наконец, пепел прекрасно защищает тело от солнечных ожогов. Мне оставалось лишь позавидовать йогу, который остался сидеть в тени, и вновь окунуться в зной и пестроту вечного города Индии. Кружилась голова. Во рту ощущался густой металлический привкус.

Садху
«Седобородый человек на берегу Ганга, сложив чашу [из] рук, приносил все свое достояние восходящему солнцу, - писал Рерих. - Женщина, быстро отсчитывая ритм, совершала на берегу утреннюю пранаяму. Вечером, может быть, она же послала по течению священной реки вереницу светочей». Но как далеко еще было до вечера с его обманчивой прохладой. Толпа неуклонно приближалась к реке. Навстречу шла бесконечная череда женщин в белых покрывалах, неся в руках медные сверкающие кувшинчики с гангской водой. Многие из них совершили омовение, не снимая одежд, и теперь сари тяжело липло к ногам, а на раскаленную землю еще сбегали последние струйки. Прошла вереница суровых полицейских в красных тюрбанах и с палками в руках. Нищие хватали прохожих за ноги, требуя обязательную монетку. Деревенские красотки, убранные ожерельями, серьгами и запястьями из белых живых цветов, угощали освященным рисом. Прокаженные, гремя сухими тыквами, красноречиво протягивали изуродованные конечности. А рядом, в тени домов и храмов, кипела простая,- по-южному открытая жизнь. Уличные цирюльники наголо брили черных от солнца и пыли богомольцев. Расстелив на тротуаре плат, обедала многодетная семья. Под водоразборной колонкой освежался усатый молодой человек, поразительно похожий на молодого Раджа Капура. Старик в белом нараспев читал мальчику веды, заклинатели змей безуспешно созывали зрителей на сакраментальную «борьбу кобры с мангустой». Увидев, что я отделился от толпы, заклинатель поднес к губам дудочку из двойной пустотелой тыквы и поднял плетеную крышку. Но ошалевшая от жары кобра только еще ниже сжалась в своей корзине, а жирная, лысеющая от старости мангуста устало зажмурилась. - Сейчас сахиб увидит потрясающее представление! - торопливо пообещал заклинатель, швыряя кобру на горячую замусоренную землю. - Нет! - Я кивнул, что у индийцев и болгар означает отрицание, и, перешагнув через корзину, куда тут же юркнула замученная змея, приблизился еще к одному садху. На лбу его белел знак Шивы, а тело с ног до головы было утыкано крючками с грузиками. Словно тысячи рыболовов одновременно подсекли нежданную добычу и в досаде оборвали лески. «Обследование» обошлось мне в пять рупий. Крючки, очевидно, за давностью плотно вросли в тело, и грузики были «пришиты» плотно, словно солдатские пуговицы. При желании их, однако, можно было вынуть, как вынимают из ушей серьги. - Сахиб, я вижу, настоящий знаток, - польстил мне подвижник Шивы, с достоинством принимая плату. - За десять рупий я могу продемонстрировать ему непревзойденное чудо. - Он повернулся ко мне спиной, показывая большой крюк с кольцом. - Во имя Шивы и только для вас я могу довести до самой Ганги колесницу. Я глянул на тяжелую тележку, на которой стоял бык Нанди - персональный транспорт («вахана») Шивы, и поежился. Сквозь пестрый флер набивших оскомину чудес вновь мелькнула жутковатая тень изуверства. А тут еще полицейские начали кричать внизу: «Выходите, ваше время кончилось!» Сердито стуча дубинками о камни, они выгоняли богомольцев из воды, и люди покорно уступали свои места напирающим толпам. Гомон, спешка, жара, нервное напряжение. - Намаскар, гуру, - поблагодарил я, поспешив ввинтиться назад в толпу, бредущую к Ганге. Текучую и одноликую, как река. Вечную, как поток времени. Как сантана - поток жизни. Высоко вознеся над головами носилки, на которых пугающе отчетливо белел погребальный саван, пробежали к реке полуголые носильщики. Торопливо расталкивая локтями живых, они спешили в царство мертвых. Жизнь и смерть, явь и легенды, веселый обман, шутки, смех, слезы и безумие - все это причудливо перемешалось на твоих улицах, вечный город. Нескончаемое пестрое представление, орошенное чудотворной водой Ганги, щедро замешанное на прахе, который был плотью. Когда показалась наконец зеленая непрозрачная вода и в лицо пахнуло гарью погребальных костров и влажным застойным запахом тины, я заблудился. Передо мной возникла широкая и длинная лестница. Но ни ступеней, ни каменных плит ее я не увидел. Плотность людская превосходила здесь все рекорды пингвиньей стаи. Оттиснутый к самому бамбуковому стволу коровой, которая неведомо как очутилась среди этой фантасмагорической толчеи, я не знал, куда поставить ногу. В тени шикхар, украшенных многорукими фигурами индуистского пантеона, люди мирно пережидали полуденный зной. Здесь спали, полоскали горло и обливались гангской водой, выкрикивали заклинания, пекли лепешки, кормили младенцев, показывали фокусы, даже занимались медитацией. Повернуть назад и пойти навстречу все прибывающему потоку было немыслимо. Оставалось только лавировать из стороны в сторону, медленно и неумолимо опускаясь все ниже. По крикам и выразительным жестам я заподозрил, что происходит неладное. Меня увлекало к воде, откуда курился сладковато-удушливый дым. Вопреки желанию я приближался к месту сожжения, запретному для посторонних. Лишь нырнув под бревно, можно было выбраться из стихийного водоворота на сравнительно спокойную площадку, где рядом со старцем, выкликающим мантры, сидел продавец ледяной кока-колы. Словно отблеск утраченного рая, «Отель де Пари», который я столь легкомысленно променял на горький плод познания. Держась рукой за отполированный ствол, я нагнулся и перелез в «чужой» отсек. Преодолел кастовый барьер в его наиболее грубом и материальном воплощении. Следовало поскорее оглядеться и найти выход, не оскорбляя ничьих религиозных чувств. Меня выручил крепкий седой старик в широких парусиновых брюках. Среди моря дхо-ти они показались мне вечерним костюмом, достойным Пикадилли. - Господин хочет нанять лодку? - деловито осведомился нежданный спаситель. - Да, пожалуйста. - Пятьдесят рупий, - заломил он неслыханную цену. Видя, что я заколебался, он начал расхваливать свое суденышко, на котором есть тент, «достойный махараджи», и, не давая мне вставить даже слово, уже увлекал меня за собой, ловко прокладывая путь. - Прочь! - кричал он вездесущим мальчишкам. - Тоже ловкачи выискались. Еще ничего не сделали для господина, а уже требуете бакшиш. За что? - он бранил их и оборачивался ко мне, ища сочувствия. Уже стала видна набережная. Фасады прибрежных зданий хранили отметки недавних наводнений. Над витыми узорчатыми башенками храмов трепетали красные молитвенные флажки. Ниши, портики, беседки и балдахины тоже были отмечены разноцветными флажками различных индуистских сект. Столько святых сразу я уже не встречал более нигде и никогда. На каждый квадратный метр приходилось минимум по одному садху Были там и женатые отшельники и замужние отшельницы из ордена «Брахма Кумари», устав которого разрешает монахиням жить и бродяжничать вместе с семьями. Стоя по колено в воде, люди совершали традиционное омовение. Приседали женщины в лиловых и оранжевых сари, погружаясь по грудь. Из особых сосудов промывали носоглотку йоги. Чуть дальше беззаботно плескалась в реке молодежь. Плавали наперегонки брассом и кролем, ныряли, со смехом перебрасывались резиновым мячом. Для одних - священное омовение, для других - просто купание в жару. На соседней набережной стирали белье, купали ребятишек, бережно окунали в священную влагу больных и немощных, приехавших сюда на исцеление. Может быть, кто-то и вылечивался, но большей частью все-таки умирали. Неудивительно, что именно здесь, на Ганге, ежегодно вспыхивают самые разнообразные эпидемии, прежде всего холеры. Поражает лишь сравнительно низкий показатель смертности. При такой санитарии он мог бы быть раз в сто больше. Тут уже вступает в действие тайна священной реки, чья вода не портилась даже в открытых сосудах при сорокаградусной жаре. Ученые, которые заинтересовались этой загадкой, сразу же подумали о «серебряной воде», которую может с помощью батарейки изготовить любой школьник. И действительно, в водах Гаити нашли высокий процент серебра. Очевидно, на долгом своем пути с вершин Гималаев река проходит где-то через породы, содержащие бактерицидный металл. Если вспомнить историю Лурда или всевозможные коллизии со «святой водой», которые имели место в России еще в этом столетии, то понятной станет и фанатичная вера индийцев в чудотворную силу матери Ганги. Все приемлет великая река: болезни и надежды, пепел погребальных костров и просто мертвые тела тех, кому каста, а кому карма уготовила вечный приют в водной стихии. Уста и ноги самой Индии омывает вечная труженица Ганга, кормилица и скорбная утешительница. Потому и реки, питающие ее, тоже священны. Священна и Багмати, текущая через Катманду, мимо святилищ древнего Пашупа-ти, чье имя Владыка зверей. Я видел на ней огни кремаций. И ночные огни в кокосовых скорлупках близ места впадения в Гангу. Ныне над священными городами Варанаси и Хардвар нависла смертельная угроза. Места массового паломничества могут стать гибельными в любой день и час. Воду Ганги, которая, по поверью, способствует продлению жизни, контролируют ныне с помощью счетчика Гейгера - Мюллера, измеряющего уровень радиации. Тысячи людей из Непала, Шри Ланки, Индонезии, которые ежегодно собираются сюда на религиозные праздники Ганга-дашера и Кумба-парва, даже не подозревают, что им угрожает. Паломники совершают традиционный обряд омовения, пригоршнями утоляют жажду, наполняют про запас «священной» водой кувшины, бутыли и едва ли понимают, что делают стоящие рядом люди в белых халатах, озабоченно следящие за передвижением стрелки, регистрирующей число импульсов. Тревога ученых вполне обоснованна. Воды Ганги в любой момент могут стать радиоактивными в результате разгерметизации контейнеров с радиоактивным веществом. Портативная ядерная установка была доставлена в альпинистских рюкзаках на ледники горы Нандадэви, откуда берет свое начало Ганга. Осенью 1965 года группа «альпинистов», подготовленных на секретной базе Центрального разведывательного управления США, тайно смонтировала установку, предназначенную для регистрации атомных испытаний. Питание ее обеспечивали специальные элементы, содержащие плутоний. Подобные станции на горных вершинах Гималаев близ индийско-китайской границы начали создаваться еще тогда, когда Китай только приступил к атомным испытаниям. Общественность о них, само собой разумеется, не знала, и все было шито-крыто. Но в 1966 году в горах произошли снежные обвалы, и установка, содержащая изотопы плутония-238, исчезла. Поиски ни к чему не привели. Недавно это стало достоянием газет, и разразился грандиозный скандал. Как пишет «Вашингтон пост», «источники ЦРУ полностью подтвердили это печальное сообщение». Печать многих стран отмечает, что, если не отыскать и не обезопасить утонувшие в снегах Гималаев плутониевые батареи, опасность нависнет над жизнью миллионов индийцев. Ганга знаменита не только ритуальными омовениями. Вместе с отводными каналами она орошает поля, раскинувшиеся на доброй половине речной долины, давшей жизнь древнейшей цивилизации нашей планеты. И такими бывают гималайские тайны. От дыхания современного мира, которое часто бывает суровым и грозным, не укрыться в отшельнических пещерах. Обрядовые мистерии, уходящие корнями в далекий неолитический век, тоже метит своим беспощадным клеймом атомная эра. И как метит! Плутониевые контейнеры, погребенные снежной лавиной, будут оставаться опасными еще триста лет. - Вот моя красавица! - Старик вывел меня к самому причалу, где паломники побогаче нанимают ялики и роскошные, с парчовыми балдахинами барки. - Спасибо, что проводили. - Я протянул ему пятерку. - Я хочу потолкаться среди народа, поговорить с лодочниками. - Ваши пять рупий я принимаю в виде задатка, - торжественно заключил старик. - С вас еще двадцать. О'кэй? - Ачча, - согласился я, хотя это было вдвое больше, чем платят обычно. - Идет. Но вы мне покажете места сожжений. - Там сидят сторожа в лодках и гонят всех прочь. Но за две рупии они разрешают сфотографировать кремацию. - Я не стану фотографировать. - Все равно уплатить придется. - Ачча. И стала река надежды и беззаботного веселья рекой забвения. Полузатопленные тела глухо стукались о борта. И дым заволакивал левый берег, а на правом, зеленом таком берегу дежурили стаи черных грифов. Когда, ловко орудуя длинными шестами, неприкасаемые из погребального братства сгружали дымящиеся недожженные останки в воду, траурные птицы тяжело взмывали в небо и летели через реку по косой экономной линии. - Отвратительный запах! - пожаловался лодочник. - Раньше лучше было. Не жалели ни дров, ни благовоний. Теперь все подорожало. Особенно дрова. Из-за энергетического кризиса приходится брать вдвое, а то и вчетверо меньше, чем необходимо. Чего же вы хотите?

Дым сожжений
Я ничего не хотел. И дал знак поворачивать обратно. Теперь я знал, куда идут вязанки розовых, превосходно высушенных дров, что продаются на вес за воротами городских базаров. Практичный и хорошо информированный («энергетический кризис»!) «Харон» избавил меня от невольной ошибки. Воистину не верь глазам своим. Ведь я, наблюдая за тем, как на чугунном безмене с цепями отвешивают дрова, думал, что они пойдут на изготовление невиданных яств. Как легко впасть в заблуждение, положившись на ее величество Очевидность. Коварная, обманчивая дама. Прощаясь с Хароном, который вновь перевез меня в царство живых, я вспомнил другого старика индийца, олицетворившего для меня идеализм и бескорыстие великой страны. Было это в Дели, на одной из улочек Старого города, поблизости от знаменитого базара. Меня привел туда Георгий Кудин, работавший тогда собкором «Нового времени». Он свободно говорил на хинди, хорошо знал город, по-настоящему любил и понимал бессмертную душу Индии. Мы остановились перед мастерской кузнеца по серебру. Сидя почти в полной темноте на каменном полу, величественный старец с глазами пророка, а может безумца, раскатывал серебряную проволоку в тончайший паутинный лист. Удерживая материал на наковальне цепкими пальцами ног, он ловко орудовал обеими руками, оглашая улочку звонкими, мелодичными перестуками молотков. Мой товарищ взял в руки готовый лист, и тот буквально прилип к пальцам. Металл невесомо рвался, словно таял в руках, серебря узоры пальцев. - Сколько я должен вам, отец? - спросил он мастера. - Две аны. - Старец обвел нас невидящим взором. О чем он грезил в своем далеке, звеня молоточками? Хотел бы я знать… То, что он сказал, звучало чудовищно. Во-первых, аны, мелкие монеты времен британского владычества, давным-давно не ходили в его стране, а во-вторых, он спрашивал с нас гроши за ювелирную, почти нечеловеческую работу. Даже в масштабе цен той эпохи две аны были пустяком. - Угощайся! - Георгий протянул мне новый лист, а сам начал со вкусом уплетать серебро. - Индийцы едят его с незапамятных времен. Лучше всякой дезинфекции. Впервые в жизни я ел металл. Он таял на языке так же, как и в пальцах. - Аны давно не ходят, отец, - усмехнулся мой друг, вынимая из бумажника крупную купюру. - Возьмите. И спасибо вам за ваш замечательный труд. - Я ничего не возьму с вас, - отрицательно кивнул кузнец. - С людьми, которые знают наши обычаи и говорят на нашем языке, нельзя обходиться как с покупателями. Вы ничего мне не должны. Вы - наши гости. - Спасибо, отец! - Георгий убрал деньги. - Намаете, - -поклонился, сложив ладони. - За день, - шепнул он мне, когда мы выбрались из лабиринта улиц на площадь, - от силы можно отковать два таких листа. Как он зарабатывает на жизнь? Как многолика Индия! Страна Махабхараты и Рамаяны, Упанишад и Вед, страна атомной энергии и спутника «Ариабата». Этот спутник, созданный руками индийских ученых, был назван в честь древнего математика и мудреца. Но на околоземную орбиту его вывела советская ракета, запущенная с космодрома, расположенного на нашей земле. Знаменательное совпадение и отнюдь не случайное! Вспомним хотя бы «Русь - Индия» Рериха: «Если поискать, да прислушаться непредубежденно, то многое значительное выступает из пыли и мглы. Нужно, неотложно нужно исследовать эти связи. Ведь не об этнографии, не о филологии думается, но о чем-то глубочайшем и многозначительном. В языке русском столько санскритских корней… Пора русским ученым заглянуть в эти глубины и дать ответ на пытливые вопросы. Трогательно наблюдать интерес Индии ко всему русскому… Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские». Читая эти строки, я думаю об индийском гении, который устремился в космическую дверь, распахнутую мощью и дружбой нашей страны. Не это ли смутно грезилось мудрецу и художнику среди вечных снегов гималайских? Однажды писатель Иван Антонович Ефремов подарил мне зеленый от древней патины обломок буддийской статуи. Это была изящная бронзовая рука, пальцы которой соединялись в фигуру, известную как «колесо учения». Он нашел руку неведомого бодхисаттвы в гобийской пустыне у подножия холма, среди раскаленного бурого щебня. По этому щебню, вздымая клубы удушливой пыли, проносились когда-то крепкие низкорослые кони монгольских завоевателей, тянулись купеческие караваны с шелком, этот холм, возможно, видел нукеров железного хромца - Тимура. Но тонкие бронзовые пальцы с удлиненными изысканными ногтями так и не разомкнули свое символическое кольцо - чакру, колесо причин и следствий. - В такой вот круг замыкаются наука и искусство, - сказал Ефремов. Ему было свойственно глубокое проникновение в суть вещей, ясное осознание удивительной взаимосвязи всех проявлений стихийных сил и целенаправленных движений человеческой истории. Такая же высокая жажда необъятного, такой же целеустремленный полет к невозможному были характерны для Рериха. Великий русский художник уходил вглубь, чтобы лицезреть «Рождение мистерий», и поднимался в заоблачные дали, чтобы видеть, как золотые рыбы светил плывут сквозь туманности шлейфа «Матери мира», проникал в изначальную общность изукрашенных рунами ледниковых глыб Карелии и гималайских скал, на которых между золотистыми пятнами лишайника высечены знаки Гесэра, героя грандиозного эпоса Азии. На картине, которая так и называется «Знаки Гесэра», Рерих изобразил круторогих баранов, каких рисовали на стенах пещер первобытные люди, и меч героя, почитаемого как бог войны.
«Не карай нас карою строгой, Ты нам кости и жилы, оставь, Наши злые души не трогай!» И в пыли, у Гесэровых ног, Распростерлись они, как мох. Гесэр
Он свершил великий синтез, олицетворение в законченном храме того смутного лепета, который слышится ныне в разноязыких словах, проблескивает в старинных орнаментах, мерещится в очертаниях древней архитектуры. Для Рериха не были загадкой совпадения слов в индоевропейских языках и санскрите. За древним названием «Веда» вставало славянское «ведун», русское слово «ведение» - знание, чешское - «наука». Для Рериха «путь из варяг в греки» был не столько историко-географическим понятием, сколько обобщенным свидетельством единства и взаимопроникновения культур. История не оставила нам столь же ясных следов существования встречной дороги «из арьев в славяне», но Рерих умел различать горящие в ночи вехи ее. Санскритское «набхаса» и русское «небеса», ведическое «Агни» и наше «огонь» - это не случайные совпадения, это плывут по реке времени светы в кокосовых скорлупках («Огни на Ганге» Рериха). Так замыкается колесо знания. Или только кольцо памяти? Оно совершило полный оборот, и мы вновь в Варанаси, где термометр показывает плюс 47. «Отель де Пари» был подобен благодатному оазису в центре раскаленной пустыни. Уютно жужжал широколопастный фен под потолком. Кондиционер, который я врубил на полную мощность, дышал благодатной прохладой. В холодильнике стояли бутылки с кока-колой. Сквозь спущенные жалюзи доносилось или, быть может, скорее, угадывалось убаюкивающее журчание фонтанов. Я знал, что на зеленой траве английского лау-на меня дожидается жуликоватый заклинатель змей. Вчера я имел неосторожность поиграть с его питоном, заметив вскользь, что видел в Агре куда более крупную змею. Заклинатель тут же пообещал принести десятиметрового боа и потребовал задаток. Чтобы отвязаться, я дал ему рупию и поспешил уйти. К вечеру, после огненной феерии на Ганге, я уже напрочь забыл про всех змей на свете. Но, одеваясь к завтраку, услышал заунывную жалобу дудочки, изготовленной из двойной тыквы. О, как знаком мне был этот резкий, однообразный мотив! Не питона, не кобру на вечный поединок с мангустой выкликал он. Отнюдь. Это меня ждали в тени старого мангового дерева, где водяная вертушка осыпает траву радужным дождем. Сжав зубы, я вновь дал себе клятву более не ввязываться в змеиные истории. Перезарядив фотоаппарат, я раскрыл план города. Теперь, когда пишу эти строки, он вновь лежит передо мной, воскрешая в памяти удивительное путешествие по сказочным улицам, названным именами героев вед и Махабхараты. В этот день, наполненный встречами и впечатлениями, растянутый в памяти, как целая жизнь, прожитая во сне, я побывал в санскритском университете, осмотрел каменный секстант средневековой обсерватории Джай Сингх, встретился за традиционной чашкой чая с профессором Бенаресского хинду-университета Свами Чоудхури. - Почему бы вам не побывать в институте теософии? - поинтересовался Чоудхури после того, как мы закончили разговор о взаимовлиянии культур Индии и Непала. - К его работе была причастна, кстати, ваша соотечественница Елена Блаватская. Ее дело, как известно, продолжила Ани Безант. Улица, на которой расположен институт, названа ее именем. Там же находится и знаменитая миссия Рама Кришны. - Предпочитаю знакомиться с Индией по санскритским источникам, - отшутился я. - Поэтому и позволил себе злоупотребить вашим гостеприимством. Теософские же наслоения меня просто не интересуют. - Я слышал, что в Европе Блаватскую считают шарлатанкой? - В известной мере, профессор. - Зная, что индуисты Варанаси к деятельности Радды Бай относились благосклонно, я прибег к обтекаемой формулировке. - Во всяком случае, в ее книге «Загадочные племена на Голубых горах» встречаются серьезные этнографические наблюдения. В этом я убедился, когда прочел работу нашей советской исследовательницы Людмилы Шапошниковой «Тайна племени Голубых гор». Она побывала в тех же местах, что и Блаватская, жила и подробно изучила быт племени тода, тесно общалась с колдунами курумба. - Вот видите! - с торжеством заметил Чоудхури. - Да, но Шапошникова не обнаружила и следа тех чудес, о которых писала Радда Бай. И вообще, положа руку на сердце, о каких чудесах может идти речь в наш атомный, электронно-космический век? Много ли чудес видели лично вы, профессор, даже в чудеснейшем из городов - Варанаси? Фокусы факиров? Поразительную практику йогов? Хождение по раскаленным углям? Все это, бесспорно, весьма любопытно, порой до конца не разгадано наукой, но в основе своей вполне рационально. Не так ли? Танцы на раскаленных углях я, кстати сказать, видел в Болгарии. Там героями дня были отнюдь не йоги, а простые парни - лодочники и официанты из уютного ресторанчика «Морской дракон». - Интересно, - оживился Чоудхури. - Это лишний раз доказывает гипотезу о единой праоснове культур Индии, Шумера и Балкан. И женщины в Болгарии тоже принимают участие в огненных плясках? - Конечно. В народе их зовут нестинарками. - Крайне любопытно. Беспокойная кровь жриц огня все еще дает о себе знать. - Насколько я знаю, подобные же танцы в обычае и на Шри Ланке. А в горах Чианг-мая в Таиланде и на севере Вьетнама, где обитают племена мео, я видел одежды и орнаменты, поразительно напоминающие балканские. Вот уж действительно загадка, достойная самого пристального исследования. Что же касается чудес… - я сделал выжидательную паузу. - В этом смысле вы правы, - поспешил согласиться Чоудхури. - Примеров сверхъестественного я не встречал даже в Варанаси, - он вежливо улыбнулся. - Истинное чудо - это сама жизнь, гармония, что устанавливается между душами супругов, и таинственная нить, несущая вечное пламя из поколения в поколение. Я лишь улыбнулся в ответ. Мы дошли до крайней границы согласия. Мой собеседник, как и многие индийские интеллигенты, стоял на позициях метампсихоза - переселения душ, и ничего с этим поделать было нельзя. Оставалось вновь повернуть разговор в этнографическое русло. Здесь мой ученый друг проявлял все качества, присущие настоящему исследователю. В том числе и скептицизм. Даже к ведическим богам он относился лишь как к объекту для изучения, хотя беседа наша протекала в непосредственной близи от святилища Ханумана и большого храма Сатьянара-ян Тулси Манас, откуда доносился рев труб, уханье барабанов и смутный рокот многотысячных толп. Для нас обоих эти звуки были лишь эхом далекого прошлого. Лишь самая малость сближала Чоудхури с паломниками на Ганге и подвижниками, истязавшими свою плоть в храме Дурги. И была эта малая малость верой в переселение душ. Но каким ощутимым препятствием неожиданно оборачивалась она, когда беседа затрагивала главную тему любого исследования: мир и человек. Я все же зашел в институт теософии. Все тот же надоедливый сон: Блаватская, Олькотт, Ани Безант… Стопки брошюр на различных языках. Избитые слова, разумеется, с большой буквы о Любви, Свете, Истине и полнейшее игнорирование реальности. Просмотрев несколько проспектов о деятельности института, я не обнаружил даже намека на достижения космонавтики, физики, на поразительные археологические открытия. Об острых классовых противоречиях Индии, о борьбе миролюбивых сил на международной арене, разумеется, тоже не было сказано ни полслова. То, что сто лет назад выдавалось за откровение, чуть ли не за сверхнауку, предстало выхолощенной религиозной догмой, в которую никто уже не верил. Начинку - попурри из метампсихоза и самадхи - приходилось продавать в новой упаковке. В том, что рядом с теософами располагалась миссия Рама Кришны, чудилось знаменательное совпадение. Попав через пять лет в Мадрас, я съездил в теософский центр, основанный самой Бла-ватской, где застал примерно ту же картину. - С кем бы вы хотели встретиться? - между делом спросил меня администратор. - Из великих деятелей прошлого? С Наполеоном? Софоклом? В принципе это можно было бы устроить. - Сожалею, но я не владею ни древнегреческим, ни французским. Я не сумел скрыть иронии, и некромант [1] тут же утратил ко мне интерес. [1 Некромант - человек, согласно спиритуалистским воззрениям, способный вызывать души мертвых.]
Когда концентрические полукольца университетских дорожек остались позади и наш потрепанный «амбассадор» выехал на Эси-роад, идущую вдоль набережных Ганги, я все еще был под впечатлением встречи с верующим в переселение душ профессором колледжа искусств хинду-университета, где между современной библиотекой и инженерным колледжем краснеют выцветшие на солнце флажки шиваистского храма. Солнце уже достигло зенита, и белесое небо вновь дымилось, как расплавленный алюминий. Все живое таилось в спасительном сумраке. Неприкаянные белые зебу лежали на тенистом шоссе, не обращая внимания на отчаянные сигналы водителей. На искалеченном молнией дуплистом стволе дремал неподвижный гриф. И даже царственный слон прилег под сень придорожных акаций, чтобы переждать губительный жар, который волнистыми потоками нисходил с раскаленных высот. Шумно отдуваясь, умное животное обмахивало себя, а заодно и своего погонщика пучком пропыленных веток. Могучий хобот упруго ходил из стороны в сторону, и дрожали уши, испещренные сеткой кровеносных сосудов, совершенно сиреневые на просвет. Я себя чувствовал довольно скверно. Теплая разжиженная кровь гулко стучала в висках. Все время хотелось пить, но вода не охлаждала опаленной гортани, а язык казался тяжелым как свинец. И такой же свинцовый привкус чувствовался во рту. Соблазнительные картины радужных фонтанов «Отеля де Пари» с навязчивой жестокостью вновь вспыхивали в отупевшем мозгу. Я подумал о демоне Мара, насылающем искушения. Как сильна его власть! Особенно в такую жару. Я не знал еще, что за ближайшим поворотом Гималаи вновь одарят меня бессмертной улыбкой. Мы пересекли Аурангбад-роад, когда я наконец решился оставить автомобиль, в котором было едва ли не более душно и жарко, чем на улице. Не обращая внимания на вишнуитов, чьи лица и бритые головы сплошь покрывала татуировка с именем божества, я, как в омут, скользнул в кривые запутанные переулки, где каждый угол, каждый камень что-нибудь да значили, и побрел к Ганге. Не инстинкт паломника и не жажда речной прохлады увлекали меня в каменные дебри. Не в силах бороться с людским течением, я просто затерялся в толпе и плыл, бездумно влекомый потоком, мимо храмов и банков, мимо базаров, на которых торговали бронзой и фруктами, золотистой парчой и каменными лингамами, священными черными камешками и листьями бетеля. Пятна этой наркотической жвачки, приглушающей голод, краснели на мостовых. Я шел, отрешенно скользя глазами вдоль сияющих чистотой фасадов госпиталей, натыкался на какие-то зловонные тупички, где грифы гневно оспаривали добычу у бродячих собак, и, казалось, ничего вокруг не видел, придавленный пульсирующей головной болью. Странная все-таки штука человеческая память. Сейчас, когда я вновь держу в руках розово-желтый план Варанаси, беглые, почти неосознанные впечатления непрестанно всплывают передо мной, и я - причем, куда острее и четче, чем тогда, в каменном лабиринте, - ощущаю запах риса, приправленного кари, слышу трещотку прокаженного юноши, ловлю блеск вишневых и фиолетовых сари. Ах, это сари - прекраснейшее из женских одеяний всех времен! И еще я вижу красную дорожку пробора в черном лаке волос, и цветочные гирлянды убора, и узкую полоску загорелого живота, и мальчика в белом костюмчике и роскошной шапочке из золотистой парчи. На тесных площадях Варанаси великое множество таких принаряженных мальчиков, увешанных гирляндами из быстро увядающих лепестков. Нет, не только затем, чтобы умереть, стремятся в этот благословенный город. За сотни километров индийские матери везут сюда своих сыновей на праздник посвящения, на торжественную церемонию приобщения к касте и слову вед. Нигде я не видел столько очаровательных близнецов, как там, в Варанаси, городе первых и последних шагов. На стенах и заборах по всей Индии нарисована одна и та же простая пиктограмма в четыре кружка: которые побольше (один с усами, другой с точкой тилака меж изящно выгнутых бровей) - символизируют отца и мать, маленькие же (один с задорным чубчиком, другой с косичками) обозначают сына и дочь. Семья с двумя детьми. Понятная в стране, чье население перевалило на шестьсот миллионов, пропаганда регулирования рождаемости. Но сколько мальчиков я видел в Варанаси! Сколько гордых отцов и сияющих от счастья матерей! И моя встреча с Гималаями была озарена их счастьем. А у алтаря страшного божества Кала Бхайрава (мне предстоит вновь встретиться с ним в столице Непала) я буквально выхватил одного такого не в меру расшалившегося крепыша в золотистой шапочке из-под колес велорикши. Благодарные глаза матери. Вечный свет, перед которым все кажется преходящим: и отблеск бронзы, и карминовая раскраска губ каменного гиганта. Улыбка молодой Индии среди древних каменных стен ее. Даже ради одного этого мимолетного проблеска стоило увидеть Варанаси. Но сколько раз еще предстояло мне встретить бессмертную улыбку Индии на вечных ее дорогах. Выехав из любого индийского города, вы увидите по обе стороны автострады крупную надпись: «Thank you!» Всякий раз она вызывала во мне радостное изумление. Одарив своим щедрым гостеприимством, Индия еще и благодарила путника! Именно путника, потому что слово «турист» не кажется мне подходящим, хотя я и понимаю, что многие воспримут слова благодарности всего лишь как обычную вежливость департамента туризма. И по-своему будут правы. Но я приехал в Индию именно как гость, а не турист и смотрел на многое иными глазами. Моя благодарность к великой стране навсегда пребудет со мной. И еще раз заглянули в мои глаза Гималаи с набережных Варанаси. Падая от усталости, я добрел все-таки до знаменитого непальского храма, известного под именем храма Любви. Он выстроен в стиле пагоды из драгоценного дерева, украшенного искусной резьбой. Его кронштейны, столбы и балки, поддерживающие крышу, выполнены в виде мужских и женских фигур, сплетенных в жарких объятиях. Это «песнь песней» Гималаев. Яркий ликующий гимн в честь земной любви и многообразия ее наслаждений. Храм был заколочен и пребывал в изрядном запустении, но я не жалел об этом. Самые щедрые из его даров находились снаружи. Да и впереди меня ждали новые встречи с гималайским искусством. Причем на его родине, благоухающей кедровой хвоей, осененной благодатным дыханием ледников. При одной мысли об этом в счастливом нетерпении сжималось сердце. От запруженных паломниками набережных, плавящихся под полуденным солнцем, до прохладных долин гималайских оставался последний самолетный прыжок. Всего лишь шаг в масштабах нашего сверхскоростного века. Но прежде мне хотелось побывать в Сарнатхе, в том самом Оленьем парке, где Гау-тама тронул свое колесо. Сарнатх расположен в десяти километрах к северу от Варанаси. Оставив по правую руку насыпь Северо-восточной железной дороги, Сарнатх-роад переходит в Ашока-марг - дорогу, названную в честь великого царя-миротворца. Каждый метр этого шоссе равносилен двум с половиной годам, направленным против стрелы Хроноса. Будто символы этого удивительного путешествия во времени, высятся по правую сторону антенная мачта Все-индийского радио и древняя ступа Чаукханди. Скачок в две с лишним тысячи лет. И словно для того, чтобы дать путешественнику возможность освоиться с незнакомой эпохой, куда забросила его современная автострада с бензоколонками фирмы Калтекс (ныне вся собственность этой американской компании перешла в распоряжение индийского правительства), дорога в Сарнатх буквально упирается в здание археологического музея. Я долго бродил среди каменных стел и статуй, запечатлевших облик проповедника, который пришел с гималайских предгорий, чтобы возвестить миру истину, которую познал на дорогах Индии. Он изображен то в окружении учеников сидящим на престоле, украшенном знаком колеса и оленями, то стоящим в полный рост с поднятой в знак поучения рукой. Здесь же первые символы буддийских лет: колесо дхармы, которое сотни лет символизировало и самого Будду, обломки ступ, ступенчатая фигура, условно отображающая «три драгоценности». Это триратна, объединившая Будду, дхарму и сангху (общину) Подобные сооружения я часто встречал потом в Таиланде, у входа в наиболее знаменитые храмы, в том числе и в святилище «Изумрудного Будды» в Бангкоке. Триратна - своего рода напоминание тем, кто не способен принять строгие обеты буддийского послушника. Оно обращено к простым людям, которые не готовы отказаться ни от семьи, ни от дома, ни от привычного труда. Впрочем, этого от них и не ждут, потому что кто-то должен продолжать человеческий род или хотя бы кормить монахов, всецело посвятивших себя спасению живых существ. Формула приобщения людей обыденной жизни к буддийской общине предельно проста. Мирянину, который пожелал перейти в упасаки (почитатели), достаточно произнести в присутствии двух-трех монахов: «Я прибегаю к Будде, дхарме и сангхе», чтобы тут же оказаться в лоне буддизма. Не нужно никаких особых посвящений, клятв или магических церемоний, о которых часто пишут западные авторы, знакомые с буддизмом лишь понаслышке. Приобщаясь к триратне, верующий давал тем самым обет почитать Будду и выполнять основные требования морали (не вредить жизни, не лгать, не красть, избегать чувственных наслаждений и не употреблять алкоголь). Одним этим он уже обеспечивал себе хорошую карму. Но не полное избавление от страданий, достичь которого можно было лишь в монашестве. Короче говоря, переход в нирвану откладывался до последующих перерождений. Я рассматривал первые скульптурные портреты Гаутамы и поражался тому, как удивительно верно воспроизводились его черты в бессчетных изображениях на протяжении веков. В Китае, Тибете, Непале, Бирме, Таиланде и прочих областях распространения буддизма облик великого учителя хотя и обретал характерные национальные черты, сохранил свое неповторимое своеобразие. Потом я долго стоял перед знаменитой капителью Ашоки, выполненной в виде четырех львов, стоящих на колесе. Украшающие нижнюю ее часть животные: лев, горбатый бык - зебу, слон и конь, возможно, символизируют предшествующие воплощения Гаутамы, который был и богом, и рабом, и бессловесным созданием - излюбленным чадом всемогущей природы. Но как бы ни толковали аллегорический смысл капители Ашоки, в которой буддийские или индуистские детали заметно окрашены влиянием ахменидов, она производит неизгладимое впечатление. Высеченная из пятидесятитонной глыбы известняка, она дышит величием, спокойствием и силой, присущими лучшим творениям индийского гения. Неудивительно, что именно этот символ был выбран в качестве герба Республики Индии. Не только окаменевшие тени седой старины собраны в музее Сарнатха. Здесь бьется горячий пульс индийской независимости. Ее живительный исток одухотворяет камень. Охряной камень Сарнатха, красно-желтый, как земля Индии. К северу от Дхармапала-роад, почти под прямым углом отходящей от Ашока-марг, открывается это каменное поле, местами поросшее выжженным ломким бурьяном, среди которого скользят чуткие змеи. По очертаниям лабиринта, лежащего под ногами, можно угадать причудливые контуры грандиозного строения, возвышавшегося некогда на этой голой равнине, вплотную подступавшей к лесу. Ступа Дхамекх - одно из грандиознейших сооружений древнего мира, подобно зачарованному замку, стережет вечный покой священного места, где некогда была основана одна из первых буддийских общин. Ступа была построена здесь по указу Ашоки через триста лет после того, как Гаутама прочел свою первую проповедь. В зеленом, тенистом парке, столь желанном и ярком среди каменистой пустыни, ему внимали пятеро нищих аскетов и два оленя, что вышли из-за деревьев и прилегли у ног учителя. Отсюда и символ, который можно увидеть над входом в любой буддийский храм, от Непала до Монголии: два оленя - самец и самочка - тянутся к колесу дхармачакры. На раннем изображении в сарнатхском музее они просто лежат по обе стороны от него, как, наверное, лежали некогда у ног Гаутамы. Сейчас парк обнесен проволочным вольером, но олени часто выходят из чащи и тычутся горячими влажными мордочками в протянутую руку. Легенда, разумеется, утверждает, что все стадо прелестных зверей по прямой линии происходит от той незабвенной пары, что удостоилась услышать слова спасения. Во всяком случае, во многих буддийских монастырях воспитываются близкие родственники бенаресских олешек. Я встречал их в древнем японском городе Нара и в парках Чиангмая, окружающих старинные тайские монастыри - ваты. «Есть некоторые предания, - писал современный американский философ Берроуз Да-нэм в книге «Герои и еретики», - настолько притягательные и так глубоко отвечающие желаниям человека, что их красота кажется нам убедительным доказательством их правдивости». Всеобщим почитанием окружают буддисты и священные деревья, выросшие якобы из черенков тех пипал и бодхи, что связаны с самыми знаменательными вехами в жизни Будды: рождением в садах Лумбини, прозрением, бенаресской проповедью и нирваной. В Анурадхапуре, древнейшей столице Шри Ланки, я посетил храм, где растет дерево Бодхи, насчитывающее 2200 лет. Оно окружено позолоченной решеткой, куда нет доступа никому. Лишь специальный служитель бережно собирает опавшие с ветвей листья. Согласно преданию, развесистый исполин вырос из черенка, привезенного на Цейлон дочерью Ашоки. В Бангкоке тоже есть святилище, которое так и называется храм Дерева, а в довольно заурядной сингапурской кумирне я видел стеклянный шкаф, где бережно сохранялась даже кора с одного из подобных деревьев, подаренная Махатмой Ганди. Некоторые страны, где население исповедует буддизм, содержали вблизи святых мест особые храмы, в известной мере играющие роль духовных посольств. В Сарнатхе, например, есть превосходный тибетский монастырь с богатейшей библиотекой, тайский храм, бирманский монастырь, сверкающий над древесными кущами золотыми остриями пагод. Причудливые буддийские львы, стерегущие ворота тибетского храма, явились для меня новой ступенью приближения к Гималаям. Показав раскрытые ладони и высунув в тибетском приветствии язык, я поклонился монаху в желтом и вошел в святилище.

Молодые послушники (Чиангмай)
Ламаистские храмы, в общем, довольно похожи друг на друга. Достаточно побывать в Улан-Баторе или на Каменном острове в Ленинграде, где в начале века была сооружена кумирня в тибетском стиле, чтобы получить довольно точное представление и о храмах Мустанга, Сиккима, Ладакха, Бутана. Те же разноцветные, узкие флаги, символизирующие пять стихий, те же ячьи хвосты на шестах, увенчанных железными черепами с трезубцем на темени, призваннымиотгонять злых духов. И разумеется, молитвенные цилиндры, наполненные листами с заклинаниями «ом-мани-падмэ-хум», что дословно означает, обращение к «сокровищу на лотосе», иначе говоря, к божеству. Каждый поворот барабана - его вращают по ходу солнца, и также по солнцу следует совершать обход храмовых святынь - равносилен прочтению всех содержащихся в нем заклинаний. В больших храмах обычно устанавливается своеобразная ограда из 108 (позднее я объясню тайный смысл этого сакрального числа) цилиндров. Набожные прихожане входят внутрь лишь после того, как прокрутят все цилиндры до одного. Тибетский монастырь в Сарнагхе стал для меня своеобразным пограничным пунктом на пути в Гималаи. Я думал о путешественниках конца прошлого и начала нынешнего века. Они грезили о Лхасе, выкладывались из последних сил, но так и не достигли ее. Кроме нескольких индийцев, состоявших на британской службе, и русского этнографа Цыби-кова. Я знал, что двое индийцев, сумевших пробраться в запретный Тибет, прожили некоторое время в этом монастыре. Судя по их описаниям, здесь почти ничего не изменилось за последние сто лет. Разве что провели электрическое освещение, да на алтаре рядом с божественными дарами появились двухциферблатные шахматные часы. …После проповеди в «Оленьем парке» Будда сорок пять лет бродил по городам и деревням, проповедуя свое учение. Со всех концов Индии к нему стекались ученики. Одних он оставлял при себе, других посылал проповедовать в самые отдаленные концы страны. И они несли людям дхарму, что следует понимать как закон жизни, который потом стал называться буддизмом. Умер Будда в восьмидесятилетнем возрасте в Кушинагаре, в ночь майского полнолуния. Он лег под деревом пипалой в позу льва и обратился к монахам и мирянам: «Теперь, монахи, мне нечего сказать вам больше, кроме того, что все созданное обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению». К спасению, ради чего? К какому спасению? Если со смертью кончается все, то значит ли оно спасение во имя жизни? Как понимать слова учителя? Назареянин на кресте тоже спросит потом в смертной тоске: «Зачем ты покинул меня, Элогим?» Разве он не почувствовал, что это смерть приходит к нему, а за смертью кончается все? Где же истина? Но разве религия когда-нибудь искала объективную истину?

Ламаистские храмы (Монголия)
Тут достигну л он Нирваны. Умер. Земля содрогнулась. «Это только с ним случилось, Или то конец для всех?» И ответствовал возница: «То конец для всех живых…» Асвагоша. Жизнь Будды
Перед смертью Будда так ответил любимому ученику Ананде на его просьбу дать последнее наставление общине: «Нет, Ананда, я не намереваюсь давать никаких распоряжений. Община не связана со мною. Что я знал, то и проповедовал, ничего не утаивая. Теперь же я стар и дряхл. Мой путь окончен, и я достиг предела жизни. Подобно тому как обветшалая повозка может везти только когда ее хорошо скрепят, так и тело будды нуждается в подкреплении. Мне необходим покой, чтобы я мог погрузиться в созерцание, не обращая внимания на суету материального мира. Будьте сами себе светильниками. На себя одних полагайтесь. И еще учение да будет вам светочем. Ни к чему другому не прибегайте». Уход Будды из жизни буддисты называют махапаринирваной - обретением великой нирваны. Будда умер. Буддизм становился одной из главных мировых религий. Религии не нужен был Будда-человек. Ей необходим был Будда-бог. И легенда стала творить бога.
Ты мне дорогу укажи! В моих глазах один туман. Скажи, что есть за смертью жизнь, Что погребение - обман, И я последую туда, Как Ганга в вечный океан. Тхерагатха (сборник гимнов)

Ламаистская коралловая маска
Вот что нужно было бедному, подавленному нуждой и болезнями человеку. Будда не дал ясного ответа на вопрос о загробной жизни, но мировая религия, чтобы стать мировой религией, чтобы быть мировой религией, должна сказать «да!». Иначе не будет у нее власти над слепыми мятущимися душами людей. Вот почему та смерть под громадной майской луной, поднявшейся над черным лесом, стала потом праздником. «Трижды святым» днем, как рождение и просветление Будды. Более того, 2500-летний юбилей буддизма отмечался в 1957 году, то есть за точку отсчета была принята именно дата смерти учителя, а не его рождение или просветление в Бодх-Гае. Китайский паломник Фа Сянь писал в V веке нашей эры, что Будда достиг нирваны одновременно со смертью. Не столь важно теперь, был ли на самом деле принц Сиддхартха, которого молва потом сделала Буддой. Важно другое. Если и жил такой человек, который стал проповедником и умер, как все смертные, он бы никогда не сказал слов, приписанных ему потом: «Подобно тому как воды океана имеют лишь один вкус - вкус соленый, так и учение мое имеет лишь один вкус - вкус спасения». Отсюда оставался лишь шаг к другим словам: «Чтобы основать царство истины, я иду в город Бенарес бить в барабан бессмертия во тьме этого мира». Эти слова сказали за него потом авторы манускрипта «Махавагга». Вера в бессмертие - основа религий. С тех пор и по сей день ученые монахи воздают народу за долготерпение и послушание обещаниями бессмертия и лучшей иной жизни. Но сами они знают, что даже приведенные в древних священных книгах слова Будды говорят не о бессмертии, а об избавлении от жизни как величайшем благе, которое она может дать. 339-й стих «Тхерагатхи» гласит:
Конец страданиям, приди! Я жизнь последнюю влачу. Мои рожденья позади, В последний раз уснуть хочу, И я рождение и смерть Уже не встречу впереди.
Если не хочешь страдать, умри… Вот беспощадный смысл этих строк.
Сквозь цветной туман мистических легенд едва-едва проглядывает изначальная суть буддийского мировоззрения. Когда-то это была не столько религиозная, сколько философско-этическая система. Основная суть ее в учении о подавлении желаний - в «четвертой и возвышенной истине», говорящей о «восьмеричном пути», ведущем к прекращению страданий. Идущий по этим ступеням становится архатом - святым и погружается в нирвану. Нирвана - венец стремлений мудрецов, идеальное состояние. Но что же такое нирвана? Блаженство? Вечное самадхи? Небытие? Ведь это основа буддийской философии! И все же в буддийском учении нельзя найти ясного и однозначного толкования нирваны. Одни видят в нирване полное уничтожение, другие - прекращение бытия, доступного сознанию, и переход в некое непознаваемое бытие. Одни полагают, что путь в нирвану лежит через смерть, другие уверены, что она достижима еще при жизни. Но все сходятся в одном - нирвана означает прекращение цепи перерождений. Само слово «нирвана» дословно означает «угасание», «успокоение». Обычно ее уподобляют огоньку светильника, который гаснет, когда выгорает масло. Все проявления личности исчезают с последним дымком фитиля, и нет уже ни чувственных ощущений, ни сознания. По сути, это обычная смерть, но смерть, после которой прекращается действие неумолимого закона кармы, когда человек раз и навсегда покидает сансару, чтобы уже никогда и ни в каком облике не возродиться. Буддийское «спасение» означало не какую-то вечную и блаженную жизнь, а избавление от всякой жизни.
ПУТЕМ «ВЕЛИКОЙ КОЛЕСНИЦЫ»
Ты вырвал лотос из земли, Когда в полях желтела осень, Ушел от дома и семьи, Добро без сожаленья бросил, Оделся в тряпки нищеты… Но тряпки эти - не щиты. В душе нет мира, И сквозь дыры Ушло спокойствие твое - Ты сам всадил в себя копье. Твои желания, глупец, Прорвали все твои оплоты. Спешите вырвать из сердец Земных страстей осенний лотос. Дхаммапада
Многообразие объектов культового почитания в Индии практически неизмеримо. Одних богов по традиции насчитывают свыше трех миллионов. Но, кроме них, индуисты поклоняются святым, обожествленным героям эпоса, а также, подобно анимистам, почитают тени предков, духов, животных, растения, реки, горы, озера, камни, морские и окаменелые раковины. В одном краю или даже в одной деревне почитают одних верховных богов и считают второстепенными других, тогда как в соседней деревне придерживаются на сей счет прямо противоположного мнения. И все это мирно уживается в рамках одной религии. Особый отпечаток наложила на индуизм кастовая система. Различия в верованиях и ритуальных отправлениях у представителей высоких и низких каст порой совершенно разительны. Для представителей высших каст во всех вопросах религиозной жизни непререкаемым авторитетом остаются Веды, созданные их далекими предками - ариями, которые пришли в Индостан, как полагают некоторые исследователи, из приграничных со славянскими землями степей. Низшие же касты и неприкасаемые, сохранившие облик и культуру исконных древнеиндийских племен, сберегли и культы, восходящие к доарийской эпохе. Поэтому индуизм часто не укладывается в обычное понимание религии. У него нет централизованной церковной организации с ее строгой иерархией, а различные общины и школы никак друг с другом не связаны, отсутствует даже канонизированное «священное писание», хоть и существует священная для всех индусов литература. Самая поразительная особенность индуизма заключается в его глубоком проникновении в быт, в повседневную деятельность. Такая тесная связь с жизненными отправлениями верующего, его семьи или даже целой деревни, видимо, и сделала эту специфическую индийскую религию столь устойчивой к жизненным переменам. Все это в значительной мере применимо и к буддизму, по крайней мере в его современном варианте. И здесь и там многообразие сект, направлений и толков, поразительный синкретизм и всеобъемлющее проникновение в быт. Лишь иерархия, утвердившаяся в буддизме, резко отличает это учение от традиционного индуизма. «Точное разграничение брахманизма и буддизма может быть совершенно невозможно», - писал русский буддолог О. О. Розенберг. «Различие между индуизмом и буддизмом в Индии было чисто сектантским, индуизм всегда отличался от буддизма не более, чем шиваизм от вишнуизма», - отмечает в своей монографии «Очерк истории Индии» К. М. Паниккар. Идея вечной цепи перерождений тоже была усвоена буддизмом из ранних индийских религий. Она, эта роковая сансара, неотвратимо влечет все живое от перерождения к перерождению по стезе страданий. Даже смерть не может оборвать эту цепь. Новое рождение опять обрекает на страдания. Вырваться из этого страшного, как затягивающаяся на шее петля, круга сансары может лишь тот, кто пройдет сквозь перерождения «восьмеричным путем» и станет архатом. Брахманисты учат, что перерождение возможно в любой форме: животного, растения, насекомого, демона или божества. Но лишь высшая форма - человек - способна достичь нирваны. Дхарма - основа всего мира, говорит «Чха-галея упанишада». Буддисты верят, что сам Будда до своего рождения в облике Гаутамы прошел длинный ряд перерождений, что был он в прежних воплощениях и человеком всех каст и занятий, и богом, в том числе даже самим Брахмой [1]. [1 Согласно палийским источникам, Будда в прошлых своих воплощениях 85 раз был царем, 83 раза - брахманом-отшельником, 5 раз - рабом, 3 - парией, 4 - змеей, 10 - львом, 18 - обезьяной и т. д.] Он лишь первым из людей достиг нирваны, за которой кончаются любые перерождения. По учению Будды, путь к нирване труден. Только сам человек, без чьей бы то ни было помощи, может достигнуть ее. Будда не отрицал существования богов, он старался обойти эту проблему. Она входила в число тех четырнадцати вопросов, на которые он отказывался отвечать. Может быть, потому, что не верил в бога. Во всяком случае, он говорил, что даже боги подвержены проклятию сансары. Поэтому достигший просветления человек выше богов. Ни боги, ни сам Будда не могут спасти людей. Каждый человек может только своим путем прийти к нирване сквозь ужас перерождений. В основе нравственных законов Будды лежали пять обязательных принципов, о которых уже шла речь. Но стремящийся стать архатом должен был соблюдать обязательства в самой абсолютной форме. Он не мог обрабатывать землю, чтобы не убить живущих в ней червей. Даже воду для питья он вынужден был многократно процеживать, чтобы не проглотить случайно мельчайшее существо. Так же поступал и джайнистский святой из бомбейского храма, закрывавший рот марлей, чтобы, боже упаси, не проглотить случайно какую-нибудь мошку. В индийских Гималаях я с интересом наблюдал за тем, как монахи брали из колодца воду. Они долго обмахивали поверхность специальным веничком, отгоняя прочь невидимые глазом существа. Затем, наполнив полые бамбуковые сосуды, столь же тщательно полоскали веник над колодцем, чтобы возвратить в родную стихию случайно прилипших букашек. Столь же строго должно было соблюдать и заповеди о собственности, которая приумножается за счет другого. От этого архат обязан был отказаться навсегда. Только повязка вокруг бедер и чаша нищего становились уделом того, кто уходил от мира. Впрочем, в той или иной мере подобное подвижничество было присуще всем религиям. Особенность буддизма заключалась в его поразительной, непривычной для человека любви. Речь идет о любви и милосердии ко всему живому: друзьям и врагам, коровам и пантерам, муравьям и паразитам на теле. Вечная улыбка, обращенная ко всем и ни к кому. И вот это самое «ни к кому» понять и принять, казалось, труднее всего. Но учение не допускало никаких послаблений. Привязанность к друзьям и близким уже сама по себе отнимала часть любви, предназначенной для всех, и, значит, не могло быть для архата такой привязанности. Бронзовая улыбка. Бесстрастная и отрешенная. Непротивление злу, прощение всяких обид. Всепрощающая и, главное, равнодушная улыбка. Нельзя злом воздавать за зло. От этого ведь только растет зло в мире. Зло никогда не имеет конца, оно всегда влечет за собой новую вражду и новое страдание. Только всепрощение должна нести в мир улыбка архата. Нельзя защищать даже несправедливо обиженного, вступаться за слабого, мстить за убитого, отстаивать неправедно осужденного. Нужно убить любое желание, и лишь самому уклониться от зла. Приневолить себя к бесстрастию, найти блаженство в равнодушии, равно благожелательном ко всем. Потому что мира, как такового, в буддизме не существует. Все иллюзия, все обманчивый и жестокий мираж. Человеку лишь мнится, будто он живет проявлениями своей души, способной чувствовать гнев, радость и скорбь. Его направляет не душа, а отдельные дхармы - единственная реальность мира. Слово «дхарма» имеет много значений. Это не только закон, учение и религия, но также истинная реальность, признак и, самое главное, носитель признака, носитель душевных свойств. Теория дхарм крайне сложна, и всех желающих ознакомиться с ней подробно я отсылаю к двум классическим работам выдающихся русских исследователей [1]. Здесь же я лишь попытаюсь бегло охарактеризовать основные, понятия, которые являются сердцевиной буддийского вероучения в любой его форме. [1 Щербатской Ф. И. Философское учение буддизма. С.-Пб., 1919; Розенберг О. О, Проблемы буддийской философии. Пг., 1918.]
Человек, согласно теории дхарм, исключительно сложное и противоречивое существо. Иначе говоря, у него много дхарм, много носителей душевных свойств. Одни буддийские школы говорят, что 75, другие - 84, третьи - 100. Есть «чувственные» дхармы, с помощью которых люди воспринимают мир: звуки, запахи, краски; дхармы «отвлеченных представлений», делающие человека мыслящим существом; наконец, «дхармы высших стремлений», зовущие, например, в нирвану. Смерть и тела, и души разлагает на элементы. Дхармы высвобождаются и, как невидимый пар от воды, обретают свободу и безразличие. Но кармой, вернее, силой той кармы, которую человек творит своей жизнью и всеми предыдущими перерождениями, дхармы вновь объединяются в несколько иной комбинации, давая так называемую «душу» иному существу - перерожденцу. Так и свершается вращение рокового колеса бытия. Прервать, уничтожить этот круговорот может лишь архат, достигший нирваны. Потому и становились ученики Будды нищими аскетами, странствующими по пыльным и знойным дорогам без цели и желаний. Лишь желтая тога - знак нищеты, цвет низших каст - составляла их собственность да патра - чаша для подаяний. Центральной проблемой буддизма является не столько человек, сколько вообще живое существо. Во всех молитвах, заклинаниях, гимнах упоминается именно о живых существах. В философском буддизме синонимом выражения «живое существо» часто выступает термин «сантана». Но смысл его несколько иной, более абстрактный и углубленный. Сантана - это, как говорят математики, «континуум», некое подвижное многообразие, которое можно приблизительно назвать «потоком сознательной жизни» (отшельник на берегу горной реки в «Сантане» Рериха). Поток этот включает в себя не только сознание, как таковое, но и все его содержание, то есть мысли и представления всей жизни. Отсюда все комбинации, все взаимоотношения дхарм как-то соотносятся с составом индивидуальной цепи континуума, с узором пены в бурном потоке сантаны. Здесь корень буддийского учения об иллюзорности мира. Если все то, что переживает в данный момент тот или иной человек, сводится к цепи мгновенных комбинаций столь же мгновенных элементов, то и само бытие его, точнее, призрачный сон, который лишь кажется бытием, превращается в иллюзию. Неустойчивую, случайную, как узор, сложившийся в зеркалах калейдоскопа. То, что в данную минуту объединились именно такие, а не какие-либо иные дхармы, и то, что они образовали этот, а не какой-то другой узор, и есть проявление кармы. Однако карма, являясь, по существу, одной из дхарм, представляет собой всего лишь законченное выражение той единственно достоверной реальности, что дхармы вообще так или иначе расположены. Тут, казалось бы, можно провести аналогию с основополагающим признаком любой идеалистической системы. Устами своего Заратустры Фридрих Ницше изрек: «Поистине, через сотни душ проходил я в пути своем, через сотни колыбелей, через сотни родильных потуг». Но сходство здесь чисто внешнее. «Как же поэтому объяснить, - размышляет О. О. Розенберг, - тот факт, что все видят как бы одно и то же солнце, те же горы и т. д., если нет самостоятельно существующих предметов. Такой факт, однако, вовсе еще не заставляет нас допускать, что мир предметов существует помимо переживающих его индивидуальных существ. Факт этот может быть объяснен общностью или одинаковостью схем, по которым формируются элементы каждого комплекса дхарм. Одинаковость предметных миров объясняется общей кармою. Общей карме противополагается индивидуальная карма каждого существа, выражающаяся в заведомо личных, ни с кем не разделяемых переживаниях, его страданиях, радостях и т. д.». Буддийскую метафизику, очевидно, трудно уложить в тесные рамки европейского идеализма. Но столь же ошибочно было бы отождествить присущие буддизму атеистические элементы с атеизмом в нашем марксистском понимании. Несмотря на все оригинальные особенности, буддизм был и остается вероучением, а не наукой о мире, как его рисуют некоторые зарубежные философы. Что же касается атеистических элементов, то они настолько своеобразны, что о них стоит знать. Философский буддизм отрицает не только богов, бессмертие, но и вечность человеческой души. Это блестяще доказал древнеиндийский философ Васубанду, оставивший нам замечательный трактат «Абидхармакоша», название которого можно перевести как «Вместилище чистого знания и сопровождающих его дхарм». Вот как подходит Васубанду к коренным проблемам души и человеческого бытия: «Но что же такое бытие действительное и что такое бытие относительное? Если что-либо существует само по себе, как отдельный элемент, то оно имеет реальное бытие, как, например, цвет и другие основные элементы материи и духа. Если же что-либо представляет собой сочетание таких элементов, то это бытие условное, или относительное, например молоко, состоящее из разных элементов и отдельно от них не существующее. Из этого следует, что если приписывать личности или душе истинное бытие, то она должна иметь свою отдельную от прочих элементов сущность и отличаться от них так же, как они отличаются друг от друга. Во-вторых, если душа существует, то она должна иметь и свою причину, свой особый источник бытия, отличающийся от источника, из которого происходят элементы. Если этого нет, если душа не возникает в процессе жизни из какого-нибудь предшествующего бытия, то она будет бытием вечным и неизменным, а это противоречит основоположениям, принятым всеми буддистами». Четкий, логический анализ Васубанду позволил академику Ф. И. Щербатскому объяснить одно кажущееся противоречие, которое всегда служило камнем преткновения для европейских ученых. Суть его в том, что наряду с отрицанием существования души философский буддизм как будто бы признает переселение душ: «Индиец не представляет себе, что со смертью какого-нибудь лица его духовный мир может просто исчезнуть без всякого следа или сразу перейти в вечность… Мгновение смерти или наступления новой жизни есть выдающееся, важное событие в единообразной смене мгновений, но все-таки это лишь отдельное мгновение в целой цепи таких отдельных, с необходимостью следующих друг за другом мгновений. Перед ним было мгновение предшествующее, и после него будет неизбежно следующее мгновение того же потока сменяющихся элементов». Круг замыкается. Мы вновь упираемся в теорию мгновенности. Водоворот в потоке сан-таны закручивается в глубокую, темную воронку, чтобы где-нибудь ниже по течению вновь выбросить струи к сиянию солнца. Но недаром Гераклит из Эфеса учил, что дважды нельзя вступить в одну и ту же реку. В априорных, внечувственных дхармах, которые, в отличие от атомов, нельзя «прощупать» на синхрофазотроне, нужно искать корешок буддийского лотоса. Исток не истины, но веры. Пусть и оригинальной, не признающей бессмертия и богов. Буддийская метафизика всегда была уделом немногих избранных, развивавших ее постулаты в недрах монастырей, на особых факультетах, где изучают догматику. Духовенство отнюдь не стремилось сделать изощренные откровения буддийских мудрецов достоянием простых верующих, как не стремилось оно, вопреки учению, толкнуть всех мирян на путь отшельничества. Если бы все стали вдруг нищими бхикшу, то кто бы тогда выращивал рис и овощи для подаяния? Это парадокс, но в нем истина. Голодная смерть целой страны никак не могла подарить нирвану всем жаждущим. Да и всеобщее безбрачие могло бы лишь прекратить процесс перерождения тех грешных душ, которые не могли пока обрести совершенство. Разумеется, такие вопросы никто специально не решал. Все получалось стихийно, само собой. Люди всегда остаются людьми. Далеко не все последователи Будды готовы были обречь себя на аскетизм. Одни просто не хотели расстаться с приятными удобствами мирской жизни, другие желали достичь нирваны без особых лишений и мук. Как писал Кьеркегор, «и все же, как бы оно ни было «непрактично», тем не менее религиозное есть преображенное в вечность воспроизведение прекраснейших грез политики… Осуществить полное равенство в мирской среде, мирское равенство, т. е. в такой среде, сущность которой - различие, и осуществить ее по-мирскому, в мирском равенстве, т. е. осуществить, творя различие, - это вовеки невозможно…» Мирские приверженцы «восьмеричного пути» принимали, как мы видели, лишь пять минимальных принципов, к которым добавляли еще пожертвования монашеским обществам. После этого каждый мог жить, как хотел. Одни - в нищенстве, другие - в радостях и горестях мира, одни - подаянием, другие - трудом рук своих. Буддизм завоевывал души и страны. Первоначальное символическое изображение Будды в виде колеса сменилось фигурой, сидящей на лотосе и несущей свою удивительную улыбку всем и никому. Возникали монастыри, возводились ступы, в которых хранили священные реликвии и мощи. Все шло привычным путем, каким следовали когда-то жрецы всех стран и народов, каким суждено было пойти впоследствии приверженцам Христа и Мухаммеда. Прошло каких-нибудь два-три века, и религия нищих стала религией господ. Нравственные устои горстки людей превратились в непререкаемую догму для миллионов. Учение нужно было изменять, подновлять, приспосабливать. Созывались соборы, образовывались секты. Буддизм был светом Индии, особым, присущим только ей, ни на что не похожим. Но, распространяясь по миру, он терял свою неуловимую специфику. И судьба его похожа на судьбы всех великих религий. Он, без особого разбора вбирая в себя чужих богов и чужие обычаи, терял свою глубокую, отрешенную душу, опускаясь до сознания воспитанных на примитивных верованиях людей. Одновременно с этим шел и противоположный процесс. Учение метафизически усложнялось в монастырях, превращаясь, как и все в мире, в мертвую схему, высосанную борьбой противоречивых тенденций и качеств.

Храм и ступа (Шри Ланка)
Постепенно в буддизме возникло свыше тридцати сект. Но самый глубокий раскол произошел в I веке нашей эры. В известном смысле «восьмеричная дорога» раздвоилась. Образовались два течения: хинаяна («малая колесница, узкий путь») и- махаяна («большая колесница, широкий путь»). Это было закреплено только на четвертом соборе, во время правления кушанского царя Канишки. Хинаяна требовала сохранения ортодоксального буддизма, тогда как махаяна, основателем которой был богослов Нагарджуна, пересматривала саму основу буддизма - учение, что человек достигнет нирваны лишь собственными усилиями. И в самом деле, разве под силу грешному и слабому существу взвалить на себя такое бремя? Нет, «восьмеричный путь» - это узкая стезя избранных, простому народу нужен широкий и легкий путь. Для его же счастья, для облегчения его же усилий. Да и метафизическая, основанная на этике религия без богов не очень-то понятна широким массам. Им требуется что-нибудь более привычное, что-нибудь попроще, и чтоб обязательно был бог. Да и разве не бог великий учитель Будда?

Прачеди (Таиланд)
Над предполагаемыми останками Будды выросли ступы. Потом выросли храмы, где стояли уже статуи Будды. Порой в виде золоченого гиганта с драгоценным камнем на месте третьего глаза. Образ его становился конкретным, а понятие «будда» - расплывчатым.

Ступа (Непал)
Гаутама Будда, Будда Шакья-Муни сделался лишь одним из множества различных будд, в число которых вошли и древние брахманские боги, и боги тех народов, которые приняли буддизм. Святые архаты тоже попали в пантеон, как это повелось в других религиях, в других странах. Количество будд росло. Появилось 995 будд-мироправителей (непокрытую голову золоченых статуй стала венчать царская корона), 35 будд-грехоочистителей и еще много других будд. Оставалось лишь внести в сонм будд специализацию. Так возникли известные нам божества: основатель учения Шакья-Муни, грядущий будда - Майтрея, которому суждено сменить Шакья-Муни на престоле правителя мира, Амитаюс, дарующий долгую жизнь, Ваджрапани - последний из распространенного на севере пантеона тысячи будд, миросоздатель Адибудда, мистический властитель рая будда Амитабха и т. д. Кроме будд в пантеон махаяны вошли еще и бодхисаттвы. Это своего рода канонизированные архаты - существа, преодолевшие в себе жажду существования и достигшие нирваны, но пожелавшие остаться в миру, чтобы помогать людям. А людям, которым столь трудно достичь совершенства самим, этим людям так нужны руководители. Бодхисаттвы могли бы остаться в нирване, стать буддами, но предпочли любовь к ближнему, хотя такая активная любовь и противоречит учению Гаутамы. Но этим не ограничились последствия реформ Нагарджуны. Он видоизменил еще одну главную основу буддизма - нирвану. В самом деле, что такое нирвана? Непонятное состояние или тем более смерть? Это хорошо для философов, изощренных аристократов духа. А разве народ поймет нирвану, захочет верить в нее? Народу нужен рай. И не беда, что Будда ничего не говорил о рае. Он находится в блаженной стране Сукхавати. Там, в цветущих садах, среди удовольствий и неги пребывают праведники. Заведует этой обетованной землей кроткий мистический Амитабха. Казалось бы, что общего у такого рая с нирваной? Ничего. Но здесь нет и прямого посягательства на учение Гаутамы. Просто душам райских праведников еще один раз предстоит воплотиться на земле, и уж тогда они достигнут нирваны, если только не пожелают сделаться бодхисаттвами. Рай, таким образом, представляет собой промежуточную форму между земной жизнью и нирваной. Промежуточную, но очень заманчивую. Однако, если есть рай, то неизбежно должен быть и ад. Изначальная полярность, присущая человеку двойственность, которая исчезает только в нирване. Для запугивания верующих был создан и ад. С полным набором ужасающих пыток для тех, кто нарушает законы Будды. Это оказалось тем более своевременно, что законы Будды основательно преобразились. Настолько преобразились, что махаяна стала доступна самым отсталым народам. Да и монахи тоже давно перестали быть нищими анахоретами. Они сделались посредниками между верующими и бодхисаттвами. На то бодхисаттвы и созданы, чтобы помогать людям. Они доступны для молитв, снисходительны к просьбам. А кто еще умеет так хорошо донести просьбу человека до бодхисаттв, если не монах, ставший теперь магом и заклинателем? Он умилостивит добрых богов и обезвредит злых. Тем более что злые боги предстают перед верующим в столь устрашающем облике. Едва ли миряне задумываются о том, что эти устрашители - преображенные шиваистские и вишнуистские ипостаси, включенные в обширный пантеон махаяны. В новый культ привлекаются теперь все средства воздействия: скульптура, живопись, архитектура, ритуальные танцы, музыка, мистерии. Такую религию могла уже понять и принять вся феодальная Азия. В искусстве она породила бурю противоречивых тенденций. Чувственность и утонченная роскошь Аджанты вновь ожила в творениях писателей, художников и поэтов.
«В медных треножниках воскуряют аромат. В вазах золотых цветы благоухают. Богатая утварь, редкие сокровища. Открыли занавес, жемчужины сверкнули. На подносах из хрусталя алеют груды фиников и груш. В зеленых кубках из нефрита вино играет - расплавленная, яшма. Рядом с вареной печенью дракона жареные потроха феникса. Каждый глоток чуть ли не десять тысяч стоит. Здесь лапы черного медведя и копыта бурого верблюда. Рис, разваренный и красным лотосом приправленный, изысканные блюда из ичуаньского леща и карпа реки Ло - каждое дороже стоит, чем бык или овца. «Драконовы глаза» и плоды личжи - деликатесы юга. Вот растерли плитки фениксова чая, и в чашках из белого нефрита взыграла пена». Цветы сливы в золотой вазе или Цзинь, пин, мэй.
Возникло и могучее ностальгическое течение, исполненное тоски по утраченной незамутненности и чистоте, существующее и по сей день:
Стыдно бывает: монаху - когда он не может отделаться от любовницы; монахине - когда родит; чиновнику - когда его уличат во взятках. Су Ши. XI в.
Трудно найти смысл в проповеди невежды-монаха Хаун Юньцзяо. XVI - XVII вв.
«Я брожу, странствую в одиночестве. Там горные пики вздымаются высоко; леса и облака уходят в глубину и тают. Святые и мудрецы древности стремились к тому, чтобы жить и ощущать так. Чего же еще я могу желать?» Цзун Бин. Введение в пейзажную живопись
«Постигающие добро, просветленность (бодхи) и мудрость (праджня) пребывают в изначальной природе всех людей, а те, чей дух заплутал, не смогут достичь самопросветления. Им необходим наставник большой добродетели и знаний, который укажет им, как узреть изначальную природу». Алмазная сутра (книга поучений шестого патриарха Хой-нэна)
Основатель махаяны Шринатха Нагарджу-на родился где-то в Южной Индии. Еще мальчиком он надел желтую тогу и ушел в монастырь Наланда. Ему открылся не только тайный смысл священных книг. Он обладал способностью сразу же проникать в суть вещей и обрел власть над могучими силами скрытой природы. По его воле духи змей вынесли на берег моря книгу «Высшего потустороннего познания». С помощью молитв и только ему одному известных заклинаний Нагарджуна мог совершать любые чудеса. Однажды, сотворив благочестивую молитву, он раскрыл большую железную ступу, внутри которой увидел будд и бодхисаттв, сидящих вокруг другой, меньшей, ступы. Он раскрыл и эту ступу и увидел то же самое. И так до бесконечности. И понял Нагарджуна, что перед ним обнажилась тайна строения мира. Что снаружи, то и внутри. Эти понятия относительны. Они лишь покровы, затеняющие от пытливого взора суть вещей. С тех пор буддийские легенды стали наделять своих святых сверхъестественной властью. Высшие монахи вплотную приблизились к богам. Это сделается потом основной традицией Северного буддизма - ламаизма, которому суждено было покорить Гималаи. Наландский монастырь постепенно превращался в крупнейший центр буддийской схоластики, где оттачивалась и совершенствовалась махаяна. Отсюда она распространялась во все сопредельные страны. В этой «преосвященной общине монахов великого монастыря в Наланде» трудились прославленные преемники Нагарджуны - Шилабхардра, Дхармапала, именем которого названа дорога в Сарнатхе, Асанга и знаменитый метафизик Васубанду. В годы расцвета этой общины (VI - VII вв.) здесь под недреманным оком полутора тысяч ученых монахов трудились над буддийскими текстами сонмы учеников-послушников. Библиотеки монастыря были полны уникальнейшими рукописями, храмы его поражали своей архитектурой. «Здесь мы видим искусство Индии, салютующее учености Индии», - скажет потом поэт Рабиндранат Тагор. Сопредельный мир воспринимал лишь внешнюю сторону философских учений Индии. Не изначальный буддизм, а красочную пышность махаяны приняли в свои кумирни ламы Тибета и Непала. Но «большая колесница» достигла гималайских снегов в столь преображенном виде, что даже Нагарджуна вряд ли бы узнал в ней свое учение. И управлял этой золоченой колесницей буддийский тантризм. Это - тайное учение, о котором до сих пор известно немного. Оно исполнено мистическим стремлением к вечному блаженству, к слиянию с божеством, достигнуть которого можно лишь изощренными духовными упражнениями. «Малая колесница» сулила освобождение лишь избранным, которые с помощью самодисциплины и медитации могли постепенно преодолеть личностное начало и вырваться из круга сансары. «Большая колесница» облегчала путь к нирване, призвав в проводники небесных будд и бодхисаттв. Тантрики проложили третий путь. Ваджру, которую стали называть «алмазом», «раскатом грома», они наделили магической силой, способной чуть ли не мгновенно разрывать цепи кармы. Это была третья колесница буддизма: «ваджраяна», «колесница громового раската». Изначально термин «тантра» означал размножение. Тантризм проникнут эротикой. Его темные и сложные обряды воскрешают древнюю магию. Когда-то считалось, что урожайность находится в прямой зависимости от плодовитости женщин. Связанные с этим обряды существовали повсеместно. Махаяна приняла в себя и чужих богов, и древние магические обычаи. Так в плоть ее проник тантризм, которому предстояло окончательно затемнить первоначальное учение Будды. Тантрические статуи изображают богов в неистовом любовном слиянии. По-тибетски это называется «яб-юм», то есть «папа-мама». Многоликие и многорукие, они представлены в яростном сплетении, как пауки ранней весной. Вся двойственность природы предстает здесь в простых символах. И искалеченные ужасной улыбкой бронзовые лики тантрических богов глядят в спокойное и вечное лицо Гаутамы, завещавшего аскетизм, уживаются с ним под одним кровом. Но ведь и среди монахов, живших в монастырях в условиях строжайшей дисциплины, всегда находились «независимые» фанатики, практиковавшие черную магию и некромантию. Здесь та самая двойственность, которую Будда призывал утопить в нирване. Но для невежественного, задавленного жестокой жизнью человека смысл ее непостижим. Ему неведомо, что поставленная им у тантрических идолов курильная палочка знаменует обращение к исконным культам индуизма, отход от Будды, который все так же светло и отрешенно улыбается из дымного далека пагоды. Еще один оборот колеса. Мужчина и женщина на ложе. Одна из нидан колеса, которое вращает демон. Для одних это символ греха, для других - иллюстрация суетности мира, для третьих - приобщение к божественной энергии. Я вспоминаю о «Кама-сутре», посвященной богу вожделения и любовной страсти Каме. Ее внутренняя идея противоположна темному началу тантр. Вопреки господствующему долгие годы пуритански-ханжескому взгляду, современная наука видит в «Наставлении в искусстве любви», написанном в III веке до нашей эры поэтом и мудрецом Ватсаяной, гимн здоровью, открытости и чистоте, утраченным западной культурой во времена средневековья. «Кама-сутра» до сих пор служит образцом для описания человеческой близости. Она может быть поставлена в один ряд с шедеврами Овидия и Апулея. Ведь, несмотря на взлеты художников Ренессанса, античный культ красоты человеческого тела уже не вернулся на средиземноморские берега. Только виноградные лозы и мирты хранят память об ушедших мистериях Диониса и Орфея. Лишь Индия, где любовь была возведена до высот божественного культа, все еще приносит цветы на алтарь линги и йони, чья нерушимая связь - источник плодотворящей силы космоса. В центре Нового Дели, на Коннаут-плейс, я поднялся по темной и грязноватой лесенке на второй этаж в квартирку из одной комнаты, которую снимал молодой поэт, прямой потомок создателя «Кама-сутры». Мы познакомились с ним в «Сахитья академии» - «Национальной литературной академии Индии», первым президентом которой был Джавахар-лал Неру. - Обязательно побывайте в Кхаджурахо, - посоветовал мой собеседник, - и вы совершенно иначе станете смотреть на «Кама-сутру». Помимо ее медицинской, так сказать, сущности, перед вами раскроется и юмор, и целомудренность бессмертного памятника нашей культуры. - Кхаджурахо! Кхаджурахо! - оживившись, заверещали весьма пожилые туристы из ФРГ, Англии и США, когда наш миниатюрный «Боинг-727» совершил посадку на крохотном аэродроме в Панна. - Кхаджурахо! - приготовили широкоугольные объективы, вспышки и принялись рассовывать по карманам катушки с «кодак-колор». - О, Кхаджурахо!

Шива Натарадж
Кхаджурахо - второй пункт на пути в Гималаи. Получасовая остановка на трассе Дели - Агра - Кхаджурахо - Варанаси - Катманду. Да оградят меня местные боги от банальных восхвалений мощи современной авиации… Перед изображениями четырехрукого покровителя танца всегда тлеют сандаловые свечи. Черный отполированный лингам любовно убран лепестками и разрисован киноварью. И в дыму курений лица нежных апсар наполняются живостью и страстью. Они все еще повелевают богами, королями и военачальниками, ищущими в блеске мира и уединении укромных уголков их жаркие губы и трепетные пальцы. Но в самом городе, бывшем некогда столицей королевства Чандел-лов, всегда стоит тишина. Даже базарная площадь, где торгуют в основном цветными открытками, слайдами, кока-колой и оранжадом «Фанта», погружена в сонную сиесту. Кхаджурахо пережил себя и грезит под ярким солнцем о былом величии. Его храмы (из 58 сравнительно в хорошем состоянии осталось 22) сберегают последнее живое тепло. В них витают последние тени. В X веке в Кхаджурахо был возведен великолепный храм Кандарья Махадео. Все девятьсот его скульптур и все горельефы проникнуты жаркой и веселой эротикой. Это любовь, изваянная в камне. Полногрудые танцовщицы, ласковые куртизанки, влюбленные пары и группы, где в общем веселье принимают участие и кони, и обезьяны. Еще древние упанишады видели в единении полов проявление великого божественного начала. Это начало воплотилось в желтом камне храма Кандарья Махадео во всем мыслимом многообразии человеческих ласк. Этот покоряющий воображение шедевр, закрывающий, как черное крыло, полнеба, посвящен Шиве - покровителю йоги, патрону тантры. Одна из надписей в Западной Индии, датируемая V веком, повествует о некоем Маю-ракшаке:
Советнике царском, который основал Сей внушающий трепет храм, заслуги чтоб умножить, Храм, полный демониц, Посвященный матерям, кричащим Громким гласом в темноте кромешной, Где лотосы трепещут От неистовых ветров, Поднятых магическими заклинаниями.
Культ Богини-Матери, чье повсеместное распространение приостановилось на заре мусульманских завоеваний, когда стал набирать силу ортодоксальный вишнуизм, все еще популярен в Бенгалии и Ассаме. Известен он и в других районах Индии, вплоть до крайнего Юга. Существует множество храмов, посвященных Парвати (Дочери гор), Сати (Добродетельной), Гаури (Белой), Аннапурне (Дарительнице обильной пищи), Махадэви (Великой богине) и просто Амман (Матери).

Кали
В устрашающем облике она предстает как Дурга (Неприступная), Чанди (Лютая), Кали (Черная). В этой черной ипостаси жена Шивы обрела облик ужасной, оскаленной ведьмы. Многорукая, потрясающая орудиями убийства, скачет она на свирепом льве, сея смерть и разрушение. Образ Ардханаришвара, который встретился мне в пещерах Элефанты, изображает божество в единении космических начал. Это Шива со своей Шакти, это спящая мужская энергия, одухотворенная творческим женским началом. Ламаистские тантрические боги внесут в эротику добавочный элемент дьяволизма. Бычьи, рогатые морды, ужасные, оскаленные пасти, хищные, колючие руки бросят потом любовь на грань, за которой лежит смерть и темное преступление. Уже в VI - VII веках буддийский тантризм был окончательно узаконен в специальных текстах, которые несколько неожиданно указывали будущим аскетам совсем иной, куда более приятный путь к спасению. Тантризм возвел на небеса Будды новое мистическое тело - сукхамаю, или махасукхамаю, что можно перевести с санскрита как «плоть божества». Эта плоть и есть подлинная природа Будды. Страдающий Гаутама исчез. Осталась мистическая плоть, сливающаяся в вечных объятиях со своей шакти по имени Тара или Бхагавати. Но если сам бхагаван, великий непреходящий, пребывает водной из форм своих в вечном слиянии с Тарой, то что должен делать простой отшельник? Почему бы и ему не возвести на свое ложе такую шакти? Богиню! Мудру! Тем более что священные тексты ламаизма утверждают, будто сам Гаутама сделался Буддой лишь «благодаря употреблению тантрийского ритуала». В капитальном труде «Первобытная религия» Л. Я- Штернберг провел интересную параллель шактизма с айы - духами-творцами первобытных якутов. Боги тримурти, подобно шаманам, проявляют свою божественную сущность лишь с помощью женского начала. Лакшми - исполненная любви жена Вишну, подруга Шивы Парвати и мудрая Сарасвати, разделившая с Брахмой верховный трон, выступают в роли тайных шаманских покровителей. Так буддизм освятил и узаконил древнейший тантрийский ритуал, который никогда не умирал на древней земле Индии. Парвати тенью Великой Матери вслед за Шивой проникла в буддийские храмы. Поклоняясь Шакти, буддисты служили богине, чьи глиняные фигурки, на которых подчеркнуто плодоносное чрево, украшали некогда алтари Элама, Месопотамии, Крита, Кипра, Балкан, Кавказа, Средней Азии, Хараппы. Ранее Великая Мать, доарийская богиня Азии, так же незаметно покорила ведических богов и, преодолев изначальные препоны брахманов, вновь утвердилась в Индии. Ума, Дурга, Гаури, Ам-бика, Чамунда, Минакши - это все ее имена, многоликой, единой распорядительницы жизни и смерти. Сжимая в руках то истекающие жертвенной кровью фаллосы, то прильнувших к груди змей, она олицетворяла плодоносную землю. Все чаще ее называют просто Дэви-Богиня. Абстрактное слово «шакти», означающее женскую стихию, космическую силу, энергию, стало тайной сутью ее, тантрийским ее двойником. И многочисленные шакти, жены бодхисаттв, заполнили храмы. Пантеон богов по меньшей мере удвоился. Каждый обрел свою тантрийскую пару. Символы линги и йони проникли в пагоды и утвердились на алтаре. Божественный Парни, которым зачитывался юный Пушкин, устами своей Минервы говорит:
Я видела в одном из уголков Донельзя непристойных двух богов: То были просто символы полов. Огромные, они стояли прямо, Как два тюльпана, в волнах фимиама.
«Новации» догматики не замедлили обернуться традициями чисто житейского свойства, не имеющими прямого отношения к культу. Живший в XVI веке монашествующий поэт Дугпа Кунглег не без горечи заметил:
Там, где обучают размышлению, Каждый монах имеет женщину И состоит с ней в незаконной связи. Что касается меня, бедного йога, То я воздержусь от этого.
В культе шактизма основное значение придается не молитвам, а словесным заклинаниям - мантрам и мистическим фигурам - кругам, треугольнику, стилизованному лотосу, магическим янтрам. Существует довольно много разновидностей шактизма, которые в общем можно свести к двум основным направлениям: школа правой и школа левой руки. «Левая рука», призывающая аскета к соединению с шакти, известна благодаря вызывающим крайностям ритуала. Формула панчамакара (пять слов, начинающихся на слог «ма») предписывает монаху действия, прямо противоположные аскетизму: пить вино (мадья), есть мясо (мамса), рыбу (матсья), говорить языком пальцев (мудра) и соединяться с женщиной (митхуна). Столь откровенное противоречие трудно объяснить. Ученые ламы поэтому объявили тантризм тайным, доступным лишь для избранных. Это святая святых тайных факультетов чжюд. И можно лишь смутно догадываться о том, что происходит на закрытых тантрийских мистериях. В Непале мне довелось бывать в тантрийских храмах, но на тайные служения меня не допускали.

Дурга-воительница
Главной страной, излюбленным цветком ма-хаяны сделался Тибет. Буддизм был занесен туда в VII веке по чисто политическим соображениям. Объединитель Тибета князь Срон-цзангамбо решил сцементировать страну единым морально-религиозным учением. Позднейшая легенда объявила Сронцзана воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары. Впрочем, сначала заимствованный из Непала, буддизм был представлен в Тибете в классической форме хинаяны. Но простой народ продолжал придерживаться древних шаманских обычаев (религия бонбо), тогда как изысканные философские откровения ортодоксальной хинаяны получили популярность лишь в придворных кругах. В IX веке легендарный проповедник и маг Падмасамбава стал проповедовать махаяну. Его проповеди сопровождались гаданием, заклинаниями духов, эффектными магическими обрядами. Они имели большой успех. Тем более что махаяна включила в себя и веру в местных богов. Она обращалась к сердцу каждого, обещая послушным прекрасный рай Сукхавати и наполненный страшными демонами ад - грешникам, где бог смерти Яма с зеркалом в руках, отражающим все деяния человека, творит загробный суд. В Испании я видел изображение архангела Михаила, взвешивающего души умерших. Стоявший рядом рогатый дьявол с нетерпением ожидал своей доли грешников. Как похожа была эта каталонская фреска на тибетскую танка. Но эту внешнюю общность сводило на нет одно-единственное, но коренное различие. В образе Ямы слились обе полярные силы: беспристрастный судья и владыка ада. Потусторонний мир, будь то преисподняя или небеса, всегда являл собой зеркало, хоть и кривое, земного бытия с его восторгами и отчаяниями.
«Когда я умер, то обратился к Владыке Царства мертвых с мольбой, чтобы мне не пришлось вновь рождаться в мире смертных. Просьбу мою удовлетворили, и я стал чиновником в Царстве мертвых. Но оказалось, что и там тоже - взяточничество и взаимный обман, как в мире живых. Я снова отказался от должности и вернулся в свою могилу». Цзи Юнь. Заметки из хижины «Великое в малом»
Колесо безысходных страданий, безнадежный замкнутый круг. Окоем, словно звериным невидимым следом, помеченный недобрыми силами.
И у водопоя на колодце следы преты, И в доме на песте для зерна следы преты. Вновь собранные драгоценные парные изречения
Но пронеслась в блеске молний колесница громового раската над Гималаями. Прежние тупики осветились неземным полыхающим светом. Избавление оказалось неожиданно близко. Правильное произнесение магической формулы, точное воспроизведение волшебного символа заставляло богов, даже вопреки их желанию, открыть перед посвященным дороги блаженства. Шестисложная мани, которую тибетцы повторяют тысячи раз на дню, уподобилась ключику от ворот рая. Ее прямой перевод («О, жемчужина на лотосе!») не передает богатства смысловых оттенков. Это заклинание, первоначально символизировавшее соединение небесного Будды и Праджняпарамиты, Авалокитешвары и Тары, стало тамгой, проставленной на границах тантрийской ойкумены. Духовным центром колесницы громового раската стали твердыни Тибета, где сформировалась самая удивительная в человеческой истории церковная иерархия.
СВЕТ КАМНЕЙ
Твой сын - не твой, твое богатство - прах, Ты сам - не ты, лишь отзвуки в горах. Дхаммапада
«Он и мой спутник не сказали друг другу ни слова, и предполагаю, что они объяснились тайными знаками, так как, не спрашивая о моих намерениях, «душа» внезапно обратился непосредственно ко мне и сказал, что готов показать мне все мною желаемое, если только я определенно возьму на себя ответственность за это, даже не зная, в чем она состоит». Густав Мейринк. Действо сверчков
«Тибетец не лгал: там, внизу, в великолепной зелени, лежало это странное ущелье». Густав Мейринк. Лиловая смерть
Настоящее - следствие прошлого и причина будущего. В буддизме эта тривиальная истина возведена в ранг абсолюта. Ее олицетворяет колесо закона, осеняющее пагоды и монастыри. В одной из поездок по Индии я посетил «Тибетский дом» - нечто среднее между храмом, постоялым двором и представительством далай-ламы, проживающего в курортном местечке Дхармасала, где после восстания 1959 года нашли приют многие из бежавших вместе с ним тибетцев. Я заполнил специальный листок, где требовалось указать обычные анкетные данные и цель предполагаемого посещения первосвященника. Внимательно изучив анкету, управитель сказал, что его святейшество охотно встретится со мной, но это будет не ранее чем через две недели, когда он вернется из дальней поездки.

«Тибетский дом». Силуэт чортэня
- К сожалению, срок моей командировки заканчивается несколько раньше, - я не сумел скрыть огорчения. - Ничего! - Управитель попытался утешить: - Вы родились в год Деревянной Свиньи, как и его святейшество. Звезды благоприятствуют встрече. Ровно через пять лет, в 1979 году, встреча состоялась в столице Монголии Улан-Баторе, куда далай-лама приехал, чтобы принять участие в Пятой Азиатской буддийской конференции за мир (АБКМ). Гандантэкчзнлин - внушительный комплекс храмов, монастыря и духовной школы, основанный в 1838 году, сверкал свежей краской и позолотой наверший. Трепетали на ветру флаги пяти стихий, придавая происходящей церемонии некий космический смысл. Обширный двор обегала ковровая дорожка, застланная желтой широкой лентой, символизирующей путь ламаизма, на который высокий гость ступил сорок четыре года назад.

Храм Гандантэкчзнлин (Монголия)
В главном храме было не протолкнуться. Желтые, красные, красно-желтые тоги - санг-хати монахов казались при ярком электрическом освещении языками пламени. Ухали барабаны, звенели серебряные колокольчики, голоса лам, читавших священный Ганджур, сливались в однообразный рокочущий напев. Он сидел у северной стены на высоком троне, принадлежащем хамбо-ламе Гомбожаву, президенту АБКМ, главе монгольских буддистов, члену Всемирного Совета Мира. Перед ним стояла украшенная кораллами мандала, сосуд с амритой, заткнутый кропилом из павлиньих перьев. Сзади, освещенные лампадами, сверкали позолоченные фигурки богов, впереди выстроилась очередь лам с голубыми шарфами - хадаками - в руках. Это был одновременно и молебен, который служил сам далай-лама, и аудиенция, которую высший иерарх ламаизма давал монгольскому духовенству, связанному с его покинутой родиной давними и сложными отношениями. Я следил за плавными и очень точными жестами далай-ламы и невольно любовался искусством и быстротой, с которыми он касался склоненных голов. В его прикосновениях ощущались ласка и дружелюбие, его улыбка всякий раз была неожиданной и глубоко личной, словно предназначенной именно для того человека, который вручал в данный момент голубой шелк привета. Как и другие, он был очень коротко острижен, его красное с желтыми концами монашеское платье открывало, по уставу, правое плечо. Смуглое, очень живое лицо, простые, чуть притемненные очки, и всякий раз, как нежданная вспышка, подкупающая улыбка на точеном скуластом лице.

Встреча с XLV далай-ламой
На церемонии присутствовали только ламы, немногочисленные паломники и местные журналисты. Ни один иностранный гость, прибывший на конференцию, а тем более корреспондент, несмотря на все ухищрения, не был сюда допущен. Мне не стыдно признаться, что я испытывал суетную, мирскую радость при мысли о том, что одно-единственное исключение все же было сделано… Я стоял в четырех шагах от трона, преисполненный жгучего интереса, словом, чего угодно, но только не смирения, как этого требовали обстоятельства, нет. Впервые посторонний, да еще заведомый атеист, открыто, не таясь, мог присутствовать на богослужении живого бога. Да и сам Четырнадцатый далай-лама стоял на монгольской земле впервые. На другой день, выступая с трибуны, украшенной знаком скрещенных громовых стрел, он скажет: - Чудесный цветок расцвел на прекрасной земле Монголии, издавна связанной с моей страной. Если мир станет высшей целью каждого человека, не будет войн на земле. Познав войны и беды, он понял, что из всех высоких истин самая высокая - все же мир. Собственно, этой, жизненно важной для каждого человека теме и была посвящена конференция. На следующий день, когда мне удалось встретиться с далай-ламой, я подарил ему свою книгу «Бронзовая улыбка» - о старом Тибете и далай-ламах. Увидев на обложке яка, он буквально озарился: - Это як! Мои несравненные горы! - Теперь я знаю улыбку далай-ламы, - сказал я, когда он попросил перевести название. - Могу лишь сожалеть о неточном заголовке. - Если вспоминать о прошлом, не угадать будущего, - в его глазах мелькнуло озорство. - Если знать будущее, можно не вспоминать о прошлом. Не все далай-ламы были похожи на Шестого, поэта и весельчака. - Читая теперь любовные песни Шестого, я все-таки буду вспоминать улыбку Четырнадцатого… Напишите мне что-нибудь на память, если это возможно. Он взял красочную литографию с призывом о мире, на которой в традиционно буддийском стиле была изображена рука с чудесным цветком в удлиненных пальцах. «Пусть все, поднявшие мечи, побратаются с цветами в руках», - было написано на небесной голубизне… В начале X века тибетский царь Ландарма вместе со сплотившимися вокруг него приверженцами родо-племенных обычаев попытался подорвать буддизм, но потерпел поражение. Ландарма был убит и обрел в потомстве славу еретика. Окончательная победа буддизма в Тибете ознаменовалась широким распространением тантризма. Его принесли тот же Падмасамбава и монах Джу-Адишу, приехавший в середине XI века из Индии. Тибетская система тантр вознесла над всеми богами не имеющего ни конца, ни начала Адибудду. Остальных будд она разделила на три категории: человеческие, созерцательные и бесформенные. Учение Гаутамы растворилось в причудливой смеси разнородных, а подчас и просто фантастических культов. Созерцание и магические заклинания - дара-ни - сделались едва ли не единственным средством достижения нирваны. Вместо того чтобы блуждать во мраке перерождений, человек мог обрести ее посредством короткой формулы. Собственная воля уступила место магическим ритуалам знатоков тантр, изощренная философская система переплелась с колдовством. Победа буддизма в Тибете была достигнута ценой известных потерь в его философской этике. Гималаи покрылись сетью монастырей, в которых десятки тысяч лам могли спокойно предаваться созерцанию, изучению священных свитков и тайным оргиям по тантрическим рецептам. Механическое повторение дарани приобрело настолько формальный смысл, что ленты с заклинаниями привязывались к ветвям деревьев, чтобы их читал ветер, вкладывались в особые цилиндры с лопастями, чтобы их повторяла вода, заставляющая эти цилиндры вертеться. Чем быстрее вращались ручные или приводимые в движение водой и ветром цилиндры, тем быстрее обращались свернутые свитки с заклинаниями и тем сильнее должно было быть их воздействие на невидимый мир. Монгольские завоеватели, особенно хан Хубилай, поддерживали влияние буддизма на души людей. Настоятеля самого влиятельного сакьяского монастыря Пагба-ламу сделали даже наместником императора. Точно так же поступали императоры Минской династии. Может быть, с той лишь разницей, что, проводя политику раздробления страны, они не давали одним монастырям усиливаться за счет других. Поэтому буддийские секты в Тибете множились. Против этого восстал легендарный реформатор Цзонхава - основатель секты гэлуг-па. Жил он в XIV - XV веках и, согласно легенде, происходил из монастыря Гумбум в Амдо. Цзонхава решил возродить древнебуддийские строгость и чистоту нравов, которые должны были объединить различные слабо связанные друг с другом секты. Он ввел железную дисциплину и заставил монахов вновь надеть желтую одежду нищеты. Секту гэлуг-па за ее желтые тоги и головные уборы прозвали потом «желтошапочной», в отличие от ранее преобладавшей в Тибете «красношапочной» секты сакья. Цзонхава добился поставленной цели. Но гальванизировать отлетевший дух «высокого» буддизма он уже не смог. Пышные ритуальные церемонии, торжественные обряды, трубы, колокола, хоругви и ленты - все это мало вязалось с отрешенностью от земной суеты. Правда, в отличие от других сект, где монахи могли вступать в открытый брак, последователи Цзонхавы давали обет воздержания. Цзонхава написал комментарии к системе йоги, названные «Йога-ламой». Ее сущность в «беспрерывном и продолжительном почитании друга добродетели, безошибочного вожатого». «Другом добродетели», равным Будде, иерарх желтошапочников назвал ламу. Тибетские секты с их различным толкованием законоучения и ритуала во многом подобны отдельным течениям и сектам в других церквах. Но есть одно очень важное отличие чисто тибетского свойства. Не только простой народ, но и само духовенство в Тибете питает одинаковое религиозное чувство к жрецам других сект. Так Гималаи были поделены между «желтой» и «красной» верой. В Тибете и дореволюционной Монголии больше чтили Цзонха-ву, к югу от Трансгималаев - Падмасамбаву. Их изображения стоят рядом с образом Шакья-Муни, а порой и первенствуют в ламаистских храмах. В Ладакхе, Сиккиме, Бутане и горном Непале статуя Падмасамбавы, держащего жезл с нанизанными на него мертвыми головами, всегда занимает главное место на алтаре. Основное достижение реформы Цзонхавы касалось, однако, не форм религии, а, что гораздо важнее, создания иерархии. Он установил единую власть над всеми общинами и монастырями, которая была разделена между панчен-римпоче и далай-ламой. Оба они были объявлены воплощениями самых чтимых божеств: панчен - Будды Амитабхи, далай - Авалокитешвары (Арьяболо, Хоншим-Бодхи-саттвы). Вообще вера в перерожденцев - хутухту, или хубилганов, широко распространилась среди «желтошапочных». В каждом монастыре были свои перерожденцы, живые боги, будды и бодхисаттвы. Божественную сущность, оказалось, обрести довольно просто. «Восьмеричный путь» подменялся, по сути, бросанием костей. Утонченная культура духа отступила перед слепым случаем. Впрочем, первоначально установившийся обычай выбирать воплощенных лам метанием костей продержался недолго. Иерархия не может положиться на власть случая. И все подобные выборы свершались теперь в гималайских монастырях при том или ином участии коллегии высших лам. Кандидаты в живые боги стали подвергаться различным испытаниям, которые вкупе с указаниями, преподанными в разное время усопшим воплощением, помогают выбрать достойного преемника. В Тибете с середины XVII столетия новое воплощение усопшего святого стали находить при помощи золотой урны, названной по-тибетски сэрбум. Когда истекали три года со дня смерти воплощенного ламы, приступали к составлению списка детей, в которых предположительно могла переселиться душа святого. Если дело шло о выборе самого далай-ламы или панчен-ламы, то список предварительно направляли регенту. Когда все дела со списком улаживались, бумажки с именами кандидатов закатывались вместе с полосками, на которых было написано «да» и «нет», в шарики из ячменной муки - цзамбы. Далее эти шарики опускались в урну, которая ставилась на престол главной святыни Лхассы. Семь дней шли потом непрерывные моления божествам. На восьмой день чашу несколько раз встряхивали и приступали к жеребьевке. Чье имя трижды выпадало вместе с шариком, в котором лежала бумажка «да», тот становился истинным воплощением. К младенцу направляли специальную комиссию, которая устраивала ему небольшой экзамен. Чаще всего будущий святой должен был найти среди десятков однородных предметов (чаши, четки, кольца и т. д.) те, которые принадлежали усопшему ламе. В 1875 году, после смерти далай-ламы Тинь-ле Чжямцо, регент и коллегия высших лам обратились за советом к знаменитому оракулу Начун-чойчжону с просьбой указать признаки нового воплощения. «Там, где живет душа далай-ламы, деревья начинают цвести раньше, - сказал оракул, - животные скидывают детенышей, а больные смертельными недугами выздоравливают, если их коснулся святой ребенок. Но имя воплощенного может открыть лишь монах самых строгих правил». Оракула попросили указать такого монаха. После магических действий оракул изрек: «Каньпо (настоятель) монастыря Гадань известен своей святостью и глубокими познаниями. Пусть он отправится в Чайкор-чжя, где я вижу святую воду». Каньпо отправился в указанную местность и, найдя там подходящую пещеру, затворился в ней на семь дней, которые провел в глубоком созерцании. На исходе ночи седьмого дня имел он видение и услышал голос неземной, который повелел ему отправиться к озеру Му-лидинки цо. Пробудившись от чудесного сна, каньпо пошел на озеро. Ветер пробежал по камышам и стих. Озеро разгладилось, солнце вышло из облаков. И тогда в кристально чистой воде увидел монах лик воплощения великого ламы. Младенец сидел на коленях матери и, смеясь, тянулся ручонками к отцу. До мельчайших подробностей запомнил эту картину лама. Он мог потом с закрытыми глазами описать всю обстановку дома, который привиделся ему на воде. Когда чудное видение исчезло, каньпо решил возвратиться в монастырь. По дороге он остановился в Тагпо, в доме уважаемого и богатого человека, и увидел вдруг ту комнату и людей тех, что явились ему в чистых водах озера. Он немедленно дал знать в Лхасу. Регент, министры и высшие духовные лица тотчас же прибыли в Тагпо и взяли божественного ребенка, которому было тогда всего двенадцать месяцев. Родителей ребенка тоже забрали в Лхасу, где для них были отведены апартаменты во дворце Вич-жял. Такова совершенно официальная история далай-ламы Нагван Лобсан Тубдан Чжямцо, что значит «Владыка речи, могучий океан мудрости». Золотую урну для отыскания перерожденца не применили якобы потому, что дух недавно умершего панчен-ламы при жизни был всегда враждебно настроен к далай-ламам и мог помешать правильным выборам. Как бы там ни было, но подобная система отыскания воплощения давала возможность регенту и высшим иерархам возводить на престол угодных им лиц. Примерно так же отыскивались перерожденцы и менее влиятельных особ, чем верховные ламы. Когда умирал настоятель монастыря, считавшийся при жизни святым, то составлялись списки всех родившихся потом в той местности мальчиков. Списки отвозили в Лхасу, где и уточнялся возможный перерожденец. Достигнув определенного возраста, новый воплощенец вступал в монастырь в качестве рядового послушника. В течение года он выучивал наизусть без единой ошибки 125 листов священных текстов для сдачи первого экзамена, открывающего дорогу к вершинам священной мудрости. В своей душе уже ничего не надо было искать. Такая система, дожившая почти до наших дней, начала складываться еще при первых далай-ламах. В Гималаях, кстати сказать, никто так ламаистского первосвященника не называет. Чаще всего его именуют Тугчжэ чэнь-по Шэньрезиг (Всемилостивейший Авалоки-тешвара). Считается, что он никогда не умирает, хотя порой, огорченный беззакониями мира, удаляется в рай Сукхавати. Древние летописи говорят, что на земле он появлялся всего лишь четырнадцать раз в течение восемнадцати столетий, прошедших от смерти Будды до начала XV века. В 1474 году родился Гедун Чжямцо, перерождение Гедун Дуба (1391 - 1474), который был воплощением самого Авалокитешвары и по традиции считается первым из далай-лам. Гедуну Чжямцо наследовал Сонам Чжямцо, приглашенный в Монголию победоносным Ал-тан-ханом. Когда Сонам Чжямцо прибыл в лагерь хана, могущественный завоеватель назвал его монгольским именем Далай-лама. По-монгольски «далай» - то же, что по-тибетски «чжямцо», и слово это означает океан. Случайно оно входило и в имя предшественника Сонама Чжямцо, и хан принял его за родовое, фамильное. С тех пор воплощенцев великого ламы стали называть далай-ламами, океанами мудрости. Культ перерожденцев, своеобразная эстафета вечной божественной эманации, воплощающейся со смертью бренной оболочки в избранного новорожденного младенца, утвердился во времена расцвета сакьяской секты. Далай-ламы, ведущие свой мистический род от Авалокитешвары, не являются, однако, прямыми воспреемниками нетленной сущности Одиннадцатиликого. Каждый последующий далай-лама повторяет в себе лишь непосредственного предшественника, но вся эта непостижимая цепь повторений восходит к бодхисаттве. Первый далай-лама был, таким образом, лишь пятьдесят первым воплощением Авалокитешвары. В числе его предшественников - прошедший по горным тропам Непала ученик Адиши Бром Тонпа, искусный кудесник, состязавшийся в магическом искусстве с Миларайпой. Бром Тонпа считался сорок пятым воплощением бодхисаттвы, который живет в каждом своем перерожденце, как невидимая сила в намагниченных кусочках железа. Она в них и не в них, везде и нигде. Третий далай-лама, рожденный в доме правителя дзонга, близ Лхасы, Содиам Чжямцо (1543 - 1588), сделался носителем высшего ламского титула. В 1547 году он наследовал Второму далай-ламе на посту настоятеля монастыря Дрепунг, а летом 1578 года получил в Голубом городе из рук Алтан-хана манифест, в котором законы и обычаи Лхасы распространялись на все подвластные монголам земли. Тогда-то и была вручена далай-ламам печать с изображением пучка молний («ваджpa» - санскр., «дордже» - тиб., «очир» - монг.) с надписью «дордже-чанг» - «Носитель громового скипетра». Пепел Содиама Чжямцо хранится в чортэне монастыря Дре-пунг, а дух его воплотился, видимо, в знак благодарности в царственного внука самого Алтан-хана, который стал Четвертым далай-ламой под именем Йонтан Чжямцо (1584 - 1617). Духовный руководитель двенадцатилетнего повелителя ламаистов лама Лобсан Чой-джан из монастыря Ташилунпо в Шигацзе, нареченный «Великим Учителем», стал основателем новой династии высоких перерожденцев - панчен-лам.

Пакба-лама, воплощенный будда
Дворец далай-лам, вне всякого сомнения, является самым замечательным зданием не только в Лхасе, но и в Гималаях. Полное название его Ду-цзин-ньибий-побран Потала или «Потала, дворец второго кормчего». Построил дворец легендарный цэнпо - царь Сронцзан-гамбо еще в 636 году на высокой скале, именуемой Марбо-ри - «Красной горой», где когда-то находился замок, испытавший все невзгоды вековых феодальных войн. В середине XVII столетия Потала сделалась резиденцией Пятого далай-ламы Нгаг-бана Лобсан Чжямцо (1617 - 1682), который сумел завоевать верховную власть в Тибете. Это в его время были возведены главные части дворца, а прежние обветшавшие здания отделаны заново. В народе до сих пор помнят это страшное время, когда людей тысячами сгоняли на рабский труд. Постройка продолжалась десятилетиями, подобно скорбной эпопее Древнего Египта, жестокой мистерии пирамид. Все население Кама было обложено налогом на это строительство. В истории Тибета Нгагбан Лобсан Чжямцо запечатлен под именем великого Пятого. Блестящий знаток санскрита и религиозной догматики, он был еще и знаменитым поэтом. В 1643 году его в качестве духовного и светского правителя Тибета официально признали соседние Непал и Сикким. Сложнее обстояли у великого Пятого взаимоотношения с Бутаном. Когда против местного правительства восстали монастыри, далай-лама послал туда военную экспедицию. Тибетские войска в этом походе сопровождал крупный отряд монгольской конницы. Впоследствии союз с монголами, а при Пятом далай-ламе и с маньчжурами роковым образом отзовется на судьбе самого Тибета. Рассказывают, что смерть застала Нгагба-на Лобсан Чжямцо, когда дворец еще не был достроен. Деши-управитель шестнадцать лет скрывал от народа, что душа далай-ламы воплотилась в иное тело, выставляя на празднества загримированную статую. Через два года после смерти великого Пятого была установлена новая граница с Ладакхом, вдоль которой расположились монгольские войска. Под договором стояла печать усопшего. Точно так же от имени мертвеца деши заставлял тибетцев продолжать изнурительную и бессмысленную работу. Главный дворец построили на самой вершине, он заполнил своим основанием все углубления и спуски. Потом его окружили высокой каменной стеной. Он не был похож ни на одно сооружение в мире. Жмущиеся друг к другу, низко усеченные пирамиды во много этажей и типично тибетские плоские крыши образовали неповторимый, резко асимметричный ансамбль. Во дворец вели три широкие лестницы с лицевой стороны и две боковые дороги, которые тоже потом переходят в каменные лестницы. По этим дорогам устремлялись во дворец различные должностные лица, которых далай-ламы рассылали по всему Тибету. Лестницы для пеших, дороги для конных. На круглом дворе всадники спешивались, слуги отводили животных в конюшни, а перед путником открывалась лестница, ведущая в небо. Казалось, ей не будет конца. Главные святыни и апартаменты далай-лам находились в центральной части дворца, выкрашенной в красно-коричневый цвет, которая так и называлась Потала Побран-Мар-по, то есть Красный дворец. В нем находился зал для духовенства дворцового факультета, именуемого Нам-чжял. Он состоял из сотен лам, постоянно живущих в Потале и совершающих богослужения во здравие далай-лам. Над залом дацана размещались тихие покои, в которых тускло поблескивало золото чортэней, в коих хранился прах всех далай-лам, начиная от великого Пятого. Предшественники этого «фараона-строителя» были похоронены в Дрепунг Галдан-по-бране, а самый первый далай-лама - в монастыре Ташилхунпо. Конечно, строитель Поталы, шестнадцать лет после смерти числившийся в живых, удостоился самого богатого мавзолея. Говорят, что на его чортэнь ушло все золото и все драгоценные камни казны. В наше время гималайские монастыри служат не столько убежищем отрекшихся от мира аскетов, сколько духовными школами. Будущие ламы приобретают здесь все необходимые знания - от азбуки до высших пределов богословия. Главное внимание в монастырских школах уделяется религиозной философии, состоящей из пяти отделов догматики, написанных индийскими учеными и переведенных на тибетский язык. После реформ Цзонхавы тибетские ученые написали к этим отделам многочисленные комментарии, которые изучались на специальных факультетах, созданных в свое время в монастырях близ Лхасы: Лабуне, Сэра и Галдане. Кроме богословских факультетов существуют еще и тайные (наг-па), где изучаются тантры и мистическая обрядность. Несколько особняком стоят медицинские дацаны, в которых ламы, посвятившие себя врачеванию, штудируют индо-тибетскую и китайскую медицину. В Ташилхунпо, где вплоть до конца 50-х годов пребывал панчен-лама, было три богословских факультета: Тойсамлин, Шарцо, Киль-кан и один мистический - Наг-кан. Крупные монастыри обычно делились на общины. Каждая община, как правило образованная монахами-земляками, жила самостоятельной жизнью. У нее было свое обособленное имущество и даже отдельный храм, вокруг которого и располагались жилища монахов. Это превращало общину, или кам-цань, в своего рода территориально-административную единицу. Несколько кам-цаней составляли уже более крупную единицу, управляемую высшей богословской коллегией. В каждом монастыре есть библиотека, зачастую хранящая уникальные документы, музей местной фауны и флоры или собрание различных иноземных диковин, и прежде всего священные реликвии. В монастыре при храме Склоненного Будды в Бангкоке я видел собрание минералов, коллекцию марок, большой орех сейшельской пальмы, книги, написанные на бамбуковых пластинках, ящик с окаменелостями и т. д. и т. п. Подлинная лавка редкостей. Марки, как я потом узнал, были завещаны монахом-филателистом. Лама Учжень Чжямцо посетил в конце прошлого века знаменитое святилище Сах-гуру-чой-ван, где среди многочисленных реликвий находилось даже особо почитаемое чучело лошади, принадлежавшей гуру Падмасамбаве. Лошадь эта называется «чжамлин-нинь-кора», что значит могущая в один день объехать вокруг света. Заметив, что у знаменитой лошади недостает одной ноги, Учжень Чжямцо обратил на это внимание настоятеля. «О, это случилось давно, - сказал настоятель, - ногу украл один паломник из Кама, чтобы передать чудесные свойства благородного животного местным лошадям». Любопытно, что этот благочестивый вор почитался у себя на родине за святого. Вот какие чудеса может сотворить одно прикосновение к реликвии, осененной благодатью великого мага, который, помимо всего, разрешил монахам вступать в брак, положив тем самым начало многим нынешним сектам. Индийский монах Чжу-Адиша попытался потом отвратить гималайский буддизм от шаманства и вернуть ему прежнюю чистоту. Он призывал монахов отказаться от грубых обрядов и возвратиться к аскетической жизни. Основанная им секта получила наименование ка-дам-па, что значит «связанные предписанием». Но не всем последователям Адиши пришлись по нраву строгие предписания «чистой махаяны». Поэтому вскоре двое из его учеников создали самостоятельные секты: санью-па и карчжю-па, допускавшие различные послабления. Те же, кто сохранил верность учению Адиши, образовали потом секту ньиима-па. Так ветвилось древо гималайской махаяны. От главных ветвей во все стороны бежали маленькие побеги таких сект, как карма-па и т. п. В XIII веке большое влияние приобрела секта сакья-па. Это произошло потому, что овладевшие Тибетом монгольские императоры приблизили к себе тогдашних иерархов секты Пакба-ламу и Сакья-пандита, предоставив им даже светскую власть. После изгнания монголов из Китая в Тибете появился Цзонхава, от которого, как уже говорилось, и пошла «желтошапочная» секта гэлуг-па. Преемники Цзонхавы установили новый догмат о последовательных воплощениях божеств и выдающихся буддийских деятелей в образе людей. Благодаря этому «желтошапочная» секта и приобрела свое влияние. Ведь «великие цари», боги и святые никогда не переводились в ее недрах. Они лишь меняли свое мирское воплощение, не покидая, впрочем, монастырей. Поэтому, когда в Китае утвердилась Маньчжурская династия, во главе светской власти Тибета был поставлен один из главных иерархов желтошапочников - далай-лама, в котором жила неумирающая душа бодхисаттвы Авалокитешвары. Такое положение «желтошапочной» секты гэлуг-па позволило,ей понемногу распространить свой авторитет и на другие секты. Постепенно они даже сблизились с красношапочниками, сохранив лишь немногие из прежних особенностей. По сути разные секты отличаются друг от друга лишь собственным богом-покровителем. Ну и, разумеется, духовенству древнего толка по-прежнему разрешалось жениться. Это не курьезные исторические мелочи. Вплоть до недавнего времени они играли важную политическую роль в судьбах стран Центральной Азии. И продолжают играть теперь, хотя Тибет утратил самостоятельную роль и от былой метрополии осталось лишь одно независимое королевство да несколько номинальных княжеств. Уже в 1912 году духовный и политический глава тогдашней Монголии богдо-геген, несмотря на титул живого бога и высший монашеский ранг, взял в жены женщину княжеского рода, которую объявил своей шакти и воплощенной Белой Тарой. В Улан-Баторе мне показали зимний дворец богдо-гегена. Теперь там музей, филиал Государственного Центрального музея. Когда умер популярный в Монголии Джавзандемба-хутухту, его душу по приказу маньчжурского императора поехали отыскивать в Тибете. Так и попал пятилетний тибетский мальчик в далекую степную страну. В 1911 году, когда Халха-Монголия отделилась от Китая, он провозгласил себя ханом, и Монголия стала государством с теократической системой правления. Как свидетели этих событий у парадных ворот дворца остались два столба: для государственного и религиозного флага. Богдо-геген обещал освободить всю страну от иноземных поработителей с помощью Белой Тары, ставшей его женой. Не прошло и десяти лет, как это сделала народная революция… В горах Покхары, у самого подножия Аннапурны, дарительницы пищи, я видел скромный монастырь секты карма-па, единственными обитателями которого были пожилая супружеская чета с тремя детьми. Укрывшись от мира на невероятной крутизне, они вели простую, непритязательную жизнь обычных непальских крестьян. - Кем он станет? - спросил я, кивнув на четырехлетнего шалуна, гонявшего по пыльному полу холодного, продуваемого ветрами храма консервную банку. - Когда я умру, он займет мое место, - равнодушно ответил отец и вдруг улыбнулся, вытирая руки (мы застали его за рубкой дров) о загрязненную коричневую тогу. - А может, действительно станет хоккеистом? На это можно прожить? Последователи теософов, пропагандисты «эгокультуры» и тарелкоманы, сочинившие нелепый миф о пластинках, на которых записано послание инопланетян, по-прежнему отводят в своих фантасмагориях особое место Тибету. Столь маниакальное упорство не может не вызвать удивления. Почему именно Тибет, а не средневековая Франция, где дьявольские шабаши были обычным делом? Не Германия, чадившая дымом костров, на которых жгли ведьм? Не Испания с ее изощренной инквизицией, составившей полный реестр всяческих волхований? «Тот же Кренэ рассказывает дело, рассматривавшееся в женевском суде, - говорится в книге «История сношений человека с дьяволом», составленной М. А. Орловым (Петербург, 1904 г.). - Судилась какая-то женщина, которая, будучи терзаема угрызениями совести, публично покаялась в том, что она уже давно путешествует на шабаши, во время которых совершала поклонение дьяволу. Дьявол на шабашах принимал вид рыжей лисицы, и звали его в этом виде Моргэ». Я взял этот вполне рядовой случай именно из-за дьявола, представшего в виде лисы. Едва ли несчастную ведьму, которую наверняка приговорили к костру, можно обвинить в прямом заимствовании образов из китайской демонологии. Однако если мы обратимся к соответствующим источникам, то увидим, что лиса-оборотень была излюбленным персонажем китайских, японских, а также тибетских сочинителей. Случайное совпадение? Ничего подобного. Французский путешественник Мишель Пессель, которому в шестидесятых годах удалось посетить удаленные районы Бутана, пишет по этому поводу: «Тибет часто называют «страной духов». Но это в равной мере относится ко всем странам, где господствует религиозное сознание. Такова была и средневековая Европа. Человек, веривший в бога «всеми фибрами души», должен был с такой же убежденностью верить в существование дьявола… Верования людей - это прямой продукт страха. Страха перед богом, голодом, холодом, пожаром и войной. Недаром столько надежд вкладывается в религию. Это вера свободна от всяких сомнений и не задается никакими вопросами. Именно на приятии сверхъестественного как живой реальности зиждется психология средневекового типа. В подобном обществе непререкаемо верят в невероятное, а чудо представляется обыкновенным». В подтверждение могу привести еще одну выдержку. «Высказанная истина относительно гнусности преступлений при колдовстве, - отмечают инквизиторы Инститорис и Шпренгер в «Молоте ведьм», отвратительном памятнике средневекового мракобесия, - должна быть доказана сравнением их с другими деяниями колдунов и кудесников. Имеется 14 видов суеверий согласно троякому роду прорицаний. Первый из них происходит путем явного призыва демонов. Второй - путем молчаливого созерцания положения или движения предметов, как, например, звезд, дней, часов и т. д. Третий - путем созерцания поступков человека для выявления чего-нибудь сокровенного». Согласно этому «рецепту» всех йогов Востока и всех их последователей в странах Запада следовало бы отправить на костер… Впервые каменные глыбы, изукрашенные священными знаками, я увидел в одной высокогорной долине близ лагеря беженцев из Тибета. Они сверкали под жарким солнцем, как исполинские перламутровые раковины. Подойдя ближе, я различил в блеске слюдяных чешуек четкий рисунок. Каждый камень был обработан резцом искусного мастера: заклинания, символы счастья, парные рыбы, слоны и, конечно, заветная шестисложная формула. Вокруг благоухали кедровые леса, наливались молочной спелостью початки маиса, щебетали птицы, звенели ручьи. Но каменный перламутровый холм был похож на надгробье, на древний курган, под которым спит, сжимая в руках копье и уздечку, неведомый богатырь. Выцветшие флаги едва колыхались в ликующем яростно-синем небе, черные хвосты яков бессильно свисали с наклоненных шестов. Место скорби и памяти. Знак траура и надежды… Потом мне довелось увидеть слюдяные камни с четкими тибетскими буквами в самых разных местах: в ламаистском святилище в Сарнатхе и в саду «Тибетского дома» на окраине Дели, в непальских храмах Сваямбху-натх и Боднатх, основанных за триста лет до нашей эры, в пещере отшельника, затерянной в кашмирской дубраве, и в отеле у подножия горы Аннапурны. В каждом камне мерещилось еще одно ненаписанное слово, которым Николай Рерих назвал некогда свое полотно гималайского цикла: «Помни!» Мы живем в двадцатом стремительном веке и не можем верить в память камней. Но если надежда и вера теплятся в человеческих сердцах, то опорой для них могут стать даже камни. Особенно такие, как эти, с опасностью для жизни пронесенные по горным тропинкам. Наверное, было бы разумнее вместо них взять побольше сушеного картофеля или ячменной муки, лишнюю смену белья или многорукого медного божка, за которого богатый турист охотно заплатит твердой - если только осталась такая - валютой. Но эти беженцы, ютящиеся в армейских палатках и сараях, сложенных из валунов, слушались не разума, а сердца. Наследники древнейшей цивилизации, пережившей народ майя, ацтеков и Рим, они следовали смутному зову инстинкта. Забрав с собой камни, которые испокон веков держали в узде заклятий тайные силы гор, они как бы унесли на чужбину власть над землей, где звери и птицы вскормлены телами предков, где, по ламаистским верованиям, души отцов включились в вечный круговорот жизни. Для нашего уха все это звучит непривычно, может быть, дико. Но в Гималаях совсем по-иному воспринимаются явления жизни. Это особый мир, странное смешение реалий нашего времени с грезами отшельников. Омовения в священных водах и ухищрения суперсовременной контрабанды наркотиками, металло-искатели в аэропортах и затерянная тропа в Гималаях, по которой в заплечных корзинах перетаскивается в Китай урановая руда. Таких переносчиков вылавливают с помощью счетчиков Гейгера, но сами они вряд ли знают про лучевую болезнь, проникающую радиацию и нейтроны. Зато те, кто послал их на заведомую гибель, превосходно осведомлены и о тонкостях ядерной физики, и о пестрой путанице местных обычаев и суеверий. Все трезво и холодно взвешено: от атомного полигона в Тибете до заброски диверсионных отрядов в пограничные районы Индии или Бирмы. В цепи маоистской политики попадаются порой странные на первый взгляд звенья. Они кажутсястранными от неведения. Истоки многих «маоцзэдун-идей» глубоко коренятся в практике и идеологии древних китайских императоров. Вот почему смыкаются друг с другом «критика Конфуция» и «критика Линь-бяо», провокации на границах и великохань-ская политика угнетения национальных меньшинств. Волей-неволей приходится обернуться в прошлое, иначе трудно будет понять беглецов, которые, покинув родину, принесли на чужбину ее камни. Не помня уникальной истории тибетского народа, не зная о сложных взаимоотношениях Тибета с Китаем, трудно постичь и всю глубину самоотверженности этих гордых открытых людей. «Связи китайского и тибетского народов, - говорил Четырнадцатый далай-лама, - уходят в более чем тысячелетнюю давность. Но политика угнетения, которую проводили еще в недавнем прошлом императоры Циньской династии и гоминьдановские реакционеры, породила национальную рознь». Старшина одного из лагерей беженцев высказался более определенно: - Китайцы попрали все обещания, данные тибетцам. Они стали выселять мужчин в отдаленные районы, а девушек насильно отдавали замуж за солдат. Мы были вынуждены уйти, чтобы остаться самими собой. Нетрудно установить связь между двумя этими высказываниями, соединить прошлое с настоящим. Безнадежная горечь памяти и безотрадная действительность, которую принесли маоисты, заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома, искать приюта у соседей, издавна связанных с Тибетом культурной, точнее, религиозной общностью, поскольку ламаистская культура, ламаистское искусство неотрывны от миросозерцания. Вообще религия в Гималаях, по сути, определяет весь образ жизни человека и ее распорядок, равно затрагивая сознание и быт, этику и человеческие взаимоотношения. Некогда тибетские племена составляли единое самостоятельное государство. Но к началу нашего века большая часть тибетских земель подпала под власть китайских императоров, а окраинные территории отошли к Бутану, Ладакху, Непалу, Сиккиму И Бирме. Медленно и постепенно, верные своей традиционной политике, китайские императоры прибирали Тибет к рукам. Почти незаметно для самих тибетцев светская власть стала переходить к наместникам пограничных провинций Китая. Многомиллионное государство неторопливо всасывало в себя страну вечных снегов. Для того чтобы наблюдать за землями, примыкающими к индийской границе, китайцы направили в Лхасу постоянного представителя - амбаня. Потом началось наступление на суверенитет далай-лам. Зная местные особенности, амбани даже не покушались на религиозный авторитет верховного ламы. Напротив, святость и непогрешимость его всячески подчеркивались. Зато действительное участие в управлении страной далай-лама постепенно утратил. Все входящие в состав Китая тибетские земли оказались раздробленными на почти независимые друг от друга феодальные владения, так или иначе подчиненные Пекину. После английского вторжения 1904 года Тибет почти полстолетия находился под «влиянием» Лондона. И хотя войска вскоре были выведены из страны, британская миссия в Лхасе продолжала оказывать давление на тибетскую администрацию, которое подкреплялось внушительным числом батальонов на индийской границе. Тибет оставался практически закрытым для мира. «Небожители» продолжали существовать как бы вне течения мирового времени. Три тысячи монастырей, в которых проживала четвертая часть всего населения, оставались форпостами изоляции и консерватизма. Границы продолжали охраняться столь же ревниво, как при китайцах. Страну бережно оберегали от проникновения современных идей, поскольку именно они разрушают патриархальные системы. Не подстегиваемая никакими событиями, она, казалось, безнадежно застыла в остановившемся потоке времени. До 1950 года там не было ни светских школ, ни современных книг, ни газет. Во время второй мировой войны англичане попытались было открыть колледж, но его быстро закрыли монахи. Только британский гимн «Боже, храни королеву!», английскую муштру, пулеметы системы «брен» и автоматы «стен» заимствовали тибетские правители у Европы. Да еще американцы подарили далай-ламе радиостанцию. После создания в октябре 1949 года Китайской Народной Республики для «британского влияния» начались первые осложнения. Немногочисленные, но очень активные английские агенты сделали все для того, чтобы организовать сопротивление местного населения китайской армии, которая в 1951 году вступила в Лхасу. С 1951 по 1959 год власть в Тибете, превратившемся в национальный автономный район КНР, совместно осуществляли центральное правительство и главы ламаистской церкви - далай-лама и панчен-лама. В 1959 году в Лхасе вспыхнуло восстание, и далай-лама бежал в Индию. Играя на исконных противоречиях между китайцами и тибетцами, между далай-ламой и панчен-ламой, империалистическая агентура стремилась обострить обстановку в «сердце» Азии. В среде реакционного духовенства и феодалов не раз вспыхивали мятежи против новой администрации, составлялись различного рода петиции об отделении и так далее. Все это, однако, пока не получало широкой поддержки местного населения, поскольку соглашение от 1951 года, предусматривающее тибетскую автономию, формально учитывало традиции и социально-экономические особенности древней страны. В этом соглашении прямо говорилось о том, что центральные власти не будут изменять политическую систему Тибета и с уважением отнесутся к религиозным верованиям и обычаям тибетцев. Однако, по мере того как группа Мао навязывала партии свою линию, шовинистические тенденции неизменно усиливались. На первых порах китайское присутствие почти не ощущалось в стране. Только в Лхасе, где по-прежнему пышно справлялись ламаистские праздники, стала проводиться медленная замена местной администрации эмиссарами из Пекина. Традиция амбаней вылилась в новые формы. Началась прокладка стратегических дорог, повсюду создавались коммуны с обязательной выплавкой железа в допотопных горшках. Особенно удивительным показался тибетцам такой перл «большого скачка», как поголовное уничтожение воробьев. Это было прямым нарушением заветов Будды. Потом стали закрываться монастыри, что тоже затронуло каждую, без исключения, семью. Наконец, под предлогом повышения культурного уровня 15 тысяч детей насильственно вывезли во внутренние районы Китая. Тогда восстало все население в районах Амдо и Кама. Завязалась настоящая партизанская война. Лишь ценой кровопролитных боев с применением авиации и танков китайцам удалось подавить сопротивление тибетцев. Фактически эта упорная, но оставшаяся почти неизвестной битва закончилась только в 1974 году. В своей книге «Всадники Кама» Мишель Пессель пишет: «Будучи, по нашим понятиям, людьми совершенно несведущими в политике, руководители кхампа (так зовут себя жители Кама), оказывается, читали и переводили Карла Маркса и Сунь Ятсена. Они с трудом сдерживались при виде злоупотреблений со стороны религиозных властей и презирали коррумпированную, лебезящую перед китайцами дворцовую камарилью далай-ламы. Кхампа подняли восстание не против коммунистической идеологии, а против пекинских эмиссаров и коллаборационистов». Если добавить к этому, что за всю свою историю Кам не покорялся ни одному иностранному завоевателю, то становится понятным, почему китайцы были вынуждены держать в Тибете трехсоттысячную армию. Пресловутая «культурная революция» до крайности обострила положение. Взрыв произошел в тот момент, когда начались столкновения между армией, осуществлявшей всю полноту власти, и прибывшими из Пекина отрядами хунвэйбинов. «Мы с изумлением смотрели на невиданное зрелище: китайцы убивали китайцев, - рассказал впоследствии один из беженцев. - Но солдаты взяли верх. Они устроили настоящую бойню». Победили, впрочем, не солдаты. После инцидента командующий китайской армией в Лхасе был отозван в Пекин, и хунвэйбины, решив, что «маоцзэдун-идеи» одержали решительную победу, учинили в городе безобразный погром. Они крушили алтари, ломали древние статуи, жгли священные тексты, написанные сотни лет назад на листьях пальмы или гималайского дуба. С прохожих прямо на улице срывались национальные одежды. Особым постановлением «штаба» населению было вменено в обязанность нарядиться в синие тужурки. Именно тогда стала повсеместной война, которая, то вспыхивая, то затухая, велась уже свыше десяти лет. К восставшим кхампа присоединились даже те, кто все это время держался в стороне. Гнев гордого, свободолюбивого народа хлынул через край. Ныне занавес молчания наглухо опустился над покоренной силой оружия, но не смирившейся высокогорной страной. Беженцы говорят о нападениях на обозы, о перестрелках на перевалах, о комендантском часе, который вводится в мятежных селениях. Какими путями достигают эти сведения отдаленных уголков Гималаев? Никто не знает. Тибетцы, оставившие на родине родственников, не хотят называть свои имена, опасаясь мести китайцев. И это понятно. Вести никогда не летят только в одном направлении. Исход из Тибета можно разделить на три стадии. Массовым он сделался в 60-х годах, когда из Китая были переселены тысячи колонистов. Местные крестьяне, не понимая скоропалительных нововведений, вынуждены были оставить свои поля. Год спустя страна, которая всегда обеспечивала себя продуктами питания, впервые испытала ужасы всеобщего голода. Это была вторая стадия, самая страшная. Волна за волной уходили крестьяне по заповедным надоблачным тропам. После подавления Кама в лагеря беженцев стали прибывать обросшие, измученные мужчины в изодранной защитной униформе без знаков различия и эмблем. Привыкнув к снегам и разреженному воздуху высокогорья, они болели и задыхались в горячих и влажных низинах. Таков был наполненный молчаливым гневом финал. «Красный Крест постарался забыть о нашем существовании, - говорят они. - С тех пор как западные дипломаты зачастили в Пекин, мы перестали получать даже медикаменты. Китай протестует, когда нас называют беженцами. Мы никто». Высоко в горах, где под сенью кедров дремлют вещие, забрызганные разноцветными пятнами лишайника валуны, стоит хижина лесорубов. Розоватая смолистая плоть деревьев, плетень из сухих корневищ, закопченный очаг и тлеющая перед образком Будды курительная палочка. Лесорубы все еще в хаки, но на месте прожженных дыр светлеют аккуратные заплаты. У одного из них щека покрыта пороховой синью и нервно подергивается веко. - Мы воевали не с идеологией, и мы не националисты, - сказал он, когда мы выпили по чашке чаю с солью и ячменной мукой. - Только в военном лагере я впервые увидел, какой флаг был у независимого Тибета. - Мы взялись за оружие, когда нас буквально схватили за горло, - вступил в разговор его напарник. - Мы молчали, когда у нас забирали зерно и шерсть. Мы молчали, когда нас сгоняли с земель, где открыли уран и нефть. Но когда у меня отняли сына, я больше не захотел терпеть. - Мы воевали не за желтую веру, - продолжил прерванную мысль первый кхампа. - Это потом я приколол кокарду далай-ламы. Религиозную войну вел с нами Мао. Унизив тибетцев, он надеялся прибрать к рукам миллионы китайских буддистов. Но из этого ничего не получилось. Китайцы жалуются, что понадобится сто лет, чтобы перевоспитать тибетцев. Они все еще недооценивают нас. Из газет я знал, что вождь кхампа Уанг-ди убит, а их боевые отряды распущены. Безоружные, они спустились с гор и ушли на юг, в Индию, а оттуда часть двинулась в другие районы Гималаев. - Трудно вам было приспособиться к новой жизни? Овладеть профессией? - спросил я, благодарно перевернув чашку вверх дном. - Все и всегда доставалось нам с трудом, - горько улыбнулся лесоруб с запорошенным синью лицом. - Но пока есть надежда, есть и человек. - Он раскрыл висевшее на шее медное гау и вынул оттуда бесформенный камешек, который хранил вместо образка. В последних лучах солнца он сверкнул нестерпимо и ярко, словно расплавленный металл. Казалось, этот обломок скалы насквозь прожжет ладонь.
СПЯЩЕЕ БОЖЕСТВО
Грусть мудрых мыслей о добре Освобождает от оков. Так тает в лунном серебре Холодный пепел облаков. Дхаммапада.
Сбывается долгожданное… Я парю над вращающейся землей. То ли радужные крылья сновидений возносят меня в гималайское небо, то ли излюбленная фантастами машина времени ворвалась в иную эпоху, в иную индуистскую калпу, которая неумолимо следует за уничтожением очередного мирового периода. Что сон и что явь? Где жаркий июньский день 1974 года? Куда он провалился? Помните у Пастернака: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Впрочем, я знаю какое. На дворе год Синего Зайца по календарю гималайских вершин. Или год 2034 эры Бикрама согласно официальному летосчислению королевства Непал, или 2518 год буддизма. Еще совсем чуть-чуть, и я проскользну в эти недоступные временные заводи. То ли в ту, то ли в другую, если только они не перетекают друг в друга, как сообщающиеся сосуды или как сны, над которыми не властны законы причинности. Мне еще только предстоит приблизиться к белым воротам, украшенным масками в уборе из черепов. К настоящим, всамделишным воротам королевства. Вначале, как и положено, будет аэропорт. Небольшой, но вполне современный эртерминал «Трибхувана», расположенный на скромной для здешних масштабов высоте в 1460 метров. Комфортабельный «Боинг» еще только делает заход на посадку, а я уже ловлю себя на том, что испытываю чувство блаженного облегчения. После Индии, где термометр подскакивал под плюс 47, после выжженных желтых равнин и глинистой пудры, летящей по ветру, зеленые влажные склоны просто ласкают взгляд. Набрякшие, крутого замеса облака - муссонный период - сулят отдохновение. Земля внизу кажется прохладной и влажной. И главное, она в тени! Она надежно защищена от тиранящего солнца. Как дымилось оно в белом, словно карбидном, тумане над истерзанным Варанаси. Страшно вспомнить. И подумать страшно, что мы вновь пролетели над этим местом юдоли и скорби. Из Варанаси в Дели, из Дели в Катманду с посадкой в Варанаси. Словно и впрямь совершает оборот за оборотом колесо дхарм. Какая из двенадцати нидан этой всемирной рулетки замерла у Варанаси? Я всегда буду ощущать запах погребальных костров на берегу Ганги. Здесь ни-дана скорби, нидана конца, хотя и нет конца у колеса дхарм, как нет и начала. Лишнее напоминание, что Непал, который начинается для меня с аэропорта, все, еще живет по своему особому календарю и rio законам, которые у нас в Москве изучают историки. Полет во времени и пространстве. Привычный набор реалий: визы, автострады, самолеты, гостиницы, бензоколонки, коктейли и т. д. и т. п. - наложен на исторический слепок. Это единство органично, но оно и противоречиво, как противоречиво и двойственно изначально всякое явление на нашей земле. И об этом нельзя забывать ни на минуту, иначе никогда не поймешь неповторимую душу страны, шагнувшей в XX век из горного плена. Я вижу или увижу вскоре бамбуковый мост над ущельем, по которому идет женщина с корзиной за спиной. Босые ноги чутко ловят малейшие колебания шатких соломин, связанных то ли ротангом, то ли какой другой лианой. Груз тяжел, и широкая лямка корзины плотно давит на лоб, словно тянет назад. Бог знает, что ждет ее там, впереди, какие дали раскроются. А за спиной - все ее, тысячелетнее, надежное, испытанное. Она росла и детей растила по законам предков, она возжигала благовонные палочки на древних алтарях, добро и зло предстают перед ней запечатленными в исконных формах. Пусть светит ей из долины электрический свет, пусть знакомый шофер подбросит ее до базара на видавшем виды лендровере, а сын, уехавший учиться в чужую страну, пришлет весточку с портретом по фототелеграфу. Что из того? Это просто жизнь, которая всегда и везде идет вперед. Она не касается вечных вопросов. Тех мучительных и высоких истин, которые не дают покоя мятущимся сердцам. Женщина, которую я вижу, не более счастлива и не более несчастна, чем миллионы ее сестер. В чем-то она беднее, в чем-то, быть может, богаче. Во всяком случае, у нее есть готовые ответы на мучительные вопросы бытия. В касте и ведах, если она индуистка, в четырех высоких истинах, если идет «восьмеричным путем». Вот и все, что может узнать о ее внутреннем мире посторонний. Да и как говорить ему с нею? Языком шастр и джатак, абстрагируясь от всех сложностей и бурных перемен мира? Но это ее язык, и ничего нового она для себя не узнает. Можно говорить о чем угодно и с кем угодно на языке знания, но лишь с единоверцем можно беседовать на языке веры. И я задумываюсь о ключе. Еслцщелая страна, ведущая к тому же активную внешнюю политику, может руководствоваться во многих областях внутренней жизни ведическими законами, сочетая требования современности с заветом тысячелетий, то приблизиться к духу ее можно, так сказать, таким же синтетическим образом. Для этого прежде всего необходимо понять главные нужды, первоочередные ожидания и попробовать осмыслить, как они сочетаются с исконной традицией. Где вступают с ней в острый конфликт, где взаимодополняются или приспосабливаются друг к другу. Только так и можно восстановить связь времен. Я вижу здоровенных американских парней - возможно, из «корпуса мира», - бредущих босиком по базару в желтых одеяниях буддийских монахов. Это либо щекочущая нервы игра, затянувшаяся на несколько месяцев, либо способ познания прошлого. Способ активный, но все-таки направленный против стрелы времени, если следовать терминологии физика Эддингтона. Для плодотворного и взаимообогащающего диалога гостю стоит чутко прислушиваться к смутному лепету истории. Как можно больше узнать о том, что для нас далекое вчера, а для собеседника - и сегодня, и, возможно, даже ближайшее завтра. «На священной горе Кайлас, среди вечных снегов, отдыхает от забот и треволнений мира великий бог Шива - покровитель Непала». В этой фразе, которую я почерпнул из одной средневековой рукописи, запечатлена неразделимая триада, без которой не обходится ни одно описание Гималаев: горы, божество и Непал - жемчужина в ледяной короне, живое и вечно прекрасное сердце величайшей из каменных твердынь планеты. Эта удивительная страна снискала странную славу «мировой загадки». Еще каких-нибудь лет тридцать назад Белые ворота Катманду были закрыты для чужеземцев. Достаточно сказать, что вплоть до 1951 года взглянуть на Непал посчастливилось считанному числу иностранцев. Специалисты считают, что таких счастливцев было всего пятьдесят. И это за две с лишним тысячи лет истории! Протянувшись восьмисоткилометровой лентой вдоль южного склона Гималаев, загадочное королевство грезило в вековом оцепенении меж Индией и Китаем. Далекое от остального мира, недоступное, исполненное скрытой духовной силы. Санскритское слово «Непала» означает буквально Жилище у подножия гор. И по сей день оно живет по своему особому времени. Окруженная ледяной короной величайших восьмитысячников мира, эта удивительная гималайская страна ведет счет времени сразу по трем календарям - официальному индуистскому, китайскому (высоко в горах) и грегорианскому. Здесь почитают индуистских богов, учителей ортодоксального буддизма и ламаистских волшебников, но не совсем так, как в Индии или Тибете. Непал - это Непал. Его знамя - два острых треугольника - напоминает о горных вершинах. В его гербе Джомолунгма, луна и солнце, символизирующие индо-буддийский космос, вселенную, замкнутую в кольце гор. Эта сложнейшая из эмблем, кажется, включает в себя все мироздание, священную реку с божественной коровой и птицей по берегам, королевскую шапочку, широкий нож-кукри, храброго гуркха с карабином и горца с копьем. Ее сердце - древняя долина Катманду - хранит почти неизвестные миру памятники величайшего искусства народов, которые вот уже третью тысячу лет населяют эту благодатную землю, небо над которой не знало дыма заводских труб. Я хочу начать свой рассказ со встречи - иначе не скажешь - с рукотворным чудом, воплотившим в себе древние представления о времени и духе Гималаев. Столица королевства получила название от древней пагоды Кастамандал, построенной из одного ствола гигантского кедра. Ныне в самом центре Катманду посреди площади Ха-нумандхока стоит грубая базальтовая стела, на которой высечен рельеф страшного шести-рукого божества, увенчанного короной и перевязью из черепов. Потрясая мечом и трезубцем, он пляшет на слоноголовом Ганнопатхи и прихлебывает из черепа-чаши дымящуюся кровь. Недаром губы и подбородок черно-синего гиганта всегда окрашены ярким кармином. Индуисты чтут эту ипостась разрушителя Шивы под именем Кала Бхайрава, что означает ужасное, всепожирающее время. Буддисты поклоняются ему, как юдаму Ма-хакале, то есть Великому времени. Еще живы старики, которые хранят память о человеческих жертвах, приносимых ужасному демону в черные дни стихийных бедствий и опустошительных эпидемий. Ведь пока Шива-Бхайрава пляшет на трупе Ганнопатхи - собственного сына Ганеши, время как бы замедляет свой бег и перестает перемалывать жизни. Здесь очень сложная и глубокая символика, передать которую можно лишь в объемистом научном исследовании. Даже не все ламы высшего посвящения разбираются в ней, а тем более простые непальцы. Им вполне достаточно знать, что время в стране, охраняемой

Кала Бхайрава
Махакалой, течет не столь разрушительно, как везде. В известном смысле это соответствует истине. Особенно если учесть, что вселенская проблема охраны окружающей среды пока еще не слишком актуальна для Гималаев. Впрочем, любая истина двойственна, диалектична. Это понимали еще древние составители вед и пуран, это проповедовали великие гуру и риши. Шиве - разрушающему началу - противостоит, одновременно дополняя его, созидающий Вишну-Брахма. Один пожирает время, другой ткет его. Дорога на Джомолунгму, по которой год за годом бредут паломники от альпинизма, уподобилась ныне захламленному пустырю, столь характерному для городского пейзажа индустриального Запада. Право, есть мудрый смысл в древнем постановлении непальского правительства, объявившего некоторые особо священные горы закрытыми для восхождения. У подножия Джомолунгмы создается сейчас заповедник для диких животных, исчезающих под натиском человека. Сюда уже завезены тигры, слоны, медведи, носороги и крокодилы. В десяти километрах к северу от Катманду покоится спящее божество - Бутханилакант-ха. В храмовом бассейне, наполненном ледниковой водой, вечным сном спит на ложе из переплетенных змей каменный колосс, изображающий бога Нараяну - инкарнацию (воплощение) созидателя Вишну. Еще совсем недавно львиные ворота храма были открыты только для индуистов. Ныне видеть божественный лик юного Нараяны возбраняется лишь одному человеку на земле - непальскому королю, ибо он тоже считается инкарнацией Вишну. Грезящий на водах гигант издавна олицетворял дух гималайского королевства, созерцательный, невозмутимый, высокий. Отрезанный от остального мира высочайшей цепью хребтов, «закрытый Непал» веками сохранял древние феодальные обычаи. Неизменный, как Гималаи. Вечно грезящий, как Нараяна. Остановивший время, как Ма-хакала. Его базальтовые гиганты оберегали не столько тайны потустороннего мира, сколько переживший себя, одряхлевший уклад жизни.

Будханила-кантха
Но возвращусь в храм под открытым небом, где видит сны тысячелетний Нараяна. Я провел там целый день, наблюдая за тем, как брахманы в белых одеждах отверзают очи божеству, раскрашивая их краской, омывают его прекрасный лик, ярким кармином оттеняют губы. Статую одевают гирляндами цветов, фиолетовых, алых и конечно же белых с желтой серединкой, которые всегда растут перед пагодами. Их запах, чуть горьковатый и как будто прохладный, навевает приятные сны. Я следил за тем, как кормят гиганта шафрановым рисом из разукрашенного цветами и фруктами блюда, как поят его молоком под звон колокольчиков и сандаловый дым кадильницы, которой размахивал юный служка. Но неподвижны были чуть раздвинутые в дремотной улыбке губы, и белая струйка молока, четко видимая на черном камне, стекала в воду из уголка сомкнутых губ. Сотни голубей кружились над местом трапезы, склевывая дымящиеся зерна, тритоны и лягушки сплывались на привычное пиршество. Только нищие смиренно дожидались в сторонке, когда настанет их черед доесть остатки с божьего стола. Старый ведический жрец с тикой высшей касты над переносицей и шнуром на плече первым, после Нараяны разумеется, поднес горсточку риса ко рту. Потом угостил меня. Из чистой вежливости, потому что неиндуис-та все равно не коснется благо причастия. В отличие от всех мировых религий, стать ин-дуистом, так сказать, принять индуизм нельзя. Индуистом можно только родиться. Под сенью Гималаев, в лоне семьи и касты. Я поблагодарил гуру и сказал, что понимаю, какую честь он мне оказывает. В Индии такое было бы немыслимо. Не потому, что индийцы менее гостеприимны. Просто индийские брахманы более строго относятся к закону, который предписывает, в частности, не осквернять еду прикосновением к человеку низшей касты. Тем паче к внекастовому существу. - Не беда, - непальский священнослужитель понял намек с полуслова. - Надеюсь, ваша карма теперь улучшится и в следующем воплощении вы родитесь здесь, у нас. Слова жреца были продиктованы традиционной непальской терпимостью и безусловным влиянием буддистов, отрицающих всякую кастовость. Как и многие другие святыни Непала, Бутханилакантха почитается не только адептами Шивы и Вишну, но и буддистами. Благо доктрина воплощений позволяет творить любые генеалогические чудеса. В недрах некоторых сект Будду, например, считают земным воплощением Вишну, равно как и непальских королей Шах Дева. Вообще Будханилакантха - синтетическое божество разных верований, представляет интереснейший объект исследований для этнографа… О нем можно написать интереснейшую монографию. Удивительно, что никто до сих пор не предпринял такой попытки. У старинного тибетского географа Миньчжул Хутукты (правильнее, очевидно, Хутухту, т. е. перерожденец) я нашел прелюбопытное описание подобного памятника. «Неподалеку от лежащего по дороге из Чжеронга в Непал города Наякота есть место в ложбине горы, называемое Гованаста; тут, посреди потока, подобного морю, есть нерукотворный каменный кумир, имеющий фигуру человека, у которого лицо закрыто желто-красным шарфом; он лежит навзничь, и из волос его высовываются девять змеиных голов. Хотя это и есть весьма священный кумир святого, великого милосердца Голубогорлого… много индийских и непальских буддистов неблагоговейны к этому кумиру и в особенности же тибетцы, называющие его опрокинутым навзничь драконом или драконом-живодером. Глупое это название происходит оттого, что этот кумир по-индийски называется Нилакантха, а тибетцы знают, что слово «Нила» значит дракон, а «канта» - лежащий навзничь». «Нилакантха» действительно означает «Си-негорлый». Но любопытнее всего, что относится этот странный эпитет не к Вишну и не к его воплощению Нараяне, а к Шиве. Именно гималайский хозяин Шива выпил, спасая мир, смертельный яд, отчего его горло стало синим, как горный лазурит. Но таков уж он, этот текучий эфир небожителей, что одно перетекает в другое, рождая причудливейшие сочетания, создавая невероятные инверсии. Я уже говорил, что в пещерах Элефанты видел трехликого гиганта, воплотившего в себе черты главной триады: Брахмы, Вишну и Шивы. В пещерном храме близ столицы Малайзии Куала-Лампура мне показали редкое изображение Шивы - гермафродита: одна половина тела была подчеркнуто мужской, другая - преувеличенно женской. Элемент подобной идеи несет и образ Натараджа - самое известное из шиваистских изображений, где грозный разрушитель представлен в образе четырехрукого повелителя танца. И все же, несмотря на невероятное для рационального европейского ума смешение мифических образов, Бутханилакантха являет собой именно миросоздателя Вишну, покоящегося в кольцах Змея Вечности Ананты, или Шеши, посреди океанских вод. Отсюда бассейн и непременный вишнуистский атрибут - раковина, которую пятиметровый исполин держит в левой руке. Эту раковину мы встретим даже в самой бедной ламаистской кумирне от Монголии до Бутана, в любом индуистском храме увидим ее на алтаре. В сложной символике Гималаев раковина дун-гар - один из символов счастья. В ламаистском оркестре - главный инструмент. С хриплого, устрашающего рева белых раковин, оправленных в серебро, начинается утро в дзонгах Бутана, крепостях затерянного в горах Мустанга, в монастырях шерпских деревень, на узких улочках Патана или обветшавшего Леха. Это голос Гималаев, непередаваемый хрип, треск и хохочущий рев движущихся ледников. Одну такую раковину, изукрашенную резным узором лотоса, я купил в пестрой лавочке на бомбейской Марин-драйв. У меня едва хватает запаса воздуха в легких, чтобы пробудить в ней надрывное, пугающее эхо горных долин. Я где-то читал, что у древних майя был обычай нюхать сильно пахучее вещество в минуты важных событий жизни. Потом, даже через много лет, стоило им поднести к носу заветный флакон, как в памяти тут же оживала во всех ярчайших подробностях картина былой славы ли, скорби ли - не знаю. Вспоминая Гималаи, я любуюсь неповторимыми танка, выполненными минеральными красками на тончайшем полотне, раскрашенной маской Бхайравы, изящным Манджушри, отлитым некогда в Патане из уникальной непальской бронзы, дающей патину холодную и серебристую, как лунный свет. Перед мысленным взором проплывают города, дома, улицы, пестрая сутолока базаров, разноцветные флаги, стерегущие силы земли. Но если мне хочется увидеть со всей возможной для памяти яркостью белизну вершин и пронзительную фиолетовость неба, услышать шорох горного шифера, вдохнуть дым костра, в котором тлеют аргал и можжевельник, я беру в руки раковину. И пытаюсь трубить. Иногда это удается. Жрец Синегорлого помог мне сосчитать головы кобр: их оказалось десять. - Теперь я покажу вам одиннадцатую змею, - сказал он, увлекая меня за собой. Пройдя меж львов, охраняющих вход, мы спустились по лестнице за пределы святилища. Под каменной стеной был темный провал, где среди сплетения древесных корней угадывались каменные кольца. - Эта змея встала перед королем из династии Малла, когда тот хотел взглянуть на спящего Нараяну, и не пустила его. Ведь он сам воплощение бога и не должен видеть себя со стороны. Мне хотелось узнать почему, но я удержался от вопроса. Да и вряд ли мой необычный гид сумел бы дать вразумительный ответ. Только в научной фантастике допустима ситуация, когда путешественник в прошлое лицом к лицу сталкивается со своим двойником. Более молодым, естественно. Юное прошлое, как правило, тут же начинает одолевать расспросами пожилое будущее: что-де там у вас и как? Каменная змея, видимо, учла неловкость подобной ситуации и воспрепятствовала. В королевском ботаническом саду на окраине столицы есть еще один бассейн с Нараяной на Змее. Более скромных масштабов. В нем плавают великолепные радужные карпы, сине-зеленые, фиолетовые с желтизной, кроваво-черные. Детвора с увлечением кормит их печеной кукурузой. Король изредка тоже прогуливается по тенистым аллеям. Лицезреть копию ему не возбраняется. А по ночам в сад спускаются из горных джунглей леопарды. Когда мне сказали об этом, я сперва не поверил. Но сторож открыл сарай и поднял брезент. На земле, уже вонючей от застывшей крови, лежали два великолепных зверя, запрокинув усатые, мертво оскаленные морды. В прищуренных глазах поблескивала холодная фарфоровая белизна. Жуки ползали в нежном подшерстке горла. - Утром убили, - сообщил сторож. - Приходили воду из бассейна лакать. Я не спросил зачем. В Сринагаре, в магазине мехов, я видел тщательно выделанные тигровые шкуры. Ярлыки на них были со многими нулями. Можно было купить и одну голову, чтобы повесить на стенку. Даже отдельный ус - как лекарство. Или коготь на амулет. Оправленный в золото коготь тигра на декольтированной даме и «красные» книги исчезающей фауны! Вишну спал и не мог защитить прекраснейших из детей своих. Уже в Москве я узнал из книг, что базальтовый колосс изваян в VI - VII веках. Циклопической лестницей устремился Непал с заболоченных жарких низин тераев к разреженным высотам, где сверкают под жестоким рентгеновским солнцем вечные льды. Путь в горы - это беспримерное восхождение от тропических джунглей к арктическим пустыням. Пролеты высочайшей из лестниц мира. Каменные ступени ее были свидетелями переселений народов, смешения языков и религий, расцвета и заката цивилизаций. Здесь пересекались караванные тропы, здесь с незапамятных времен мудрецы и поэты искали вечные истины. В Непале, в садах Лумбини, родился Гаутама, учение которого распространилось потом по всей Азии. На берегу непальской реки Гандак поэт Вальмики творил бессмертную «Рамаяну». В пещере «Коровья морда», откуда берет начало священная. Ганга, отшельник Капила проповедовал четыре «высокие истины» Гаутамы, несущие живым существам избавление от страданий. По тропам Непала прошли чтимые в Гималаях Пад-масамбава, Адиша и Миларайпа.

Древняя пагода в Непале
С той поистине легендарной поры в Непале высоко чтут звания философа и поэта. Многие непальские короли обогатили культуру своей страны нравоучительными трактатами, песнями, изящными стихами. Тонким лирическим поэтом был покойный ныне король Махендра. Его стихи неоднократно переводились в нашей стране и хорошо знакомы всем любителям непальского искусства. Таким образом, принадлежность к литературному миру во многом облегчила мне постижение уникальной гималайской страны. Традиционное уважение непальцев к писательскому ремеслу явилось магическим сезамом, открывшим передо мной такие двери, в которые я и не надеялся достучаться.

Святилище грозной Кали
Судьба Непала сложилась счастливо и во многом представляет собой уникальное явление в мировой истории. Непальцы, в частности, никогда не знали религиозных войн. На языке непали, равно как и на древнем неварском, не существует даже такого понятия. В долине Катманду бок о бок мирно уживались самые разные секты и философские учения. По подсчетам историков, общее количество убитых в междоусобицах, которые вели непальские княжества, не превышало тысячи человек. И это в стране, где высятся ступы, воздвигнутые индийским царем Ашо-кой еще в III веке до нашей эры! Тысяча погибших за две тысячи лет! А ведь Непал - родина гуркхов, бесстрашных солдат, проявивших свое мужество в двух мировых войнах. Миролюбие неваров, населявших долину Катманду, приводило в изумление европейских путешественников. Дезидери, один из немногих счастливцев, побывавших в Непале в XVIII - XIX веках, оставил нам прелюбопытное описание неварских баталий: «То ли из сострадания ко всем живым существам, то ли из трусости они ведут себя на войне крайне смешным и невероятным образом. Когда встречаются две армии, они начинают поносить друг друга всякими словами. После нескольких выстрелов, если никто не ранен, войско, подвергшееся нападению, возвращается в крепость, которых здесь много… Однако, если кто-либо убит или ранен, пострадавшая армия просит мира и посылает к противнику растрепанную полураздетую женщину, которая плачет, бьет себя в грудь, просит пощады и умоляет прекратить резню и кровопролитие. После этого армия-победительница диктует условия побежденным, и война заканчивается». Так и видится в этих словах пренебрежительная «усмешка «просвещенного» европейского дипломата, для которого калибр и убойная сила орудия едва ли не главный критерий цивилизации. Ценности, взращенные в долине Катманду, нелепо взвешивать на весах, где гирями служат пушечные ядра. Учение Гау-тамы и антивоенные эдикты Ашоки, словно легирующие добавки, растворились в расплаве культур, языков, религий и рас. Они придали блеск и твердость сплаву - уникальному творению Гималаев, которое с честью может выдержать сравнение с любой из великих цивилизаций земли. Свободолюбие и гордость непальцев проявлялись не в междоусобицах. Когда дело касалось независимости родины, права непальцев на собственный образ жизни, они умели постоять за себя. Достаточно сказать, что Великобритании, несмотря на все усилия, не удалось установить в Непале колониальный режим. Если еще каких-нибудь три десятилетия назад Непал считался «мировой загадкой», «государством-отшельником» хотя бы по той простой причине, что не пропускал иностранцев через границу, то теперь непальские представительства открыты в столицах 56 государств. В 1955 году Непал стал членом ООН, а 20 июля 1956 года установил дипломатические отношения с СССР. Между нашими странами заключен ряд договоров об экономическом, культурном и торговом сотрудничестве. Непал принимал активное участие в международных конференциях неприсоединившихся стран. Его представители участвовали в работе Всемирного конгресса миролюбивых сил, который проходил в 1973 году в Москве. Столь радикальный отход от многовекового изоляционизма не мог не сказаться самым существенным образом и на внутренней жизни. В 60-х годах был принят закон об аграрной реформе, намечена обширная экономическая программа, в которой главный упор делается на развитие транспорта, энергетики, ирригационной системы. В исторически короткие сроки непальцам удалось достигнуть некоторых успехов в различных областях хозяйственной деятельности, но внешний облик затерянного среди гор, изолированного от мира королевства почти не изменился. По-прежнему Непал остается аграрной страной, в экономике которой преобладают феодальные отношения. Достаточно пройтись по узким улочкам Патана или Бхадгаона, где нечистоты выплескиваются прямо из окон и по каменным желобам стекают в застойную лужу на окраине, чтобы ощутить себя в средневековье. Разве не таковы были Париж времен трех мушкетеров, Москва при Василии Шуйском? Но приметы нови можно увидеть повсюду. В том же Патане проводят электричество, эксперты ЮНЕСКО руководят работами по реставрации дворцов и многоярусных пагод, а в небе со свистом проносятся реактивные лайнеры. Традиции и современность замыкаются здесь в кольце, подобно тому как неразличимо переходят друг в друга следствия и причины в колесе сансары. Не случайно же эмблемой королевских авиалиний выбрана маска красного Бхайравы. Ужасный обликом охранитель пожирает ныне пространство и время на высоте нескольких тысяч метров, вполне соизмеримой, однако, с гималайской короной. Но рождается и другая символика, может быть и не нашедшая еще графического воплощения, но достаточно убедительная. Приятно было сознавать, что в электрической лампочке, озарившей средневековые города долины Катманду, метались электроны, рожденные в генераторах, привезенных из СССР. Позолоченные, многоглавые лики бесстрастно сверкали в ее непривычно резком отчетливом свете. Гималайские боги не протестовали. Все так же летел над площадью крылатый Гару-да - победитель змей, загадочно улыбался Вишну под балдахином девятиглавой кобры, покровитель знания Манджушри замахивался на силы тьмы и невежества. Трудно забыть игру электрических отсветов на позолоте пылающего меча. Я зажег перед Манджушри курительную палочку из благовонного сандала. Ведь электрификация должна проходить именно по его ведомству. Другую палочку я поставил на алтарь Ганеши, покровителя писателей, слонов и купцов. Кого-кого, а божественного патрона здесь может отыскать себе каждый. Индуистский пантеон, наверное, самый обширный. Он щедро снабжает даже буддизм, который изначально вообще отрицал богов. Тем паче, что непальские индуисты и буддисты в основном принадлежат к тантрической школе, почитающей ведических небожителей, женскую энергию, духов и демонов. Странно, конечно, в последней четверти XX века говорить о богах, магах и прочих трансцендентальных материях. Но религия в этой стране - нечто большее, чем просто вера в предвечных распорядителей судеб. Она, по сути, определяет весь образ жизни непальцев, равно затрагивает их духовную культуру и быт, этику и взаимоотношения, зачастую предопределяет те или иные поступки. Неудивительно, что еще английские путешественники, первыми проникшие в недоступное королевство, поражались обилию здешних храмов, которых не меньше, чем домов, и «идолов», которых не меньше, чем людей. Эта очевидная особенность непальских городов и впрямь достойна удивления. Но специфичность Непала в другом. Ведь вся Индия и вся Юго-Восточная Азия покрыты множеством культовых сооружений. Английские путешественники, по стопам которых шли солдаты Ост-Индской компании, навязавшей Непалу вековую тиранию династии Рана, заметили лишь внешнюю сторону вещей. А есть внутренняя, важнейшая. Даже ортодоксальные брахманисты наряду со своими богами одинаково почитают и буддийские святыни, а последователи Гау-тамы воздают почести ведическим богам. Неповторимый непальский дух, нерушимая непальская традиция. Высоко в горах, где в фиолетовом небе сверкает острая, как плавник акулы, Мачапучхре, закрытая для альпинизма, я встречал лам древней «красно-шапочной» секты, строгих «желтошапочных» аскетов и «черношапочных» адептов исконного шаманства «бон». Все они жили на доброхотное подаяние горцев и не вступали друг с другом в споры по поводу того, чье учение правильней. Вот какой дух прячется под каменными сводами шикхар и черепичными крышами пагод. Подобного согласия, однако, не увидишь в мирской, так сказать, жизни. Беспощадная капиталистическая эксплуатация трудового населения в городах и полуфеодальная - в деревнях тоже составляют непальскую явь. Этим Непал, увы, не отличается от других стран капиталистического мира, потому что законы общественного развития равно справедливы для всех государств: и открытых, и закрытых. Древние святилища Непала с их неподражаемой скульптурой и живописью, выполненной нестареющими минеральными красками, поражают воображение. По своим художественным достоинствам они ни в чем не уступают памятникам цивилизации доколумбовой Америки или древнего Египта. Но ступенчатые пирамиды Паленке давно поглотила сель-ва, и гробницы фараонов замели пески, тогда как тысячелетняя гималайская цивилизация - живая реальность нашего времени. Непальские святыни можно встретить не только в густонаселенной долине Катманду. Древние, как сама история, они спрятались в горных пещерах и лесных чащах, они высятся на вечно заснеженных перевалах и тихо дремлют уречных излук. Порой это камень, выкрашенный киноварью, посреди бушующего потока, порой простая землянка, символизирующая близость к материнской стихии, или одинокий лингам на зеленом холме, прославляющий производительную мощь природы. Как правило, все храмы удивительно тонко вписываются в ландшафт. Древние строители выбирали для будущих сооружений самые примечательные, самые живописные места. На берегах рек построены закрытые для неиндуистов храмы Пашупатинатх и Гухешва-ри, Гокарна, Санкхунул и Гхобар, у священных источников, у водоемов стоят Будхани-лакантха, Баладжу и Годавари, с возвышенностей озаряют долину золотые шпили Свая-бунатха и Чангу-нараяны. Только в долине Катманду насчитывается 2500 святилищ, 800 из которых считаются уникальными и включены в каталог ЮНЕСКО. В священной рукописи XVI века я видел примитивный рисунок: змея на фоне горных пиков. Эта средневековая аллегория скрывала тайну происхождения долины Катманду. Любуясь чудесной панорамой с одного из скальных холмов, нелегко поверить в легенду о том, что некогда здесь находилось озеро. И тем не менее это так. Именно озеру, в котором, кстати сказать, водилась масса змей, и обязаны земли Непала своим плодородием. Согласно легенде, меч покровителя наук Манджушри рассек гору и воды озера, увлекая за собой змей, хлынули в долины. Возможно, в древние геологические времена произошел разлом, в результате которого вода ушла из окруженной горами чаши. Право, есть высокий и очень современный смысл в мифе о том, как Манджушри, придя из Тибета поклониться будде Вайрачане, прорубил горную цепь огненным мечом знания. Именно знание лежало в основе того, что изначально считалось чудом. Вайрачана, кстати, является первым из будд, посетивших нашу грешную землю. В тайных книгах древнейшего на земле храма Сваямбхунатха - Самотворящего - указано, что космический Вайрачана вышел из лотоса именно здесь, посреди змеиного озера, миллиарды лет тому назад. Такой счет времени возможен только в Гималаях, где слово «вечность» является конкретным и обиходным.
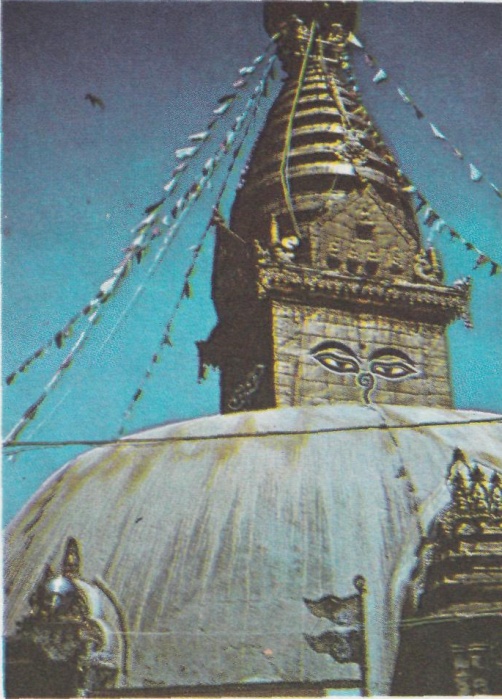
«Очи лотоса». Сваям-бхунатх
Но недаром говорят, что ничто под луной не вечно. Даже сами Гималаи, которые возникли на месте древнего моря Тетис и являются сравнительно молодой системой, вырастают ежегодно на несколько сантиметров. По крайней мере Джомолунгма за последние сто лет увеличилась на девять метров. Олимпийский чемпион, который постоянно улучшает собственные рекорды… Непал, впрочем, как и страну «Драконов грома» Бутан, не назовешь ныне «затерянным королевством». Необоримый ветер перемен веет над Гималаями. И если сами заснеженные пики - от Дхаулагири до Кариолунга - высятся обелисками нерушимого постоянства, то в узких плодородных долинах, где сосредоточена жизнь, все более зримыми становятся приметы радикального поворота к современности. Фабричные трубы пробуют конкурировать не только с дымами пастушьих костров, но и с вечерним туманом, который узкими полосами проплывает над вечной долиной, где некогда не всегда мирно сосуществовали целых три королевства. Ныне их столицы Катманду, Патан и Бхадгаон прочно связал асфальт. В Бхадгаон можно доехать теперь на троллейбусе. К древнейшим храмам и чудесным городам-памятникам ведут уже не горные каменистые тропы, а современные автострады. На перевалах, где раньше возвышались только молитвенные флаги и шиваистские трезубцы, выросли ажурные вышки высоковольтной передачи. В Непале обсуждается конституционная реформа, осуществляется программа экономического развития. Отсталая феодальная система, которая искусственно культивировалась всесильным кланом Рана, медленно и неохотно - особенно это заметно в отдаленных высокогорных уголках - сдает позиции, но современный уклад постепенно проникает повсюду. Электро- и радиофицируются даже храмы, а в горных монастырях рядом с алтарем часто можно увидеть часы с многодневным заводом. Подобное соседство патриархальности и модерна бросается в глаза на каждом шагу. На городских улицах ухитряются уживаться между собой новенькие «тоёоты» и священные коровы, которые с поистине божественным спокойствием игнорируют самые отчаянные сигналы водителей. К очаровательным курьезам быта непальских городов можно причислить и громадных черных козлов, посвященных Кали, и обезьян, разгуливающих по крышам, откуда удобнее обозревать лакомства, зреющие в садах и огородах, и грифов, которые, очевидно, видят в самолетах местных авиалиний нежелательных конкурентов. Недаром же они столь яростно пытаются атаковать идущие на посадку авиетки. Зато пасущиеся на летном поле буйволы и стада никому не принадлежащих коров с достоинством покидают посадочную полосу, едва прозвучит резкий зуммер, возвещающий о приближении очередной машины. Когда наш маленький двухмоторный самолетик снижался над долиной Покхары, впечатление было такое, словно мы собираемся приземлиться в центре зоопарка. Короче говоря, в Непале смена старого новым протекает мягко и постепенно, что вполне согласуется с характером самих непальцев, людей удивительно терпимых, жизнерадостных и приветливых. Надо видеть, как взирает продавец зелени на «священную» корову, которая забрела к нему в лавку! Он никогда не закричит на нее, не сделает даже попытки прогнать. Лишь отвлечет внимание незваной гостьи от наиболее спелых плодов и ласково предложит ей полакомиться ботвой или банановой кожурой. В этом нет никакой религиозности, ибо так поступают не только индуисты, но и последователи Будды, которые не обожествляют ни коров, ни обезьян, ни собак. Недаром говорят в народе, что «бога мирские дела не трогают».

Боднатх
Спора нет, столь тесное соседство людей и животных мешает необратимому процессу урбанизации, привносит путаницу и хаос в транспорт. Но само по себе оно прекрасно. Как отражение души человеческой. Как древнейшая убежденность народа, что все живое имеет одинаковое право на жизнь. Иное дело, когда под одним небом уживаются способы и средства производства, разделенные бездной времен. И если сложенная из валунов шерпская хижина, в которой жужжит старинная прялка, отдалена от столичной текстильной фабрики многими километрами трудных горных дорог, то кули с корзинами за спиной и велорикши снуют по тем же шоссе, что и могучие тяжелогруженые «КрАЗы», а тракторы и мотыги рыхлят одну и ту же ниву. Крестьяне до сих пор носят землю высоко в горы, чтобы поддержать скудную урожайность каменных террас. Часто один какой-нибудь ливень уничтожает плоды многолетнего упорнейшего труда. Годы и годы нужны для того, чтобы преодолеть вековую социально-экономическую отсталость.
ОЧИ ЛОТОСА
За смех, за буйства наши - кара: Трещит огонь. Спасенья нет. И не дано сквозь тьму пожара Увидеть настоящий свет. Дхаммапада
С переездом в Непал мой «базовый лагерь» переместился в небольшую гостиницу «Блу стар», расположенную в получасе ходьбы от городских ворот. Ее светлый, отделанный деревом холл украшали позолоченные райские птицы, фигуры бодхисаттв, стоящих на лотосе, и большое панно, на котором была изображена белая с красным дворцом посредине Потала. Прямо напротив ресепшен деск, где сидела хорошенькая администраторша, висели портреты королевской четы, а кассовый отсек украшали изображения буддийских проповедников, выполненные в стиле танка. Тут же находился и маленький киоск, который мог бы дать сто очков вперед любому из антикварных магазинов Нью-Йорка. Полки буквально прогибались под тяжестью бронзы. Не выходя из отеля, можно было составить себе довольно полное представление об индуистском и буддийском пантеонах страны. Ночью, когда переизбыток впечатлений и москиты не давали заснуть, я спускался в этот прелестный уголок и часами разглядывал отливки старинной и современной работы, украшения местных народов: киратов, лимбу, леп-ча и кхампа, доспехи и холодное оружие бхо-та, шерпские валяные сапоги, тибетские раздвижные трубы и гонги, ладанки шерпских женщин. Лучшей гостиницы я бы себе не пожелал. Здесь, как на суггестологических уроках иностранного языка, достигался эффект полного погружения. По карнизам, словно их специально ангажировали, разгуливали откормленные волосатые обезьяны. В ресторане подавали пряные, щедро приправленные имбирем непальские блюда, а в коридоре днем и ночью дымились курильницы. Молоденькие горничные в синих крестьянских сари, сидя на лестничных ступеньках, оживленно сплетничали или вполголоса напевали грустные, задумчивые песни. Мой аскетический номер, без кондиционера летом и отопления зимой, тоже не нарушал общей гармонии. Первое, что я увидел в окно, были золотые грифоны причудливого шиваистского храма, удивительно похожего на старые владимирские церкви. Касаясь крыльями луковичного купола, они парили над опаловой цепью гималайских пиков. Признаюсь, что, любуясь горной панорамой, я размышлял отнюдь не о высоких материях. Окна, точнее, их внутренние, затянутые стальной сеткой рамы заставили меня насторожиться. После Вьетнама я мог понять, что означает этот зловещий признак. Действительность полностью подтвердила самые худшие опасения. В первую же ночь на меня обрушились эскадрильи оголодавших комаров. Без тени стыда признаюсь, что позорно бежал. Сдернув с кровати матрас, схватив подушку и одеяло, я попытался укрыться в совмещенном санузле, где кое-как ухитрился постелить себе на полу. Но жгучие кровопийцы нашли меня и там. Только заткнув щель под дверью и поубивав всех видимых врагов, я смог хоть как-то забыться. Задыхаясь от духоты, терзаемый электрическим светом, я едва дождался рассвета. - Нельзя ли мне получить марлевый полог? - взмолился я поутру. - Марлевый полог? - администраторша явно не знала, что это такое. - Вы бы не могли объяснить мне, для чего он понадобился? - Комары, мадам. - О, сэр! - она всплеснула руками. - Как я могла забыть! Вечером я пришлю человека опрыскать комнату. - Мадам случайно не буддистка? - Нет, моя семья исповедует индуизм. - Все равно, пусть гибель комаров падет на меня. Как-никак они начали первыми. Око за око, мадам. Она взглянула на меня с некоторым недоумением. Очевидно, вспухшая, со следами расчесов физиономия несколько успокоила ее насчет моего рассудка. - Еще раз извините. Ручаюсь, что следующую ночь вы проведете спокойно. Так оно и случилось. С той поры уже ничто не мешало «полному погружению». Вставал я с рассветом и, угостив сбереженным от завтрака бананом вожака обезьян, отправлялся к Белым воротам. Останавливаясь у витрин, где были выставлены оранжевые от специй бараньи туши, у обложенных лимончиками керамических котлов с горячим чаем, я бродил по сказочным улочкам средневекового города. Мне попадались харчевни, в которых подавали тибетские пельмени и пиво «чанг», курильни опиума, открыто рекламировавшие марихуану, настой мухоморов и даже ЛСД, оружейные мастерские, магазинчики гималайской старины. Миновав строящийся стадион с его бетонными трибунами, озаряемыми звездами электросварки, я ненадолго возвращался в XX век: слева возвышался современной постройки почтамт (моя телеграмма пришла в Москву на следующий день), справа сверкала заправочная, осененная рекламой: «Пустите тигра в свой мотор». Причудливое смешение времен, ошеломляющее сочетание бытовых реалий с мифом. На обширном вытоптанном пустыре лежали буйволы, тощие, с выступающими ребрами коровы жевали обрывки афиш, возвещавших о футбольном матче между двумя наиболее популярными клубами. На противоположном конце поля парадировала пехотная рота. Вздымая ботинками пыль, солдаты в хаки демонстрировали церемонное, с типично британским притопом, прохождение. Десятки праздных мужчин в пестрых непальских шапочках-топи, разинув рты, не спускали восторженных взглядов с жезла, мелькавшего в руках тамбур-мажора. Другая кучка зевак окружила вездесущего факира с мангустой и коброй, а немного поодаль врач-венеролог продавал патентованные средства, демонстрируя красочные, подчеркнуто натуралистические таблицы. Здесь же можно было, присев на корточки, отдаться в искусные руки уличного брадобрея, обменяться марками или просто выпить стакан сока, тут же выжатого из сахарного тростника. Тибетские ламы предсказывали всем желающим судьбу по трещинам на бараньей лопатке, сричжанга из племени лимбу гадал по руке, а устроившийся в куцей тени акации брамин составлял гороскопы на неделю и даже на год вперед. Краткосрочный прогноз стоил много дороже долгосрочного и соответственно требовал больших усилий. Вообще в этом замечательном месте можно было приоткрыть завесы грядущего десятками самых разнообразных способов. Лично мне довелось наблюдать искусство гадания по таблицам, бобам, камешкам, птичьим перьям, огню. Видел я и старичка с мартышкой, которая ловко вытаскивала билетики со «счастьем». Ему, наверное, очень подошла бы шарманка, да только не знают о ней в гималайском краю. Привлекал меня и магический реквизит всякого рода исцелителей: всевозможные корешки, высушенные травы, скелеты лягушек и летучих мышей, баночки с тигровым жиром, мускусом и желчью медведя, черные камешки, толченый жемчуг, бумажные полоски с молитвами, обращенными к таинственной богине Гухешвари. Красноречивый венеролог, впрочем, тоже не брезговал союзом с трансцендентальными силами. К каждому флакону с антибиотиком полагалась, очевидно, как премия напечатанная на рисовой бумаге магическая мантра. Подобная двойственность пронизывает все стороны жизни непальской столицы. Здесь каждый живет в том временном отрезке, который находит приемлемым. Город обеспечит для этого полный набор соответствующих реалий. На одной улочке могут уживаться современный госпиталь и медицинский дацан, аптека, торгующая патентованными средствами лучших фармакологических фирм мира, и кружащая голову ароматом трав тибетская лавка. На центральных улицах, забитых бродячими коровами, бритоголовыми монахами, горцами в нагольных тулупах, арбами с овощами и сахарным тростником, к услугам покупателей реквизит всех эпох: туалеты от Диора или Баленсиаги и домотканое полотно, мыло из ГДР и коричневые колобки речной глины, малость сдобренной содой, фотокамера «Поляроид» и рукопись с цветными рисунками, украденная из какого-нибудь гималайского монастыря. Любая вещь имеет тут своего первобытного двойника: зубную щетку заменяет ветка с бальзамическими листьями, термос - высушенная тыква, лондонский чемодан на колесиках - заплечная корзина или переметная сума. В зависимости от положения в обществе, образования, состоятельности и душевной предрасположенности вы можете вести жизнь богатого европейца или неимущего крестьянина, чей быт почти не переменился за последнюю тысячу лет. Пустырь, куда я так любил приходить по утрам, лежал на перекрестке четырех дорог. Одна асфальтовая лента вела к Белым воротам, за которыми сверкали зеркальные стекла роскошных ювелирных магазинов, другие - в грезящий тенями былого величия Патан, к святилищу Кали и к радиоцентру. Не хватало только богатыря с копьем, задумавшегося над придорожным камнем. Пройдя же через деревянный мостик, забитый в часы пик «фордами», «газиками» и арбами, запряженными зебу, вы вообще могли оказаться на другом берегу реки забвения. На Багмати в миниатюре повторялась литургия гхатов Варанаси. Горели погребальные костры под навесом, на галечной отмели совершали ритуальное омовение сотни людей. Впрочем, и на эти определяющие моменты индуизма Непал накладывал свое ласковое смягчающее влияние. Ритуальные купания сопровождались беззаботным смехом, шутками и жизнерадостной возней. Даже последний в человеческой жизни обряд не носил того жесткого, безжалостного оттенка спешки и деловитости, что так неприятно поразил меня в Варанаси. Лениво лоснилось солнце на плесе, неторопливо уплывал в золотистую даль голубоватый слоистый дымок. Ничто тут не напоминало о смерти. Поднявшись на скалу, я увидел белую стену и причудливую, словно вырезанную из мехов гармошки, крышу Пашу-патинатх. Лишь с высокого холма, где стоят базальтовые линги, можно было наблюдать за жизнью запретного для иноверцев храма. Что происходило там в глубине, где мелодично звенели колокольчики, ухали барабаны и кадильный дым туманил позолоту быка Нанди? Недаром же садху со всей Индии стекаются к древнейшему святилищу Шивы, и, оставив перед воротами обувь, толпы босоногих богомольцев исчезают за его калиткой. Поднимаясь в заросшие буйным лесом горы, я все оборачивался и к храму, и к реке, чтобы еще раз увидеть и вместить в себя скалы, замшелые лестницы, строгие ряды культовых башенок и жертвенники, на которых были прикручены проволокой бронзовые чашечки и каменные скульптуры богов. Проволока, конечно, не могла остановить похитителей. Она была лишь приметой времени, когда такое стало возможно. Прощаясь, наверное, навсегда с Пашупати, я вспомнил бесштанного мальчугана, игравшего колокольчиками у алтаря Кали. Искаженное гневом, выпачканное киноварью лицо богини зловеще сверкало в бронзовой нише, а он, не ведая греха, раскачивал колокола и, заливаясь смехом, вытирал испачканные красным пальчики о грязную, не доходившую даже до пупа рубашонку. Люди, забегавшие по пути на рынок почтить хозяйку любви и смерти, не обращали внимания на шалости маленького проказника. А ему только это и надо было. Перепрыгивая через скульптуры богов, носился он по святилищу, гоняя черную козочку с алой лентой. Кощунственно сверкая попкой, карабкался на колокольную арку, чтобы, повиснув вниз головой, показать кроткому животному дразнящий язык. Неведение детства… В том храме без кровли, расположенном у пустыря, я подумал о дороге, которую изберет для себя неугомонный малыш. Рано или поздно он задумается о ней, быть может, на том же перекрестке, где вместо сказочного камня с предупредительной надписью висит дорожный указательный знак международного образца. Медленный, но необратимый поворот к современности, который совершается ныне в Непале, часто сравнивают с «революцией Мэйд-зи», преобразившей жизнеустройство Японии времен сегуната. Лично я вижу здесь лишь формальную, хотя и далеко идущую, аналогию. Непальские короли, носящие поныне действующий титул «Господин пять раз», действительно находились в такой же зависимости от премьера из семьи Ранов («Господин три раза»), как японский император от сегуна. Свергнув закостеневший, противившийся любым переменам правопорядок, Япония первым делом поспешила распахнуть двери в мир, модернизировать свою экономику и политические институты. Это было продиктовано насущными нуждами страны и логикой самой истории. Так же поступил и король Непала Трибху-вана - дед нынешнего монарха, когда, возглавив широкую антирановскую оппозицию, добился свержения диктатора, державшего его на положении пленника. Но на этом и кончается сходство, потому что феодальный Непал 1951 года в корне отличался от национально однородной, иерархически централизованной страны Ниппон периода Эдо. Перемены, которые переживает страна, по-настоящему заметны пока лишь в больших городах. Современные заводы, фермы, рыбо-разводные хозяйства, электростанции, больницы и школы, построенные при содействии многих стран мира, еще не наложили определяющий отпечаток на облик страны. По-прежнему на нее взирают с высот недреманные очи бога. Не только в переносном, но и в прямом смысле, ибо характерной деталью непальских ступ как раз и являются эти самые «глаза лотоса», «очи Будды». Только в одном Патане насчитывается три таких ступы, возведенные еще Ашокой. Их облицованные камнем и гладко оштукатуренные полусферы венчают четырехугольные ступенчатые башни, на гранях которых и нарисованы «всевидящие глаза». Окантованные перламутром, они издалека видны даже в густых сумерках. Как олицетворение вечности и неизменности мирового правопорядка, сверкают они отраженным сиянием ледяных вершин с облицовочных плиток. Над ними помещен завиток третьего глаза. Другой иероглифический завиток, напоминающий знак вопроса, изображает нос божества. В нашей литературе распространено мнение, что подобные «всевидящие» ступы характерны только для Непала, но в Бутане они были известны еще с VII века. Знаменитый Боднатх как раз и представляет собой такую подкрашенную шафраном полусферу с «глазастой башней». И в центре Сваямбхунатха стоит точно такая же ступа. Как и прочие чортэни и чайтьи, они образуют в плане мандалу, символизирующую космос. Боднатх окружает своеобразный многоугольник из примыкающих друг к другу домов. В них живут тибетские паломники и всевозможные торговцы предметами буддийского ритуала: иконами, бронзовыми статуэтками, деревянными раскрашенными масками, амулетами и т. п. За этим внешним ограждением во всем своем великолепии открывается светлая ступа, расцвеченная, словно линкор на морском празднике, тысячами треугольных флажков. Нанизанные на веревках, они трепещут в ликующем голубом небе. В отличие от Сваямбхунатха, где центральная ступа окружена бесчисленным множеством культовых сооружений, среди которых задумчиво бродят обезьяны, эта шафрановая сопка символизирует идею вселенной, очищенную от всего постороннего. Это ничуть не мешает темпераментной торговле в лавках, окружающих нишу с молитвенными цилиндрами. Яркие, жизнерадостные краски Боднат-ха сами по себе наводят человека на веселые мысли. Смех здесь не считается кощунством и не может иметь никаких печальных последствий. Иное дело чертог Живой богини. В этом сумрачном внутреннем дворике, где, затаив дыхание, люди ждут появления божества, едва ли кому придет в голову засмеяться. Разве что вездесущим мальчишкам, которые непринужденно протискиваются в первые ряды. Но и они сохраняют подобающее выражение лица. Здесь все проникнуто ожиданием. Храня молчание, люди не сводят глаз с заветного окна, в котором должна появиться богиня. Впрочем, что значит «должна»? Боги никому ничего не должны. Захотят снизойти - снизойдут, не захотят - на то их высшая воля. Заметив, что один особенно настырный парнишка так и вертится у меня под ногами, я дал ему пару рупий. Издав ликующий клич, он завертелся на одной ножке и в тот же миг куда-то сгинул. Но, очевидно, моя жертва была принята, потому что чья-то сухая старческая рука властно отдернула занавеску в заветном окне. Когда мой переводчик Шарма сказал, что Живая богиня даст мне аудиенцию, я сначала обрадовался, а затем призадумался. Меня смущало полное незнание «небесного протокола». Я даже не мог сообразить, как надлежит титуловать богиню. Обращение «ваше святейшество», подобающее в беседе с такими высокими лицами, как далай-лама или римский первосвященник, казалось для данного случая не совсем подходящим. Нужно было спешно придумать что-нибудь рангом повыше. Но что? - Пусть вас это не волнует, - пришел на выручку Шарма, которого в память о временах, когда он занимался в Московском университете, звали просто Мишей. - Вам вообще не придется с ней разговаривать. - Вы так думаете? - Разумеется. Кумари будет лишь присутствовать, а все ваши вопросы разрешат приближенные к ней жрецы. Впрочем, я не уверен, что они говорят по-английски, а меня с вами не будет. - Веселенькая ситуация!… Посоветуйте хоть, как называть богиню. - Просто дэви, богиня то есть. - В самом деле, просто… А какие существуют правила этикета? - Понятия не имею. На всякий случай отводите взгляд в сторону, потому что в народе боятся ее третьего глаза.

Живая богиня
С этим багажом я и отправился в чертоги Кумари-дэви. Что я вообще знал о ней? Ничего, кроме того, что непальцы почитают Кумари в образе маленькой девочки из плоти и крови, которая должна принадлежать к касте золотых дел мастеров. Ее культ находится в тесной связи с поклонениями женской энергии. Это та же Шакти, но только невинная, юная, та же многоликая Дэви, вобравшая в себя разные ипостаси женских божеств, но еще не созревшая для кровавых приношений Дурги и Кали. Девочки, предназначенные на роль богини, подвергаются самому строгому и придирчивому отбору. Трехлетняя избранница воистину должна обладать сложением богини и не иметь ни малейшего изъяна. Если хоть один из восьмидесяти внешних признаков не отвечает твердо установленному стандарту, кандидатка не проходит. Избрание королевы красоты, которое я видел однажды по американскому телевизору, в сравнении с этим - жалкая дилетантщина. Счастливица или, вернее, несчастная, претендующая на титул Кумари, обязана в самый короткий срок научиться владеть собой и ни при каких обстоятельствах не терять присутствия духа. В противном случае можно ожидать большого несчастья. Дело в том, что Кумари, которая считается покровительницей Непала, отводится хотя и номинальная, но очень заметная роль в жизни страны. Это к ней отправляется на ежегодное поклонение король, чтобы испросить соизволения на правление. Если девочка испугается или вообще чем-нибудь погрешит против этикета, то это могут счесть зловещим знамением. Поэтому испытания на крепость духа, которым подвергается грядущая дэви, могут смутить даже бравых, видавших виды парней. Не каждому дано без дрожи следить за чудовищной рубкой козлиных голов, не каждый способен провести ночь в темном подвале, наполненном скелетами, рогатыми чудовищами и расчлененными трупами. Та, которая вынесет все, и впрямь может претендовать на божественный титул. Остальное довершит воспитание. Вырванная из привычного круга семьи, девочка начинает новую жизнь в храме и вскоре свыкается со своим исключительным положением. Как говорится, входит в образ. Чтобы она целиком поверила в свое предназначение и позабыла смутные очертания прошлого, достаточно года строго регламентированной жизни. Обязанности богини не слишком обременительны. В половине седьмого она пробуждается ото сна и сразу же попадает в заботливые опытные руки жрецов. Это они решают, сообразуясь с астрологическими указаниями, какого цвета одеяние выберет сегодня Кумари, чтобы явить себя почтительным сестрам по касте. После положенных, но всегда одних и тех же дыхательных упражнений и ритуального омовения приступают к ежедневной процедуре «отверзания божественного глаза». Для этого на лобик богини кармином наносят широкий знак в форме григука, рукоятью обращенного к переносице. Затем обводят по контуру желтым, тщательно прорисовывают в середине очень реалистическое широко раскрытое око и черной тушью далеко удлиняют уголки данных природой глаз. Теперь богиню можно облачить в указанные астрологами одежды, украсить драгоценной короной на манер старорусского кокошника, серебряными монистами, тяжелой кованой гривной, кольцами и браслетами. Чаще всего Кумари «предпочитает» наряжаться в алое платье, символизирующее неодолимую власть женственности. Ее усаживают в специальное кресло с круглым подножием и выносят в приемную, декорированную в назначенные на сегодня тона. Здесь, сидя у северной стены, словно бронзовый бурхан, она станет принимать жертвенные цветы и сласти, бесстрастно внимать звукам развлекающей ее музыки, не глядя следить за прихотливыми фигурами танца. Так незаметно пройдет день, ничем не отличимый от всех прошлых и будущих дней. Когда зайдет солнце, жрецы начнут готовить богиню к встрече ночи. Окурят благовониями, снимут серебряные вериги, смоют грим. Лишь однажды в году, - как у Дурги, Сара-свати, Лакшми и прочих дэви, у Кумари тоже есть свой праздник - ее вывезут на шумные, наполненные восторженными толпами столичные улицы. Это случится в августе - сентябре на восьмидневные торжества Индраджатра, в которых вместе с индуистами самое рьяное участие примут и буддисты. В первый день праздника перед дворцом Ханумандхока воздвигнут высокий столб в честь бога-грозовика. Затем начнутся неистовые пляски огромных фантастических масок, которые заполнят все площади перед богато разукрашенными храмами и пагодами. Единодушным воплем восторга встретят жители Катманду маску Индры, которая появится перед золотой пагодой в разгар праздника. Если же по воле случая в один из дней прольется дождь, то накалу страстей не будет предела. А на третий день придет черед и Живой богине явить себя народу. Окропят святой водой розы, и королевская чета появится на балконе, увитом гирляндами цветов. Ударит в барабаны военный оркестр. Три хранителя: Кумари, Ганеша и Бхайрава совершат в течение трех дней объезд опекаемого ими города. И все три дня будут продолжаться доводящие до неистовства наэлектризованную толпу пляски. Сам король выйдет на площадь, чтобы на глазах у народа склониться перед таинственной властью маленькой девочки, чей нарисованный глаз страшит, как проклятие. В этот момент торжество достигнет кульминации. Перед храмом Нараяны, расположенным как раз напротив жилища Кумари, один за другим пронесутся фантасмагорические образы Махакали, Махалакшми и Даша Аватара - последнего воплощения Вишну. Религиозный праздник незаметно перерастет в общегосударственный, когда танец Бхайравы отметит памятный день взятия Катманду войсками Притви Нараяны - объединителя. Целый год будет помнить одинокая, разучившаяся смеяться и плакать девочка о сладостных минутах высшего своего торжества. Лишенная общества сверстников, не знающая игр, она будет хранить в сердечке надежду на новый праздник. Но однажды все для нее неожиданно кончится. Достигнув двенадцатилетнего возраста, она уснет богиней, а проснется обыкновенной девочкой, в которой пробудилась женственность. Тихо и незаметно она покинет храм, чтобы вернуться в семью и попробовать научиться жить в человеческом облике. Войти в новую роль ей будет гораздо сложнее. Не каждая сможет забыть сияние божественных вершин и опьяняющий фимиам поклонений. Редко кому из бывших богинь удавалось приспособиться к новым условиям. Несмотря на значительное приданое, которое они получали на прощание, их крайне неохотно брали в жены. Да и кому охота жениться на богине, приученной только повелевать. Недаром молва говорит, что Живые богини приносят своим мужьям одни несчастья. Радость, любовь - это тоже наука, которую начинают познавать с колыбели. Ее постулаты записаны на грешной земле родительской лаской, смехом, играми, ссорами, дружбой, победами и поражениями. Всему этому не научили Живую богиню. Где же взять ей счастье для мужа, если не знает она, что это значит… Ее удел - одинокое прозябание, наполненное грезами и воспоминаниями о прежнем величии. В праздник Индры она не выходит из дому, дабы не встретиться с той, счастливой и юной, что самовластно присвоила себе все атрибуты высочайшей власти. Без них разжалованная богиня бессильна. У нее нет даже третьего глаза, чтобы навести порчу на ненавистную соперницу. Ей самой нужно опасаться теперь темной силы этого широко отверстого ока. Стоя перед окошком, в котором показалась богиня, я долго думал, о чем мне спросить сухощавого старца, который стоял по левую руку ее. Я размышлял над этим в течение долгих минут, пока Кумари, не замечая, смотрела на меня и на тех, кто стоял рядом. Впервые, хотя и не было переводчика, у меня появилась возможность хоть о чем-нибудь да спросить божество! Но я так ничего и не придумал. И не раскаиваюсь, как не жалею о том, что, повинуясь правилам, не взял с собой фотоаппарат. Впрочем, цветную открытку Кумари-дэви я с собой привез. Красивая и грустная девочка. В Непале любят праздники. С рассвета до заката под рокот барабанов, звон колокольчиков и -хриплый рев трехметровых раздвижных труб по узким улочкам течет пестрая река карнавала. Она одинаково захватывает шиваитов, буддистов и последователей «черно-шапочного» шаманства. В карнавальных шествиях принимают участие представители всех этнических групп, многочисленных каст, на которые все еще разделено коренное население страны. Веселым гуляньем отмечают люди юбилей королей и божественные мистерии. Празднуется день нагов, когда на двери домов наклеивают изображения змей, и месяц магх, в который принято совершать омовение в водах Багмати, торжество Шивы и святость Трехъярусного зонта. День Матери соседствует во времени с Махендранатх Джат-ра, отмечаемым в Патане, и буддийским праздником в Лумбини. Джаятра, или карнавал Коровы, знаменует собой начало празднеств, которые продолжаются вплоть до грандиозной Дурга Пуджа. Торжественно отмечаются дни лесной богини Банадэви, Ситала-ми, насылающей оспу, Гаруды и др. Но самое многолюдное и красочное зрелище, несомненно, коронация. К ней готовятся долго и обстоятельно. Она захватывает в свою орбиту все слои населения: придворных, военных, крестьян, поставляющих продовольствие, художников, архитекторов, жрецов и даже богов, потому что Живая богиня Кумари имеет самоё непосредственное отношение к трону. 24 февраля 1975 года в Катманду состоялась торжественная коронация двадцатидевятилетнего Бирендры - сына покойного короля Ма-хендры, скончавшегося в январе 1972 года. Понадобилось свыше трех лет, чтобы закончить затянувшуюся процедуру престолонаследия! Но в Непале это не вызвало удивления. Дело в том, что древняя и циничная формула феодальной Европы «Король умер, Да -здравствует король!» нуждается здесь в известной поправке. Слишком уж большой подготовки требует сложный церемониал. Сначала был год траура и поминальных ритуалов, после чего пришел 2030 год Бикрама, крайне неблагоприятный, по мнению брахманов-астрологов. Еще год потребовался на подготовку. Так и текло время Кала-Бхайравы, прежде чем фактическое пребывание на престоле Бирендры получило официальное оформление. Торжественная церемония происходила во дворе старого королевского дворца при огромном стечении людей и в строгом соответствии с древними традициями. Даже час торжества был определен национальным комитетомастрологов. Вначале король совершил обряд посыпания своего тела землей, привезенной из различных уголков страны, что символизирует причастность монарха к нуждам и чаяниям подданных. Потом он был помазан на царство маслом, молоком, творогом и медом, после чего жрец окропил его священной водой. Преобладание «молочных продуктов» в ритуале объясняется тем, что корова - самое почитаемое существо, воплощение божественности, ее изображение - на государственном гербе. Даже непреднамеренное убийство этого животного карается пожизненным заключением.

Проповедник Падмасамбава
Под пение древних гимнов короля возвели на трон. Стоя лицом к востоку, он принял корону, усыпанную драгоценными камнями, на гребне которой изображена птица с золотым оперением. С этой минуты он официально стал «королем-богом». На дворцовой площади его ожидало уже не земное, а небесное царское кресло, осененное балдахином в виде девятиглавой кобры. Этот высокий трон Вишну символизирует основную обязанность короля - защитника страны и ее граждан. По окончании обряда коронации королевская чета села в серебряный паланкин, установленный на спине большого слона, и совершила объезд святых мест. Дворец Ханумандхока, в котором проходила коронация, сильно пострадавший после землетрясения 1934 года, лишь частично восстановлен с помощью ЮНЕСКО. Согласно плану реконструкции древних памятников Непала, восстановление дворца должно быть своеобразной школой подготовки местных специалистов-реставраторов. А они очень нужны, если вспомнить, что временем и погодой испорчены многие произведения древних мастеров. Молодой король объявил, что продолжит внешнеполитический курс своего отца. Печать в этой связи особое внимание уделила выдвинутому им предложению объявить Непал зоной мира. Оно было единогласно одобрено 25-й сессией Национального панчаята. В его поддержку выступили такие общественные организации, как Комитет защиты мира, Исполком молодежной организации и Организация непальских женщин. Местные газеты, приветствуя инициативу короля, выразили надежду, что «все дружественные и миролюбивые страны отнесутся к этому предложению с должным вниманием». Дворец Ханумандхока, названный так по имени индуистского божества Ханумана - министра царя обезьян, расположен в самом центре столицы. К нему неизбежно приводят ее запутанные улочки и переулки. По существу, это целый комплекс дворцов и храмов, соединенных внутренними двориками, запутанной системой лестниц и галерей. В окруженном бамбуковыми лесами дворце я побывал незадолго до коронации, когда заканчивались последние отделочные работы. Бригада резчиков на одном из верхних этажей спешно готовила точные копии поврежденных наличников, сгнивших кронштейнов и балок, кровельщики, громыхая по многоярусным крышам, меняли разбитую черепицу, а каменщики скрепляли известковым раствором неотличимые от древних кирпичи. Пока слоны и лебедки тянули канаты, выправляя покосившуюся башню Бхактапура, живописцы раскрашивали резные распорки вышки, названной в честь города Лалитпура, сияющей свежим деревом оконных решеток. Специалист ЮНЕСКО, любезно взявший на себя роль проводника, таскал меня по лесам и галереям, нимало не заботясь о том, что дозволено видеть чужеземцам. Мы носились по заваленным строительным мусором «чау-кам» - внутренним дворикам, которые в обычное время закрыты даже для большинства непальцев. Но мне повезло угодить как раз в необычное время предпраздничной суматохи и реставрационной горячки, когда каждый занят своим лихорадочным делом и никто никого ни о чем не спрашивает. Едва поспевая за длинноногим немцем, я летал с этажа на этаж, стараясь все увидеть, ничего не упустить. Раз уж выпал счастливый билет, грешно было бы отказаться от выигрыша. К сожалению, стражем брахманистских откровений выступила моя собственная память. Тщась объять необъятное, я даже не успевал делать пометки в записной книжке. О том же, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, задержаться и пристальней вглядеться в суть, я и не помышлял. В результате сплошная каша в голове и полнейшая неспособность вспомнить, где, в каком чауке я видел тот или иной памятник. Благо храмы, культовые сооружения, алтари и фигуры божеств щедро разбросаны посреди дворцового города-лабиринта в трех измерениях. Каждый из четырнадцати дворов посвящен особому божеству. Так, чаук, в котором происходила коронация, находится под патронатом Нартешвары - непальского близнеца На- тараджа, Владыки танца. В рядовые дни лишь один из чауков открыт для посещения. Остальные чауки жители Катманду могут увидеть только однажды в году, на празднике в честь Дурги, который начинается четвертого картика, или 20 октября по нашему календарю. Эти же правила распространяются и на храм Таледжу, расположенный в северной части дворца. Перед ним воздвигнуты три каменные колонны, возносящие к небу бронзовые изваяния королей и льва. Таледжу считается королевским святилищем, и, за исключением Дурга Пуджи, когда тысячи молящихся со всей страны приносят дары к ногам богини-победительницы, входить в него дозволяется только высшим жрецам.

Культовые сооружения в Сваямбху-натхе
Это было единственное место в Хануманд-хока, куда я не посмел проникнуть. С балкона ближайшей башни отлично были видны мощеный двор, где сотни голубей склевывали жертвенное зерно, столпы с золочеными фигурами и резные балки в виде прелестных принцесс, поддерживающие трехъярусную крышу с колокольчиками. Дул легкий ветерок, и замкнутое пространство двора глухо вторило веселому, мелодичному перезвону. Интересно было бы побывать тут на Дурга Пудже, ког-да все становится красным от крови жертвенных животных и на ступени святилища летят отрубленные головы козлов и баранов. От королевского жреца я слышал, что только в полночь с восьмого на девятый день праздника в жертву Дурге приносят ровно 108 буйволов. То же сакральное число, унаследованное буддистами от брахманистов! Подобная взаимопреемственность порой выливается в странные формы. Львы, которые обычно стерегут буддийские храмы, улыбчиво скалятся перед бронзовой аркой дверей, не проявляя неудовольствия перед чудовищным попранием принципа ахинсы. И широко раскрытые божественные очи, нарисованные на пилястрах входной арки, привычно взирают на ежегодную бойню. Дурга! Воинственное воплощение женственной Парвати. Особой гармонией линий отличается двор, расположенный внутри «Дома услады», построенного в XVIII веке Притви Нараяной, объединившим разрозненные непальские княжества в единое королевство. Со всех сторон его окружают башни, абсолютно непохожие друг на друга. Рассказывают, что для отделки дворца король распорядился взять четырех архитекторов из главных городов: Катманду, Лалитпура (ныне Патан), Пхактапура (Бхадгаон) и Киртипура. Естественно, что каждый стремился украсить «Дом услады» самой красивой башней. Самая высокая из них, девятиэтажная, с тремя выступающими крышами, башня Бхасантпур, принадлежит зодчему из Катманду, кровля другой выполнена в бенгальском стиле «слонового уха», башня, обращенная в сторону родного Патана, поражает своей исключительной соразмерностью и простотой. Так раскрывались передо мной легенды и были старого королевского дворца. Опутанный каркасом лесов, заваленный стройматериалами, он был подобен святыне, с которой грубо сорвали покрывало. Беззащитными и нагими выглядели каменные и бронзовые боги в тенистых двориках. И только сам Хану-ман - божественная обезьяна - пребывал, как положено, под красным покрывалом. Сидя на своем пьедестале, слева от калитки, в высоких деревянных воротах, он вместе с солдатами гуркхской гвардии нес неусыпную стражу.
ТРАВА ЛУНЫ
Немногим видеть тот дано Далекий и туманный берег. И снова, как давным-давно, Мы падаем у черной двери. Толпимся шумно у реки, Как будто бы достигли цели… Но незаметны и редки, Кто сумрак вод преодолели, Сквозь частую проплыли сеть, Спокойны к злу и милосердью. Они не победили смерть - Они возвысились над смертью. Дхаммапада
Из озера Пхева, в долине Покхары, ушла вода, и каменистый островок, заросший ивами и карликовым бамбуком, соединился с берегом. Маленький храм, куда приходили испросить удачу местные жители, стал неожиданно излюбленным местом паломничества хиппи и новоявленных индуистов из Америки и Европы. Смятые жестянки пива и прочие огрызки «цивилизации» усеяли заповедные некогда тропы. Дымком гашиша или еще более дешевого чараса попахивает крохотный дворик, где бродячие йоги искали уединения. Я еще застал озерополноводным и почти необитаемым островок. Подумать только: всего три года - и такие перемены… Думая о Пок-харе, я вспоминаю другое озеро, расположенное намного выше, путь к которому был долог и труден. Надеюсь, что это синее чудо не постигла печальная судьба Пхевы. От местного телеграфиста и самодеятельного поэта Прадхана мой друг Мадхав Шарма (Миша) узнал, что на том озере тоже есть остров, и крохотная подземная молельня, и древний жертвенник, посвященный каким-то ныне забытым богам. Эту новость он притащил вместе с термосом, тазом и каким-то мешочком, источавшим сухой и горячий пар. - Намечается большая стирка? - пошутил я, заинтригованный таинственными приготовлениями. - Сейчас увидите, - довольно ухмыльнулся Миша. Развязав мешочек и высыпав в таз черное дымящееся просо, он вылил из термоса весь кипяток и принялся деловито размешивать полой бамбуковой трубкой. Вода помутнела и окрасилась в темный цвет. На поверхности стала вскипать грязноватая мылкая пена. - Надеетесь умилостивить духов озера? - я все еще ничего не понимал. - Или это варево предназначено мне? - Вот именно. - Миша продолжал энергично размешивать. - Раз вам так нравится шерпский чанг, то должно прийтись по вкусу и это. Слышали что-нибудь о горячем пиве народа лимбу? - Ничего. - Значит, я приготовил для вас сюрприз… Насколько я мог понять, лимбу сбраживают просо полусухим способом и, когда оно разогреется, заливают горячей водой. Очевидно, чтобы не оборвалась эндотермическая реакция… Ну-ка попробуем, - он довольно улыбнулся и приник к трубке. - Ничего, вкусно. За какой-нибудь час мы выдули с ним весь таз. - Хотите повторить? - Еще бы! Миша сбегал в коридор и приволок новый термос. - Доливать можно много раз, - объяснил он, ошпаривая струей черно-зернистый осадок. - Только придется подождать немного дольше. С уменьшением концентрации неизбежно падает скорость реакции. Выпускник геологического факультета МГУ, Миша знал, что говорит. Во всяком случае, его глубокое понимание законов химической кинетики позволило нам трижды за этот вечер наполнить и соответственно осушить таз. Горячее и не слишком хмельное пиво народа лимбу оказалось весьма приятным на вкус. Не туманя сознания, оно тяжелой истомой ударяло в ноги. Как очень старый мед или очень молодое вино. Я незаметно заснул да так и проспал до утра, не раздеваясь, не чувствуя жгучих комариных укусов. Встал бодрый, чудовищно проголодавшийся и жадный до жизни. Мы с Мишей позавтракали, купили печеной кукурузы и поехали на озеро. Повторялась нидана Кашмира: долбленый челн, сердцевидная гребная лопатка, сверкающая ледяная корона, отраженная в купо-росно-синей воде. Длинные серебряные полосы перерезали опрокинутую вершину Мача-пучхре и переливались ленивым чешуйчатым мерцанием. Подожженные зарей, пылали и рушились руины воздушных замков. Босоногие девушки в синих с красно-белой каймой сари стирали белье на широком деревянном помосте. Ослепительно и жарко сияла медная посуда. Красная древесина лодок еще хранила ядреный кедровый дух. Но все померкло, когда на нас пахнуло затхлой сыростью подземелья. Это был гоинг-ханг - капище, посвященное злым духам, обитателям мира демонов. Несмотря на сумрак и облепившую обмазанные глиной стены паутину, можно было различить истлевшие шкуры зверей, чьи-то зубы, рога, когти, ржавое оружие, пробитые щиты и порванные кольчуги. Стены и потолок были расписаны синими клыкастыми демонами, скелетами, отвратительными ведьмами. Грозные маги швырялись трупами, хлестала кровь из черепов, а в облаках кружились стервятники, несущие в загнутых клювах вырванные глаза. Буддийское учение о цикле смертей и рождений нашло предельно жуткое, но примитивное выражение. Впрочем, именно примитивность и подбавляла изрядную долю ужаса. В основе своей страх прост, как атавизм. Много проще отваги. Он тормозит в человеке все высшее. Недаром ламы учат, что ничто так не вырывает человека из тисков обыденности, как ужас. В этой землянке, отравленной тлетворным запахом медленного гниения, «колесницу громового раската» окончательно одолело шаманство. Космическая символика тантр и возвышенная эротика митхуны были представлены на грубых фресках капища парой сплетенных скелетов. Какой разительный контраст с возвышенными озарениями картин западного рая, какое чудовищное отрицание пленительных образов Аджанты! Разглядывая рисунки, освещенные теплым огоньком свечи, я счищал жирную на ощупь паутину, и засохшие в ней насекомые обращались в прах, как перезрелые грибы-дождевики. Я понимал, что где-то должен быть исход из этой обители кошмаров или по меньшей мере намек на нирвану, где наступает конец страданиям. Так оно и вышло. На гнилой скамье, заваленной полуистлевшим тряпьем, я обнаружил увитые красной лентой ячьи рога, к которым были привязаны образки с изображением Миларайпы. Это сразу же напомнило мне популярную в Гималаях легенду о незадачливом ученике этого столь чтимого в Гималаях поэта и проповедника. Ученик Миларайпы отправился в Индию, чтобы изучить там все тайны веры, и через несколько лет возвратился на родину, исполненный гордыни. Миларайпа тепло встретил воспитанника и взял его с собой в очередное паломничество в Лхасу. И вот, когда они ехали по безлюдной пустыне, Миларайпа увидел точно такие же рога. Провидя все наперед, он решил дать спесивому ученику хороший урок. «Принеси мне эти рога», - сказал он. «Зачем они тебе? - спросил ученик. - Их нельзя съесть, они не дадут нам воды в этой пустыне, из них не сошьешь одежду». Про себя он подумал, что учитель совсем спятил: «Ему нужно все, что только он ни увидит. И все он раздражается, ворчит, словно старый пес, а то совсем впадает в детство». Миларайпа, конечно, догадался о тайных мыслях ученика, но не подал и вида, а только сказал: «Кто знает, что может произойти? Только мне кажется, эти рога еще нам понадобятся». С этими словами он поднял рога и понес их сам. Через некоторое время путешественников настигла сильная буря. Ревел ветер, громыхал гром, больно хлестал крупный град. А кругом не было даже жалкой мышиной норки, где бы можно было переждать непогоду. Ученик закрыл голову руками и сел на песок, не надеясь дожить до конца урагана. И вдруг он заметил, что Миларайпа забрался в рог и спокойно ждет там, пока уляжется непогода. «Если сын таков, как его отец, - сказал святой ученику, - то пусть он тоже заберется внутрь». Но в роге не умещалась даже шляпа бедного ученика, утратившего всю свою спесь. Тут небо прояснилось, ветер утих, и Миларайпа вылез из убежища. Ученик же принес рога в лхасский храм Большого Будды. Мы вышли на воздух, пронизанный струями солнца, ароматный, кипящий. Рядом с белизной Аннапурны облака казались голубыми, а небо дымилось бездонной нахмуренной синевой. Кукурузные поля на ближних склонах и лиственные леса по берегам лоснились ликующим световым глянцем. На каменном жертвеннике, который наполовину врос в землю, я увидел полустертую санскритскую надпись. - «Сома», - прочитал Миша. В тот же день мы отправились с ним высоко в горы. Но во второй половине дня погода стала заметно портиться, и мы уже начинали поговаривать о возвращении. Хотелось лишь добраться до главного перевала. Небо заволокли облака. Вершины гор плотно укутались в пухлые свинцово-белые одеяла. Шофер беспокойно ходил вокруг джипа и время от времени озабоченно пинал ногой колеса. Намек был яснее ясного: пора отправляться в обратный путь. Но до гостиницы было километров шестьдесят, не меньше. Все равно засветло не успеть. По берегам протоков, которые мы должны были проехать вброд, росли высокие сосны и папоротники, а у самой воды стеной стоял четырехметровый «тигровый» тростник. Всюду виднелись каменные осыпи и завалы валежника. С мрачных каменных стен молочными струями срывались далекие водопады. Дорога вскоре пошла лесом. Каменные дубы, магнолии и сосны почти целиком закрывали небо. Похолодало. Остро пахло хвоей и прелью. Чахлый свет с обложного неба терялся в этом великом лесу, скользя и умирая на лакированных листьях. Стояла такая тишина, что было слышно, как падали длинные иглы сосен, устилавшие землю желто-оранжевым дивным ковром. В опавшей хвое кишели черные маленькие пиявки, и она шевелилась, как живая, наполняя лес угрожающим неясным шуршанием. Мы опять пошли на подъем. Лес начал редеть, и вскоре открылся перевал. Белый чортэнь окружал замшелый мэньдон, на котором была высечена обычная шестисложная мани. Где-то далеко за густой завесой тумана лежал Мустанг. Темный и сумрачный под желто-белым облачным небом. К перевалу подтянулся небольшой караван, несколько груженых яков, отара овец, которые, тоже по местному обычаю, несли маленькие вьючки, да три загорелых до черноты погонщика в чубах тибетского покроя. - Быстрее! Разве вы не видите, что творится на небе? Нам надо успеть пройти перевал, - понукал одноглазый старик, видимо, старший. - Осталось совсем немного. - Яки не хотят больше идти, - пожаловался юноша с большущим зобом. - Если як заупрямился, его не сдвинешь. Это каждый знает. - Зажгите паклю и ткните им под хвост. Набежал первый порыв ветра. Пламя метнулось в сторону. С дубов посыпались желуди. Испуганные обезьяны спешили укрыться в дуплах, торопливо набивая желудями защечные мешки. Будто готовились к долгой голодовке. Затрещала паленая шерсть. Яки заревели, но не стронулись с места. Ветер стих совершенно, и яки вдруг пошли, невозмутимо пощипывая сухую траву. Наконец все взобрались на вершину кряжа. Разбрызгивая копытами воду и грязь, яки прошли по ручьям, впадающим где-то там, вдалеке, в реку Риши. Глинистые струйки сбегали с черных шерстяных косм, запутанных и грязных, в которых застряли колючки и сухие листья. - Смотрите туда, - шофер показал вниз. - Видите вон те серые деревья у хижин? Это нья-дуг-шин, ядовитое рыбье дерево по-тибетски. Люди лимбу бросают их листья в застойные воды, и рыба там засыпает. Дорога крутыми извивами спускалась к реке. Она порой совершенно терялась в высокой осоке и тростниках. Часто встречались кабаньи следы. Хрюкая и шурша травой, шмыгнул дикобраз - главный враг местных жителей, уничтожающий редьку, фасоль и поля дикого ямса. Караван давно остался позади, а я все думал об одноглазом старике, у которого заметил за пазухой размалеванный бубен. Жаль, что не удалось как следует рассмотреть рисунок. Впрочем, и одного беглого взгляда было достаточно, чтобы узнать характерную роспись шаманской магии. Странную смесь шизофрении с инфантилизмом. Здешние лимбу исповедуют «черную веру» - древнюю тибетскую религию бон. У них существует пять классов жрецов: пэдамба, бичжуа, дами, байдан и сричжанга. Пэдамба совершают религиозные церемонии, толкуют сны и приметы, предсказывают судьбу. Бичжуа - попросту говоря, шаманы. Фантастическими танцами они доводят себя до исступления, заклинают духов, вызывают дождь, насылают порчу на неугодных. Дами специализировались на колдовстве. Их коронным номером является изгнание злого духа через рот. Байданы занимаются только лечением больных. Их название, вероятно, происходит от санскритского байдья - лекарь. Но наибольшим почетом пользуются жрецы сричжанга - толкователи священных книг, хранители религиозных традиций. Одного такого сричжангу по званию и откровенного шамана по существу мне довелось повидать в охранном лесу, посвященном Великой Матери. На моих проводников сильное впечатление произвела его весьма банальная, даже несколько трафаретная проповедь. Меня же больше всего заинтересовала железная чашка, к которой святой отшельник изредка прикладывался. Но расскажу все по порядку. Высеченные в голубой скале ступени круто поднимались вверх и пропадали в черной колючей дыре под колоссальным деодаром, увешанным разноцветными ленточками. Казалось, дерево цвело. Скала была источена ходами, гротами и кавернами. Округлые причудливые своды ее бесчисленных пещер казались отшлифованными. В сумрачной их глубине чудились красные мерцающие огоньки. Возможно, это тлели на каменных алтарях курительные палочки. В одной из ниш, где был выбит грубый барельеф Темного Властелина Хэваджры, на охапке соломы сидел мой герой. Узкие и прямые, как дощечки, ладони его были сложены одна над другой и ребром касались впалого живота. На языке пальцев это означало медитацию. Широко раскрытые, привыкшие к вечному сумраку глаза переливались стеклянистой влагой. На голове его была красная остроконечная шапка сакьяской секты, меховую, выкрашенную в оранжевый цвет чубу он набросил прямо на голое тело. Различалась темная впадина живота, резко обозначенные ключицы и ребра. Они не шевелились: отшельник не дышал. В нищенской чаше у ног мокли красноватые высокогорные мухоморы, издававшие тонкий запах мускуса и брожения. Подобно сибирским шаманам и жрецам древних ацтеков, тантрийские ламы изредка пили настой из ядовитых грибов, который придавал им «божественную прозорливость и вдохновение». Заклинатель оставался недвижимым, как изваяние. Трудно было понять, жив он или дух его давно уже отлетел от пустой оболочки, покинул ее, как бабочка кокон. Перед Темным Властелином на северной стене лежал зеленый дамару, связка сухой травы и ярко раскрашенный бубен, на котором были нарисованы круторогие бараны, луна и зубастый дух. Несмотря на красную камилавку сакьяской секты, сричжанга явно склонялся к «черношапочному» шаманству. Горцы считают, что встреча с таким дугпой, наставником волхований, всегда опасна, даже если тот настроен дружелюбно и соглашается помочь. - Что вам здесь нужно? - спросил сричжанга, не разжимая тонких, высохших губ. Казалось, что голос прозвучал откуда-то со стороны. - Жизнь всегда страдание. Источник ваших мучений один - желание. Чтобы не страдать, надо от него отрешиться, надо не жить. - Он потянулся за молитвенной мельницей и раскрутил ее. - Не привязывайтесь сердцем к вашим детям, не копите добро и не сожалейте о нем, когда придут притеснители. Научитесь видеть в них благодетелей, которые освобождают вас от желаний, отравляющих бытие. Вам не дано знать последствий вмешательства в предопределенный порядок вещей. Я же, которому открыты концы и начала, вижу, как одно заблуждение цепляется за другое. Где же мне нарушить течение неизбежности? В каком месте сделать попытку остановить то, чему все равно предстоит неизбежно свершиться? Нет, я не могу ухудшить свою карму такой ответственностью. - Сричжанга оставил хурдэ и отпил немного из железной чаши с настоем мухоморов. Стеклянистый блеск его желтых белков усилился, а зрачки расширились настолько, что поглотили радужку. Пристальный, полубезумный взгляд вызывал неприятное ощущение. Сеанс прорицания был окончен. Я вспомнил о чаше с грибами, когда познакомился в одном из номеров «Природы» со статьей о действии мухоморов на человеческий организм. Там же приводились снимки енисейских писанцев, на которых рукой доисторического ваятеля были запечатлены люди-мухоморы в грибообразных шляпках и звери, неодолимо влекомые на их таинственный зов. Но всего более меня заинтересовала довольно спорная гипотеза автора, отождествившего мухомор с загадочным сомой древних арьев. «Сома» - было написано на алтаре. Вся девятая книга Ригведы посвящена описанию загадочного божества Сомы. Как и огненный бог Агни, которого до сих пор почитают в Гималаях и даже в Японии, Сома многолик и обитает в самых разных местах. Подобно тому как огонь является главным материальным воплощением божественной сущности Агни, Сому олицетворяло некое таинственное растение, о котором мы мало что знаем. Разные исследователи отождествляют его с самыми разными видами трав, и я не стану приводить вереницу латинских названий. Тем более что за подобными предположениями, как правило, нет строгих фактов. В отличие от земного проявления Агни - огонь согревал и освещал, на костре можно было приготовить пищу, огненные стрелы легко поджигали кровли осажденного города и так далее, - растение сома годилось лишь для одного: из него готовили опьяняющий напиток. Во время жертвоприношений молящиеся пили сому и поили священной влагой светозарного Агни, выливая остатки в пылающий перед алтарем жертвенник. Это была особая форма того самого огнепоклонства, которое распространилось почти по всей Азии. Реликты его можно до сих пор обнаружить в фольклоре и обычаях народов Хорезма, Азербайджана, некоторых районов Таджикистана. Не случайно священное растение огнепоклонников называлось «хаома». Последователи За-ратустры чтили в нем то же опьяняющее начало. Сома Ригведы и хаома иранской Зен-давесты - одно и то же растение, одна и та же божественная ипостась. Видимо, правы те исследователи, которые считают, что культ сомы - хаомы предшествовал обеим религиям и вошел в них как своего рода древнейший пережиток. В Авесте, по крайней мере, есть одно место, которое указывает на то, что За-ратустра разрешил употреблять хаому в жертвоприношениях, лишь уступая исконному обычаю.

Яма Лунорогий
Все, что связано со сбором сомы и приготовлением зелья, было окутано тайной. Лишь по отдельным, разбросанным в священных книгах указаниям можем мы в самых общих чертах реконструировать этот процесс. Риг-веда говорит, что царь Варуна, водворивший солнце в небе и огонь в воде, поместил сому на скалистых вершинах. Подобно огню, она попала на землю вопреки воле богов. Но если огонь был украден Магаришваном, индийским Прометеем, то сому принес горный орел. Распространение культа сомы по городам и весям Индостана требовало все больших и больших количеств этой травы, которая росла на склонах Гималаев и в горах Ирана. Сому, таким образом, приходилось возить на все большие и большие расстояния. Торговля священной травой становилась прибыльным предприятием. Но гималайские племена, взявшие это дело в свои руки, в отличие от арьев, не испытывали к своему товару священного трепета. Важнее всего для них было хорошенько нажиться на странном, с их точки зрения, пристрастии соседних народов к простому цветку. Цены на сому непрерывно росли. Вероятно, из-за этого гималайских торговцев стали считать людьми второго сорта. Впоследствии, когда обычаи обратились в законы о кастах, торговцев сомой включили в одну из самых презренных варн. Они были поставлены в один ряд с ростовщиками, актерами и осквернителями касты. Им строго-настрого запрещалось посещать жертвоприношения, дабы одним своим присутствием не осквернили они душу растения. Древнее поверье гласит, что цветок громогласно кричит и жалуется, когда его срывают, а если совершивший столь презренное дело осмелится войти в храм, дух Сомы утратит силу. Неудивительно, что торговцев сомой туда не пускали. И вообще в глазах поклонника сомы всякий, кто, имея священную траву, не поступал с ней надлежащим образом, выглядел отщепенцем. Весь род людской арьи четко подразделяли на «прессующих» и «непрессующих». Те, кто не гнал из спрессованной травы опьяняющего зелья, не заслуживали человеческого отношения. Для арьев они были хуже, чем варвары для римлян. Даже случайная встреча с «непрессующим» требовала немедленного очищения. Постепенно выработался сложный церемониал покупки сомы у «непрессующих». Он может показаться до крайности смешным и нелепым, но надо помнить, что для арьев все было исполнено символического значения. Так, платой за арбу сомы служила обычно корова, причем обязательно рыжая, со светло-карими глазами. Торговца, вероятно, меньше всего интересовали масть и цвет глаз полученной коровы, но покупателю было важно представить сделку в виде своеобразного обмена одной божественной сущности на другую. Строгая канонизация красок как бы символизировала золотистый оттенок сомы. Вот и получалось, что обычная купля-продажа обретала вид сакральной церемонии. Покупали-то не просто траву, а душу бога, которого, согласно гимну, «не должно ни вязать, ни за ухо дергать», иначе говоря, обращаться непочтительно. Гимны Ригведы описывают процесс приготовления сомы в таких причудливых, нарочито затемненных выражениях, что почти невозможно ничего понять. Нечто вроде алхимических рекомендаций. «Растение собирают в горах в лунную ночь и вырывают с корнем, - отмечается в книге 3. А. Рогозиной «История Индии» (Петербург, 1905 г.). - Оно доставляется к месту жертвоприношения на повозке, запряженной парой коз, и там, на заранее подготовленном месте, которое зовется «вэди» или «сидение богов», жрецы прессуют его между двух камней. Потом, смочив образовавшуюся массу водой, бросают ее на сито из редкой шерстяной ткани и начинают перетирать руками. Драгоценный сок по каплям стекает в подставленный сосуд, сделанный из священного дерева ашваттха. Далее его смешивают с пшеничной мукой и подвергают брожению. Готовый напиток подносится богам три раза в день и испивается брахманами, что является, бесспорно, самым священным и знаменательным приношением древности. Боги, которые незримо присутствуют при изготовлении напитка, жадно выпивают его и приходят в радостное, возбужденное состояние. Сома очищает и животворит, дарует бессмертие и здоровье, он открывает небеса». Судя по описаниям Ригведы, сома содержала наркотические вещества, близкие к ЛСД или мескалину, добываемому из мексиканской агавы. Кто хоть однажды испил сому, превозносил огненный животворный напиток, поднимающий дух и веселящий сердце. Но те же веды утверждают, что кроме священнослужителей сому дозволяли попробовать очень немногим. Желавший причаститься сомой прежде всего должен был доказать, что у него в доме есть запас продовольствия на целых три года. Очевидно, воздействие сомы на отдельно взятого человека было трудно предсказуемо и могло оказаться весьма продолжительным. Человек рисковал, по-видимому, многим. Он мог надолго потерять трудоспособность. Для того и требовался гарантированный запас пищи. Жрецы таким образом сводили до минимума отрицательные последствия питья. Умереть с голоду человек не мог, а остальное уже воля божья. Из известных препаратов столь продолжительное остаточное действие может вызвать только ЛСД. Гофман, синтезировавший это вещество и попробовавший его на себе, пишет, что влияние ЛСД на организм может ощущаться в течение многих месяцев. В одном из гимнов богу Соме говорится буквально следующее: «Вот думаю я про себя: пойду и корову куплю! И лошадь куплю! Уж не напился ли я сомы? Напиток, как буйный ветер, несет меня по воздуху! Он несет меня, как быстрые кони повозку! Сама собой пришла ко мне песня! Словно теленок к корове. И песню эту я ворочаю в сердце своем, как плотник, надевающий на телегу колеса. Все пять племен мне теперь нипочем! Половина меня больше обоих миров! Мое величие распространяется за пределы земли и неба! Хотите, я понесу землю? А то возьму и разобью ее вдребезги! Никакими словами не описать, как я велик…» Как поразительно это напоминает рассказ Гофмана о действии ЛСД. Долгое время эту исполненную бахвальства песнь толковали в качестве откровения бога воителя и громовержца Индры. Но сам строй ее, примитивный набор изобразительных средств и сравнений заставляет в том усомниться. Нет, не бог, усладивший себя сомой, вещает свои откровения, а именно простоватый деревенский житель. Недаром в той же книге Рогозиной приводятся слова другого любителя священного зелья, который говорит: «Мы напились сомы и стали бессмертны, мы вступили в мир света и познали богов. Что нам теперь злобное шипение врагов? Мы никого не боимся». Совершенно очевидно, что сказать так мог только смертный человек, а не бог. Тем более что в других гимнах люди, пьющие сому и выливающие опивки в жертвенное пламя, откровенно завидуют богам, особенно тому же Индре, который поглощает чудесный напиток целыми бочками. И здесь мы подходим к самому интересному моменту. Возникает вопрос: зачем богам пить сому, когда у них есть амрита - истинное питье небожителей, дарующее мощь и бессмертие? В чем здесь дело? Без амриты боги не только утратили бы бессмертие и могущество, но и саму жизнь. Мир сделался бы необитаемым и холодным, бесплодным, как мертвый камень. Ведь амрита - питье бессмертия - есть не что иное, как дождь и роса, одним словом - влага с большой буквы, влажное начало, насыщающее всю природу, питающее жизнь во всех ее проявлениях. Но амрита - стихия, отвлеченное понятие индуистской философии, тогда как сома - нечто реальное. Ее можно даже попробовать. Человек, вкусивший сомы, легче может вообразить себе, что чувствуют боги, пьющие амриту. Жертвоприношение в честь сомы на земле символизирует животворное распространение небесного Сомы, иначе говоря, Амриты. Шкура буйвола, на которую ставят каменный пресс, - это туча, чреватая дождем, сами камни - громовые стрелы, или ваджры грозовика Индры, сито - небо, которое готово пролить на землю священный напиток, лелеющий жизнь. Таков потаенный смысл всего действа приготовления сомы. Это закон подобия, без которого нельзя понять образ мысли древнего человека. Это мандала бога Сомы, в освящении которой сома-напиток выступает как земное подобие амриты. Одно подменяет другое, как шкура - тучу, камень - молнию, а сосуд, в который собирают млечный сок, - поднебесный водоем Самудра. Подобная символика позволяет понять целевую направленность самых, казалось бы, непостижимых и странных действий. Возьмем, например, следующее заклинание: «Пей бодрость в небесном Соме, о Индра! Пей ее в том же соме, который люди выжимают на земле!» Здесь проявляется действие закона подобия: «Что внизу, то и вверху, как на земле, так и на небесах». Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста. Отождествление Сомы с водами и растениями позволяет уже иначе взглянуть на его родство с Агни. Сома являет собой того же Агни, иначе говоря, он олицетворяет все тот же огонь, но только жидкий. В этом главное, священнейшее таинство брахманизма. Суть его в том, что огненное, жизненное начало проводится в сердцевину растений, в их семя, в человеческий организм, наконец, только посредством воды. Здесь проявляется главный принцип индийской натурфилософии, ее стихийная диалектика, утверждающая борьбу и единство противоположных начал: огня и влаги. На нем построены религиозные учения, этика и повседневный обиход. Он целиком вошел в практику йоги и в основы индо-тибетской медицины. Героем культа, героем народного эпоса может стать только личность. И подобно неистовому Агни, олицетворяющему жаркое пламя, людская фантазия создала Сому - бога жидкого огня, одухотворителя жизни. Но если Агни часто ассоциировался с Солнцем, то Сому пришлось уподобить Месяцу. Луна почти у всех народов являлась синонимом плодотво-рящей влаги. И действительно, в мифологии позднейшего, эпического периода Сома есть именно Месяц. В Пуранах Месяц прямо называется ковшом амриты. Когда он прибывает и ночи светлеют, боги пьют из него свое бессмертие, когда идет на убыль, к нему приникают преты, или бириты, - души умерших - и высасывают до дна. В ту минуту, когда преты выпьют последнюю каплю, ночь делается непроглядной. Упанишады, которые древнее Пуран, прямо говорят: «Месяц есть царь Сома, пища богов». Таким образом, культ Сомы имеет еще одну грань, астральную. Подобная многозначность не является исключением. Астральные тенденции легко прослеживаются в мифологии Египта и Двуречья. Увиденный нами жертвенник был поставлен здесь жрецами лунного бога. Это маленькое открытие Миши таинственным предвидением художника предвосхитил Рерих. Картина «Мехески - лунный народ»…
ПОД ЗНАКОМ ЛУННЫХ РОГОВ
(Интерлюдия на лунную тему)
Дохнул якоголовый Яма, И ты пред ним, как съежившийся лист. Дхаммапада
Трудно было предположить, что песчаный курган Алтын-депе в Каракумах укрывает самое древнее, может быть, городище на территории Союза. Лишь развалины странной ступенчатой башни напоминали о том, что на этом заброшенном пустыре когда-то жили люди. Впрочем, и развалины эти, поросшие скудной степной травой, почти ничем не отличались от выветренных раскрошенных скал, в которых ищут приюта пыльно-серые ящерицы и скрытные недоверчивые змеи пустыни. И все же более четырех тысячелетий назад здесь возвышался двенадцатиметровый зиккурат - своеобразный храм-обсерватория, где маги, подобные вавилонским, совершали жертвоприношения и по движению небесных светил исчисляли человеческие судьбы. Зиккурат, раскопанный советскими археологами близ туркменского кишлака Меана, был построен в те далекие времена, когда существовали Ур и Лагаш и древние шумеры только-только начали передавать «накопленный опыт» своим преемникам - халдеям. Подобно шумерским ступенчатым башням, Стоунхенджу и храму Ра, астральный зиккурат Алтын-депе строго ориентирован по странам света. Древние жрецы неведомого божества навечно остались в подземельях разрушенного святилища. В «зале черепов» громоздятся окаменевшие, подкрашенные солями земли их останки, пустые глазницы взирают из темных ниш на пришельцев, осмелившихся через тысячи лет потревожить вечный покой забвения и небытия. Безмолвие и безвременье пустыни. Раскопки последних лет позволили приподнять завесу тайны над пустынным зиккура-том - единственным из известных во всей Средней Азии. Мы не знаем пока, кто были построившие его люди, на каком из языков, ныне мертвых, они говорили, но уже можно с уверенностью судить о том, в честь какого божества пылало пламя в закопченном очаге близ главного алтаря. Божеством этим была Луна - царица ночи. Шумеры почитали ее под именем бога Нанна или Сина. В закладной надписи, которая была обнаружена при раскопках Ура Халдейского, говорилось, что «для Нанна, могучего небесного быка, славнейшего из сынов Энлиля, своего владыки Ур-намму могучий муж, царь Ура, воздвиг сей Храм Этеменгуру». Небесного быка! Я видел золотую бычью голову с тонкими, круто изогнутыми рогами, обнаруженную в раскопках Алтын-депе. (Поразительна память народа, ведь слово «алтын» означает золото!) Бычий лоб украшает бледно-зеленая - мертвая уже - бирюза. Точнее, бирюзовый полумесяц, по-азиатски рожками вверх. Так выглядит эта ставшая археологической сенсацией номер один находка. Небесный бык - символ лунного божества с полумесяцем во лбу! Поразительное единство главнейших лунных символов. Порознь их можно увидеть по всей Азии - от Месопотамии до Японии. Мне они встречались на древнем валуне Трансгималаев, забрызганном золотистыми пятнами лишайников, где каменным резцом навеки запечатлены круторогие быки и бараны, и на современных государственных флагах с полумесяцами, на базальтовых обелисках Гоби, с которых смотрит сквозь века увенчанный луной знак соёмбо - священный символ Монголии, и в огненном праздничном небе Вьетнама, где взрываются лунопо-добные шутихи в ночь тета - нового года по лунному календарю. Когда же и как стала волшебница ночи богиней? Как и когда наш спутник извечный превратился в могучего бога-быка? С каким изумлением следил, наверное, первобытный человек за эволюцией лунного диска в ночи! Луна росла и убывала, как живое существо, тучнела и усыхала, исчезала совсем и неуклонно вновь возрождалась в звездной черноте неба. В этой поразительной смене была неуклонная закономерность, которая проявлялась от века, которая останется неизменной до скончания лет. И когда люди поняли наконец, что между двумя новолуниями лежат четыре четверти, они сделали важнейший шаг от краткой меры времени - дня - к более продолжительной - месяцу. Периодическая смена лунных фаз вошла в плоть и кровь наших представлений о мире. Наблюдение это было надежнейшим и досто-вернейшим в сокровищнице первобытных знаний. Здесь проявлял себя великий порядок вселенной, столь отличный от хаоса не поддающихся учету землетрясений и ураганов, ливней и гроз, лесных пожаров и речных наводнений. Пусть нельзя было предвидеть опустошительные набеги стихий, но зато появилась реальная возможность измерить ход самого времени, неуловимого, непостижимого, дарующего жизнь и смерть всем существам. Впервые в сознании человека мелькнула смутная идея о начале и конце, о вечности и продолжительности. Изменчивая царица ночи стала великим учителем, мерой времени, которое никому не подвластно, которому подвластно все. Не случайно Луна на санскрите называется «мае», то есть измеритель, не случайно латинское «мензис» - месяц - находится в тесной связи со словом «мензура» - мера. Вот почему именно Луна, а не Солнце, сделалась первым объектом поклонения. У народов Центральной Америки издавна существовал лунный год - мера времени, предназначенная для установления религиозных праздников. Это «топаламатль», которым пользовались жрецы в тайных магических обрядах и при составлении гороскопов. «Топаламатль», обнимавший 260 дней, включал в себя девять лунных месяцев и ничего общего не имел с солнечным годом, продолжительность которого майя определяли с точностью, ставшей доступной для современной науки лишь в самые последние десятилетия. Лунным календарем пользовались и народы, населявшие Месопотамию, где Луна тоже почиталась ранее Солнца. Глиняные клинописные таблички донесли до нас слова древнего гимна:
О Луна, ты единая проливающая свет, Ты, несущая свет человечеству.
В Южной Туркмении найдена женская фигурка с кругами на бедрах, свидетельствующими о том, что уже в четвертом тысячелетии до новой эры существовала земледельческая система счисления времени. Сделанные в седьмом тысячелетии наскальные рисунки в Кан-чель-де-Маома (Испания) являют удивительную картину чередования лунных фаз. На резном мамонтовом клыке, найденном близ украинского селения Гонцы, обнаружены такие же лунные рисунки. Это лунный календарь, по которому отсчитывали дни пятнадцать тысяч лет назад… Халдейские жрецы тоже в своих астрологических вычислениях предпочитали Луну. По пятнам на серебряном лике ее судили они о судьбах властителей и народов. От той эпохи мы унаследовали многое. В том числе и семидневную неделю, тесно связанную с культом семи планет. Кроме Солнца, Луны и Венеры халдейские жрецы признавали движущимися еще четыре светила: Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Каждому из них был посвящен один день недели, который и получил соответствующее планетное имя. В ряде языков имена эти сохранились и по сей день: зоннтаг, или солнечный день, - воскресенье, монтаг, или лунный день, - понедельник. Еще во времена Тихо Браге гадатели взывали к вавилонским богам. «О, Син! Ты предсказываешь богам, которые тебя просят об этом!» - говорится в одном заклинании. От вавилонян лунная мера времени перешла к другим народам Средиземноморья. При определении церковных праздников лунным календарем руководствуются мусульмане и иудеи, христиане, которые определяют по нему наступление праздника пасхи, и буддисты, которые связывают с фазами Луны рождение и уход в нирвану Шакья-Муни. В одном из христианских псалмов прямо говорится: «Он (бог) создал Луну, чтобы определять времена». Надо ли удивляться тому, что у многих народов земли Луна почиталась как главное божество? Совпадение ее фаз с самыми разными проявлениями живой и мертвой природы: приливами и отливами в морях, понижением температуры и обильными росами, которые обычно выпадают в ясную лунную ночь, усилением роста некоторых растений и лунной периодичностью жизненно важных функций человеческого организма - издавна волновало людей. О Луне было сложено гораздо больше всевозможных мифов, чем о Солнце. Впоследствии фазы Луны связали с концепцией смерти и воскресения. Она стала носительницей идеи вечного вселенского круговорота, подчиняясь которому погибают с наступлением осени травы и возрождаются вновь, когда приходит на Землю весна. Недаром с прибыванием месяца в новолуние связывают не только произрастание злаков, но и благополучие стад, и здоровье детей. Так, у центрально-африканского племени баганда при появлении нового месяца матери выносят своих младенцев и показывают их возрожденной Луне. Аналогичные обычаи, если верить Плутарху, существовали и у древних греков, и у армян, и у персов. Считалось, что молодая Луна способствует приросту денег и вообще удаче во всех начинаниях. В Германии многие столетия приурочивали к новой Луне посевы и свадьбы, закладку нового дома и покупку земли. Когда же Луна входила в последнюю четверть, волшебное воздействие ее, напротив, считалось неблагоприятным. Новых дел лучше было не начинать. Особенно не рекомендовалось выходить на охоту и отправляться в военный поход. По свидетельству Геродота, спартанцы именно по этой причине вовремя не послали свои войска против персов в битве при Марафоне, что, как известно, чуть было не погубило Грецию. С новолунием были связаны пышные ритуальные праздники, сопровождаемые плясками, пением и молитвами. Готтентоты и кельты, иберы и галлы встречали новорожденную богиню ночного неба рокотом барабанов, хриплым ревом раковин и рогов, древние евреи ежемесячно читали по этому случаю особую молитву. На всем земном шаре у земледельцев су-цествует поверье, что сеять надо, когда Луна ларастает, а жать - когда она на ущербе. Во Франции вплоть до великой революции существовал закон, согласно которому рубить лес можно было только после полнолуния, когда он особенно сух и хорош. В Бразилии до сих пор драгоценные породы дерева заготавливают именно в этот период. Существуют даже специальные клейма, удостоверяющие, в какой лунной фазе срублено то или иное дерево. Считается, что поваленный после полной Луны лес не гниет и стойко сопротивляется древоточцам. В определенный период культ Луны занимал главное место во многих религиях. Древнейшим центром лунного культа были вавилонский Ур и Харана в Месопотамии. В Вавилоне бог Луны Ану считался владыкой и всего неба, египетский Озирис почитался не только лунным богом, но и покровителем всего произрастающего на Земле, античная Диана тоже олицетворяла собой не только одну Луну, но слыла покровительницей охоты, богиней урожая и деторождения. Пережитки лунного культа встречаются и по сей день. В Кашмире, Западном Непале и Пакистане, например, в полнолуние принято наполнять водой серебряные сосуды. Страдающие недугом люди ловят в них отражение полной Луны и, закрыв глаза, выпивают воду. Считается, что это помогает от всех болезней. В других районах индийских Гималаев на крышу жилища кладут съестные припасы. Согласно древнему поверью, пища, впитав свет полной Луны, становится целебной и способствует продлению жизни. У народов Юго-Восточной Азии Луна отождествляется с лягушкой, черепахой или рыбой. В буддийских пагодах на алтарях часто ставятся изображения этих животных. Это дань древним забытым верованиям, которые вобрала в себя одна из мировых религий на своем долгом пути из Индии к восточным пределам и далеко за северные горы.
Сам он начал чародейство, Приступил к волшебным песням; На полу быка он сделал, С золотыми бык рогами… Калевала
Чисто зрительно месяц ассоциируется с рогами. Это привело к тому, что Луну стали отождествлять с быком. Известную роль сыграли здесь и представления о сакральном влиянии Луны и быка на производительную силу земли и животных. Так лунный культ проложил себе пути не только в митраизм, зороастризм, но даже в сибирское шаманство, где символом лунного диска сделался бубен. Везде, где только люди изображали своих богов с рогами, существовало с незапамятных времен почитание Луны. Богини-Матери, вавилонская Астарта и индийская Парвати, рогатый Моисей и даже Александр Великий (Искандер Двурогий, как называли его на Востоке), Озирис и Изида равно получают лунные рога как атрибут высшей власти и святости, а знаменитое лунное божество Вавилона Син рисуется молодым двурогим тельцом, которого именуют, однако, быком могущественным и диким. Бычьи рога получает грозный владыка преисподней Яма (Эрлик-хан по-монгольски), тонкий серп украшает прическу вселенского сокрушителя Шивы - супруга милостивой Парвати, Богини-Матери, богини Луны. Английский археолог Джеймс Мелларт обнаружил на плато Конья в Турции поселение Чатал-Юйюк, существовавшее от середины седьмого до первой четверти шестого тысячелетия до нашей эры. В одном из глинобитных домов было найдено помещение, в котором стояли три исполинские бычьи головы, выкрашенные в красный цвет. Горельефы из бычьих голов и женских грудей украшали и стены загадочного зала. Это было одно из древнейших святилищ в честь Великой Матери, чьими атрибутами, как и повсюду, были бык и змея.

Яма и Ями
Как последняя дань лунной производительной силе под власть Луны подпадают и культы божественных близнецов. В дни полнолуния и новолуния близнецам приносят обильные жертвы. Все герои культа близнецов: Яма и Ями индийских Вед, Леда, Деметра, Сильвия, Идас и Елена античности - превращаются в лунные божества. Становится Луной еще одна великая богиня - Мать Кибелла. Это высшее торжество Луны, ее апогей, за которым последует закат и победа нового бога - лучезарного дневного светила. И словно провидя повсеместную победу Ра над Озирисом, Плутарх писал: «Луна с ее влажным производительным светом способствует плодовитости животных и росту растений, но враг ее, Тифон-солнце с его уничтожающим огнем - сожигает все живущее и делает большую часть Земли необитаемой своим жаром». Какой же путь должно было проделать человечество, чтобы суметь дерзновенной рукой сорвать таинственное покрывало Изиды! Не богиня и не мера счисления времени, а планета-спутник стала объектом нашего исследования. Галилей навел на нее свой телескоп и вместо странных, причудливых пятен обнаружил горные цепи и кратеры, Медлер, Беер и др. составили первую карту, наша ракета впервые облетела вокруг нее и выбросила на камни чужого мира звездный вымпел, астронавт Армстронг оставил в ее пыли ребристые отпечатки своих подошв, трудяги-луноходы пробурили ее поверхность, чтобы взять пробы лунного вещества! Какой долгий, трудный и блистательный путь! И едва ли не первой вехой на нем стала смелая мечта, впервые позвавшая человека в звездную бездну. Она положила конец религиозному почитанию Луны, она предвосхитила научное исследование вечной спутницы нашей Земли. Мы смело можем сказать, что стремление к Луне было фантастикой, может быть, даже научной фантастикой, потому что людей манил к себе уже серебряный остров в звездном море, а не бог, неведомый мир, а не Син и Диана. Огненные волосы грозной Лхамо, охранительницы верховных иерархов Лхасы, тоже заколоты лунным серпом. Это ламаистское воплощение страшной Кали - жены хозяина Шивы - окружено в Гималаях особым почетом. Она издавна считается покровительницей беременных женщин, чья жизнетворная мощь, какзаметили еще древние, находится в зависимости от лунных циклов. Палдан-Лхамо скачет на пегом муле, рожденном от красного осла и крылатой кобылицы. У нее под седлом кожа чудовищного людоеда, зеленые змеи служат мулу уздой. На таких же змеях висят срезанные головы и кости, на которых ведется роковая игра на жизнь и смерть. Кали-Парвати-Лхамо. Так замыкается еще одно колесо повествования, где мир богов представлен хозяином Шивой и позабытым Сомой древних Вед. Оно охватывает не только Индию и Непал - индуистское королевство в Гималаях, но почти весь древний мир. От сурового севера, где рунами Калевалы воспето могущество златорогого быка, до знойных песков Египта, воздававшего божеские почести быку Апису и Изиде - Великой Матери с рогами и диском на голове. Явившись во сне герою «Золотого осла» (бессмертных «Метаморфоз») Апулея, богиня говорит: «Вот я пред тобою, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времен, высшая из божеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь, мановению которой подвластны небес лазурный свод, моря целительные дуновенья, преисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу, чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная. Там фригийцы, первенцы человечества, зовут меня Песси-нутской матерью богов, тут исконные обитатели Аттики - Минервой Кекропической, здесь кипряне, морем омываемые, - Пафийской Венерой, критские стрелки - Дианой Диктиннской, трехъязычные сицилийцы - Стигийской Прозерпиной, элевсинцы - Церерой, древней богиней, одни - Юноной, другие - Беллоной, те - Гекатой, эти - Рампузией, а эфиопы, которых озаряют первые лучи восходящего солнца, арии и богатые древней ученостью египтяне почитают меня так, как должно, называя настоящим моим именем - царственной Изидой». Кали - скажет шиваит, Лхамо - тибетский крестьянин. Рыбы на чешуйчатых крышах древних вьетнамских пагод, «лунные камни» Шри Ланки с бегущими в полукружьях животными - хранителями стран света, огненные феерии в торжественную ночь майского полнолуния… Все это живые следы древнейших культов в истории человечества. «Одним из главных побудительных моментов был бог Солнце, - пишет Дж. Хоукинс в книге «Кроме Стоунхенджа» - прославленный древнеегипетский Ра, перуанский Кон-Тики… Пять веков строители Стоунхенджа - сначала люди энеолита, потом бикеры, а затем уэссекцы - наблюдали Солнце и Луну, открывали тайны окружающего мира, прослеживали периодичность, предсказывали опасное время затмений. Гигантское сооружение создавалось в соответствии с этой астрономическо-математической схемой, хотя, по всей вероятности, ее сложная научная основа оставалась скрытой от воздвигавших его простых тружеников. Замысел во всех подробностях был известен только сословию жрецов. Но как ни величавы Солнце и Луна, сами по себе эти небесные тела не могли послужить столь мощным стимулом. До открытия тесной связи Стоунхенджа с астрономическими явлениями считалось, что его строительство определялось чисто религиозными побуждениями. Осознание окружающего мира, религия, жизнь и смерть - каков был синтез - слияние этих тем в тогдашней культуре?» Гипотез может быть множество, а истина, как известно, только одна. Ее еще предстоит открыть этнографической науке.
МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Уходят мудрые от дома, Как лебеди, покинув пруд. Им наша жажда незнакома - Увидеть завершенным труд. Им ничего не жаль на свете - Ни босых ног своих, ни лет. Их путь непостижим и светел, Как в небе лебединый след. Дхаммапада
На галечном берегу мутно-зеленой клокочущей Сети мы оставили наш безотказный джип, чтобы подняться в горы, где в узкой, выгнутой седловине приютилась деревушка племени кхампа. Зеленое небо горело предзакатным пронзительным светом, в котором сочнее видятся краски, рельефнее - предметы. В центре большого маисового поля белел монастырь. Ухмыляющийся череп с трезубцем на темени охранял уединенную обитель от духов зла. Мелодично позвякивало при каждом обороте трехметровое колесо с молитвами, которое денно и ношно крутил слабоумный немой калека с блаженной улыбкой на черном от загара лице. Вокруг, осененные тенью банановых опахал, были разбросаны каменные хижины. В подсыхающей луже плескались утята. Овцы на горном откосе пощипывали волокнистые корешки. Наверное, обитатели этого мирного поселка старались наладить свою жизнь так, чтобы она почти не отличалась от той, какую вели их деды и прадеды. Чисто внешне все выглядело так же, как там, за перевалами Трансгималаев. Резкая перемена была незаметна, но глубока и необратима. На новом месте кхампа организовали кооператив, где все было общим: доходы и траты. Они построили школу и монастырь, чтобы молодежь училась на тибетском языке, соблюдала заветы предков. Организовали столовую, в которой всегда есть камские пельмени и рисовый чанг. Открыли сообща магазин, чтобы каждая семья могла обзавестись предметами первой необходимости. Деньги на территории кооператива не в ходу. Каждое утро молодые парни с рюкзаками за спиной спускаются в долину. Возле альпийских гостиниц, прямо на траве, они раскладывают свои сокровища. Словно приоткрывается окошко в призрачный мир. Вспыхивает чешуйчатая бирюза на серебряных гау с образками, переливаются на солнце коралловые перстни, один за другим появляются предметы, об истинном предназначении которых знают только старые ламы и уче-ные-тибетологи. Далеко за океан в чьи-то частные коллекции утекает тибетская старина: ножи для заклятия демонов - пурбу, янтарная перевязь из черепов, бесценная чаша гаданий. В белом монастыре уже ничего похожего не осталось. Зато беспрерывно звонит колесо, и фрески на стенах по богатству и красоте почти не уступают амдоским. Своя система ценностей. Кажется, что важна не суть, а лишь форма. - Мы сделали все, как на далекой родине, - объяснил настоятель Дуп-Римпоче. - Теперь у нас одна забота: закончить крышу.

В горной обители
Он жил и учился в знаменитом Лабране. Третью степень по медитации получил после того, как два года провел в темной пещере. Возможно, высшее искусство сосредоточения одарило его и приветливым этим спокойствием, и этой удивительной бесстрастной доброжелательностью. С безучастной просветленной улыбкой он рассказал о крушении привычного мира. - Мы все живем надеждой. Жить трудно. Но жить всегда трудно. Я думаю о вечном и мечтаю закончить крышу, - рассказывал он охотно и деловито, с какой-то сдержанной радостью, которая осталась для меня непонятной. Но будущее было закрыто и для него, ламы высшего посвящения, закончившего тайный факультет чжюд. Я расспрашивал его о годах, проведенных в пещере. Ему было двадцать пять лет, когда, согнувшись, пролез он вслед за своим наставником в черную дыру. Неровные, сглаженные временем ступени вели в темноту. Наставник спускался легко и уверенно. Видно, ходил сюда часто, а может быть, просто умел видеть в темноте. Ученик же шел, цепляясь за шероховатые стены. Осторожно нащупывал ногой ступень и только потом так же осторожно ставил другую ногу. Этот узкий слепой лаз в монастырской стене вел внутрь горы. Ступеньки были разной высоты, и порой казалось, что под ногой пропасть. Все же он одолел этот спуск и медленно пошел вдоль узкого коридора. Идти приходилось пригнув голову и на полусогнутых ногах. Внезапно в затхлый мрак подземелья просочилось дуновение свежего воздуха. Он шел навстречу холодной струе, напряженно вслушиваясь в могильную тишину. Больше всего ему хотелось сейчас услышать шаги наставника. Но тот словно сквозь землю провалился. На секунду он потерял всякий контроль над собой. Что-то сорвалось в сердце, и полетело, и понеслось, как валун по отвесному склону. Слепой ужас, подобно начавшейся лавине, обрастал лихорадочными подкреплениями смятенного ума. Смятение отхлынуло, когда впереди заколыхался ржавый огонек. Очевидно, наставник запалил какую-то плошку. На голой, источающей слезы стене зияли небольшие черные дыры, куда можно было просунуть только руку. Немые кельи тех, кто избрал для себя полный отход от мира. Когда душа покидала кого-нибудь из этих святых, монахи-служители узнавали о том лишь по нетронутой чашке с едой. И то не сразу, потому что созерцатели зачастую не притрагиваются к пище много дней подряд. Когда лаз, через который новый отшельник протиснулся в келью, замуровали, для Дуп-Римпоче настала вечная ночь. С детских лет его учили тому, как отрешиться от всяческих проявлений трех миров буддийской вселенной: мира вожделений, мира прославленных форм и мира невещественного. Он оставил друзей, заставил себя позабыть близких, а наставник помог ему избегнуть козней шимнусов - духов, опутывающих страстями отшельников, избравших дорогу праведной веры. Приняв надлежащую асану, он устремил взгляд туда, где должен был находиться большой палец правой ноги. Увидев его внутренним зрением, молодой созерцатель представил себе, как с пальца сходит кожа, отваливается гниющее мясо и обнажается белая кость. Так, последовательно освобождаясь от плоти, он из надзвездных бездн мог различать каждую косточку своего скелета. Прежде чем узреть свет, ему предстояло пройти сквозь тьму собственной смерти. Таков был смысл испытания, к которому его никто не понуждал. Обратив себя в мертвеца, Дуп-Римпоче начал превращать в скелеты все существа, населяющие вселенную. Он ясно видел, как под влиянием его всемогущей воли громоздится гора костей. Они трещали, лопались, обращались в пыль, но гора продолжала расти, захватывая все видимое пространство. И тогда вдруг взметнулось пламя, мгновенно пожравшее отвратительный холм смерти. Дуп-Римпоче потерял сознание. Вернее, впал в нескончаемый кошмар, из которого невозможно было вырваться. Смятенное сердце рвалось от боли и ужаса, а проснуться, одолеть наваждение не удавалось. Нельзя было пошевелить ни рукой, ни ногой. Казалось, что оцепеневшее тело превращается в глыбу льда. Из мрачной бездны вывел наставник. Объяснил созерцателю, что тот не вполне освободился от вожделений и привязанностей мира, и предписал новый ряд видений. И тогда фантастические чудовища заполнили темную келью, отвратительные демоны с гнилостным дыханием и гнойно сочащимися очами, клыкастые ведьмы, гребенчатые драконы и змеи окружили несчастного узника с разных сторон. Вновь взметнулось очистительное пламя, и Дуп-Римпоче впал в то же бессознательное состояние, когда человек ощущает себя бесконечно несчастным и ничего более не сознает. После этого он проболел несколько дней, мечтая о смерти. Но настала минута, когда созерцатель увидел яркую звезду, выплывавшую из самых недр его собственного, полузасыпанного песком скелета. За ней тянулся шлейф из нестерпимо ярких шариков. Дуп-Римпоче начал считать их и насчитал ровно сорок. Это было, как учил наставник, верным признаком совершенного освобождения. Потом из его лба выкатилась светлая жемчужина и, упав вниз, пронзила землю и другие оболочки мипоздания: воду, ветер и жаркий огонь. В тот же миг тело созерцателя сделалось невесомым и прозрачным, как вода. Исчезли кости и вся внешняя видимость. Но это продолжалось недолго. Достигнув пятой стихии - пустоты у края вселенной, жемчужина, подобно хвостатой комете, описала исполинскую дугу и, полыхнув несказанным светом, вошла в пупок созерцателя. Это было зерно лотоса. Из него вырастали побеги, распускался чудесный бутон, открывая спрятанное сокровище. Видеть будд созерцателя научил тот же наставник. Множество раз заставлял он Дуп-Римпоче воображать себе образ будды во всем его величии и красоте. И в урочный час будды начали выходить из надбровной точки, откуда прежде выкатилась жемчужина. Их было бесчисленное множество, и они заполнили собой все миры, стихии и землю, ставшую золотой и прозрачной, как стекло. Таким же сверкающим и чистым сделалось и тело самого Дуп-Римпоче, когда в него один за другим возвращались будды. Переполненный неизъяснимым счастьем, он почти не нуждался в еде и лишь изредка прикладывался к чашке, где всегда находилась свежая родниковая вода. Устремляя мысль в область сердца, созерцатель научился извлекать будд и оттуда. Один за другим выходили они наружу с сапфировой Ваджрой в руках, чтобы вскоре вернуться обратно. Венцом всего был сапфировый лотос с золотой чашечкой, выросший из пупка. На нем покоился будда созерцания, и из его пупка тоже выходил лотос, на котором сидел новый будда. И не было конца этой гирлянде лотосов и будд. Пятицветное сияние окружило чело созерцателя, сверкавшее ярче драгоценных камней. Он узрел облако, на котором парил Амитабха, из чьих уст вылетали лотосы и сыпались благодатным дождем. Когда же земля и небо совершенно скрылись за их ароматной завесой, из пупка вышли львы и пожрали магические цветки. Уничтожив последний лотос, львы скрылись в пупке Амитабхи, а сам он вошел в голову созерцателя. Это было самадхи, называемое «Прыжок льва». Начальная ступень крутой лестницы созерцания, по которой Дуп-Римпоче предстояло взобраться до самых вершин… Я понял, что видения стали для него единственной реальностью, а окружающее он воспринимает, как легкое облачко, заслонившее ненадолго солнце. Яркое, но не греющее солнце вымышленного мира. На прощание Дуп-Римпоче преподнес мне белый хадак - длинный шарф, без которого в Гималаях не обходится ни одна встреча. Выйдя проводить нас на плоскую крышу, он поднял руку с четками, испрашивая у неба благополучную дорогу гостям. Его алое одеяние резко выделялось на белой стене рядом с красной лестницей, ведущей на верхнюю, пока недостроенную крышу. Коралловые с двумя хвостиками четки в 108 зерен рябиновой гроздью рдели в безоблачной синеве. Я не раз обещал рассказать о магическом числе 108 и каждый раз откладывал на потом. Возможно, по той простой причине, что не знал, с чего начать. Но и теперь, когда представилась еще одна, уже последняя, возможность, я по-прежнему нахожусь в затруднении.

Дуп-Римпоче
Собираясь с мыслями, считаю до десяти. По ассоциации вспоминаю, что мог бы считать на санскрите, тем более что это совсем просто: эка, дви, три, чатур, панчан, шаш, саптан и так до бесконечности. Словно рукой подать до праязыка, а то и до тех былинных времен, когда имена вещей назывались впервые. В индийской, как и в других культурах Востока, алфавит и числовой ряд помимо основной роли несли и тайную эзотерическую нагрузку. На языке посвященных ноль означал еще пустоту, небо, отверстие, бесконечность; единица (эка) - начало, Луну, Землю, тело, предка, брахмана; двойка (дви) - близнецов, ноздри, глаза, губы, Солнце в паре с Луной; тройка (три) - огонь, драгоценность, Шиву (Трехглазый), три мира, три времени и т. д. Теперь, вооруженные основами тайных знаний, доступных некогда лишь брахманам, попробуем разложить вездесущее число на простые множители: 108=1* 2*2 *З*З*З. Полученный результат можно представить в виде так называемого магического треугольника.

1 Начало (Брахман) 22 Солнце Луна 333 Прошлое Настоящее Будущее
Сколько зашифрованных посланий оставила нам седая древность! Сколь многое мы не умеем, а то и просто ленимся прочитать. Что же касается четок, то их придумали для подсчета молитв буддийские монахи. От них четки перешли к мусульманам, и лишь потом мавры занесли их в Европу. Пандиты, состоявшие на службе геодезического бюро, прикрывавшего Интеллидженс сервис, отправляясь на разведку гималайских дорог, как и положено, брали с собой четки и молитвенную мельничку. Но вместо мантр в цилиндрах лежали кроки и компас, а четки насчитывали не 108, а лишь 100 зерен, чтобы легко было подсчитывать пройденные шаги. Еще одна глубинная изнанка гималайских тайн. Увлекательно было заниматься всем этим в Покхаре. Сюжеты для романов и повестей возникали на каждом шагу. Жаль, не было четок, чтобы вести учет. Может быть, поэтому они и позабылись, сюжеты. Лишь незабываемое резцом провело по сердцу. Спасибо, Покхара. Ты одарила меня мгновениями высочайшего взлета, рассказать о которых не хватит слов. Совершив полный оборот, колесо вернулось на прежнее место. Назовем его ниданой приезда. Долина Покхары, как и большинство глубоких ложбин непальских Гималаев, в сущности, очень маленькая. Ее протяженность не превышает шестнадцати километров, а ширина и того меньше - восемь. По площади она почти в пять раз уступает долине Катманду и в тридцать пять - Кашмирской. Всю ее можно изъездить вдоль и поперек за какой-нибудь день, если, конечно, не подниматься высоко в горы. Когда мы вышли из самолета, потревоженные коровы и буйволы уже улеглись и все было спокойно. Сразу же за избушкой аэропорта начиналась городская улица. Прямо на земле, а то и в палатках, разбитых на скорую руку, сидели горные жители, спустившиеся поторговать. Женщины кормили грудью детей, закручивали волосы в мелкие косички, примеряли обновки. Тут же горели костры. Дети пекли на угольях кукурузу, вытапливали пенки из молока, жарили земляные орехи. За этим импровизированным лагерем виднелись нижние ступени лестницы, петляющей в горных зарослях. Там, утопая в зелени, золотились крыши отелей, похожих на монастыри, жемчужным бисером поблескивали изоляторы новенькой электропроводки. А еще дальше весь горизонт окружали снежные вершины: крутая, острая Мачапуч-хре, или Рыбий Хвост, и три пика Аннапурны - горы Парвати. По другую сторону летного поля зеленел заваленный камнями выгон. Постепенно повышаясь, он терялся за длинной, типично гималайской оградой, сложенной из сланцевых плит. Тропка, проложенная прямо через аэродром, круто взбиралась вверх и, проскользнув сквозь проем каменного пояса, растворялась в небесной синеве. Когда, чихнув последний раз, заглохли моторы канадского моноплана, стало слышно, как воет и мечется Сети, зажатая в узком, не более пяти метров, ущелье. Ее прорезанный в скалах каньон достигает глубины в сто метров. Отвесные стены, отшлифованные потоком, ворочающим гигантские глыбы, сплошь затянуты занавесом ползучих растений. Сети летит там, как в аэродинамической трубе. Сверху ее не разглядеть. Только видно, как в черной трещине порхают хохлатые птички с белым оперением на крылышках. В сезон дождей, когда вода в горных реках поднимается на несколько десятков метров, эта теснина превращается в форменный ад. Я бросил вниз большой камень, но так и не услышал всплеска. Местные жители рассказывают, что на скальных отвесах цветут невиданной красоты орхидеи, стоящие тысячи долларов. Но добыть их очень непросто. Смельчака, отважившегося спуститься на веревке в расселину, под каждым вьюнком подстерегают ядовитые гады. Наверное, тут есть какая-то доля правды. Но если бы предприятие было доходным, то скалолазов не испугали бы ни змеи, ни ползучая крапива. В Сиккиме, где реки текут в еще более глубоких и опасных каньонах, профессия охотника за орхидеями стала чуть ли не массовой. Отель «Маунт Аннапурна», в котором я остановился, действительно напоминал монастырь. Чисто внешне, разумеется. Почти все элементы храмовой архитектуры были налицо: плоская крыша с золотым ганджиром, узкие окна, благородная простота типично тибетского фасада. Решетки из стального прутка и балконные ограждения были выполнены в виде символов счастья. Здание окружала каменная, почти крепостная, стена, на которой полоскались узкие флаги стихий. Белые полотнища с ячьими хвостами стерегли от злобных сил внутренний садик и небольшой огород. В холле висела раскрашенная фотография ныне живущего Четырнадцатого далай-ламы. Отель, кстати сказать, принадлежал одному из его ближайших родственников. Возможно, именно поэтому большую часть постояльцев составляли монахи. Рядом с моим номером снимал роскошные апартаменты один из высших иерархов ламаистской церкви. Все это, как можно понять, настраивало на соответствующий лад. В чем-то владелец и его дизайнеры даже несколько переборщили. Так, например, двери бара были декорированы под колесо дхармы с парой усатых крапчатых рыб в центре. Не знаю, как кому, а мне после трудных горных дорог было особенно приятно потягивать охлажденный джин с тоником под сенью высшего знака мировой гармонии. Я засиживался там до темноты и, когда на электростанции выключали движок, поднимался на крышу. Поставив шезлонг так, чтобы видеть зодиакальный отсвет на ледниках Аннапурны, я закутывался в одеяло и пытался вздремнуть. Не омраченные облаками, почти немерцающие, тихо кружились надо мной звезды. Все ночи, проведенные в Покхаре, я провел на крыше. Комната с ее удушливой духотой, москитами и затаенным шорохом крыс внушала мне почти непреодолимое отвращение. Сам не знаю почему, ибо мне доводилось ночевать в свайных хижинах муонгов, в шалашах дая-ков и в джонках, поставленных на прикол в каком-нибудь зачумленном клонге Чаяпраи. О чем я думал в эти бессонные ночи, овеянные дыханием гималайских высот? О чем вспоминал? В памяти остались и не забудутся никогда только рассветы. Подобные ликующему приближению неудержимых победных лавин. Чарующие изощренной палитрой невиданных полутонов, подавляющие царственной щедростью цветовых сочетаний. О, как схлестывались небесные рати над Аннапурной! Как смыкались надмирные силы в холодном и синем дыму. Леденел перламутр, стыла латунь. Проглядывая сквозь сумятицу облаков, набирало обороты лучистое колесо. Киплинг описал восход солнца в Бирме:
На дороге в Мандалей… Плещет рыб летучих стая, И заря, как гром, приходит Через море из Китая.
Но и в Гималаи, далекие от моря, пришла подобная громовому раскату заря. Колесница светозарной Маричи пронеслась над ликующим миром. Последний день моего пребывания в Покхаре ознаменовался ночной перестрелкой. Утром на всех дорогах и переправах стояли армейские патрули, тщательно проверявшие документы и багажники автомобилей. Лейте-нант-гуркх объяснил, что невдалеке от города была окружена вооруженная банда, проникшая из Китая. Чем закончился ночной бой, он не знал или не счел нужным рассказывать. Судя по всему, набеги маоистских отрядов, действующих в пограничных районах Индии, Бирмы, Таиланда и здесь, в непальских горах, были не так уж редки. Грезы отшельников, религиозные празднества и спекуляции вокруг йети - все это лишь яркая мишура, за которой скрываются истинные движущие силы, определяющие современный облик Гималаев. Вторжение маоистских банд, плутониевые контейнеры для шпионских операций ЦРУ - это лишь некоторые их проявления, ставшие известными миру. Для того чтобы читатель смог получить истинное представление о «гималайских тайнах», я хочу привести два небольших отрывка. Первый принадлежит Мишелю Песселю, побывавшему в 1964 году в Мустанге: «Название этой страны происходит от слов Мон Танг, что означает Долина молитвы. Около 600 человек из 8 тысяч, населяющих эту страну, - монахи. Князь, 60 монахов, 8 практикующих колдуний и 152 семьи проживают в Ло Мантанге. Поскольку единственные ворота города на ночь плотно закрываются, я предполагал, что все будут спокойно спать. Отнюдь нет. Все население ложится спать, объятое мучительным страхом. Жителей города беспокоят не разбойники, как могло бы показаться, а 416 демонов земли, неба, огня и воды. Используя тысячи средств, чтобы отогнать злых духов, приносящих 1080 известных болезней, а также вызывающих 5 видов насильственной смерти, монахи, князья и крестьяне целыми днями читают молитвы. Тысячи молитвенных флагов трепещут на шестах. Везде, где есть место, ставят молитвенные колеса и воздвигают молитвенные стены. И все же злые духи тайком проникают в город, особенно по ночам. Даже хитрые ловушки для демонов, которые ставят в каждом доме, и лошадиные черепа, что тайком закапывают под каждым порогом, не могут их остановить. Когда солнце садится за вечными снегами на западе, ни один житель Мустанга не чувствует себя в полной безопасности». Настоящее окно в средневековье, не правда ли? А вот что писал двенадцать лет спустя обозреватель лондонской «Гардиан» Крис Мэл-лин: «Изолированная от остального мира двумя горами высотой в 27 000 футов - Аннапурной и Дхаулагири, - Мустангская долина представляет собой стратегически идеальное место, поскольку оттуда всего несколько часов пешего перехода до шоссейной дороги Синь-цзян - Лхаса, проходящей через Тибет. Из всех операций ЦРУ эта, безусловно, была географически самая удаленная». Эта «удаленная» операция носила сверхсекретный характер. До ареста в Катманду завербованных ЦРУ горцев с радиопередатчиками непальские власти о ней ничего не знали. После скандального инцидента с радиоактивными контейнерами в Непале тоже высказываются вполне обоснованные опасения по поводу таких «операций». Помимо стрелкового оружия, склады которого были обнаружены близ Катманду, американские спецслужбы могли и в Долине молитв установить такие же портативные ядерные установки. В статье «ЦРУ: тибетский заговор», опубликованной тем же Мэллином в гонконгском журнале «Фар истерн экономик ревью», приведены подробности программы по «освобождению Тибета». Активное участие ЦРУ в тибетских делах началось в конце 1956 года, хотя первые контакты американских спецслужб с Лхасой относятся к декабрю 1942 года, когда на «крыше мира» побывал Брюс Долан - агент Бюро стратегической информации - предшественника ЦРУ. Цель его миссии заключалась в том, чтобы получить от далай-ламы согласие на строительство военной дороги из Индии в Китай через восточный Тибет для оказания помощи бандам Чан Кайши. Далай-лама отклонил предложение. С 1956 по 1974 год, а фактически до настоящего времени ЦРУ периодически забрасывало в район Гималаев шпионов, диверсантов, оружие, боеприпасы, разведтехнику. На специальных тренировочных базах, расположенных на территории США, прошли разведывательную подготовку сотни тибетских горцев. Своеобразная изнанка успеха ламаистских культов у американских интеллектуалов. В начале 1962 года в западной прессе появились сообщения о том, что наследный принц Сиккима Палден Тхондуп обручен с очаровательной американкой Хоуп Кук, получившей превосходное образование в Париже. Палден Тхондуп вскоре получил трон чогьяла, и портреты молодой махарани замелькали на страницах газет и журналов. Она вошла в моду, подобно американской кинозвезде Грейс Кел-ли, ставшей в свое время княгиней Монако. Махарани Хоуп приняла буддизм «красноша-почного» толка и вскоре произвела на свет очаровательного мальчика - будущего наследника. Интерес прессы к счастливой чете из самой маленькой страны Азии постепенно угас. Фотографии Хоуп Кук вновь появились на журнальных обложках лишь после скандала, вызванного разводом. Последняя сенсация, связанная с ее именем, относится к июню 1974 года, когда журнал «Ньюсуик» опубликовал материал, в котором рассказывалось о том, как «шпионка Кук была внедрена в Сикким ЦРУ». В 1975 году Народная палата и Совет штатов индийского парламента одобрили законопроект о поправке к конституции, предусматривающей включение гималайского княжества Сикким в состав Индийского Союза на правах полноправного штата. Ранее Сикким был протекторатом Индии. События, приведшие к окончательному присоединению, развернулись в начале апреля, когда чогьял Палден Тхондуп Намгьял предпринял попытку свергнуть правительство Казн Лендупа Дорджи и пересмотреть демократическую конституцию страны. 9 апреля индийские войска, размещенные в столице Сиккима Гангтоке, по просьбе правительства княжества разоружили дворцовую гвардию после продолжавшегося свыше часа боя. Вслед за этим Национальная ассамблея единогласно проголосовала за вступление Сиккима в состав Индии. Состоявшийся 14 апреля референдум подтвердил это решение. Между тем в проблему Сиккима, представляющую внутреннее дело его народа, вмешались иностранные государства. Активизировало свою подрывную деятельность ЦРУ. Сик-кимским сепаратистам, оборудовавшим в горах тайные склады оружия, была обещана щедрая помощь. О «решительной поддержке» Пекином чогьяла и его сторонников в борьбе против Индии заявил в одном из выступлений и заместитель премьера Госсовета КНР Ли Сяньнянь. Это заявление официального китайского лица было расценено в Дели как «вмешательство во внутренние дела Индии». Не избежала подобного вмешательства и суверенная гималайская страна Бутан. За событиями, которые разыгрались там 1 июня 1974 года, я следил по индийским и непальским газетам, потому что как раз в это время путешествовал по Гималаям и с замиранием сердца ждал разрешения на поездку в Бутан. О том, что она не состоится, я понял, когда утром 2 июня развернул гоанскую газету «Санди ньюхинд тайме», где чуть ли не рядом с заметкой о наших встречах с местными литераторами была напечатана статья под заглавием «Заговор убить короля Бутана раскрыт». Это случилось накануне коронации девятнадцатилетнего короля Джигме Сингай Ванчука. В разработке преступного плана участвовали высокопоставленные придворные, в том числе заместитель министра внутренних дел, офицеры гвардии и высшие представители тибетского духовенства. Приведенные подробности не оставляли сомнений в причастности к заговору китайской разведки. Излишне говорить о том, что были приняты строгие меры безопасности и усилена охрана и без того закрытых границ. Число иностранцев, которых намеревались допустить в столицу на праздник, было резко ограничено. Коронация, разумеется, состоялась, хотя участники заговора были арестованы всего за несколько часов до церемонии. Джигме Сингай Ванчук, четвертый в династии Ванчуков, правящей страной с 1907 года, в урочный час взошел на престол, став отныне королем-драконом («друк гьялпо»). На торжествах, проходивших под аккомпанемент цимбал и песнопение буддийских монахов, присутствовало около двухсот высокопоставленных зарубежных гостей, среди них главы государств, в том числе тогдашний президент Индии В. В. Гири. Никогда прежде жители Тхимпху - столицы Бутана - не видели столько иностранцев сразу. Бутан, занимающий площадь около пятидесяти тысяч квадратных километров с населением более миллиона человек, на юге, востоке и юго-западе (Сикким) граничит с Индией, на севере - с Тибетским автономным районом КНР. Первая приблизительная карта страны датирована 1922 годом. История Бутана наполнена драматическими эпизодами отчаянной борьбы маленького народа за независимость. В IX веке над Бутаном установил господство Тибет. В 1616 году страна вновь стала независимой. Португальские миссионеры-иезуиты Иштивао Касела и Жуао Кабрал, пересекшие ее в начале XVII века по дороге в Тибет, были, видимо, первыми европейцами, посетившими Бутан. Великобритании так и не удалось присоединить королевство к своей индийской империи, но английские агенты под видом монахов неоднократно проникали в Тхимпху и окрестные дзонги. Завершив завоевание Индии, Великобритания в середине XIX века установила прямой контроль над пограничными пунктами на юге Бутана. Впоследствии англичане отторгли значительную часть территории королевства, но планы полного присоединения все же не были осуществлены. Навязав, однако, в 1910 году так называемый англо-бутанский договор, колониальные власти обеспечили контроль над внешними связями этого небольшого государства. После ухода англичан из Индии между правительствами Индии и Бутана был подписан Договор о вечной дружбе. В эпоху конституционного королевства Бутан вступил при отце нынешнего короля - Джигме Дорджи Ванчуке, который в 1953 году создал национальное собрание - дзонгу - из 150 членов. 100 из них избирались главами кланов, 40 были назначены королем, и 10 человек выдвинули из своей среды 6 тысяч лам королевства. Молодой монарх обещал продолжать процесс постепенной демократизации, начало которому положил его отец, осуществивший ряд реформ и, в частности, отменивший обычай, по которому при появлении короля подданные должны были простираться ниц. Рабство, полиандрия и полигамия были запрещены всего лишь двадцать лет назад. Единственные страны, с которыми Бутан поддерживает дипломатические отношения, - Индия и Бангладеш. В 1971 году королевство стало членом Организации Объединенных Наций, и Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Китайская Народная Республика, Англия и Франция - постоянные члены Совета Безопасности ООН - были представлены на коронации главами их миссий в Дели. Бутан старался избегать контактов с КНР, выдвинувшей необоснованные претензии на часть его территории. На своей первой пресс-конференции Джигме Сингай Ванчук заявил, что стремится поддерживать «справедливые и корректные» отношения с КНР, но не собирается устанавливать с Пекином дипломатических связей. Считанные путешественники, которым посчастливилось посетить страну Драконов грома, пишут о курьезах денежного обращения, о бутанских марках, которые даже не поступают в страну, о тантрийских церемониях «красношапочных» лам. Действительно, в Бутане до сих пор процветает меновая торговля. Местные монеты встречаются столь редко, что на сдачу покупателям зачастую дают чуго - ломтики твердого сыра, приготовленного из молока яка, нанизанные, подобно ожерелью, на волос того же самого животного. Столь же достойны внимания и прославленные бутан-ские марки. Здесь и нарисованные на шелку изображения Будды, и поляроидные снимки космических кораблей, и даже пластинки с записью бутанской религиозной музыки. Есть марки, напечатанные на серебряной фольге, воспроизводящие очертания страны, «ароматные» марки, надушенные экзотическими благовониями: сандалом, мускусом, ванилью, пыльцой орхидей. Правда и то, что сотни отшельников удаляются в пещеры, чтобы провести там годы, а может, и всю жизнь. Но государств-отшельников в наше время уже нет нигде. В той или иной мере все страны планеты вовлечены в общий необратимый процесс. «Вовсе не политическими соображениями, - сказал бутанский министр иностранных дел Льонпо Дава Тсеринг, - объясняется то, что мы имеем лишь две зарубежные миссии. В этом опять-таки важнейшую роль играют факторы экономические - ограниченность наших финансовых ресурсов. И я еще раз хочу подчеркнуть: мы искренне заинтересованы в развитии дружественных связей и сотрудничества с зарубежными странами». Стоит ли после этого говорить о каких-то тщательно оберегаемых от внешнего мира религиозных тайнах? В последний раз наблюдая с крыши отеля восход над Аннапурной, я прощался с Покха-рой. «Высочайшей горе и горе Предка Света поклоняются как божествам», - говорится в старинном «Каталоге гор и морей». Аннапурна вспыхнула радужным светом, винным огнем налилась острая Мачапучхре, и замелькали разноцветные сполохи в перламутровом небе, где прозрачной льдинкой таяла новорожденная луна.
Словно в зареве пожара Я увидел на заре, Как прошла богиня Тара, Вся сияя, по горе. Изменяясь, как виденья, Отступали горы прочь. Было ль то землетрясенье, Страшный суд, хмельная ночь?
Я не искал ответа на вопрос, поставленный Киплингом. Через два часа на травяном поле должен был приземлиться самолетик из Катманду. Я думал тогда, что в последний раз вижу Гималаи. Я не знал, что судьба подарит мне еще одну незабываемую встречу…
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ
Ты можешь яд в руках нести, Пока шипом не ранишь кожу, Избегнуть злобы тот лишь может, В ком зло не смело прорасти. Дхаммапада
Три дня не переставая дул с юга горячий ветер. В горных чашах восточного Непала, как бульон на медленном огне, кипел пересыщенный влагой воздух. Пробивая завесу тумана, солнечные лучи достигали долин ослабленными, и в их красноватом озарении латеритовые почвы террас казались цвета томатной пасты. Переливаясь из впадины во впадину, душный пар, тоже окрашенный в красные тона, медленно полз к перевалам, не то запорошенным снегом, не то тронутым инеем, где уже касались земли перегруженные ватные облака. Две-три узкие слюдяные прослойки еще разделяли горную тьму преисподней от холодного беспросветного сумрака вершин. Мы оставили нашу «Волгу» в одном из таких слоев, где-то на высоте чуть более трех километров, и медленно побрели по извилистой горной дороге навстречу мятущимся прядям облаков. Перед тем как уйти, я взял первый попавшийся камень, чтобы возложить его, по местному обычаю, на каменную груду на перевале. Не успели мы взобраться метров на восемьдесят, как нас прохватило ледяным ветром и стало темно. Машина, только что видневшаяся внизу, исчезла, и лишь желтые противотуманные фары чуть проклевывались сквозь серую завесу, как масляные пятна на пергаментной бумаге. Я не знал, зачем мы лезем в гору. Во всяком случае, не для того, чтобы полюбоваться видом Джомолунгмы, потому что даже собственная рука, стоило ее чуточку отвести в сторону, обретала мглистую призрачность рентгеновского снимка. Просто надо было что-то делать; повернуть назад мы не могли - вот и приходилось тащиться невесть куда, придерживаясь спасительной близости склона. Мой товарищ, многие годы проработавший в Непале, проявлял сдержанный оптимизм. - Тут всегда так в муссон. Не знаешь, на что нарвешься. Видимость меняется сто раз на день. Не удивлюсь, если туман растает через каких-нибудь десять минут. - Влажная подушка заглушала звуки, и он почти кричал мне в ухо. Я хотел о чем-то спросить, но едва раскрыл рот, как задохнулся разреженным киселем, приправленным резким запахом созревающих в долине пряностей. - Кашляй, - подбодрил меня друг, - не стесняйся. - Будто в реке захлебнулся, - объяснил я, постигая на ходу искусство процеживать сквозь зубы слова и короткие вдохи. - Где ты условился встретиться с этим шерпа? Как бы нам не разминуться. - Дорога только одна. Никуда с нее не денешься, если, конечно, не загремишь в пропасть. Так что держись правой стороны, дорогой товарищ. Ачча? - Япуду, - несколько мрачно откликнулся я. По-тибетски это выражение, как и многозначное индийское ачча, означало о'кэй. Так и не знаю, что тогда казалось мне важнее: увидеть Эверест или познакомиться с настоящим проводником шерпа - представителем прославленного народа прирожденных альпинистов. Название «шерпа», строго говоря, означает: люди с востока. Так племена, говорящие на тибетских диалектах, именовали горцев восточного Непала. Ныне благодаря успехам альпинизма шерпа распространились по всем Гималаям. В Дарджилинге, Гангтоке, Ка-лимпонге - всюду можно отыскать этих смелых, добрых и выносливых людей, готовых по первому зову отправиться на штурм ледяной цитадели. Близ Нагпала, главного перевала на древнем пути из Индии в Тибет, я как-то забрел в шерпскую деревушку, где впервые отведал чанг. Белое, как сыворотка, и кислое, но удивительно приятное пиво понравилось мне чрезвычайно. Я выпил целый чайник и с тех пор не упускал случая пропустить «деревяшку». Женщины шерпа иногда выносили его на продажу в литровых сосудах из дерева. К сожалению, мой непальский переводчик Миша не знал ни слова по-шерпски, а мужчины, говорившие по-непальски, отлучились по каким-то своим делам. Поэтому все мое общение с очаровательными горянками свелось к двум словам: «Чанг?» - при встрече, «Туджи чей» [1] - при расставании. [1 Благодарю (тибет.).] Готовясь к посещению Джомолунгмы, слово «экспедиция», как вы понимаете, не совсем подходит к данному случаю, я втихомолку выучил еще десятка три тибетских слов. Вместе с сотней непальских это, по моему глубокому убеждению, составляло приличный запас. Надо ли объяснять, что мне не терпелось блеснуть познаниями? Очевидно, тогда я и сделал окончательный выбор между Джомолунгмой и проводником. «Черт с ним, с туманом, - подумал я, - лишь бы пришел этот шерпа». С Эверестом мне фатально не везло. В первый раз я его вообще пропустил. Летчик, любезно разрешивший мне фотографировать с высоты, увлекся разговором с хорошенькой кармелиткой-миссионеркой и забыл, когда волна за волной стали выплывать из-за горизонта белые гребни, указать главный. Так и не знаю, какие из знаменитых пиков видел. Можно сказать, все и ничего. В другой же раз снег забил перевал Лхо-ла, откуда хорошо виден юго-западный склон Госпожи Великих Снегов. Вокруг колосился ячмень и порхали серо-голубые беззаботные мотыльки, а в двухстах метрах по вертикали завывала метель. Как талисман таскал я повсюду с собой серебристую прослюденную плитку, взятую на высоте 5600 метров, храня надежду перекрыть этот сугубо личный рекорд. Не о Макалу, Лхотсе, Ама Даблам или Чо Ойю мечтал я в бессонные ночи, проведенные у подножия божественных восьмитысячников. Мне виделись белые чортэни Тьянгбоче, ячьи хвосты флагов, железные черепа загадочного Ронбука, розовые стены Мустанга. Но пока все складывалось не в мою пользу. То снежный заряд затыкал перевалы, то внезапное таяние сносило мосты. Что же касается Эвереста, то в третий раз я пытался разглядеть его с Тигрового холма. Как и подавляющее большинство простаков, я принимал за него Макалу или даже Лхотсе, которые выдвинуты на передний план и несколько заслоняют собой такую невзрачную издалека вершину мира. Все это мне объяснил потом альпинист-англичанин, с которым мы завтракали за одним столиком в гостинице «Маунт Аннапурна». Недавно я узнал из газет, что он погиб при штурме Эвереста. Так что особых надежд на успех у меня на сей раз не было. Да и какая, в сущности, разница: видел я «самую-самую» с расстояния в столько-то километров или не видел? Разве что потом приятно будет отвечать на вопросы. В утвердительной форме, разумеется. И без излишней детализации. Нет уж, увольте! - я будил в себе злость. - Не видел, а если видел, то проглядел! - вот каков будет мой ответ. Но самолюбие тут же готовило добавку: - Зато удостоился лицезреть Годуин Ос-тен. Это вторая вершина мира. Не слыхали? Расположена на северной границе Кашмира. Альпинисты называют ее просто К-2. Серьезная горка. Погруженный в суетные мысли, без тени отрешенности в душе, я плелся по каменистой дороге, натыкаясь на ямы и осыпи. - Ты ничего не слышишь? - остановил меня приятель. - Нет. А что? - По-моему, звонят. - Тогда сними трубку, - неуклюже пошутил я. Но тут и я услышал тоненький прерывистый звон. - Это дрилбу! - Что? - не понял он. - Ламаистский колокольчик! Этот серебряный зов ни с чем не спутаешь. - А что я говорил?! Приободрившись, мы зашагали с удвоенной силой. Шерпа поджидал нас возле обо, куда я поспешил бросить каменную плитку, подобранную возле оставленной машины. - Я как только услышал, что вы идете, -сказал он по-английски, - так сразу же начал звонить. - Спасибо, - кивнул приятель и, обращаясь ко мне, сказал: - Это и есть мистер Анг, знакомься. - Туджи чей! - выпалил я слова благодарности, так как шерпские приветствия напрочь вылетели из головы. В облачных сумерках Анг (по-шерпски это означало любимый) показался мне необычайно фундаментальным. Но вскоре я разглядел, что ошибся, принимая за толстый живот чубу, которую он спустил с плеч и обвязал вокруг бедер. На его груди висели чеканное гау с образком, золотая медаль «Тигра» за покорение семитысячника и призматический бинокль. К поясу были приторочены огниво, трубка и закопченный алюминиевый котелок. Чашку он, как все горцы, по всей видимости, держал за пазухой. - Хотите чаю? - предложил Анг, перехватив мой взгляд. - Пока вас не было, я собрал немного аргала. На костерок хватит. - Ап ке укам [1], - по складам выговорил я и с торжеством покосился на приятеля. [1 Делай, как знаешь (тибет.).] Анг заботливо расстелил на земле шейный платок, достал полплитки чаю, тряпицу с серыми кристаллами соли и мешочек с ячменной мукой. Потом извлек из котелка флягу с водой и принялся укладывать в пирамидку сухие ячьи лепешки. - Это правда, что Эдмунд Хиллари помог шерпа построить несколько школ в Соло Кхумбу? - спросил я, когда короткое жаркое пламя стало лизать камни, которыми был обложен костер. - Правда. Первую школу построили еще лет десять назад. В деревне Кхумжунь, откуда родом проводники, ходившие с Хиллари за йети. - За йети? - оживился мой друг. - А он существует? Как вы-то думаете, мистер Анг? - Той йе! [1] - Анг сплюнул через плечо и прикоснулся к своему гау. - Не место тут для таких разговоров! Вы же о школах спрашивали? [1 Что-то вроде «черт возьми».] - Да-да, о школе, - поспешил вставить я. - Ее привезли на самолете. Дом такой из алюминия. - Он показал на котелок, под которым уже лопались в огне камни. - А учителя? - Прилетели из Дарджилинга. Главный лама освятил школу. - Из монастыря Тьянгбоче? - Он самый. После открыли еще две школы. А когда Хиллари готовился к восхождению на Тхамсерку, привезли сразу три складных дома. Теперь школы есть и в деревне Намче Базар, и в Чаунрикарка, и в Джунбе-си. Многие смогут учиться. Я тоже учился, в Тами. - Он улыбнулся, обнажив крупные и крепкие зубы, желтые от табака. - Сначала мне было неловко сидеть вместе с шестилетними малышами, но я себя пересилил. Таких, как я, было еще несколько. - Сколько вам было лет, когда вы закончили школу? - Тридцать два. После я ходил с японцами на Нанга Парбат, которую прозвали «Смерть альпинистов», и получил вот это. - Он погладил свою медаль. - У моего отца тоже была такая. Он помог Булю покорить вершину Нанги, но погиб на обратном пути. Ему не пришлось научиться грамоте. - А как сейчас обстоят дела? Все шерпа могут учиться? - Конечно же нет. Если все наши дети пойдут в школу, то кто станет помогать по хозяйству? Только самому смышленому мальчику удается получить образование, любимцу семьи. Богатые люди, конечно, могут позволить себе обучать сразу двух сыновей, а иногда даже дочку. Еще очень много времени пройдет, пока наш народ научится читать и писать. Даже в Дарджилинге едва ли один шерпа из десяти знает грамоту. Все бы хотели стать учеными, да не все могут. Хиллари это хорошо понимает. Он провел воду в наши горы и обещал помочь построить площадку для самолетов. Жизнь тогда станет легче. Ведь дорог к нам нет. Все приходится носить на себе. К тому же горные тропы длинны и опасны. Недели, а то и месяцы уходят на то, чтобы доставить груз из ближайшей долины. Когда позапрошлой зимой вымерз картофель на полях, людям пришлось очень туго. И с докторами у нас плохо. Ламы едва успевают лечить всех заболевших, а если приходит оспа, то и они не могут помочь. Мне посчастливилось побывать в тех местах, где создается будущее Непала, увидеть ростки той нови, которая властно соединила некогда замкнутые и недоступные Гималаи с остальным человечеством. Поэтому я с особым интересом слушал рассказ Анга о новых дорогах и школах, построенных в долинах Джомолунгмы. На карте, которую мне любезно предоставили в министерстве образования и здравоохранения, различными цветами были обозначены районы с разным уровнем состояния школьного дела: от сравнительно благополучных, голубых, до белых пятен почти стопроцентной неграмотности. Особыми значками показаны школы английской, иначе говоря, современные, и санскритской грамоты. Не зная местной специфики, столь характерной для всех без исключения отраслей непальской жизни, трудно оценить грандиозность разработанного министерством просвещения плана. Приведу в виде примера расположенную за северным склоном хребта Аннапурны высокогорную область Мустанг. На Долину молитв, естественно, тоже распространяется просветительная система, и на министерской карте эта наиболее удаленная точка страны отмечена соответствующим цветом. Все было бы понятно и просто, если бы речь шла не о том самом Мустанге, который этнограф Мишель Пессель назвал «затерянным королевством». Правда, уже в Покхаре, откуда начинается путь к Аннапурне, становится понятно, что французский путешественник допустил несколько преувеличений. Мустанг никогда не был королевством и уже давно не является княжеством, ибо статут раджей ликвидирован еще в 1961 году, то есть еще за три года до посещения Песселя. И даже самое это звание, перестав быть титулом, осталось лишь в качестве почетного имени. В настоящее время Мустанг, этот действительно наименее известный уголок Гималаев, представляет собой не более чем рядовой округ, одну из 75 административных единиц, на которые разделена страна. Конечно, «затерянный округ» - это не то, что «затерянное королевство». Тем более что непальское правительство предприняло определенные усилия, чтобы покончить наконец с патриархальными традициями Мустанга, с довольно распространенными там обычаями многоженства и многомужества. Но вот что любопытно! Если этнографы зачастую называют Мустанг страной почти стопроцентной грамотности, то в планах министерства просвещения округ предстает в числе наименее благополучных. Парадокс здесь только кажущийся. Суть в том, что речь идет о разных системах образования. Тот же Пессель видел и подробно описал монастырскую школу, где ламы учили санскритской грамоте и толкованию священных текстов, а в государственном плане предусмотрено создание современных общеобразовательных школ, призванных подготовить юное поколение непальцев к решению насущных задач развивающейся страны. Разница существенная! Этой же благородной проблеме посвящает свою деятельность и недавно построенный университет Трибхувана с его оборудованными по последнему слову науки кабинетами и первой в стране публичной библиотекой, открытой для всех и каждого. В книжном фонде библиотеки, насчитывающем 80 тысяч томов, есть и советские книги: научные и художественные, произведения классиков марксизма-ленинизма. Не случайно университетским городком и библиотекой непальцы гордятся ничуть не меньше, чем храмами Пашу-пати на берегу священной Багхмати и ступой Боднатх, насчитывающей двадцать три века. «Где желание, там и путь», - гласит народная мудрость. - Желание у всех непальцев одно: строить мирную, процветающую жизнь, - сказала мне директор библиотеки Шанти Мишра. Я вспомнил пословицу о желании и пути, когда мчался на нашем «газике» по «Махенд-ра Раджмарг» - прямой, как стрела, автостраде «Восток - Запад», большой отрезок которой построен с помощью Советского Союза. Проложенная сквозь тераи, губительные некогда леса на крайнем юге страны, она соединяет промышленные центры Биргандж и Джа-накпур. В Биргандже находятся завод сельскохозяйственного оборудования и сахарный комбинат, а в Джанакпуре - большая сигаретная фабрика, продукция которой одинаково популярна и в долине Катманду, и на самых дальних заснеженных перевалах. Как-никак она выпускает свыше двух миллиардов сигарет в год. Все три предприятия построены при советском содействии. С помощью Советского Союза сооружена и ГЭС Панаути на реке Роси. По привычным для нас масштабам новые непальские заводы отнюдь не велики, да к тому же выпускают такие немудреные вещи, как лопаты, прицепное оборудование, сигареты, сахар. Но нужно своими глазами увидеть непальский юг, чтобы понять, какое место занимают эти промышленные первенцы в жизни страны, чье самодеятельное население более чем на 90 процентов состоит из крестьян! А еще нужно из конца в конец пересечь тераи, чтобы всем существом своим ощутить, что значит эта удивительная дорога, которая поражает глаз еще в воздухе, когда самолет заходит на посадку в Симру! Словно светлая линия, проведенная по линейке рейсфедером, рассекает она бескрайнюю зеленую массу, чью унылую одноликость нарушают лишь извивы пересохших русел. Я попал в тераи в самое знойное и безводное время года, когда они усохли и угрюмо сжались в ожидании муссонов. От этого чаща не казалась столь непроглядной и больше походила на лиственные леса наших гор, чем на азиатские дикие джунгли. Только мускусные олени, перебегавшие дорогу перед самым радиатором, голодные обезьяны да удивительно синие хохлатые птички нарушали эту внезапно возникшую иллюзию. Чужим было и небо над горами, которое клубилось небывалыми у нас облаками, предвещавшими скорое наступление сезона дождей. Как измучился этот лес в ожидании влаги! Обнажились песчаные и галечные русла некогда шумевших здесь рек, растрескалась грязь в болотах, еще недавно бывших рассадниками церебральной малярии, сжались в черные комочки орхидеи, и отощавшие линяющие тигры ушли куда-то в низины, где круглый год сыро и среди ползучей крапивы растет самый прекрасный в мире цветок - гуханло. Только великая Багмати, куда в урочный час спускают пепел погребальных костров, текла под мостом двумя узкими мутными ручейками, и черные стервятники терпеливо ждали, когда уснут в мелеющих лужах лениво трепещущие сомы. Трудно было даже представить себе, что творится здесь, когда начинаются ливни и с гор обрушиваются каменные лавины, потоки вспененной глинистой воды. Недаром эти края издавна считались самым погибельным местом. О тех, кто шел на верную смерть, говорили; «Поехал в тераи в сезон бигхаути» (в малярийный дождливый сезон). Помимо своего хозяйственного значения автострада позволила изменить судьбу целого края. С вводом ее в действие начались работы по расчистке лесов, осушению самых опасных топей, регулированию речных русел. Жители окрестных деревень получили работу, смогли приобрести самые необходимые орудия. Я не случайно упомянул о том, что новь и традиция в Непале постоянно сопутствуют друг другу. Здесь все неоднозначно, сложно, порой противоречиво. В равной мере это относится и к новациям, и к седой старине. Нахлынувшие сюда из Европы и Америки толпы безучастных хиппи трудно отличить от равнодушных к соблазнам и терзаниям мира странствующих бхикшу. Неудивительно, что хиппи быстро стали некой туристской достопримечательностью, которую охотно показывают иностранцам. Сами непальцы хотя и смеются над ними, но одно другому не мешает, привечают. Сказывается врожденная терпимость. И все же мне кажется, что хиппи лишь случайное облачко на гималайском горизонте. Тающее облачко с привкусом наркотиков… Наркотики, к сожалению, стали для некоторых главной приманкой Непала. На Тибетской улице в Катманду я не раз видел вывески, оповещавшие о том, что «гашиш и марихуана продаются на первом этаже». Со дня 7 фальгуна 2007 года (18 февраля 1951 г.), когда была свергнута тирания семьи Рана, прошло более четверти века. Многое переменилось в стране за этот исторически очень короткий срок. И главное изменение произошло в сердцах людей. Они осознали себя частью всего человечества нашей планеты, ясно поняли, что даже в Гималаях время течет по общемировым законам. В Непале появились современные больницы и аптеки, число учебных заведений уже превысило шесть с половиной тысяч, выросли национальные кадры специалистов. Но это только начало пути. - Когда.ледник начинает ползти, - с мудрой улыбкой заметил Бангдел, выдающийся художник и вице-председатель Ассоциации непальско-советской дружбы, - нет такой силы, которая могла бы его удержать. Так и мы. Страна пробудилась, и люди полны творческой энергии. Но людям сложнее, чем природе. Ледники обрушиваются с вершин в пропасти, а человек всегда поднимается к вершинам. Взгляните! - Он указал на свою картину, на которой одиноко сверкал окутанный туманом пик. - Если видна цель, то трудности преодолимы. Он был прекрасен, одинокий этот пик - зубец короны Гималаев.
ПУТЕМ «ТРЕХ ПАГОД»
(Финал)
Увидеть нерожденных тени, Невоплощенного черты. И на последние ступени Взойти вселенской пустоты! Тогда желание и случай Не будут властны над тобой. Вот путь единственный и лучший Из клетки, скованной судьбой. Дхаммапада
Когда во втором веке началась широкая миграция индийцев в страны Юго-Восточной Азии, переселенцы встретили в дельтах Меконга и Менама (Чаяпрая) близкие по культуре цивилизации, что облегчило распространение санскритской грамоты и шиваистских верований. Миновали столетия, и по следам брахманистских проповедников двинулись неутомимые буддийские монахи. Они шли по исконным караванным тропам через перевалы Тянь-Шаня и дикие джунгли Ассама и плыли по бурному морю. Морскую дорогу в Сиам впоследствии нарекли «путем трех пагод». В изображающей дракона длинной лодке с навесом и мощным мотором на корме мы плывем по притокам Чаяпраи. Далеко позади остались величавые храмы тайской столицы; характерные ступы тайского буддизма, облицованные бессчетными золотыми плиточками прачеди; великаны-охранители с кабаньими загнутыми клыками, королевский дворец, осененный крылатым Гарудой. Здесь все знакомо по Индии и Гималаям и в то же время поражает иным, утонченно изысканным обликом: идущий Будда из Сукотай с удлиненными пальцами и остроконечной ушнишей, бодхисаттвы Джайи, погребальные ступы древней Аютии, башни Бра Пранг Сам Йот, повторяющие бессмертные пропорции Ангкора. Наги, гаруды, фениксы и даже буддийские львы получают в Таиланде свое особое, ни с чем не схожее воплощение. Устремленность вверх, манерная заостренность, прихотливая изогнутость форм. Пальмы, лианы и буйный речной тростник скрыли ярусы крыш с изогнутыми коньками, изображающими змей - нагов. Лишь изредка открываются полянки с бензозаправочной станцией или маленьким деревенским ватом.

На Чаяпрае
Бесконечные домики на сваях, свайные настилы с горшками орхидей, свайные магазинчики. Колебля отражение пальмовых крон и соломенных крыш, румяные тайки стирали белье. Прямо с родного порога удили рыбу мальчишки. Параллельным курсом шли такие же, с длинным гребным валом, лодки, доверху нагруженные плодами щедрых тропиков. На быстроходном глиссере пронеслись монахи с разноцветными веерами в руках. Река как большая деревенская улица. На выдолбленных из красного дерева челноках крестьяне отправляются утром на плавучий рынок, обмениваются визитами, вдоль узких каналов, глубоко врезанных в берег, объезжают плантации. Местные монахи, естественно, тоже используют водный транспорт - другого просто-напросто нет. С рассветом, под перезвон колокольчиков, совершают они обход домов - за каждым закреплен строго определенный участок, где принаряженные девушки опускают в нищенские чаши дневное подаяние. В монастырях по уставу едят лишь дважды: рано утром и в полдень. Все, что останется от полуденной трапезы, отдадут неимущим. В любом городе, в любой деревне Таиланда - обширной страны с пятидесятимиллионным населением - день начинается с появления парней в желтых и оранжевых одеждах. Принимая рис, фрукты и овощи, они беззаботно флиртуют с хозяйками, обмениваются шутками, пересказывают местные новости. Несмотря на обритую голову и сандалии, это, строго говоря, не монахи. Многие из них проведут в монастыре несколько месяцев, а то и недель. Сравнительно немногие останутся там на долгие годы, может быть навсегда.

Тайский лев
Согласно китайским источникам, буддизм утвердился в Таиланде еще в VII столетии и достиг наивысшего расцвета в XIV - XV веках. Примерно сто лет назад единая община - сангха - разделилась на две секты: Маханикай и Дхамутхитникай. Последняя обязана своим существованием реформам короля Монгкута, ярого приверженца чистоты учения. Предписав монахам строго следовать принципам палийского канона «Трипитака», король-реформатор подверг остракизму тайные обряды, заимствованные у брахманов и шактистов. Ныне обе секты насчитывают около полумиллиона членов сангхи. Но примерно на каждые сто монахов, идущих путем «Великой колесницы», лишь шестеро следуют узкой тропой строгого учения. Однако и по сей день Дхамутхитникай оказывает заметное влияние на религиозную и политическую жизнь страны. Ей принадлежат самые известные и наиболее крупные монастыри, а ее иерархи происходят, как правило, из высшей аристократии. Некоторые из них связаны тесным родством с правящей династией. - Наша конституция обеспечивает за гражданами свободу совести, - часто можно услышать от официальных лиц. - Хотя девяносто три процента граждан - буддисты, таиландцы могут свободно исповедовать любую религию: ислам, конфуцианство, христианство, сикхизм или вообще не принадлежать к религиозной общине. Лишь на одного человека накладывается непреложное обязательство следовать учению Будды. - Следует многозначительная пауза. - Это король. Подобное конституционное ограничение накладывает известный теократический оттенок на ряд государственных институтов. Прямо или косвенно религиозными проблемами занимаются многие министерства и департаменты. Религия пронизывает все поры общественной и культурной жизни. Специальные подразделения буддийского духовенства существуют при армии, флоте и военно-воздушных силах, почти точно повторяя в этом отношении организацию армии США. Обязательства, которые берет на себя человек, «прибегая к сангхе», не вступают, таким образом, в противоречия с интересами государства. Как религия буддизм, несмотря на все разговоры о его «особом характере», ничем не отличается от других вероисповеданий. Подобно им, он твердо стоит на страже интересов правящего класса. Тайская сангха поражает исключительно усложненной иерархией, во многом копирующей государственную административную систему. В ее основе лежат четыре главные категории: ученость, старшинство, служебное положение и титул. Наибольшие привилегии дает буддисту ученость. Монахи и саманеры, как называют послушников, не получивших посвящения, сдают обязательный экзамен на знание дхамм: сначала на третью степень, затем на вторую и, наконец, на первую. «Накдхаммаек», знаток первой степени, может продолжить образование и посвятить себя изучению «Трипитаки», философии и религиозной догматики на пали и языке кхмеров. Всего существует семь степеней учености, называемых «бариан»: от низшей «пра йога три» до самой высокой «пра йога девять». Богословы степеней «бариан» получают особый знак отличия - веер, цвет которого точно указывает на ранг владельца. Отличительный веер присваивается и монаху, имеющему титул. Насчитывается свыше сорока церковных должностей и занятий, которым соответствует строго определенный веер. Монахам самой высшей категории, начиная с титула «пра кру», король дает и новое па-лийское имя. В 1969 году в стране насчитывалось три тысячи триста монахов с титулом «пра кру» и выше. С одним из таких священнослужителей я летел из Бангкока в Чиенгмай. Когда была объявлена посадка, пилот лично провел его через турникет, почтительно неся сзади скромный дорожный узелок. Несмотря на то что монастыри являются крупными земельными собственниками, а через Высший совет сангхи проходят немалые суммы, устав не разрешает монахам даже прикасаться к деньгам. На самолетах, в поездах, в городских автобусах они пользуются правом бесплатного проезда. Когда же монах берет такси, чтобы навестить больного или напутствовать умирающего, то с водителем рассчитывается кто-нибудь из членов семьи. Если люди окажутся бедные, таксист не станет требовать платы. Еще и поблагодарит священнослужителя за представившуюся возможность совершить достойное деяние. Это не значит, что в других обстоятельствах тот же самый шофер будет действовать в строгом соответствии с «четырьмя высокими истинами». Просто в каждой культуре есть некий набор доведенных почти до автоматизма стереотипов. Акт веры при этом настолько тесно срастается с обиходом, что почти не контролируется сознанием. Таков образ жизни, так принято. И этим все сказано. Ведь и сам «благочестивый» шофер был какое-то время монахом и пользовался всеми привилегиями желтой тоги. А если не был, то рано или поздно пойдет в монастырь, чтобы прожить там некоторое время, как этого требует вера от любого мужчины. Считается, что лучше всего отбыть такую повинность в раннем возрасте, когда закладываются основы воспитания, но не будет большой беды, если человек приобщится к строгой дисциплине и на склоне лет. Так, например, поступил один весьма реакционный генерал, высланный после переворота из страны. Для него монастырь оказался единственной возможностью вернуться в Таиланд. Проделав столь нехитрую операцию, он ждет теперь удобного случая, чтобы сложить с себя сан и вновь выйти на политическую арену. В буддизме подобные переходы не составляют проблемы. С того момента, как мирянин, обрив голову, получит посвящение, ему идет монашеский стаж. Для того чтобы вернуться в мир, достаточно проститься с братьями и переменить одежду. Год пребывания в монастыре дает звание «навакабхуми», пять лет - «маджджимаб-хуми», но только по истечении десятилетия можно сделаться старейшиной - «тхера». Лишь с этого времени монах получает все права: иметь учеников, посвящать других и т. д. Крупный и очень занятый государственный чиновник довольствуется трехмесячным стажем. Жалованье в это время исправно поступает на его счет. Даже после смерти человек не избегнет своеобразной процедуры, имитирующей пострижение. Как и в тибетской махаяне, в тайском буддизме сохранились пережитки древних анимистических верований. Считается, например, что души умерших враждебны живым и рады любой возможности сотворить зло. Чтобы обезвредить их, прибегают к особому церемониалу. Незадолго до выбранного астрологом дня кремации гроб с телом помещают в саркофаг, разукрашенный золотой фольгой и разноцветной бумагой. Внутрь опускают портрет покойного, букеты цветов, чаши для питья в нездешних скитаниях. Перекинув в знак печали через плечо кусок ткани, родственники в траурных платьях приходят в храм и на специальном подносе вручают настоятелю желтые монашеские одеяния. В одно из них, предназначенное для него лично, он тут же и облачается. Затем родственники одаривают всех монахов без исключения курительными палочками, бетелем, цветами, сластями, сигаретами, после чего начинается панихида. Ударив в гонг, настоятель приступает к рассказу о жизни усопшего, сосредоточивая внимание на его добродетелях. Место кремации указывает куриное яйцо, положенное в плотный мешочек. Его подбрасывают до тех пор, пока скорлупа не дает трещину. Там, где это случится, и будет зажжен костер. Прежде чем поднести к дровам спичку, кто-нибудь выливает на землю кокосовое молоко, чтобы душа умершего могла возродиться в плодородной стране. Когда костер отгорит, родственники собирают в урну кости, а пепел, помещенный в белый мешок, бросают в реку. Подобно Ганге, безропотно принимает прах желто-зеленая Чаяпрая, река туманов, очарование сердца. Слизывает волна пепел, чтобы поскорее включить его в цикл мирового круговорота. Урну с костями и черепом дорогого усопшего тайский буддист, в отличие от ин-дуиста, уносит домой, а на месте кремации, если, конечно, позволяют средства, семья построит остроконечную памятную прачеди. На новогодний праздник сонгкран урны, в которых, по местным поверьям, заключены не только кости, но и души, относят в храм, где монахи вымаливают у покойников благословение живущим. Так безболезненно сосуществуют отвлеченные построения «Трипитаки» с самым примитивным суеверием лесных и горных племен.

Божественное и земное: сушка перца в храме Шанта Дурги
В Чиенгмае мне пришлось наблюдать любопытные сценки «кормления» черепов. Я был невольным свидетелем того, как укрывшаяся за бахромой побегов, свешивавшихся с раскидистого баньяна, женщина тихо разговаривала с душой супруга. Время от времени она прерывала монолог, низко кланялась черепу и подносила ему блюда с рисом и фруктами. В тайском фольклоре есть по этому поводу любопытная история. Один молодой человек влюбился в красавицу вдову, поклявшуюся сохранить верность умершему мужу. В траурных одеждах - белой блузке и черной юбке - она то обливалась слезами, то ублажала вместилище дорогой души. На юношу, делавшего ей галантные предложения, скорбящая красавица не обращала никакого внимания. По совету опытного в таких делах астролога предприимчивый влюбленный обзавелся первым попавшимся черепом и, расположившись у дома вдовы, разыграл сцену общения с умершей женой. Несколько дней подряд они, словно соревнуясь друг с другом, кормили и ласкали мертвые кости. Видя чужое горе, вдова преисполнилась участием к юноше, а за участием вспыхнуло более теплое чувство. Незаметно они сблизились и стали вместе ублажать своих незабвенных. И тогда юноша выкинул поистине гениальный трюк. Когда женщина ненадолго отлучилась, он сблизил черепа и поднял крик. Испуганная вдова застала его катающимся в слезах по земле. Спрашивать, в чем дело, не приходилось. Картина коварной измены была налицо. Оставалось одно: последовать примеру усопших и урвать у быстротекущей жизни хоть немного радости. Я пересказал эту сказку лишь для того, чтобы напомнить одну простую истину. Во все века, в рамках любой религиозной системы свободный дух не мог смириться с откровенным мракобесием и шарлатанством. Человеческое в человеке всегда бунтовало против попыток распространить загробные «порядки» на живое полнокровное бытие.
* * *
Закончилось наше несколько необычное, быть может, путешествие по дорогам Востока. Мы мчались по современным автострадам, плыли по рекам, бегущим из ледяных пещер, брели караванной тропой, проложенной сквозь джунгли, горные перевалы, пустыни. Дюралевые крылья комфортабельных лайнеров возносили нас над занесенными песками древними городищами, а неподвластная времени память воскрешала их полузабытое прошлое. В уединенных высокогорных обителях, в пещерах, пагодах, храмах, под открытым небом и под сенью благоуханных тропических лесов мы встречали отшельников, чудотворцев, заклинателей змей, предсказателей судеб, столпников, фокусников и святых, даже богов, рожденных, однако, от смертных и вполне заурядных родителей. О том, насколько успешным было такое путешествие, судить, разумеется, будет читатель. Но мне лично жаль, что оно подошло к концу. Воспоминания возвращают нам минувшее, а с ним нелегко расставаться. Киплинг нашел для подобного чувства очень точные слова: «В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков: кто услышал зов Востока, вечно помнит этот зов». И все же, прежде чем окончательно поставить точку, я хочу увлечь читателя на Запад, вернуть его, так сказать, к исходному пункту странствий. «Материализм и неверие - вот главное зло!» - войдя в пророческий раж, восклицала в свое время Блаватская. «Нам требуется возрождение духа», - заявляет уже наш современник Харвей Кокс, преподаватель богословского факультета Гарвардского университета. И как бы подводя итог этой своеобразной перекличке эпох, американский журнал «Нью-суик» констатирует: «Интерес к оккультизму, в течение десятилетий не выходивший за пределы ограниченного круга избранных, внезапно превратился в поистине массовое явление». Видимо, нет нужды возвращаться к анализу причин «восточного» поветрия, охватившего современный капиталистический Запад. Об этом достаточно было сказано, и для нас нет уже здесь никакой загадки. Более того, мы смогли убедиться в том, что «современная американская религия» отнюдь не является ни современной, ни американской, а, напротив, целиком и полностью уходит своими корнями в религиозно-мистические представления Древнего Востока, эклектически копируя давным-давно развенчанные теософские и прочие оккультные вымыслы. На этом автор прощается с читателем и, по обычаю индийских сочинителей, желает ему благополучия: «Сарва мангалам».
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
АБИДАРМА (санскр.) - буддийское метафизическое учение о высшем разуме. АВАЛОКИТЕШВАРА (санскр.), Шеньрезиг (тибет.) - милостивый; божество из класса бодхисаттв (см.). АВАТАРА (санскр.) - букв.: сошествие. В индуизме воплощение божества. «АВЕСТА» - священная книга древних персов, огнепоклонников-парсов. АГНИ (санскр.) - бог огня в ведической религии. АДИБУДДА (санскр.) - букв.: постигнутый вначале; миросоздатель в буддизме махаяны (см.). АМБАНЬ (кит.) - наместник. АМБИКА (санскр.) - одно из имен древневосточной Богини-Матери. АМИТАБХА (санскр.) - один из пяти дхьяни-будд (см.). АМИТАЮС (санскр.) - будда долголетия. АМРИТА (санскр.) - стихия; букв.: напиток бессмертия. АНАНТА (санскр.) - змей, олицетворяющий вечность в индуизме. АПСАРЫ (санскр.) - небесные танцовщицы в индо-буд-дийском пантеоне. АСУРЫ (санскр.) - небесные демоны, враги богов. АРХАТ (санскр.) - отшельник. АРЬЯБОЛО (санскр.) - божество из класса бодхисаттв. Одно из имен Авалокитешвары (см.). АСАНА (санскр.) - поза божества или практикующего йога. АХИНСА (санскр.) - индуистский принцип ненасилия, согласно которому любое проявление жизни священно. АХУРАМАЗДА (перс.) - премудрый владыка, древне-иранский бог света и добра. АШВИНЫ (санскр.) - божественные братья-близнецы в индуизме. АШРАМ (санскр.) - приют для паломников-инду-истов. БХАГАВАН (санскр.) - синоним милостивого божества (Будда, Вишну и т. д.). БАЛИНЫ (монг.) - фигурки из теста, символизирующие жертву богам. БЕГЧЕ (тибет.) - гималайское божество войны. БИКРАМ-ЭРА (санскр.) - одна из систем индуистского летосчисления. БИРИТЫ, ПРЕТЫ (санскр.) - голодные духи. БОДХИ (санскр.) - букв.: просветление; в буддизме: 1) совершенное знание; 2) священное дерево. БОДХИСАТТВА (санскр.) - букв.: чья сущность - знание; класс буддийских божеств - проводников на пути спасения. БОН (БОНБО) (тибет.) - древняя «черношапочная» религия, близкая к шамаизму. БРАХМА (санскр.) - верховный бог в пантеоне индуизма. БРАХМАН (санскр.) - 1) синоним абсолюта в ведической религии; 2) жрец, представитель касты в Индии. БРАХМАЧАРИН (санскр.) - ученик брахмана (см.). БУДДА (санскр.) - букв.: осененный истиной. Так стал называться Гаутама (см.), или Сиддхартха, после просветления. БУДДЫ (санскр.) - класс божеств, достигших полного совершенства. БУМБА (санскр.) - сосуд с амритой (см.). БУРХАН (монг.) - изображение буддийского божества. БУТХАНИЛАКАНТХА (санскр.) - Вишну (см.) в образе Нараяны (см.), грезящий на водах. «БХАГАВАТ-ГИТА» (санскр.) - букв.: священная песня, часть Махабхараты (см.). БХАЙРАВА (санскр.) - охранительное божество; Шива (см.), воплощенный в Махакалу (см.), танцующий танец ярости и разрушения. БХАИСАДЖАТТУРУ (санскр.), МАНЛА (тибет.) - будда врачевания. БХИКШУ (санскр.) - нищий, отрекшийся от мира. ВАДЖРА (санскр.), ДОРДЖЕ (тибет.), ОЧИР (монг.) - священный жезл, символ громовых стрел. ВАДЖРАВАРАХИ (санскр.) - букв.: веприца грома, охранительное божество. ВАДЖРАДХАРА (санскр.) - божество из класса бодхисаттв. ВАДЖРАПАНИ (санскр.) - божество из класса будд. ВАДЖРАСАТТВА (санскр.) - божество из класса бодхисаттв. ВАДЖРАЯНА (санскр.) - третье, наряду с Махаяной (см.) и Хинаяной (см.), течение в буддизме. ВАИРАЧАНА (санскр.) - космический будда, один из дхьяни-будд (см.). ВАИСРАВАНА (санскр.) - один из локапал (см.), хранителей стран света, и бог богатства Кубера (см.). ВАРУНА, (санскр.) - один из ведических богов-лока-пал (см.), бог океана. ВАХАНЫ (санскр.) - букв.: несущие; животные, везущие богов. ВЕДЫ - букв.: знание; древние санскритские тексты, священные книги индуистов. ВИСУВАДЖРА (санскр.) - скрещенные ваджры (см.). ВИХАРА (санскр.) - место и сооружение для молитв буддийских монахов. ВИШНУ (санскр.) - бог созидания в индуистском пантеоне. ГАБАЛ (КАПАЛА) (санскр.) - ритуальная чаша, изготовленная из черепа. ГАНЕША (ГАННОПАТХИ) (санскр.) - слоноголовое божество в индуистском пантеоне. ГАНДЖИР - навершие буддийского храма. ГАНДЖУР (тибет.) - 108 томов тибетского канонического «священного писания». ГАНДХАРВЫ (санскр.) - небесные воины вед. ГАРУДА (санбкр.) - божественный коршун, вахана (см.), Вишну. ГАУ (тибет.) - ладанка, миниатюрный футляр для иконки. ГАУРИ (санскр.) - женское божество, ипостась Шак-ти (см.). ГАУТАМА - родовое имя основоположника буддизма. См. Будда Шакья-Муни. ГЕЛУГ-ПА (тибет.) - «школа добродетели»; «желто-шапочная» секта северного буддизма, основанная в XIV в. Цзонхавой. ГРИГУК (тибет.) - ритуальный нож. ГУАНЬИНЬ (кит.), КАННОН (яп.) - дальневосточные имена бодхисаттвы (см.) Авалокитешвары. ГУРУ (санслр.) - учитель. ГУХЬЯСАМАДХИ (санскр.), САНГДУИ (тибет.) - божество - охранитель из класса Юдам (см.). ГЕСЭР-ХАН - легендарный герой монгольских, бурятских и других эпических сказаний. Позднее бог войны. ДАГОБА - «башня молчания», место захоронения парсов. ДАКИНИ (санскр.) - женские индо-буддийские божества низшего ранга. ДАЛАЙ-ЛАМА (тибет.) - верховный лама, духовный и светский правитель Тибета. ДАМАРУ (санскр.) - ритуальный барабанчик. ДАНДЖУР (тибет.) - комментарий из 225 томов к тибетскому буддийскому канону. ДАЦАН - 1) ламаистский храм, монастырь; 2) религиозный центр, факультет. ДЖАЙНИЗМ - одна из древних индийских религий. ДЖАТАКИ (санскр.) - буддийские сочинения, повествующие о прошлых воплощениях. ДИПАНКАРА (санскр.) - первый из земных будд. ДОКШИТ (монг.) - букв.: дикий, необузданный; божество из класса дхармапал (см.). ДОЛМА - см. Тара. ДРИЛБУ (тибет.), ГХАНГА (санскр.), ХОНХО (монг.) - ритуальный буддийский колокольчик с ручкой в виде ваджры (см.). ДУККАР (санскр.) - женское буддийское божество. ДУН-ГАР, ДУНГ (тибет.) - ритуальная поющая раковина. ДУРГА (санскр.) - супруга Шивы (см.). ДХАММАПАДА (санскр.) - памятник раннебуддийской литературы. ДХАРМА (санскр.) - совокупность обязанностей, вменяемых религией брахманизма, а затем буддизма человеку и истолкованных как «закон», «истина»; элемент буддийской метафизики. ДХАРМАПАЛЫ (санскр.) - букв.: защитник закона. Охранительные божества. Наиболее распространены «восемь ужасных»: Сриматидэви, Махакала, Вай-сравана, Яма, Бегче, Хаягрива, Сита-Брахма, Яман-така. ДХАРМАЧАКРА (санскр.) - колесо закона (см. Дхарма). ДХЬЯНИ-БУДДЫ (санскр.) - пять будд созерцания: Вайрачана, Амитабха, Ратнасамбхава, Акшобхья, Амогасиддхи. ДЭВИ (санскр.) - богиня вообще. Одно из имен Шак-ти (см.). ДЭМЧОК (тибет.) - букв.: доброе счастье. Охранительное божество Самвара (см.). ИНДРА (санскр.) - верховный бог ведийского пантеона, бог грома и молний, бог войны. ИНЬ-ЯН (кит.) - основные категории китайской натурфилософии, означающие единство полярных сил. ИШВАРА (санскр.) - создатель богов брахманизма. ЙОГ (санскр.) - последователь йоги (см.). ЙОГА (санскр.) - букв.: связь, единение, одна из систем древнеиндийской философии; в религиозной практике индуизма и буддизма - система физических и психических упражнений. ЙОНИ (санскр.) - женское начало в индуизме. КАДАМ-ПА (тибет.) - секта в тибетском буддизме, основанная Адишей в XI в. КАЛА (санскр.) - время в индо-буддийской космогонии. КАЛАЧ АКРА (санскр.) - букв.: круг времен. 1) Доктрина буддийской тантры (см.); 2) древняя календарная система; 3) божество-охранитель. КАЛА БХАИРАВА (санскр.) - букв.: всепожирающее время; божество-охранитель. КАЛИ (санскр.) - жена Шивы (см.), богиня смерти, одно из воплощений Дурги (см.), Парвати (см.) и др. КАЛПА (санскр.) - мировой период в индийской религиозной космогонии. КАМА (санскр.) - бог вожделения в индуистском пантеоне. КАРМА (санскр.) - действие, обязанность, деятельность в брахманизме,- буддизме и индуизме; совокупность причин и следствий, оказывающая влияние на цепь перерождений, КАРМА-ПА - секта в тибетском буддизме. КАРЧЖУ-ПА (тибет.) - тантрийская секта, основанная в XI в. Марпой. КРИШНА (санскр.) - букв.: темный; легендарный царь-герой в «Махабхарате»; одно из воплощений Вишну (см.) КУБЕРА (санскр.) - бог богатства, Вайсравана (см.). КУМАРИ (санскр.) - богиня девственности в индуистском пантеоне. КУНДАЛИНИ-ИОГА (санскр.) - одна из тантрнйских систем йоги (см.). КУРКУЛЛА (санскр.) - ламаистская богиня богатства. ЛАКШМИ (санскр.) - жена Вишну (см.), богиня любви. ЛАМА (тибет.) - букв.: выше нет; наименование высшего духовенства в тибетском буддизме (ламаизме). ЛИНГАМ (санскр.) - букв.: символ, знак; в индуизме символ мужского начала, олицетворение Шивы. ЛОКАНАТХА (санскр.) - божество из класса бодхи-саттв. ЛОКАПАЛЫ (санскр.) - хранители стран света. В индуизме Кубера, Индра, Яма, Варуна, в буддизме - Вайсравана, Дхритараштра, Вирудакха, Вирупакша. ЛХАМО (ПАЛДАН ЛХАМО) (тибет.) - СРИМАТИДЭВИ (см.), богиня - покровительница Лхассы, одно из воплощений Кали (см.). МАЙЯ (санскр.) - иллюзия; в буддизме - иллюзорность видимого мира. МАИТРЕЯ (санскр.) - будда грядущего мирового периода. МАКАРА (санскр.) - химерическое чудовище, вахана (см.), Варуны (см.). МАНДАЛА (санскр.) - круг, диск; олицетворение буддийского космоса; блюдо для пожертвований и т. д. МАНИ (санскр.) - молитва. МАНДЖУШРИ (санскр.) - божество из класса бодхи-саттв, покровитель знания. МАНГУС (санскр.) - прислужник Ямы (см.). МАНЛА (монг.) - будда врачевания Бхайсаджаттуру (см.). МАНТРА (санскр.) - индо-буддийский священный текст, формула, заклинание. МАРИЧИ (санскр.) - ведическая богиня утренней зари. «МАХАБХАРАТА» (санскр.) - древняя индийская эпическая поэма. МАХАКАЛА (санскр.) - букв,: великое время. Страшное охранительное божество. Одно из воплощений Шивы (см.). МАХАРАДЖИ (санскр.) - Локапалы (см.). МАХАЯНА (санскр.) - «большая колесница», одно из основных течений буддизма. МИТРА (санскр.) - древнеиранское божество небесного света и солнца; почитался в древней Индии. МИТХУНА (санскр.) - тема любовников в индо-буд-дийском искусстве. МЕЛОН - ритуальное зеркало. МЕРУ (СУМЕР) (санскр.) - мифическая гора, центр мироздания. МУДРА (санскр.) - ритуальное положение рук в индо-буддийской иконографии и религиозном танце, МУШАИРА - состязание поэтов. МЭНЬДОН (тибет.) - стена со священными формулами в ламаистском храме, монастыре. НАГ (санскр.) - 1) змея; 2) бог змей; 3) класс демонов. НАНДИ (санскр.) - бык, вахана Шивы (см.). НАРАЯНА (санскр.) - одно из воплощений Вишну (см.). НАТАРАДЖА (санскр.) - четырехрукое воплощение Шивы (см.), танцующего танец, пробуждающий творческое начало вселенной. НИДАНА (санскр.) - взаимосвязанные друг с другом 12 причин, порождающих поток жизни - сантану (см.). НИРВАНА (санскр.) - несуществование; конечная цель - спасение в буддизме, освобождение от перерождений в телесной оболочке. НЬИГМА-ПА (тибет.) - древняя тантрийская секта в тибетском буддизме, основанная в VIII в. Падма-самбхавой. ОБО (монг.) - каменная пирамида в честь духов - хозяев гор. ПАНДИТ (санскр.) - ученый, богослов. ПАНДАВЫ (санскр.) - пять братьев, героев Махабха-раты. ПАНЧЕН-ЛАМА (тибет.) - второй после далай-ламы иерарх Тибета. ПАРВАТИ (санскр.) - жена Шивы (см. Дурга, Кали). ПАРСЫ - последователи древнеиранской религии пророка Заратустры. ПАШУПАТИ (санскр.) - Владыка зверей, одно из имен Шивы (см.). ПРАДЖНЯ (санскр.) - мудрость, знание; сила, энергия, высшее познание. ПРАДЖНЯПАРАМИТА (санскр.) - учение о высшем знании; женское божество в ранге бодхисаттвы, олицетворяющее трансцендентальную мудрость. ПРАНА (санскр.) - животворное начало. ПРАНАЯМА (санскр.) - дыхательные упражнения в системе йоги. ПУДЖА (санскр.) - религиозное почитание. ПУРАНЫ (санскр.) - древнеиндийские священные тексты. ПУРБУ (тибет.) - ритуальный кинжал в ламаизме. РАКШАСЫ (санскр.) - демоны индо-буддийского пантеона. РАМА (санскр.) - герой эпической поэмы Индии «Рамаяна». РИМПОЧЕ (тибет.) - «великая драгоценность», высшее звание в ламаистском монашестве. РИШИ (санскр.) - мудрец; махариши - великий мудрец. РУДРА (санскр.) - ведийский бог-разрушитель. САДХУ (санскр.) - аскет, йог. САКЬЯ-ПА (тибет.) - одна из тантрийских сект в тибетском буддизме, основанная в XI в. Кончог Джал-цяном. САМВАРА (санскр.) - охранительное божество из класса бодхисаттв. САНГХА (санскр.) - буддийская община. САНГХАРМА (санскр.) - помещение для буддийских монашеских собраний. САНИАСИН (санскр.) - благочестивый странствующий нищий. САНСАРА (санскр.) - непрерывная цепь перерождений живых существ в индо-буддийских религиозных представлениях. САНТАНА (санскр.) - поток жизни. САНСАРИЙН ХУРДЭ (монг.) - «колесо бытия» в ламаизме. САРАСВАТИ (санскр.) - жена Брахмы (см.), богиня музыки и мудрости. САТИ (санскр.) - жена Рудры-Шивы Ума (см.). СВАЯМБХУ (санскр.) - букв.: Самотворящий; 1) в индуизме эпитет Брахмы, Шивы и др., в буддизме - Адибудды (см.); 2) навершие субургана, или ступы (см.). Отсюда происходит название монгольского символа «соембо». СИДДХАРТХА - Будда (см.). СИКХИ - религиозная община в современной Индии. СКАНДА (санскр.) - бог войны, сын Шивы и Парвати. GOMA (санскр.) - бог Луны. В его честь пили напиток - сому, приготовленный из одноименного растения. СТУПА (санскр.), ЧОРТЭНЬ (тибет.), СУБУРГАН (монг.), ЧЕДИ (тайск.) - буддийское культовое сооружение. СУРЬЯ (санскр.) - ведическое солнечное божество. СУТРА (санскр.) - 1) краткие руководства брахмани-стского ритуала; 2) в буддизме изречения, приписываемые Будде. ТАМГА - особый знак у древнемонгольских и тюркских племен. ТАНКА (тибет.) - икона. ТАНТРА (санскр.), ТАРНИ ЧЖЮД (монг.) - от слова «хитросплетение», сокровенный текст; тайное мистическое учение; шактизм (см.), ваджраяна (см.), ТАРА (санскр.) - женское божество в ранге бодхисатт-вы., ТЕНГРИ (монг.) - небесные духи шаманизма. Всего их 99 (55 добрых западных и 44 злых восточных). ТИЛАК (санскр.) - кастовый налобный знак в Индии. ТРИРАТНА (санскр.) - букв.: три сокровища: Будда (см.), дхарма (см.) и сангха (см.). ТРИМУРТИ (санскр.) - индуистская троица: Брахма, Вишну и Шива. ТУЛКУ-ЛАМЫ (монг.) - перерожденцы, обычно настоятели монастырей. УМА (санскр.) - ипостась Шакти (см.), жена Рудры-Шивы. УПАНИШАДЫ (санскр.) - букв.: сидеть у ног учителя,получая наставления; тайные знания, передаваемые из уст в уста. Древние санскритские тексты, заключительный раздел ведийской литературы. УШНИША (санскр.) - высокий шиньон. УШНИШАВИДЖАЙЯ (санскр.) - трехглавое буддийское женское божество. УШНИШАСИТА (санскр.) - женское божество. ХАДАК - шелковый шарф для подношений в ламаистском ритуале. ХАНУМАН (санскр.) - 1) индуистское божество в образе обезьяны; 2) министр царя обезьян в Рамаяне. ХАТХА-ЙОГА (санскр.) - одна из ступеней йоги (см.). ХИМАВАТ (санскр.) - 1) гималайские горы; 2) божество гор; 3) отец Парвати (см.). ХИНАЯНА (санскр.) - «малая колесница», одно из основных течений буддизма. ХАМБО-ЛАМА - глава дацана (см.). ХУБИЛГАН (от монг. хувилах - превращаться) - живой бог, воплощение буддийского божества в одного из высших лам. ХУТУХТУ (от монг. хутахт - святой) - один из высших рангов в монгольском монашестве. Соответствует тибетскому Римпоче (см.). ХЭВАДЖРА - охранительное божество. ЦАМ (тибет.) - ламаистская мистерия устрашения врагов веры. ЧАИТЬЯ (санскр.) - храм. ЧАКРА (санскр.) - диск Вишну, в буддизме - дхарма-чакра - колесо учения. ЧАКРАВАРТИН (санскр.) - владыка мироздания, совершенный правитель чакрой. ЧАНДАМАНИ (санскр.) - волшебный камень желаний. ЧАНЬ (кит.), ДЗЭН (яп.) - буддийская секта. ЧИТИПАТИ (санскр.) - хранители могил. ЧОРТЭНЬ (тибет.) - см. ступа. ШАКТИ (санскр.) - сила, энергия; женская творческая энергия, персонифицированная в супруге божества. В индуистском тантризме объектом почитания становится женская энергия Шивы, в тантрийском буддизме женская пара любого буддийского божества. ШАКТИЗМ - тантра (см.). ШАКЬЯ-МУНИ - отшельник из рода Шакьев, одно из имен основателя буддизма. Сиддхартха (см.), Гау-тама (см.). ШАМБАЛА - мифическая страна всеобщего благоденствия. ШАСТРЫ (санскр.) - священные книги древней Индии. ШЕОЛ (библ.) - ад. ШИВА - один из главных богов индуистского пантеона; бог-разрушитель, изображается одетым в шкуру и окруженным дикими зверями. ШИКАРА - лодка. ШИКХАРА (санскр.) - верхняя часть индуистского храма характерной архитектуры. ШЛОКА (санскр.) - размер, стихосложение. ШУНЬЯТА (санскр.) - пустота, в буддизме олицетворяет иллюзорность материального мира. ЮДАМ (тибет.) - класс буддийских охранительных божеств. К ним относятся Хэваджра, Лхамо, Дэмчок (Самвара) и др. ЮЛЛУ - категория низших божеств. ЯБ-ЮМ (тибет.) - букв.: отец-мать; в ваджраяне термин, аналогичный понятию митхуна (см.); изображение божества в единении с его шакти (см.). ЯМА (санскр.) - один из локапал (см.); царь мертвых, бог загробного мира. ЯМАНТАКА (санскр.) - охранительное божество, Победитель смерти. ЯНТРА (санскр.) - мистическая диаграмма, используемая в практике медитации (см.).
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА БОГИ И МАГИ ЗОВ ИЗДАЛЕКА СВЕТ ВЕРШИН ПУТЕМ ТРЕЗУБЦА ПУТЯМИ ДРЕВНИХ КОЧЕВИЙ СОКРОВИЩЕ НА ЛОТОСЕ КОЛЕСО МИРА ДОЛИНА «БЕЛОГО КОНУСА» ПОЛЕТ СТРЕЛЫ ЖЕСТОКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КОЛЕСО «ЗОЛОТОЙ СРЕДИННОЙ ДОРОГИ» ПУТЕМ «ВЕЛИКОЙ КОЛЕСНИЦЫ» СВЕТ КАМНЕЙ СПЯЩЕЕ БОЖЕСТВО ОЧИ ЛОТОСА ТРАВА ЛУНЫ ПОД ЗНАКОМ ЛУННЫХ РОГОВ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ ПУТЕМ «ТРЕХ ПАГОД» КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Еремей Иудович Парнов
БОГИ ЛОТОСА
Заведующий редакцией A. В. Белов Редактор Л. И. Волкова Младший редактор И. П. Гуров Художественный редактор B. И. Терещенко Технический редактор Н. П. Межерицкая
ИБ № 2352
Сдано в набор 20.02.80. Подписано в печать 30.09.80. А00162. Формат 84x90Vie. Бумага офсетная № I. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Условн. печ. л. 21. Учетно-изд. л. 21,63. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 128. Цена 1 р. 40 к. Политиздат. 125811. ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7. Типография изд-ва «Уральский рабочий». Свердловск, проспект Ленина, 49.
1 р. 40 к.
Химават. Так зовется хозяин величайшей горной страны. Так же древнеиндийские книги называют Гималайские горы - сверкающую корону, возложенную природой на чело Земли. В незапамятные времена родилась здесь великая цивилизация, о которой мы знаем гораздо меньше, чем о греческих полисах или фараонских династиях Египта. А ведь она существует бок о бок с нами. Здесь и сегодня в святилищах отправляют древние обряды, хотя над этими святилищами реактивные лайнеры прочерчивают в небе белые инверсионные полосы, и приносят жертвы Луне, изборожденной следами луноходов. Посещая индуистские и буддийские храмы, можно обнаружить, как под сенью их уживаются все элементы магии. Однако «непостижимых тайн», на которые привыкли ссылаться оккультисты всех мастей, нет ни в пещерах Индостана, ни в заоблачном Непале, ни в легендарном Бутане, который называют государством-отшельником.
Издательство политической литературы

Последние комментарии
2 часов 9 минут назад
2 часов 15 минут назад
2 часов 18 минут назад
2 часов 19 минут назад
2 часов 25 минут назад
2 часов 42 минут назад