Вольфганг Штрик Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма Цикл лекций в рамках Франкфуртских чтений памяти Адорно
Проект серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам Руководитель проекта А лександр ПавловПеревод выполнен по изданию: Wolfgang Streeck. Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012
© Перевод на русский язык. Издательский дом Высшей школы экономики, 2019
* * *
Введение Теория кризиса тогда и сейчас
Эта книга – расширенная версия лекционного курса, прочитанного мной в июне 2012 г. на Франкфуртских чтениях памяти Теодора Адорно (Adorno-Vorlesungen), т. е. спустя почти 40 лет после окончания факультета социологии здесь же, во Франкфурте[1]. Нельзя сказать, что я был учеником Адорно. Я посещал некоторые его лекции и семинары, но не слишком многое понял тогда; так уж оно было принято в те времена, никто не спорил. И только позднее – в сущности, случайно – я вдруг осознал, как много я упустил. И моим главным воспоминанием об Адорно осталась глубочайшая серьезность, с которой он выполнял свою работу, – резко контрастирующая с равнодушием, столь часто сопровождающим нынешние социологические штудии после всех десятилетий их профессионализации. К счастью, моей задачей не является оценить значение работ Адорно. К тому же я намеренно воздерживался от попыток проследить взаимосвязи между своими умозаключениями и интеллектуальным наследием Адорно; с моей стороны это выглядело бы слишком нарочито и самонадеянно. В случае если все-таки сходства и обнаруживаются, то они имеют исключительно обобщенный характер. Среди них и мой интуитивный отказ верить в то, что любой кризис непременно закончится хорошо, – такой же интуитивной позиции, как мне кажется, придерживался и Адорно. Он не был склонен к «функционалистской» трактовке безопасности, приверженцем которой был, например, Талкотт Парсонс; Адорно не стал бы уверять, что рано или поздно все само собой уравновесится. Он никогда не согласился бы с пониманием базового доверия по версии Фридриха Гёльдерлина – «Но там, где угроза, растет и спаситель»[2]. В этом точка зрения Адорно близка и мне. Социальный порядок чаще всего хрупок и нестабилен, разного рода неприятные сюрпризы могут случиться в любой момент. Я не согласен с теми, кто требует при описании проблемы сразу же – наряду с анализом – предлагать и ее решение[3]; в данной работе я старательно уклонялся подобного предписания, хотя в конце книги мною и предложены некоторые действия (не вполне реалистичные) применительно к отдельным аспектам кризиса. Проблемы могут не иметь решения – по крайней мере, здесь и сейчас. И если кто-то осуждающе покачает головой и спросит, а где же тогда осталось все «позитивное», я обратился бы к Адорно – мастер меткого слова, он, без сомнения, ответил бы так: а что, если вообще нет ничего позитивного? В моей книге рассматривается финансовый и фискальный кризис демократического капитализма настоящего времени в свете кризисных теорий Франкфуртской школы конца 1960-х – начала 1970-х годов, т. е. периода, когда Адорно во Франкфурте преподавал, а я, соответственно, учился. Эти теории, в большей или меньшей степени использовавшие элементы марксистской традиции, представляли собой попытку осмыслить зарождающиеся радикальные изменения в политической экономии послевоенного времени как часть более общих процессов, затрагивающих общество в целом. Предлагаемые объяснения были далеки от единообразия, часто оставались лишь предварительными набросками, которые, как и следовало ожидать, по мере развития событий претерпевали изменения, иногда даже незаметно для авторов. Оборачиваясь к рассуждениям того времени, мы обнаруживаем бросающееся в глаза упорство, с каким авторы отстаивали незначительные различия внутри одной «теоретической семьи», которые сегодня кажутся совершенно незначительными или вообще непонятными. Поэтому в дальнейшем не будем останавливаться на том, кто в тот момент был прав в большей степени, а кто в меньшей. Кроме того, теоретические построения франкфуртских лет доказывают, насколько глубоко социальное знание переплетено со своей эпохой. Тем не менее (или как раз потому-то) при рассмотрении текущих событий имеет смысл обратиться к кризисным теориям «позднего капитализма» 1970-х годов. Мы десятилетиями забывали об этом или списывали как несущественное, а сегодня снова вспомнили и можем говорить об этом вслух: экономическое и общественное устройство богатых демократических стран по-прежнему остается капиталистическим, и понять его можно – если это вообще возможно – только с помощью теории капитализма. Оглядываясь назад, мы можем различить то, чего тогда увидеть не могли (поскольку оно было еще или стало уже само собой разумеющимся) либо не хотели (поскольку оно противоречило политическому курсу). Если, несмотря на все усилия, теоретический разум так и не сумел распознать важнейшие черты реального мира, не говоря уже о том, чтобы предсказать грядущее, это может служить нам напоминанием о том, что будущее общества открыто, а история непредсказуема, – и этот факт социальные науки еще не вполне осознали[4]. С другой стороны, многие великие изменения, происходившие в прошлом, нередко оказывались забыты, но угадываются в настоящее время. Хотя нам и не стоит полагаться на статическую трактовку мира, общественная формация может десятилетиями оставаться тождественной самой себе, если видеть в ней развивающийся процесс, заключающий постепенно эволюционирующие структуры; логику этого процесса можно если не предсказать, то, как минимум, объяснить ретроспективно. Я анализирую финансовый и фискальный кризис современного капитализма как часть непрерывного процесса развития общества в целом. Отправная точка – конец 1960-х годов, но я описываю процесс с сегодняшних позиций – как постепенный распад режима послевоенного демократического капитализма[5]. Как уже говорилось, мои рассуждения будут апеллировать к теоретической традиции того времени, я буду пытаться объяснить новые процессы в русле прежних, преимущественно марксистских теоретических традиций. Некоторые из них возникли в ходе исследований, проводившихся в Институте социальных исследований, хотя сам Адорно не принимал в них непосредственного участия. Отличительной чертой теории кризиса Франкфуртской школы было эвристическое допущение о потенциальном конфликте между социальной жизнью, с одной стороны, и экономикой, подчиненной императиву увеличения стоимости и приращения капитала, – с другой, о конфликте, который в послевоенный период формирования демократического капитализма смягчался различными исторически обусловленными инструментами государственной политики. Социальные институты, особенно в сфере политики и экономики, таким образом, постоянно оказывались поводом для разногласий, оставаясь внутренне противоречивыми и неустойчивыми, обеспечивая весьма условное равновесие и опираясь на временные компромиссы между фундаментально несопоставимыми социальными системами и деятельностными установками. Следуя политико-экономической традиции, «экономика общества» понималась как социальная система (а не только как система сугубо техническая или подчиненная законам природы), образованная интеракциями, подкрепленными властью и совершающимися между сторонами с различными интересами и ресурсами. Используя теории 1970-х годов и предпринимая попытку актуализировать их в свете последующих четырех десятилетий капитализма, я рассматриваю нынешний кризис демократического капитализма в динамической перспективе, свойственной последовательному развитию [Streeck, 2010]. В том, что это правильный способ заниматься макросоциологией или политической экономией, я имел возможность убедиться за годы изучения целого ряда социальных областей в качестве социолога и политолога[6]. Социальные науки более всего сильны в анализе процессов, а не фиксированных состояний, или, точнее, фиксированные состояния связаны между собой и с процессами. Теории, в которых структуры или события рассматриваются как уникальные явления, оторванные от предшествующих структур и событий, могут приводить к глубочайшим заблуждениям. Все социальное разворачивается во времени, выявляется со временем и обнаруживает свою схожесть с ним и в нем. То, что мы видим сегодня, мы можем понять только тогда, когда знаем, как это выглядело вчера и в каком направлении движется. Все наблюдаемое всегда следует некоему руслу развития. Именно поэтому в трех ключевых главах этой книги так много диаграмм и стилизованных нарративов, показывающих динамику исторических процессов. Важно не только то, что все требует времени, но и то, когда и где это происходит. Пространство – социальный контекст от расположенного по соседству – не менее важно для общества, чем время, и речь идет не только о хронологическом времени, но и об историческом[7]. Социальное знание становится подлинно научным только тогда, когда оно выстроено относительно временной и пространственной шкалы. Кризис, о котором пойдет здесь речь, – кризис капитализма богатых демократий западного мира, и этот контекст сформировался после того, как мир пережил Великую депрессию, восстановление капитализма и либеральных демократий после Второй мировой войны, крушение послевоенного уклада в 1970-е годах, резкие колебания цен на нефть («нефтяные кризисы»), инфляцию и т. д. Этот кризис имеет последствия и для других обществ – нынешних и будущих, однако, какими именно они окажутся, будет обусловлено конкретными действиями, характерными для соответствующего исторического периода, и объяснено с помощью эмпирических исследований. Конечно, наши обобщенные знания о политических и экономических кризисах будут полезны; но не менее важно выделить специфические особенности данного кризиса, неизвестные нам прежде, и предложить их объяснение, исходя из временного и пространственного контекста. Использование фактора времени в наших размышлениях о нынешнем финансовом и фискальном кризисе оказалось полезным во многих отношениях. Прежде всего, исторический контекст позволяет в перспективе оценить национальные различия между обществами демократического капитализма, зафиксированные в социальных исследованиях, и выделить основные модели, т. е. «разновидности капитализма» [Hall, Soskice, 2001][8]. Если рассматривать кризис как промежуточный этап в протяженной последовательности развития, то оказывается, что параллели и взаимодействия между капиталистическими странами существенно перевешивают институциональные и экономические различия. В основе этого, с поправкой на местные модификации, лежит общая динамика, даже для столь разных стран, как, например, Швеция и США. Рас смотрение во временной перспективе делает особенно очевидной ведущую роль крупнейшей и самой капиталистической из всех капиталистических стран – Соединенных Штатов Америки. Все решения, задававшие направление движения капиталистических демократий, исходили отсюда: отказ от Бреттон-Вудской системы и инфляции, возникновение бюджетного дефицита в результате налогового сопротивления и снижения налогов, увеличение долгового финансирования деятельности государственных органов, волна налоговой консолидации 1990-х годов, дерегулирование частных финансовых рынков в рамках политики приватизации государственных функций и, разумеется, финансовый и фискальный кризис 2008 г. Причинно-следственные связи и механизмы, интересующие социологов, также реализуются только во времени, причем если речь идет об адаптации и изменении институтов или общества в целом, то это могут быть только длительные периоды. Мы склонны недооценивать то, сколько времени требуется социальным факторам, чтобы произвести какой-то эффект. Если, поторопившись, начать допытываться, подтвердилась ли теория об изменении или завершении какой-либо общественной формации, велик риск, что она будет отвергнута еще до того, как ей представится шанс что-либо доказать. Хороший пример – работы по глобализации в русле сравнительной политологии 1980–1990-х годов: основываясь на тогдашних эмпирических наблюдениях, их авторы пришли к выводу, что открытие границ национальных экономик вряд ли негативно отразится на государстве всеобщего благосостояния. Сегодня мы знаем: это был всего лишь вопрос времени, и изначально было неверным предполагать, что такие прочные и неповоротливые институты, как европейские социальные государства, всего через несколько лет экономической интернационализации исчезнут вовсе или же примут фундаментально иной облик. Институциональные изменения часто – вероятно, в большинстве случаев – происходят очень постепенно [Streeck, Thelen, 2005], и мы можем еще долго отмахиваться от них как от маргинальных даже тогда, когда это маргинальное уже давно превратилось в самую суть, определяющую всю динамику развития[9]. Социальные и институциональные изменения происходят не только поэтапно и долго – к тому же что считать долгим? – но и постоянно наталкиваются на противодействующие факторы, которые могут замедлить их или изменить траекторию, преобразовать или вовсе остановить[10]. Общества наблюдают за своими тенденциями и реагируют на них. При этом они демонстрируют такую изобретательность, что фантазиям обществоведов – даже тех из них, кто сумел верно распознать фундаментальные (и социально спорные) тенденции, – за ними не угнаться. Кризис позднего капитализма 1970-х годов не могли не заметить даже те, кого не интересовало его крушение или саморазрушительные процессы. Они, безусловно, чувствовали напряжение, в целом верно диагностированное теорией кризиса, и пытались на него реагировать. Оглядываясь назад сегодня, мы понимаем, что подобные реакции по сути являются успешными попытками – растянувшимися на добрых четыре десятилетия – купить время за деньги. «Купить время» – дословный перевод английского выражения buying time, что означает выиграть время, оттянуть предстоящее событие, чтобы попытаться его предотвратить. Для этого необязательно требуются деньги в буквальном смысле. Правда, в нашем случае это были именно деньги – огромные. Деньги – самый загадочный институт капиталистической современности – были нужны для того, чтобы снять напряжение от потенциально дестабилизирующих социальных конфликтов: сначала с помощью инфляции, потом – растущих государственных долгов, далее – путем расширения рынков частного кредитования и, наконец, сегодня – через покупку центральным банком государственных долгов и банковских обязательств. Как я покажу, «покупка времени», отсрочившая и растянувшая кризис демократического капитализма в послевоенные годы, тесно связана с эпохальным процессом капиталистического развития, который мы называем «финансиализацией» [Krippner, 2011]. Если взять достаточно широкие временные рамки, то развитие нынешнего кризиса можно рассматривать как эволюционный и даже диалектический процесс[11]. Иными словами, то, что в краткосрочной перспективе несколько раз подряд воспринималось как окончание кризиса (и в этом смысле, по сути, опровергало актуальную теорию кризиса), при оценке более длительной траектории оказывается лишь изменением формы проявления фундаментальных конфликтов и недостаточной внутренней интегрированности системы. Поверхностным, «косметическим» решениям требуется не больше десятилетия, чтобы превратиться в проблему – точнее, в старую проблему в новом обличье. Каждая победа над кризисом рано или поздно оборачивается прелюдией к новому кризису; сложные и непредвиденные повороты ее пути всякий раз скрывают тот факт, что все стабилизационные механизмы неизбежно временны, покуда логика капиталистического развития – «захват территорий» рынком [Lutz, 1984; Luxemburg, 1913] – сталкивается с логикой социальной жизни. К числу моих не самых приятных воспоминаний о годах учебы во Франкфурте относится то, что на лекциях и семинарах, по крайней мере на мой взгляд, слишком много внимания уделялось «подходам» и слишком мало тому, что с их помощью можно исследовать. В бытность студентом мне слишком часто не хватало своего рода ощущения причастности к миру (Welthaltigkeit), которое, к примеру, можно найти в работе Райта Миллса «Властвующая элита» [Mills, 1956]. По сей день социология без историй, местного колорита, лишенная экзотики, а порой и абсурда политической жизни, очень быстро вызывает во мне скуку. Несмотря на то что я, таким образом, в теоретическом смысле путешествую налегке, очевидно, что моя тема – финансовый и фискальный кризис богатых капиталистических демократий – настоятельно требует обращения к традициям политической экономии. Потому что, если социологическая теория кризиса и политологическая теория демократии не научатся видеть в экономике арену социально-политических действий, они неизбежно попадут мимо цели – как и любая экономическая концепция в политике и обществе, упускающая из виду их актуальные капиталистические организационные формы. После событий 2008 г. никто не может понять политику и политические институты вне их привязки к рынкам и экономическим интересам, а также к классовой структуре и порождаемым ею конфликтам. Мне совершенно не важно, является ли такая постановка вопроса «марксистской» или «неомарксистской», – мы не будем это обсуждать. Однако результат исторического развития таков, что, пытаясь объяснить происходящее, мы больше не можем наверняка сказать, где заканчивается «не-марксизм» и начинается марксизм. Вообще, социальные науки – особенно направления, связанные с анализом обществ в целом и их развитием, – не могут обойтись без обращения к центральным элементам марксистских теорий, пусть даже и через оппозицию к ним[12]. Во всяком случае, я убежден, что актуальное развитие современных обществ даже приблизительно невозможно понять без использования ключевых терминов, восходящих к марксистской традиции, – и эта тенденция будет лишь усиливаться по мере того, как капиталистическая рыночная экономика становится движущей силой формирующегося глобального общества. В своих размышлениях о кризисе демократического капитализма я намеренно стремился к написанию полотна широкими мазками. В центре моего внимания – контекст и последовательность, сами же события отодвинуты на второй план; грубые обобщения здесь важнее тонких различий; рассматриваются не столько события, сколько взаимосвязи между ними; синтез предшествует анализу; дисциплинарные границы без особой нужды не очерчены. Аргументация захватывает широкие отрезки времени: от волны забастовок в конце 1960-х годов до введения евро; от прекращения инфляции в начале 1980-х годов до резкого роста неравенства по доходам в конце столетия; от политики сдерживания (containment policy) эпохи еврокоммунизма до нынешнего фискального кризиса средиземноморских стран и многое другое. Вероятно, что-то может быть опровергнуто при более глубоком специальном исследовании; это неизбежный риск обзорного анализа текущих событий, и я к нему готов. Но, конечно же, я очень надеюсь на то, что в конечном счете большая часть книги все же выдержит проверку. Книга поделена на три части, соответствующие прочитанным лекциям. Это привело к определенным перекосам и порой неожиданным повествовательным зигзагам, чего, конечно, не случилось бы в систематически выстроенном книжном тексте. Впрочем, не исключено, что такой текст стал бы менее читабельным. Цифры и факты, которые я привожу в качестве доказательств и иллюстраций, достаточно хорошо известны, по крайней мере в специализированной литературе; мой вклад, если таковой имеется, заключается в их упорядочении относительно широкого историко-теоретического контекста. Каждая из моих трех лекций длилась не более часа, поэтому при подготовке книги для большей ясности материал был дополнен и расширен. Пытаясь избежать слишком частого вмешательства в поток текста, я использовал сноски – нередко для того, чтобы процитировать замечательно прямолинейные сообщения из «The New York Times» или поделиться особенно гротескными случаями, узнавая которые не знаешь, смеяться или плакать над тем, что стало казаться нормальным. Иногда я использую сноски и для того, чтобы высказать какую-то наиболее рискованную (но оттого потенциально не менее продуктивную) гипотезу, не решаясь включить ее в основной текст как полноправного претендента на цитирование. Итак, «Купленное время» состоит из трех глав. Первая глава начинается с краткого обзора взаимосвязей (очевидных уже почти для всех) между финансовым кризисом, кризисом налоговой системы и кризисом роста – этому хитросплетению взаимосвязей тем не менее до сих пор удается успешно противостоять любому кризисному менеджменту и загадывать политикам нескончаемые загадки. Затем я перехожу к теориям 1970-х годов, заявлявших о надвигающемся «кризисе легитимации» «позднего капитализма», и пытаюсь понять, почему они оказались слабо подготовлены к тем социальным трендам, которые в последующие десятилетия опровергли все их догадки. Один из таких трендов – длительный разворот от социального капитализма послевоенного времени к неолиберализму начала XXI в. Далее я обрисовываю, как кризис, диагностированный в 1970-х годах, развивался на самом деле, принимая со временем все новые формы, пока не достиг в 2008 г. своего нынешнего вида. Вторая глава книги посвящена кризису государственных финансов – его причинам и последствиям. Она начинается с критики теорий в русле институциональной экономики, связывающих рост государственного долга с 1970-х годов с избыточной демократизацией и утверждающих, что на самом деле его следует считать одним из проявлений неолиберальной трансформации, или «инволюции» [Agnoli, 1967] демократического капитализма, возникшего после 1945 г. Именно эта тенденция актуализировала тот самый «кризис налогового государства» (Steuerstaat), о котором так много говорили во времена Первой мировой войны [Schumpeter, 1953 (1918)]. Далее я рассматриваю «государство долгов» (Schuldenstaat) как реальное институциональное образование, сменившее не позднее 1980-х годов классическое налоговое государство. При этом меня интересуют прежде всего отношения между государством долгов и классовой структурой, т. е. распределением жизненных шансов в обществе, а также конфликты и властные отношения между гражданами и «рынками» в социально-политическом контексте государства долгов. Вторая глава заканчивается обсуждением международных аспектов (роль их, как обычно, наиважнейшая) долгового государства, а также роли международной финансовой дипломатии в управлении им. Наконец, в третьей главе мы обратимся к политико-организационной форме, которая приходит на смену государству долгов, – я называю ее «государством консолидации» (Konsolidierungsstaat). В силу обстоятельств его появление в Европе неразрывно связано с процессами европейской интеграции, которая вот уже определенное время работает как механизм либерализации европейских экономик. В моем анализе государство консолидации описывается как европейский многоуровневый режим управления, а процесс фискальной консолидации в нем подразумевает фундаментальное переустройство европейской государственной системы. Глава завершается размышлениями о возможностях и ограничениях политической оппозиции против этой реструктуризации. В заключительной главе я кратко обобщаю сказанное и – опираясь отчасти на материалы публичных дискуссий лета и осени 2012 г. и имея в виду прежде всего Европейский валютный союз и будущее евро – предлагаю вариант ответа на кризис, который, не исключено, замедлит капиталистическую экспансию (или попросту «глобализацию») и тем самым сохранит возможность демократического контроля над «рынками».Глава 1 От кризиса легитимации к фискальному кризису
Многое свидетельствует о том, что заявления о несостоятельности франкфуртских неомарксистских теорий кризиса 1960–1970-х годов, прозвучавшие в последующие десятилетия, оказались поспешными. Вероятно, трансформация и смена такой крупной общественной формации, как капитализм, требует больше времени, чем хватает терпения у теоретиков кризиса, которые хотели бы еще при жизни узнать, верны ли оказались их теории. К тому же социальные изменения порой описывают такие причудливые обходные петли – которых теоретически вообще не должно быть, – что объяснить их возможно (если вообще возможно) только задним числом и ad hoc. Во всяком случае, я считаю, что кризис, в котором капитализм застрял сегодня, в начале XXI в., – кризис и экономический, и политический, – можно понять, только если рассматривать его как кульминацию развития, начавшегося в середине 1970-х годов, – а теории кризиса того времени и стали первыми попытками интерпретировать эту линию развития. Теперь уже неоспоримо, что 1970-е годы стали поворотным этапом[13]: в этот период завершились процессы восстановления после войны, наметился распад международной валютной системы (до того момента фактически выполнявшей функцию политического мирового порядка послевоенного времени [Ruggie, 1982]), возвратились кризисоподобные явления и пробуксовки хозяйственной деятельности в ходе капиталистического развития. Вдохновленная идеями марксизма, франкфуртская социология оказалась лучше прочих подготовлена к тому, чтобы на интуитивном уровне почувствовать политический и экономический драматизм того времени. И все же ее попытки вписать тогдашние отклонения – начиная от волны забастовок 1968 г. [Croch, Pizzorno, 1978] до первого так называемого «нефтяного кризиса» – в широкий исторический контекст развития современного капитализма вскоре были почти забыты, равно как и практические амбиции, в которых теория кризиса неизбежно увязывалась с критической теорией. Произошло слишком много всего неожиданного. Теория позднего капитализма [Habermas, 1973; 1975; Offe, 1972b; 1975] пыталась заново определить точки напряжения и разрывов в политической экономии современности. Однако направление, которое приняло это развитие, а также предполагаемые варианты решения незаметно выскользнули из выбранной теоретической системы координат. Думается, одной из проблем теории было то, что она трактовала «золотые годы» послевоенного капитализма как период совместного технократического управления, объединившего правительства и крупные корпорации, – их сеть опиралась на принципы стабильного роста и стремление к окончательному преодолению системных кризисных явлений в экономике капитализма. Во главу угла теория ставила не техническую управляемость современного капитализма, а его социальную и культурную легитимацию. В результате, недооценивая капитал как политического актора и стратегическую силу, но при этом переоценивая способность правительств к действиям и планированию, сторонники описанного подхода подменили экономическую теорию теориями государства и демократии и поплатились за это, лишившись в своем аналитическом арсенале ключевых постулатов марксистского наследия. Теория кризиса образца 1968 г. оказалась плохо или вообще никак не подготовленной к трем главным аспектам развития того времени. Во-первых, в ходе неолиберальных попыток оживить динамику капиталистического накопления посредством разнообразных механизмов дерегулирования, приватизации и расширения рынков капитализм начал стремительно и весьма успешно возвращаться к «саморегулируемым» рынкам. Все, кому довелось наблюдать это в 1980–1990-е годы в непосредственной близости, довольно скоро столкнулись с трудностями, которые таит понятие позднего капитализма[14]. Во-вторых, та же участь постигла ожидания кризиса легитимации и кризиса мотивации. Еще период 1970-х годов стал свидетелем массового и скорого культурного одобрения образа жизни, приспособленного к рынку и обусловленного им, – особенно выразительно оно проявилось, например, в энтузиазме женщин по поводу «отчужденного» наемного труда, а также в разросшемся сверх всяких ожиданий обществе потребления [Streeck, 2012a]. И наконец, в-третьих, экономические кризисы, сопровождавшие переход от послевоенного капитализма к неолиберальному капитализму (в частности, высокий уровень инфляции в 1970-х годах и государственный долг в 1980-х), для теории кризиса легитимации оставались, скорее, маргинальными[15] в отличие от объяснения инфляции в духе Дюркгейма (как проявления аномии вследствие конфликта распределения ресурсов) [Goldthorpe, 1978] или таких авторов, как Джеймс О’Коннор, который еще в 1960-х годах предсказал, хотя и в категориях ортодоксального марксизма, «фискальный кризис государства» и вытекающий из него революционно-социалистический союз объединившихся в профсоюзы служащих государственных учреждений и их клиентов из числа излишнего населения [O’Connor, 1972; 1973]. Ниже мне хотелось бы обрисовать историческую перспективу капиталистического развития начиная с 1970-х годов, в которой «восстание капитала» против послевоенной смешанной экономики будет увязано с широкой популярностью быстро растущих (после десятилетия 1970-х) рынков труда и рынков потребительских товаров, а также с чередой проявлений экономического кризиса, наблюдаемых с того момента и по сей день (и достигших своего пика в тройственном кризисе банковской системы, государственных финансов и экономического роста). В последней трети ХХ в., на мой взгляд, происходит «высвобождение» [Glyn, 2006] глобального капитализма: сопротивление владельцев (Besitzer) и распорядителей (Verfüger) капитала – класса «зависимого от прибыли» – закончилось их победой над разнообразными обязательствами, которые после 1945 г. вынужден был соблюдать капитализм, чтобы в условиях системной конкуренции вновь стать политически приемлемым. Этот успех и – вопреки всем ожиданиям – восстановление капиталистической системы в виде рыночной экономики я объясняю прежде всего государственной политикой, которая покупала время для поддержки сложившегося хозяйственного и общественного уклада. Последнее, в свою очередь, достигалось поощрением лояльности неолиберальному проекту общества, которое преподносилось как общество потребления (что просто немыслимо в теории позднего капитализма), – сначала с помощью роста денежной массы и инфляции, затем растущего государственного долга и, наконец, через свободное кредитование населения. Да, через какое-то время каждая из этих стратегий, исчерпавшись, выгорала – примерно так же, как и неомарксистская теория кризиса: подрывая принципы функционирования капиталистической экономики, требующей, чтобы ожидания «справедливого вознаграждения» оказывались важнее прочих. Все это неминуемо приводило к проблемам легитимации, возникающим то тут, то там, но не столько среди масс, сколько в среде капитала – в виде кризисов накопления, которые, в свою очередь, угрожали легитимации системы среди демократически настроенного населения. Преодолеть это, как я покажу в дальнейшем, было возможно только через дальнейшую либерализацию экономики и иммунизацию экономической политики против демократического давления снизу – чтобы вернуть в систему доверие «рынков». Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что история кризиса позднего капитализма начиная с 1970-х годов представляет собой разворачивающееся нарастание старых фундаментальных противоречий между капитализмом и демократией – своего рода постепенное расторжение вынужденного брака, заключенного между ними после Второй мировой войны. По мере того как проблемы легитимации демократического капитализма превращались в проблемы накопления, для их решения стало требоваться дальнейшее освобождение капиталистической экономики от демократического вмешательства. Таким образом, массовая опора современного капитализма переместилась из политического поля в рыночное, понимаемое как механизм выработки «страха и жадности»[16], и все это в условиях все большего отделения экономики от массовой демократии. Я опишу это развитие как трансформацию кейнсианской политико-экономической институциональной системы послевоенного капитализма в неохайекианский режим. Мой вывод будет таков: не исключено, что сегодня, в отличие от 1970-х годов, мы действительно переживаем конец политико-экономической формации послевоенного времени – тот самый конец, который предсказывали и даже лелеяли теории кризиса «позднего капитализма». Я уверен, дни привычной нам демократии сочтены – ее ждет стерилизация, на смену редистрибутивной массовой демократии придет урезанная комбинация правового государства и публичных развлечений. Этот процесс отделения демократии от капитализма путем отделения экономики от демократии – процесс «де-демократизации капитализма» путем «деэкономизации демократии» – после кризиса 2008 г. зашел уже довольно далеко как в Европе, так и повсюду в мире. Однако вопрос о том, сочтены ли заодно и дни капитализма, следует оставить открытым. Институциональные ожидания, присущие трансформированной неолиберальной демократии, о том, чтобы обойтись без справедливого вмешательства рынка, никак несовместимы с капитализмом. Тем не менее, несмотря на все усилия по перевоспитанию, сохраняющиеся среди некоторых слоев населения смутные ожидания социальной справедливости могут помешать дрейфу к рыночной демократии в духе laissez-faire и даже послужить толчком к зарождению анархических протестных движений. Безусловно, старые теории кризиса не раз подчеркивали такую возможность. Вопрос в том, могут ли протесты подобного рода представлять опасность стабильности для маячащего на горизонте капиталистического «общества двух третей» или для глобальной «плутономии»[17]: разнообразные инструменты управления заброшенным «андерклассом», разработанные и испробованные прежде всего в США, кажутся вполне пригодными для экспорта и в Европу тоже. Поэтому ключевым мог бы стать вопрос о том, появятся ли в будущем – если от денежного допинга с его потенциально опасными побочными эффектами в какой-то момент придется отказаться – другие наркотики роста, которые позволят сохранить привычный порядок накопления капитала в богатых странах. Мы можем лишь строить предположения на этот счет, что я и сделаю в заключении этой книги.КРИЗИС НОВОГО ТИПА
Вот уже несколько лет капитализм богатых демократических обществ переживает тройной кризис, и конца ему пока не видно: банковский кризис, кризис государственных финансов и кризис реальной экономики. Никто не ожидал – ни в 1970-х, ни в 1990-х годах, – что такое совпадение возможно. В Германии благодаря особым обстоятельствам[18], которые сложились более или менее случайно и казались, скорее, экзотическими, этот кризис долгие годы не замечали – лишь предостерегали от «кризисной истерики». В большинстве же других богатых демократий, включая Соединенные Штаты, кризис серьезно затронул жизнь нескольких поколений и к 2012 г. начал радикально трансформировать условия социального существования. 1. Банковский кризис проистекает оттого, что в «зафинансированном» («финансиализированном») капитализме западного мира слишком много банков выдали слишком много кредитов, государственных и частных, из которых неожиданно в какой-то момент большая часть оказалась просрочена. Поскольку ни один банк больше не может быть уверен, что банк, с которым он сегодня имеет дело, завтра не обанкротится, банки больше не хотят друг друга кредитовать[19]. К тому же их вкладчики в любой момент могут начать массовое изъятие депозитов в страхе лишиться своих накоплений. Кроме того, поскольку регулятор ожидает, что для сокращения рисков банки наращивают капитальный резерв пропорционально дебиторской задолженности, банки вынуждены сдерживать предоставление кредитов. Помочь в данной ситуации могло бы государство, взяв на себя просроченные кредиты, обеспечив неограниченное страхование вкладов и проведя рекапитализацию банков, и лучше, если бы оно сделало все это одновременно. Но для проведения такого «банковского спасения» необходимы астрономические суммы, а государства сегодня и без того перегружены долгами. И все же, если бы разорившиеся банки утянули за собой остальные, это могло бы оказаться не дешевле, а то и дороже. Но об этом можно только гадать – в этом суть проблемы. 2. Фискальный кризис (кризис государственных финансов) – результат бюджетного дефицита и растущего государственного долга, берущих начало в 1970-х годах (рис. 1.1)[20], а также привлечения заемных средств, которое потребовалось после 2008 г. для спасения как финансового сектора (путем рекапитализации финансовых институтов и приобретения обесценившихся долговых ценных бумаг), так и реального сектора экономики (посредством налогового стимулирования). Повышенный риск неплатежеспособности государства в некоторых странах привел к увеличению стоимости старого и нового заемного капитала. Чтобы вернуть доверие рынков, правительства принимают жесткие меры, предписывая себе и своим гражданам режим строжайшей экономии, в том числе, как в Европейском союзе, контролируя друг друга вплоть до запрета на новые займы. Разумеется, это не помогает справиться с банковским кризисом и тем более преодолеть рецессию в реальном секторе экономики. Спорным остается даже вопрос о том, помогает ли режим жесткой экономии уменьшить долговую нагрузку, ведь он не только не способствует экономическому росту, но и, возможно, препятствует ему. А для сокращения государственного долга рост важен ничуть не меньше, чем сбалансированный бюджет. Примечание. Приводится невзвешенная средняя по следующим странам: Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, США.
Рис. 1. 1,а. Государственный долг в % от ВВП, в среднем по странам ОЭСР, 1970–2010 гг.
Примечание. Приводится невзвешенная средняя по следующим странам: Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, США.
Рис. 1. 1,а. Государственный долг в % от ВВП, в среднем по странам ОЭСР, 1970–2010 гг.
 Рис. 1. 1,б. Государственный долг в % от ВВП, по семи странам ОЭСР, 1970–2010 гг.
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 1. 1,б. Государственный долг в % от ВВП, по семи странам ОЭСР, 1970–2010 гг.
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
3. Наконец, кризис реальной экономики, проявляющийся в высоком уровне безработицы и в экономической стагнации (табл. 1.1)[21], отчасти объясняется тем, что компании и потребители испытывают трудности в получении банковских кредитов – поскольку многие из них уже и так погрязли в долгах, а банки не хотят рисковать и к тому же испытывают дефицит капитала, – правительства тем временем сокращают свои расходы, а если не помогает и это, то повышают налоги. Таким образом, экономическая стагнация усиливает фискальный кризис и – вследствие наступающего дефолта – приводит к кризису в банковском секторе. Очевидно, что эти три кризиса тесно связаны: банковский кризис связан с фискальным через деньги, банковский и кризис реального сектора экономики – через кредиты, а фискальный и кризис реального сектора экономики – через государственные расходы и доходы. Они постоянно усугубляют друг друга, несмотря на то что их масштаб, серьезность и степень взаимозависимости варьируются от страны к стране. Кроме того, между странами прослеживается разностороннее взаимодействие: обанкротившиеся банки в одной стране могут увлечь за собой зарубежные банки; рост процентных ставок по государственным облигациям, вызванный неплатежеспособностью какой-либо страны, может разрушить финансовую систему многих других стран; национальная экономическая активность или ее резкий спад имеют международные последствия и т. д. В Европе, как мы увидим, институциональная система валютного союза придает сотрудничеству и взаимодействию особую форму и динамику.
Таблица 1 Последствия кризиса 2008 г. для реального сектора экономики семи стран
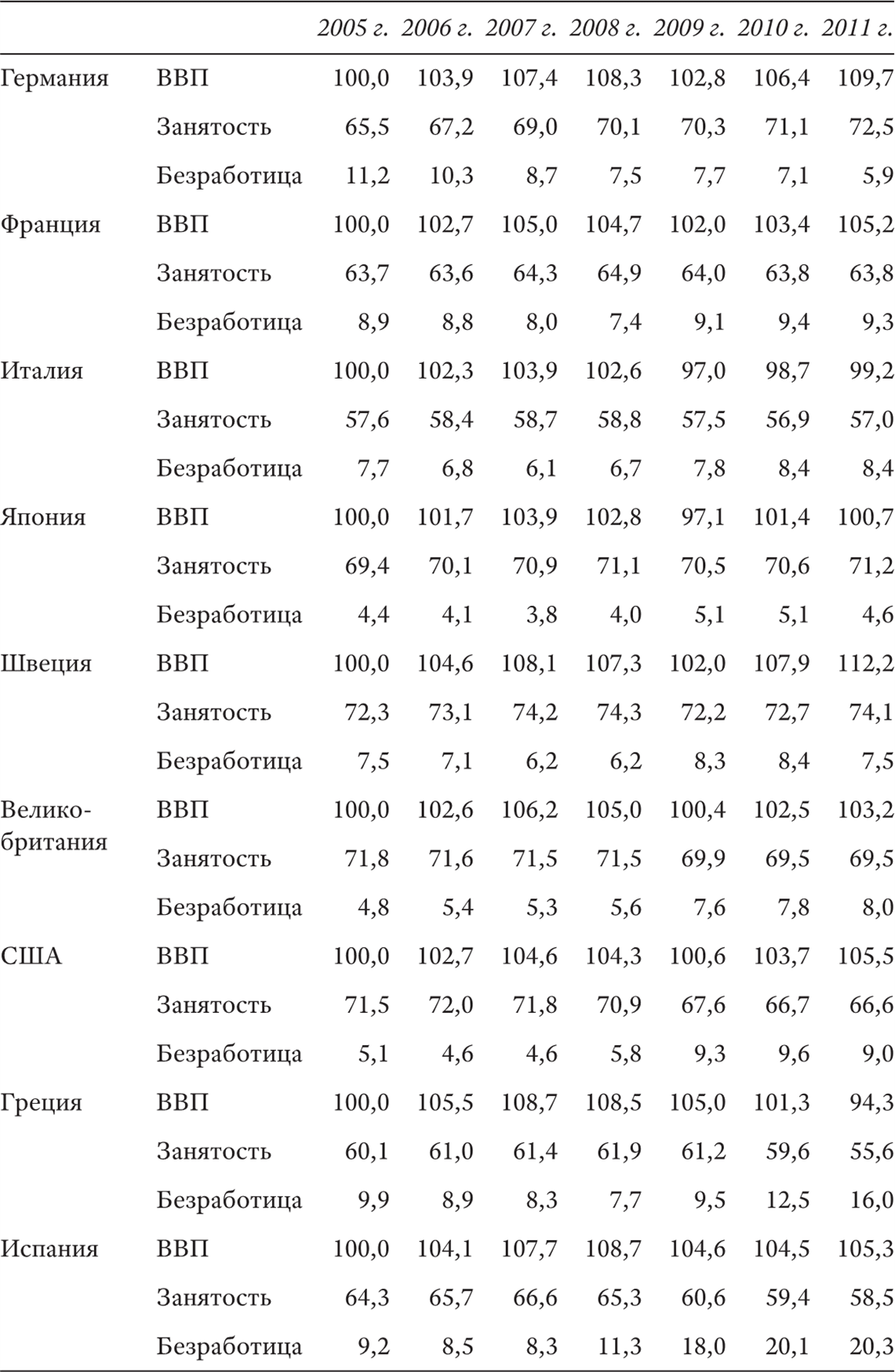
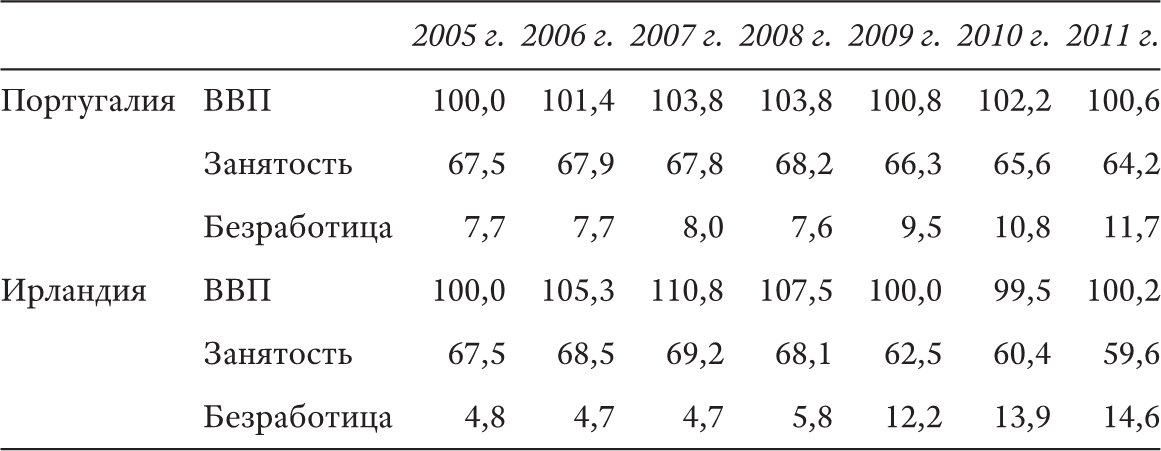 Источник: [OECD, 2012].
Источник: [OECD, 2012].
Нынешнему кризису капиталистических демократий летом 2012 г. исполнилось уже четыре с лишним года. Он совершенно неожиданным образом постоянно меняет свой облик, при этом на первый план выдвигаются новые страны и новые комбинации проблем. Никто не знает, что будет дальше; темы меняются от месяца к месяцу, иногда даже от недели к неделе, но почти всегда в какой-то момент они возвращаются вспять и повторяются. Политические действия сопряжены с широчайшим спектром непредсказуемых побочных эффектов – комплексность как она есть. Решая одну проблему, правительство порождает новую; при выходе из одного кризиса усугубляются другие кризисы – на месте одной отрубленной головы у гидры вырастают две. Слишком многое необходимо охватить одновременно; поспешно лепятся временные заплатки, встающие на пути долгосрочных решений; к реализации долгосрочных решений даже не подступаются, поскольку текущие проблемы постоянно требуют скорейшего разрешения; повсюду рвется, и усилия по латанию одной дыры ведут к появлению новых дыр. Никогда со времени Второй мировой войны правительства западных капиталистических стран не выглядели столь беспомощными, никогда под маской хладнокровия и безупречной политической выучки не скрывалось так много обезображенных паникой лиц.
ДВЕ НЕОЖИДАННОСТИ ДЛЯ ТЕОРИИ КРИЗИСА
В неомарксистских франкфуртских теориях кризиса 1968 г.[22] не фигурируют банки и финансовые рынки. И в этом нет ничего удивительного, ибо тогда никто не мог предвидеть «финансиализацию» капитализма. Но в этих теориях также ничего не было сказано и об экономических циклах, кризисах роста и о границах роста, о недопотреблении или перепроизводстве. Возможно, это связано с желанием избежать экономического детерминизма, к которому склонны столь многие марксистские течения, особенно ортодоксальный советский марксизм. Как бы то ни было, более важным мне представляется своеобразный дух того времени, удивительно глубоко проникнутый левыми идеями, а именно: капиталистическую экономику превратили в машину по обеспечению экономического процветания, которая – с помощью набора кейнсианских инструментов – работает стабильно, не боясь кризисов и опираясьлишь на хорошо выстроенную систему сотрудничества между государством и крупными корпорациями. Таким образом, материальное воспроизводство капиталистического индустриального общества казалось гарантированным, экономические предпосылки кризиса – преодоленными, а перспектива пауперизации рабочего класса, которой так пугали ортодоксы, не маячит даже на самом отдаленном горизонте. Несомненно, все это являлось отражением последствий стремительного и непрерывного экономического роста на протяжении почти двух десятилетий; что же касается Германии, то для нее это был опыт запоздалого и почти необозначенного кризиса 1966 г. и его преодоления с помощью «современной» антициклической экономической политики правительства большой коалиции. По мнению многочисленных современников, это позволило федеративной республике преодолеть собственное ордолиберальное непонимание себя и слиться с другими странами капиталистического Запада, чьи смешанные экономики насыщены государственными предприятиями, органами планирования, отраслевыми советами, региональными комиссиями по развитию, политикой соглашений в области доходов и т. д. – всем тем, что так детально описал Эндрю Шонфилд в своей книге «Современный капитализм» (1965), которая стала известна в Германии благодаря Карлу Шиллеру, эксперту-экономисту Социал-демократической партии Германии. Тот же «управленческий оптимизм» (Steuerungsoptimismus) – слово, вошедшее в оборот тогда, когда обозначаемое им уже исчезло, – господствовал в Соединенных Штатах во времена правления президентов Кеннеди и Джонсона с их штабами советников кейнсианской выучки, ратовавших за вмешательство в экономику. Планирование ни в коем случае не было предано анафеме, даже возможная конвергенция капитализма и коммунизма была вполне легитимной темой политико-экономических дебатов: капиталистический рынок испытывал необходимость в большем планировании, а коммунистическое планирование – в более развитых рыночных механизмах, так что капитализм и коммунизм могли бы встретиться где-то на середине пути в общей точке взаимных интересов [Kerr et al., 1960]. В теориях того времени экономика, понимаемая как механизм, заняла место капиталистов как класса; «технология и наука как идеология» [Habermas, 1969] заняли место, которое раньше отводилось власти и интересам. Убеждение в том, что экономика, по сути, превратилась в вопрос технический, было распространено среди социологов не меньше, чем среди экономистов. В качестве одного из многочисленных примеров можно привести работу Амитаи Этциони 1968 г. «Активное общество». Наверное, это самая амбициозная попытка определить условия, при которых современные демократические общества смогут свободно выбирать направление своего развития и воплощать свой выбор на практике. Слово «экономика» в его 666-страничной книге упоминается всего лишь один раз, и то только для того, чтобы показать, что сегодня «западные страны» могут положиться на собственные силы, «регулируя социетальные процессы при помощи широкого применения кейнсианских и иных методов, направленных на предотвращение неконтролируемой инфляции и депрессии, а также на стимулирование экономического роста» [Etzioni, 1968, р. 10][23]. Что же касается Франкфуртской школы, то здесь основой для реинтерпретации современного капитализма как системы технократического управления экономикой – как нового воплощения государственного капитализма – стали работы Фридриха Поллока, эксперта-экономиста, работавшего в Институте социальных исследований до и после своей эмиграции. По мнению Поллока, капитализм в процессе своего развития стал настолько подчинен государственному планированию, что «законам рынков и прочим экономическим законам не осталось никакого существенного поля деятельности» [Pollock, 1981 (1941), S. 87]. Поллок, скончавшийся в 1970 г., не нашел оснований для пересмотра своей оценки и после войны, разгрома фашизма и окончания военной экономики. Появление крупных корпораций и все более изощренное применение механизмов государственного планирования означало для него наступление новой эпохи, где уже никогда не найдется места принципу laissez-faire: по его мнению, развитый капитализм превратился в политически регулируемую и избавленную от кризисов экономическую систему. Три посткапиталистические экономические системы – фашизм, государственный социализм, а также «Новый курс» – поставили политику впереди экономики и тем самым сумели преодолеть естественное состояние кризиса, присущее дезорганизованному и хаотичному капитализму свободной конкуренции. С точки зрения Адорно и Хоркхаймера, как замечает Хельмут Дубиль в предисловии к изданию статей Поллока, «теория Поллока о государственном капитализме представляет собой ‹…› подробное описание общественного устройства, в котором государственная бюрократия настолько крепко взяла в свои руки экономические процессы, что можно говорить о примате политики над экономикой и вне социализма». И далее: «Утверждение Поллока о новом типе господства – снова ставшем сугубо политическим, не опосредованном, как прежде, экономическими процессами – дало Адорно и Хоркхаймеру политико-экономические аргументы более не возводить политическую экономию на первое место» [Pollock, 1975, S. 18][24]. Несмотря на то что франкфуртские авторы кризисных теорий 1970-х годов ожидали экономического краха капитализма не больше кейнсианских экономистов в США, эти теории не перестают оставаться теориями кризиса, к тому же с ярко выраженной критикой капитализма. Правда, теперь взрывоопасные места в капитализме для них таились не в экономике, а в политике и обществе: они связаны не с экономикой, а с демократией, не с капиталом, а с трудом, не с системной, а с социальной интеграцией [Loockwood, 1964]. Проблема заключалась не в производстве прибавочной стоимости – ее «противоречиями», как тогда казалось, научились управлять, – а в легитимации капитализма как социальной системы; вопрос заключался не в том, сможет ли капитал, преобразованный в экономику общества, обеспечивать общество, а в том, хватит ли его ресурсов для того, чтобы его получатели смогли и далее продолжать ту же игру. Поэтому с точки зрения кризисных теорий 1960–1970-х годов надвигавшийся кризис капитализма был связан не с кризисом производства (будь то «недо-» или «перепроизводство»), а с кризисом легитимации. Сегодня предчувствия того времени чем-то напоминают иерархию потребностей Маслоу [Maslow 1943]: когда обеспечено физиологическое существование, требуют удовлетворения нематериальные потребности – в самореализации, уважении, признании, принадлежности к сообществу[25]. Предполагалось, что в новых исторических условиях гарантированного благополучия было бы невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе ни репрессивную дисциплину, которую капитализм как форма социальной организации требовал от людей, ни принудительный характер отчужденного наемного труда. Окончание дефицита, ставшее возможным благодаря развитию производительных сил, означает, что капиталистическое господство – институционализированное, например, в избыточных иерархиях на рабочем месте и дифференцированной оплате труда, подчиненной экономически устаревшему принципу производительности труда, – будет все труднее воспроизводить[26]. Участие рабочих в управлении предприятием и демократия, эмансипация на работе или даже освобождение от нее – все эти возможности дожидались своего часа, пока их наконец не обнаружили и не взялись воплощать [Gorz, 1967; 1974]. Коммодификация человека, конкуренция вместо солидарности были объявлены устаревшими жизненными установками, и эта точка зрения будет получать все большее распространение. Требования демократизации всех сфер жизни и политического участия в объеме большем, нежели предусмотрено существующими институтами, перерастут в отрицание капитализма как формы общественного устройства и разорвут изнутри устаревшую организацию труда и жизни, основанную на частной собственности. Именно поэтому эмпирические исследования Франкфуртской школы тех лет были сфокусированы в основном на политическом сознании студентов и рабочих, а также на потенциальной возможности профсоюзов вырасти в нечто большее, чем просто машина по обеспечению заработной платы. Напротив, рынки, капитал и капиталисты едва ли попадали в фокус внимания, а место политической экономии заняли теория демократии и теория коммуникации. Конечно, на самом деле все было наоборот: не массы отвернулись от капитализма послевоенного времени и таким образом покончили с ним, а капитал в лице своих организаций, их управленцев и собственников. Что же касается проблемы легитимности капиталистического общества, опирающегося на наемный труд и потребление, в глазах широких слоев населения – «обывателей из глубинки», если использовать выражение Гельмута Коля, – то после долгих 1960-х годов она расцвела так пышно, что стала полной неожиданностью для теоретиков «позднего капитализма». Даже если борьба с «потребительским террором» 1968 г. и нашла определенный отклик среди студенчества, подавляющее большинство тех, кто прежде отчаянно сражался против «маркетизации» капиталистической жизни, с головой нырнули в пучину беспрецедентного консюмеризма и начавшейся вскоре коммерциализации [Streeck, 2012a]. Рынки потребительских товаров (автомобили, одежда, косметика, продукты питания, бытовая электроника), а также рынки услуг (услуги по уходу за телом, туризм, развлечения) росли неслыханными темпами и стали главной движущей силой капиталистического роста. Ускорение инноваций в сфере процессов и продуктов способствовало стремительному развитию микроэлектроники, сократило жизненный цикл очень многих потребительских товаров и позволило еще более дробно сегментировать продукты по потребительским группам[27]. Одновременно с этим денежная экономика без устали завоевывала все новые области социальной жизни, до того момента остававшиеся анклавами неоплачиваемых увлечений, превращая их в производство с высокой прибавочной стоимостью. Один из множества примеров – спорт, который в 1980-х годах превратился в глобальный многомиллиардный бизнес. Но и наемный труд – или, как говорилось в 1968 г., зарплатная зависимость – подвергся реабилитации, не предусмотренной теориями кризиса легитимации. Начиная с 1970-х годов женщины западного мира хлынули на рынок труда – и ситуация, которую еще вчера клеймили как отсталое зарплатное рабство, теперь преподносилась как освобождение от неоплачиваемого домашнего рабства[28]. Несмотря на, как правило, невысокую оплату, популярность трудовой деятельности среди женщин в последующие годы продолжала расти. Более того, работающие женщины нередко становились союзниками работодателей в их стремлении дерегулировать рынок труда, чтобы позволить аутсайдерам сбить расценки мужчин-инсайдеров. Рост занятости среди женщин был тесно связан со структурными изменениями внутри семьи: увеличилось число разводов, сократилось количество заключенных браков, а вместе с этим – и количество рожденных в них детей, в то же время выросла численность детей, оказавшихся в проблемных семьях, что, в свою очередь, привело к росту предложения женского труда [Streeck, 2009a]. В дальнейшем и для женщин трудовая деятельность стала важнейшим механизмом социальной интеграции и признания. Быть сегодня просто домохозяйкой – определенная стигма; в разговорной речи слово «работа» стало синонимом полной занятости, оплачиваемой по рыночным расценкам. Женщина особенно повышает свой социальный престиж, если ей удается совмещать Kinder und Karriere (детей и карьеру), пусть даже «карьерой» оказывается место кассира в супермаркете. Адорно, настроенный гораздо пессимистичнее, чем теоретики кризиса легитимации, распознал бы здесь, равно как и в потребительской лихорадке последних трех-четырех десятилетий, то самое «удовольствие в отчуждении», которого он сразу ожидал от индустрии культурного потребления. Неопротестантизм, сторонники которого гордятся своей жизнью на износ, поминутно расписанной так, дабы совместить «семью и работу» [Schorr, 1992], а также добровольная «коммодификация» человеческого капитала на современных капиталистических рынках труда – с присущими ей неустанными расчетами ожидаемой величины отдачи от образования, подчиняющими себе жизненные планы целых поколений, – судя по всему, положили конец кризису «наемного труда» и принципу опоры на достижения; свою роль в этом сыграл и «новый дух капитализма» [Boltanski, Chiapello, 2005], витающий на новых рабочих местах – креативных и автономных – и углубляющий интеграцию в компанию, а также выступающий как средство самоидентификации с попутным извлечением прибыли[29]. Если массовая лояльность рабочих и потребителей послевоенному капитализму оказалась весьма стабильной, то это никак нельзя сказать о капитале. Проблема франкфуртских кризисных теорий 1970-х годов в том, что они никак не предполагали в капитале способность к стратегическому целеполаганию – они рассматривали капитал как аппарат, а не как ведомство, как средство производства, а не как класс[30]. Получается, свои построения они выводили без капитала. Еще для Шумпетера, не говоря уже о Марксе, капитал был постоянным очагом беспокойства на теле современной экономики – причиной непрерывного «созидательного разрушения» [Schumpeter, 2006 (1912)] вплоть до момента, пока социалистический дух бюрократии его не остановит наконец. Это было очевидно и для Вебера, более того, он это предвидел, и вполне возможно, что присущая капиталу безжизненность, характерная для теории кризиса легитимации, отчасти восходит как раз к нему. Так что мир просто оказался не готов к тому, что в конце концов произошло спустя несколько десятилетий после долгих шестидесятых: капитал оказался игроком, а не игрушкой, хищником, а не рабочей лошадкой – одолеваемым страстным стремлением вырваться из тесных институциональных рамок «социального рыночного хозяйства» послевоенного образца. Неомарксистские теории кризиса, предложенные во Франкфурте четыре десятилетия назад, сильнее большинства прочих теорий того времени, ибо первыми распознали хрупкость социального капитализма. Но ее причины, а значит, и направление, а также динамику предстоящих исторических перемен они оценили неверно. Их подход исключал вероятность того, что не труд, а капитал может положить конец легитимности демократического капитализма, сформировавшегося в период trente glorieuses[31]. Действительно, история капитализма после семидесятых годов ХХ в., включая следующие друг за другом экономические кризисы, является историей высвобождения капитализма от системы социального регулирования, которое было навязано ему после 1945 г. Начало этому процессу положили протесты рабочих 1968 г.: новое поколение рабочих, воспринимавших как само собой разумеющееся темпы роста, социальные гарантии времен послевоенного восстановления, а также политические обещания зарождавшегося демократического капитализма, выступило против работодателей зрелого индустриального общества. Эти обещания капитализм не мог и не хотел сохранить навсегда. В последующие годы капиталистические элиты и их политические союзники искали способы освободиться от обязательств, на которые они пошли ради сохранения социального спокойствия и которые в целом им удавалось выполнять в период реконструкции. Новые продуктовые стратегии против перенасыщения рынка, рост предложения рабочей силы в результате изменений социальной структуры и не в последнюю очередь интернационализация рынков и производственных систем постепенно открыли фирмам возможности стряхнуть груз социальной политики и коллективных трудовых договоров, которые после 1968 г. угрожали им долгосрочным снижением прибыли[32]. Со временем это привело к стойкому процессу либерализации, принесшему мощный, масштабный разворот к саморегулируемым рынкам, – разворот, беспрецедентный в политической экономии современного капитализма и не предсказанный ни одной теорией. Франкфуртская теория кризиса не была готова к тому, что государство, дабы сбросить ярмо ставших непосильными социальных обязательств, откажется от регулирования капитализма – который оно должно было бы поставить на службу обществу – и отпустит его на свободу, а также к тому, что капитализм сочтет слишком тесными рамки политически организованной свободы от кризисов[33]. Процесс либерализации, будучи одновременно технологией контроля, инструментом смягчения социальной нагрузки на государство и освобождения капитала, на самом деле шел не быстро, особенно пока память о событиях 1968 г. была еще свежа, и сопровождался множеством политических и экономических функциональных нарушений, пока не достиг пика в нынешнем кризисе мировой финансовой системы и государственных финансов.ДРУГОЙ КРИЗИС ЛЕГИТИМАЦИИ И КОНЕЦ ПОСЛЕВОЕННОГО МИРА
В свете событий четырех десятилетий, которые прошли со времени расцвета теории кризиса, я хотел бы расширить понятие кризиса легитимации, включив в него не двух акторов – государство и его граждан, а трех – государство, капитал и наемных работников[34]. Ожидания того, что политико-экономическая система должна себя легитимировать, наблюдаются не только со стороны населения, но и со стороны капитала, ставшего актором (а уже не просто оборудованием), а точнее, со стороны его зависимых от прибыли собственников и управленцев. В сущности, раз система – капиталистическая, то ожидания последних должны быть важнее для ее стабильности, чем ожидания зависимого от капитала населения: удовлетворить население возможно, только если собственники удовлетворены, обратная же зависимость работает не всегда. Поэтому, в отличие от версии неомарксистских кризисных теорий, кризис легитимации может возникать также из ощущения неприятия капиталом демократии и накладываемых ею обязательств, т. е. без нарастающей, «выходящей за пределы системы» эволюции требований общества по отношению к социальной и экономической жизни (эволюции, к которой в 1970-х годах многие готовились). Теория кризиса легитимации, во главе которой капитал, рассматривает фирмы, их собственников и управляющих как активных максимизаторов прибыли, а не как машины по обеспечению экономического процветания или покладистых функционеров, послушно реализующих экономическую политику государства. Капитал предстает в ней упрямым, эгоистичным коллективным актором, который способен к стратегическим и коммуникативным действиям (лишь ограниченно предсказуемым), который может быть недоволен и в состоянии выразить свое недовольство. В классовой теории в рамках классической политической экономии определить, кто или что принадлежит капиталу, можно по его основной форме доходов. Интересы капитала определяются зависимостью доходов от прибыльности инвестированного капитала; доходы капитала являются остаточной прибылью, которую получают собственники и управленцы капитала, стремясь обеспечить максимальную отдачу от инвестированного капитала. В этом смысле интересы «зависимых от прибыли» противопоставлены интересам «зависимых от заработной платы»: последние, имея в своем распоряжении не капитал, а рабочую силу, передают ее собственникам капитала по оговоренной в контракте цене. Эта цена на товар «рабочая сила» не зависит от возможной прибыли от его использования. В психологической интерпретации экономики труда различие между остаточной прибылью капитала и установленным в трудовом договоре доходом – т. е. различие между прибылью и заработной платой – связано с различным уровнем склонности к риску: личности, избегающие риска, предпочитают быть наемными работниками с невысоким, но гарантированным трудовым доходом, в то время как более склонные к риску становятся предпринимателями с негарантированным, но зато потенциально высоким доходом от капитала. Если получатели остаточной прибыли стараются всевозможными способами увеличить доход от использования капитала, то получатели фиксированных доходов стремятся минимизировать ожидаемый от них вклад[35]. Конфликтные ситуации, связанные с распределением, возникают в том числе из-за того, что при прочих равных условиях высокая остаточная прибыль для зависимых от прибыли означает более низкий уровень оплаты для зависимых от заработной платы, и наоборот[36]. Для политической экономии, рассматривающей капитал как актора, а не только как парк машин, «функционирование» экономики (особенно в части обеспечения роста и полной занятости), которое поначалу кажется процессом техническим, на самом деле оказывается процессом политическим. В этом ее отличие от технократического понимания кризиса, характерного для периода после Второй мировой войны, работ Поллока и франкфуртской социальной теории. И темпы роста, и полная занятость зависят от готовности собственников капитала к инвестициям, которая, в свою очередь, зависит от их ожиданий и представлений об «адекватном» уровне дивидендов, а также от общей оценки степени безопасности и стабильности капиталистической экономики. Отсутствие экономических кризисов означает благосклонность капитала, а их наличие указывает на его недовольство. Нет какого-то раз и навсегда установленного уровня окупаемости инвестиций, которого ожидают собственники и менеджеры капитала, – он варьируется в зависимости от времени и места. Инвесторы могут умерить притязания, если у них нет альтернативы, или же, напротив, стать более требовательными, если им кажется, что где-то в другом месте их прибыль окажется выше. В целом, если они посчитают, что их социальное окружение настроено враждебно, а исходящие от него требования явно завышены, «капиталисты» могут утратить к нему «доверие» и изъять свой капитал – например, переключившись на денежные средства («предпочтение ликвидности»), пока условия не улучшатся. Экономические кризисы капитализма являются результатом кризиса доверия со стороны капитала; это не технические сбои, а кризисы легитимации особого рода. Низкие темпы роста и безработица – следствие «инвестиционной забастовки»[37] собственников капитала: последние могли бы инвестировать его, но не будут этого делать, пока не восстановят свое доверие к ситуации. При капитализме общественным капиталом выступает частная собственность, и собственники могут ее использовать, а могут и не использовать – это решать им. В любом случае их нельзя обязать инвестировать[38], а попытки нащупать ответ и предсказать, когда зависимый от прибыли класс пожелает заставить свой капитал работать, настолько сложны, что в последнее время экономисты бросают свою математику и переходят в область психологии. Таким образом, стимулирование экономического роста подразумевает достижение определенного равновесия между ожиданиями собственников капитала (относительно уровня прибыли и притязаний общества), с одной стороны, и ожиданиями наемных работников (относительно заработной платы и занятости) – с другой; достигнутый компромисс должен представляться капиталу достаточно разумным, чтобы он согласился и далее участвовать в генерировании благосостояния. Если же такого компромисса достичь не удается, неуверенность и неудовлетворенные ожидания капитала начинают ощущаться как сбои экономики, которые могут породить следующий кризис легитимации – на этот раз среди наемных работников (зависимых от заработной платы), для которых техническое функционирование системы, особенно в части обеспечения темпов роста и полной занятости, является условием принятия системы. Чтобы сложилась подобная ситуация, нет нужды в новых требованиях, достаточно невыполнения старых. Иными словами, капитализм предлагает общественный договор, в котором определены легитимные обоюдные ожидания между капиталом и трудом, между зависимыми от прибыли и зависимыми от заработной платы, – эти ожидания более или менее четко выражены в виде формальной или неформальной экономической конституции. Капитализм не является естественным состоянием, как хотелось бы постулировать в экономической теории и идеологии. Он представляет собой обусловленный временем, нуждающийся в институционализации и легитимации общественный строй: его конкретные формы меняются в зависимости от времени и места и, в принципе, в любой момент могут стать предметом новых переговоров и подвергнуться риску разрушения. В 1970-х годах начало рассыпаться то, что в англоязычной литературе известно как политико-экономическое послевоенное урегулирование демократического капитализма (postwar settlement): социальный договор относительно оснований капитализма в обновленной форме. После 1945 г. капитализм очутился в оборонительно настроенном мире; во всех странах формирующегося западного блока ему пришлось заново определить свою «социальную франшизу», дополнив и расширив ее в связи с усилением рабочего класса вследствие войны и соперничества между двумя системами[39]. Этого можно было достичь только с помощью значительных уступок, уже предусмотренных и подготовленных кейнсианской теорией: в среднесрочной перспективе – в форме интервенции государства в деловой цикл и государственного планирования в целях обеспечения темпов роста, полной занятости, социального перераспределения и совершенствования защиты от рыночных колебаний; в долгосрочной перспективе – в форме постепенного ухода от капитализма и дрейфа к миру неизменно низких процентных ставок и нормы прибыли. Только при соблюдении этих условий, т. е. при подчинении социальных целей политическому диктату, можно было теперь, после окончания военной экономики, реанимировать ориентированный на прибыль экономический режим – уже на поле стабильной либеральной демократии, устойчивой к отголоскам фашизма и соблазнам сталинизма; только в этом случае возникла бы политическая возможность полностью восстановить институт прав собственности и власти менеджеров. Соблюдение такой «формулы мира», как ее назвали во франкфуртской теоретической дискуссии, согласовывалось и контролировалось вмешательством государства, что дисциплинировало рынок в вопросах планирования и перераспределения, при этом государство, рискуя лишиться своей легитимности, вынуждено было обеспечивать выполнение общественного договора, являвшегося основой нового капитализма. Этот политико-экономический послевоенный мир начал рушиться в 1970-х годах. Комплексное объяснение подобных тенденций следует начать с падения темпов роста во второй половине 1960-х годов – оно подводило к мысли, что капиталистическая экономика не всегда может желать или быть в состоянии обеспечивать общество товарами в том объеме и на тех условиях, которые сложились в послевоенное десятилетие. Правительства западных стран в борьбе за сохранение социального мира и политической стабильности, насколько это возможно, экспериментировали с новыми методами государственного экономического планирования и управления. Одновременно рабочие как никогда решительно настаивали на своей интерпретации договоренностей, достигнутых в начальные годы становления системы: с какой стати они должны подыгрывать, подчиняясь правилам капитализма и разрешая капиталу наращивать прибыль, если им самим от этого не становится лучше? Капиталу, в свою очередь, приходилось опасаться «революции растущих ожиданий» (revolution ofrising expectations), которые он не сможет удовлетворить – разве что ценой постоянного сокращения прибыли и превращения (под политическим давлением избирателей) частного сектора экономики в квазигосударственную инфраструктуру, подчиненную жесткому регулированию и планированию. В целом к концу 1960-х годов положение стало напоминать то, что Михал Калецкий описывал в своей статье 1943 г.: сопротивление капитала может потопить кейнсианскую модель [Kalecki, 1943]. Собственно, Калецкий начинал с вопроса: что его современники-работодатели имеют против кейнсианской экономической политики, которая обещает им устойчивый рост, не подверженный циклическим колебаниям? И отвечал на него так: постоянная полная занятость представляет угрозу для капитала, ибо делает рабочих – стоит им забыть о незащищенности и лишениях, характерных для состояния безработицы, – чересчур требовательными. В этот момент может упасть дисциплина и на рабочем месте, и на политической арене. Поэтому, полагает Калецкий, в интересах капитала поддерживать структурную безработицу, которая напоминала бы рабочим, что с ними может произойти, если они будут выступать с завышенными требованиями. При этом подразумевается, что капиталу удастся убедить государство отказаться от кейнсианских инструментов, гарантирующих полную занятость. Прокатившаяся по миру волна стихийных забастовок 1968 и 1969 гг. показалась работодателям и правительствам стран демократического капитализма следствием затянувшейся фазы бескризисного роста и гарантированной полной занятости, которые породили завышенные ожидания со стороны рабочей силы, избалованной достатком и системой социальной поддержки[40]. Рабочие же, в свою очередь, полагали, что просто отстаивают свое демократическое право на постоянное повышение уровня жизни и экономической защищенности. С этого момента ожидания рабочей силы и капитала разошлись настолько далеко, что послевоенный режим демократического капитализма не мог не оказаться в кризисе. В первой половине 1970-х годов поднялась новая волна забастовок: рабочие и их профсоюзы не отступали от своих требований, а капитал исчерпал свои возможности для маневра. В ответ капитал начал подготовку к выходу из послевоенного общественного договора, преодолел собственную пассивность, заново обрел способность к действию и самоорганизации и в результате сумел противостоять попыткам демократической политики планировать его действия и использовать для достижения целей, не совпадающих с целями его, капитала. Помогло ему то, что – в отличие от рабочих и профсоюзов – у него была альтернативная стратегия выживания в условиях демократического капитализма: постепенно отказать последнему в «доверии» и, как следствие, лишить его необходимых инвестиционных средств для функционирования.ДОЛГИЙ РАЗВОРОТ: ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО КАПИТАЛИЗМА К НЕОЛИБЕРАЛИЗМУ
Где-то в середине «ревущих семидесятых» (как позднее назвали эти годы по причине завышенных ожиданий благосостояния и свободы, определявших тогда политику и общественные настроения) владельцы и менеджеры капитала – а не широкие массы наемных рабочих, как это предполагала теория кризиса легитимации, – приступили к длительной борьбе за фундаментальную реструктуризацию политической экономии послевоенного капитализма. Еще не забывшие событий 1968 г. капиталисты и их управленцы были обеспокоены политическими заявлениями, в которых предлагалось испытать «пределы допустимой нагрузки»[41] на экономику, что позднее нашло свое отражение в целом ряде публикаций (см., например: [Korpi, 1983; Esping-Andersen, 1985]). В ответ собственники и топ-менеджеры приступили к выходу из системы, которая после 1945 г. (и несмотря на опыт между двумя мировыми войнами) помогала им вернуться на командные высоты индустриального общества. В результате большинство компаний, отраслей и бизнес-ассоциаций объединились вокруг новой общей цели: либерализации капитализма и расширения внутренних и внешних рынков. События конца 1960-х годов и энергетический кризис 1972 г. практически свели к нулю вероятность того, что экономика сможет в долгосрочной перспективе на приемлемых для себя условиях выполнить обязательства, которые под политическим давлением взяла в послевоенное время. Доверие к высоким темпам роста в рамках демократическо-капиталистической формулы мира было исчерпано. Отказаться от прибыли ради сохранения полной занятости, организовать заведомо затратное производство ради обеспечения гарантированной занятости с высокой оплатой труда и низкой дифференциацией заработной платы – подобные установки казались бизнесу и всем, кто зависел от его прибыльности, все более неприемлемой жертвой. Поскольку на государства, почти повсеместно в той или иной степени оказавшиеся во власти социал-демократов, уже нельзя было полагаться[42], единственным выходом оставалось бегство к рынку: высвобождение капиталистической экономики из-под бюрократическо-политического и корпоративного контроля периода послевоенного восстановления и возвращение уровня прибыльности благодаря свободным рынкам и дерегулированию[43] взамен государственной политики, связанной с рисками социальных обязательств. С позиций сегодняшнего дня стратегия либерализации, ограничивавшая вмешательство государства и провозглашавшая возвращение к рынку как к основному экономическому механизму распределения, оказалась удивительно успешной и поразила не только представителей критической теории[44]. В 1980-х годах в западных обществах начали терять свою силу либо вызывать сомнения ключевые элементы послевоенного общественного договора: политически гарантированная полная занятость; коллективное – в масштабе всей страны – формирование заработной платы в ходе переговоров со свободными профсоюзами; участие рабочих в управлении предприятием; государственный контроль над основными отраслями; широкий общественный сектор с гарантированным трудоустройством как пример для частного сектора; всеобщие социальные гарантии, лишенные конкурентной основы; весьма ограниченное социальное неравенство благодаря соответствующей политике в области доходов и налогов, а также государственная конъюнктурная и промышленная политика, направленная на поддержание стабильного роста. Во всех западных демократиях с 1979 г. – года «второго нефтяного кризиса» – с большей или меньшей степенью агрессивности началось ограничение деятельности профсоюзов. Одновременно мир приступил к постепенному, но радикальному реформированию рынков труда и системы социальной защиты, проходившему под девизом о якобы давно назревшем повышении «гибкости» институтов и «активизации» потенциала трудовых ресурсов; эти усилия привели к фундаментальной ревизии послевоенного государства благосостояния, защита которого все усиливалась по мере того, как рынки выходили за национальные границы (явление, известное как глобализация). Сюда же относятся размывание прав на защиту от увольнения, разделение рынков труда на основной и периферийный секторы с различными правовыми нормами защиты, одобрение и стимулирование низкооплачиваемой работы, принятие высокого уровня структурной безработицы, приватизация государственной сферы услуг и сокращение занятости в бюджетном секторе, а также, где возможно, отстранение профсоюзов от участия в процессе формирования заработной платы[45]. Финальным аккордом этой тенденции независимо от национальных различий и особенностей стало возникновение «бережливого» и «модернизированного» государства всеобщего благосостояния, ориентированного на всю большую «рекоммодификацию»; его «доброжелательность» в сфере занятости и низкие расходы были куплены ценой понижения гарантированного минимального уровня жизни, которое обеспечивалось социальными гражданскими правами[46]. В конце 1970-х годов началось дерегулирование не только рынков труда – те же тенденции все более выраженно наблюдались на рынках товаров, услуг и капитала. Правительства надеялись, что это ускорит экономический рост и освободит их от политических обязательств, тогда как работодатели уповали на расширение рынков и усиление конкуренции, чтобы оправдать ухудшение условий труда, снижение оплаты или, по крайней мере, растущую дифференциацию заработной платы[47]. Тогда же рынки капитала превратились в рынки корпоративного контроля, для которых «акционерная стоимость» стала главным индикатором хорошего управления [Höpner, 2003]. Во многих странах, даже в Скандинавии, внимание граждан обращали на частные образовательные услуги и услуги страхования, предлагая их как дополнение или даже альтернативу государственным услугам и подчеркивая возможность воспользоваться кредитом для их оплаты. Повсюду скачкообразно росло экономическое неравенство (рис. 1.2)[48]. Примерно так, более или менее похожим образом реагируя на давление со стороны собственников и менеджеров своей «экономики», развитые капиталистические страны сбросили с себя груз обязательств, взятых в середине столетия, – обязательств обеспечивать экономический рост, полную занятость, социальную защищенность и социальную сплоченность – и передали вопросы благосостояния своих граждан рынкам.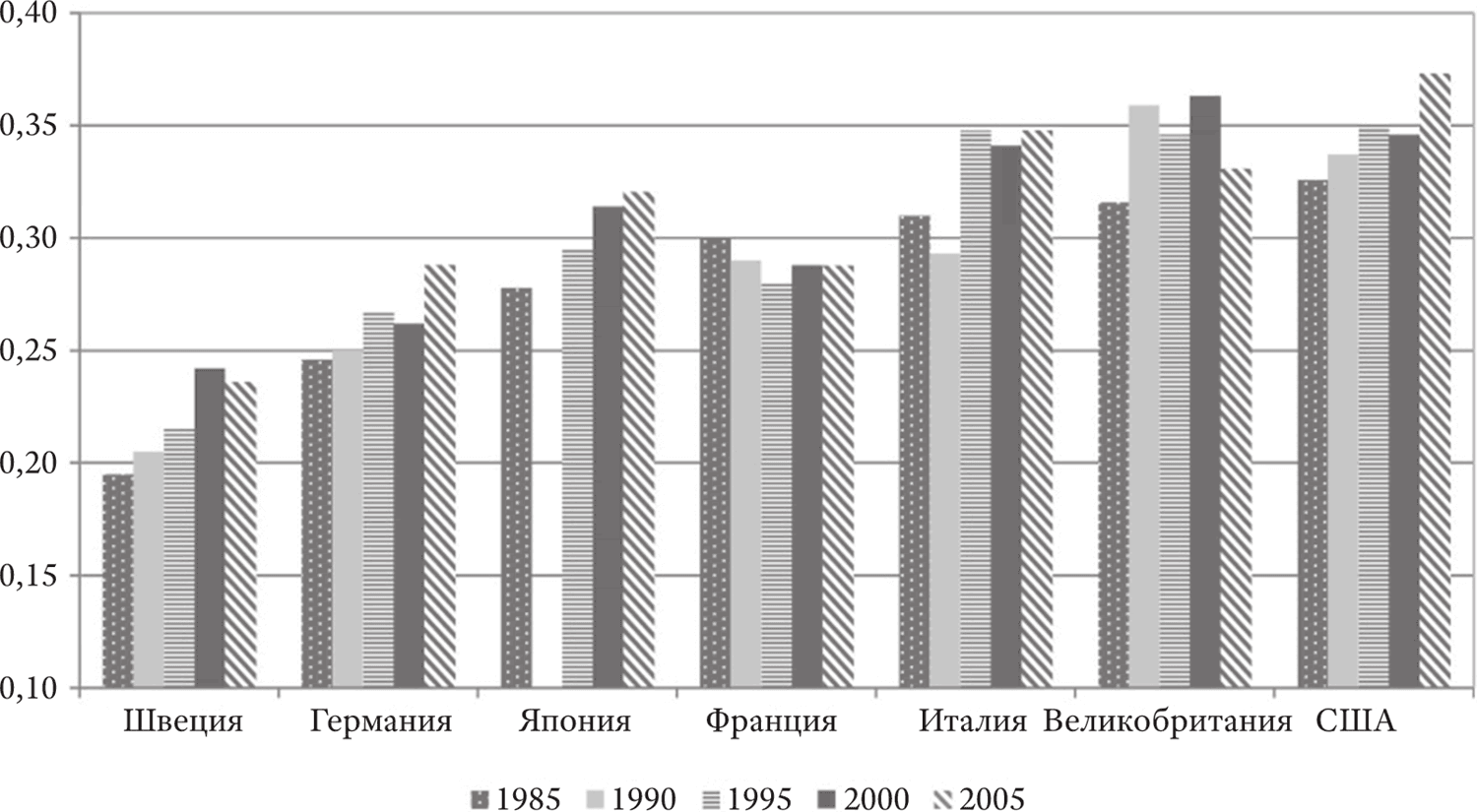 Рис. 1.2. Динамика неравенства по доходам: коэффициент Джини для семи стран, 1985–2005 гг.
Источники: OECD Database on Household Income Distribution and Poverty; OECD Factbook, 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, 2008; OECD Factbook, 2010: Country Indicators, OECD Factbook Statistics.
Рис. 1.2. Динамика неравенства по доходам: коэффициент Джини для семи стран, 1985–2005 гг.
Источники: OECD Database on Household Income Distribution and Poverty; OECD Factbook, 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, 2008; OECD Factbook, 2010: Country Indicators, OECD Factbook Statistics.
Примечательно, что длительный разворот к неолиберализму не встретил в богатых западных обществах особого сопротивления. Высокий уровень структурной безработицы, уже ставший нормой, был лишь одной из причин. Преобразование рынков продавцов в рынки покупателей вкупе с расцветшим искусством маркетинга обеспечило лояльность коммерциализации социальной жизни среди большей части населения и стабилизировало его трудовую мотивацию [Streeck, 2011a]. К тому же новые формы занятости и организации труда в формирующейся «экономике знаний» вобрали элементы «проекта самореализации», возникшего в 1968 г. [Boltanski, Chiapello, 2005]. Кроме того, у новых рынков труда нашлись сторонники, особенно среди женщин, для которых трудовая деятельность стала синонимом личной свободы, а также среди представителей молодого поколения, которые обнаружили, что гибкость их индивидуальных, не ограниченных традициями стилей жизни находит отражение в гибкости новых условий занятости. Уж точно их не мучает кошмар получить золотые часы в награду за то, что они полвека проработают в одной и той же компании. Разнообразные риторические усилия работодателей и политиков, направленные на то, чтобы сгладить видимые различия между добровольной и вынужденной мобильностью, между самозанятостью и ненадежной занятостью, между сокращением и увольнением, нашли весьма благодарного слушателя в поколении, с младых ногтей впитавшем понимание мира как меритократию, где рынок труда – спортивное соревнование, что-то вроде марафона или езды на горном велосипеде. По сравнению с 1940-ми годами, когда человеческая потребность в стабильных социальных отношениях представлялась Поланьи противовесом в борьбе против либерального проекта [Polanyi, 1957 (1944)], культурная толерантность в отношении неопределенности рынка в последние два десятилетия ХХ в. выросла вопреки всем ожиданиям.
КУПЛЕННОЕ ВРЕМЯ
И все же неолиберальная революция была бы невозможна без некоторого политического прикрытия. В конце 1960-х годов капиталистическая формула мира утратила реалистичность: высокие темпы экономического роста, достигаемые обоюдными усилиями труда и капитала, – которые можно было бы использовать для обеспечения надежной занятости, повышения оплаты и улучшения условий труда, расширения социальной защиты – поддерживать уже не удавалось. Не позднее начала 1970-х годов возникла угроза, что вложения производственного капитала могут стать недостаточными для того, чтобы и далее обеспечивать полную занятость в условиях возросших зарплатных аппетитов и расширения государственной социальной политики. Последние считались ключевыми элементами послевоенного общественного договора. Таким образом, на горизонте маячили кризис легитимации, кризис парламентской демократии, а возможно, и кризис капиталистической экономики. Впрочем, проблема была успешно решена в последующие годы, хотя и совершенно иначе, чем предсказывала франкфуртская теория кризиса: инструментами монетарной политики, которая увязала стремительное повышение оплаты труда с ростом производительности, что привело к глобальному росту темпов инфляции, особенно во второй половине 1970-х годов[49]. Инфляционная денежная политика, начавшаяся после волны забастовок 1968 г., обеспечивала социальный мир в условиях быстро развивающегося общества потребления, компенсируя недостаточный экономический рост и гарантируя сохранение полной занятости (см. об этом: [Streeck, 2011a]). В таких обстоятельствах требовались скорейший «ремонт» и временное восстановление уже не срабатывающей неокапиталистической формулы сохранения мира. Хитрость состояла в том, чтобы разрядить назревавший конфликт между трудом и капиталом, предоставив дополнительные ресурсы, пусть даже те и существовали только в виде выпущенных дополнительно денег и (пока) не существовали в реальности. Инфляция позволила достичь лишь мнимого увеличения распределяемого пирога, но в краткосрочной перспективе это различие не всегда имело значение; она способствовала возникновению у рабочих и работодателей «иллюзии денег» (как назвал ее Кейнс) – иллюзии достатка, вызвавшей бум нового консюмеризма. Однако со временем иллюзия таяла и в конце концов исчезла вовсе, когда падающая стоимость денег вынудила владельцев финансовых активов снова воздержаться от инвестиций или вообще искать убежища в других валютах[50]. Государства, которые стремились удержать социальное равновесие при помощи инфляции и вводили в капиталистический конфликт распределения еще не существующие ресурсы, смогли воспользоваться чудодейственными свойствами современных «необеспеченных денег», количество которых может возрастать по желанию государственной власти. Однако с началом стагфляции во второй половине 1970-х годов (когда, несмотря на ускоренную инфляцию, наблюдалась стагнация) волшебство замены реального роста номинальным себя исчерпало. Это побудило руководство Федеральной резервной системы США пойти надовольно радикальные стабилизационные меры, в том числе на повышение процентной ставки до двадцати с лишним процентов, что и позволило быстро покончить с инфляцией, причем вплоть до сегодняшнего дня (рис. 1.3). Когда дефляция в капиталистических экономиках по всему миру привела к глубокой рецессии и затяжной безработице (рис. 1.4), вновь вернулась проблема легитимации послевоенного капитализма, а с ней – и искушение попытаться вновь наколдовать денег из воздуха. Вот так и началась – или продолжилась – стратегия развития, достигшая своего апогея в нынешнем глобальном финансовом и фискальном кризисе. Монетарная стабилизация мировой экономики начала 1980-х годов была виртуозным предприятием (мероприятием) с высокими политическими рисками; ее могли провести только правительства Рейгана и Тэтчер, которые готовы были допустить массовую безработицу в обмен на возвращение к «устойчивой валюте» и любой ценой преодолеть неизбежное сопротивление общества[51]. В сущности, дефляционные процессы капиталистических экономик, усиленные затяжной безработицей и неолиберальными рыночными реформами, по всему миру привели к ослаблению профсоюзного движения (рис. 1.5); в результате забастовка стала практически бесполезным инструментом при решении конфликтов распределения, соответственно, количество забастовок почти повсюду снизилось до нуля, и картина с тех пор не меняется (рис. 1.6)[52]. В то же время разрыв между обещаниями капитализма и ожиданиями его «клиентуры», с одной стороны, и тем, что готовы были предоставить набирающие силу рынки, – с другой, не просто сохранился, но стал расти; и вновь – уже в других обстоятельствах и другими инструментами – над ним требовалось возвести политический мост. Это было начало эпохи государственного долга. Рис. 1.3. Темпы инфляции в семи странах, 1970–2010 гг., %
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 1.3. Темпы инфляции в семи странах, 1970–2010 гг., %
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
 Рис. 1.4. Уровень безработицы в семи странах, 1970–2010 гг., %
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 1.4. Уровень безработицы в семи странах, 1970–2010 гг., %
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
 Рис. 1.5. Охват профсоюзным движением по семи странам, 1970–2010 гг.
Источник: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies: ICTWSS Database 3, May 2011.
Рис. 1.5. Охват профсоюзным движением по семи странам, 1970–2010 гг.
Источник: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies: ICTWSS Database 3, May 2011.
 Рис. 1.6. Интенсивность забастовок по семи странам, 1971–2007 гг.
Источник: ILO Labour Statistics, US Bureau of Labor Statistics.
Рис. 1.6. Интенсивность забастовок по семи странам, 1971–2007 гг.
Источник: ILO Labour Statistics, US Bureau of Labor Statistics.
Как и инфляция, государственный долг позволяет гасить социальные конфликты при помощи финансовых ресурсов, которых еще нет в наличии, – гражданам еще предстоит их произвести, а государству – получить в виде налогов. Однако в этом случае в роли печатного станка выступает не государство, а частная кредитная система, авансом предоставляющая налоговые поступления (которые в реальном будущем удастся или не удастся получить). В начале 1980-х годов наблюдается ужесточение требований к системе социального обеспечения – прежде всего из-за высокого уровня безработицы, а также потому, что приближалось время выплачивать пособия, которыми на протяжении предыдущих десятилетий оправдывали сдерживание роста оплаты труда. Несмотря на оперативные реформы, направленные на сокращение обязательств по выплатам, не все обещания и неформальные соглашения, лежавшие в основе социальной политики, можно было легко отменить. Кроме того, инфляция остановила девальвацию имевшегося государственного долга, и долговая нагрузка государства возросла по отношению к ВВП. Поскольку повышение налогов было бы сопряжено с еще большими политическими рисками, чем ускоренный демонтаж социального государства, правительства решили искать спасение в долгах. В случае с США Криппнеру удалось показать, что этот процесс начался еще при Рейгане, когда тот провел первую волну либерализации финансовых рынков, – ожидалось, что она поможет привлечь необходимый капитал внутри страны и из-за рубежа, а также позволит банкам кредитовать быстрее и чаще, чем раньше, и тем самым покрыть растущие потребности государства при помощи заемных средств [Krippner, 2011]. Но и это средство давало капиталистическому миру лишь кратковременную передышку. В 1990-е годы правительства стали беспокоиться по поводу роста доли расходов на обслуживание долгов, а кредиторы начали сомневаться в способности правительств погасить свои растущие долги. И снова первый шаг сделали США: администрация Клинтона попыталась сбалансировать государственный бюджет за счет сокращения социальных расходов[53]. Большинство других стран западного мира последовали этому курсу[54] под влиянием международных организаций – ОЭСР и Международного валютного фонда[55]. Но даже спустя два десятилетия после того, как капитализм выбрался из своей послевоенной раковины, для дальнейшего развития ему все еще требовалась легитимация в виде направления дополнительных ресурсов на смягчение конфликтов – только на этот раз политически необходимое идеально совпадало с неолиберальным желаемым. Прежде всего в США и Великобритании, а также в Скандинавии[56] при консолидации государственного бюджета возникла угроза снижения спроса и сокращения доходов домохозяйств, что пошатнуло бы легитимность системы. Ответом стал еще один раунд вливаний – за счет второй волны либерализации рынков капитала, и это привело к быстрому росту частных задолженностей. Колин Крауч назвал этот новый этап капиталистического развития «приватизированным кейнсианством» [Crouch, 2009]. В условиях приватизированного кейнсианства государственный долг заменяется частным – это механизм расширения резервов политической экономии в распределении ресурсов[57]. Это третий и на сегодняшний день последний вариант «латания дыр» в обещаниях позднего послевоенного капитализма, опираясь на представления о будущей покупательной способности: политика государственного регулирования сводится к предоставлению возможности частным домохозяйствам дополнять свои доходы от наемного труда кредитами, взятыми на свой страх и риск. Впрочем, и здесь можно найти параллели между странами, которые обычно относят к разным – даже противоположным – «разновидностям» капитализма. Так, не только в США и Великобритании, но и в Швеции (да и вообще в Скандинавии) закредитованность частных домохозяйств в 1990-е годы резко пошла вверх, что не только компенсировало сокращение государственного долга вследствие политики консолидации, но и повысило общий объем задолженности страны даже там, где прежде он оставался относительно постоянным (рис. 1.7)[58].
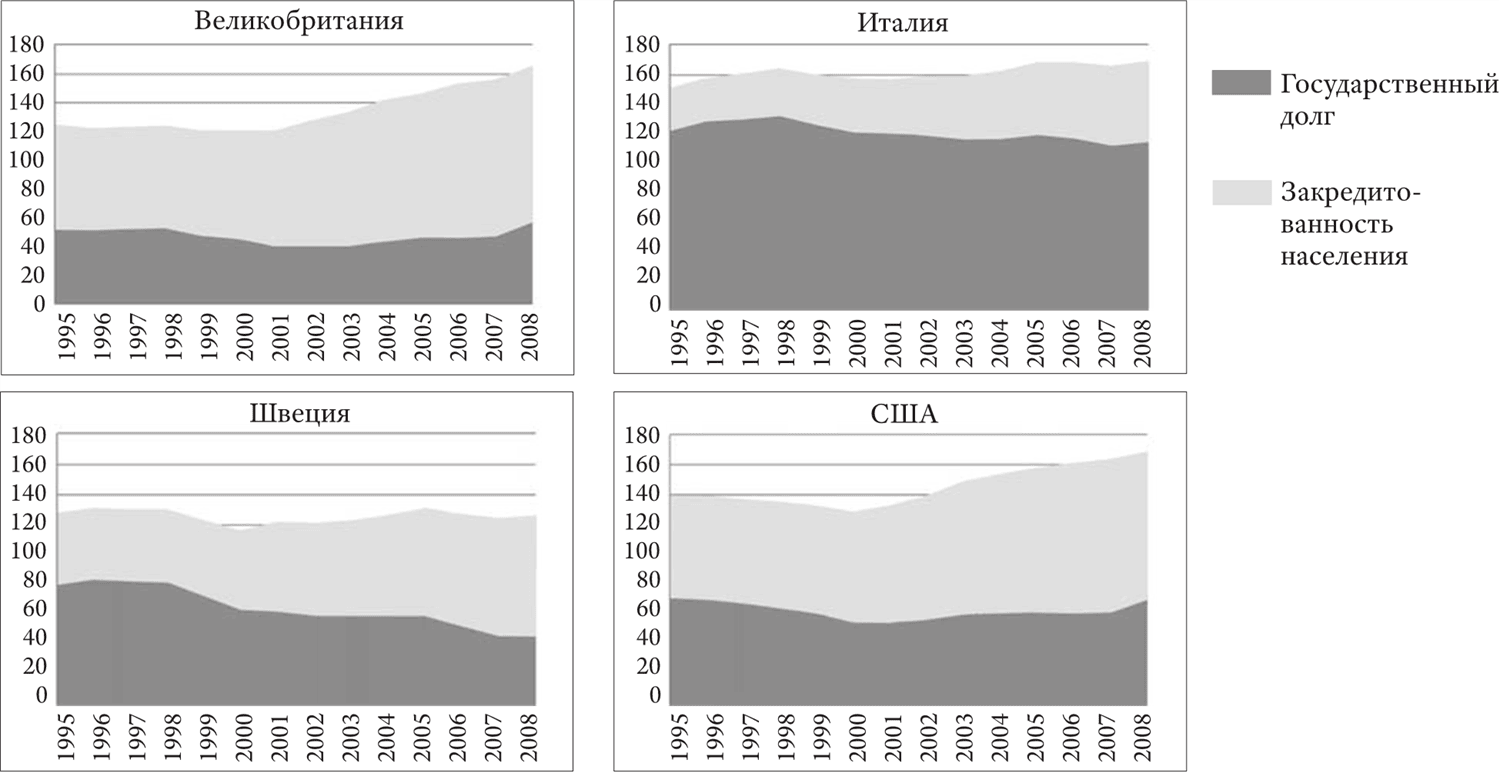 Рис. 1.7. Государственный долг и задолженность бюджетов частных домохозяйств (% от ВВП), четыре страны, 1995–2008 гг.
Источники: OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 1.7. Государственный долг и задолженность бюджетов частных домохозяйств (% от ВВП), четыре страны, 1995–2008 гг.
Источники: OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
В политической плоскости замену государственного долга частной закредитованностью обосновывали новой теорией: рынки капитала полностью регулируют себя сами и не нуждаются в государственном вмешательстве, поскольку их участники обладают всей необходимой информацией, чтобы не допустить системного дисбаланса[59]. Все это позволило использовать заемные средства для приватизации государственных услуг, и в результате государство смогло окончательно стряхнуть с себя навязанную ему после войны и уже давно вызывавшую сомнения капитала ответственность за темпы роста и социальное обеспечение – передать их обратно рынку и его по умолчанию рациональным участникам. В этой точке неолиберальная реформа подошла бы к своему логическому завершению. Как известно, подобные надежды оказались обманчивыми, во всяком случае, пока. Нынешний тройной кризис – следствие краха долговой пирамиды, возникшей из обещаний обеспечить рост, которые капитализм вот уже какое-то время не способен выполнять (по крайней мере, для широких слоев населения, от чьей поддержки или же терпимости он зависит больше, чем ему хотелось бы). Таким образом, неолиберальная реформа тоже достигла критической точки. После нескольких лет приватизации и дерегулирования угроза коллапса международной банковской системы в 2008 г. вынудила государственную власть снова вернуться на арену экономических сражений и тем самым потерять все достижения в области бюджетной консолидации, полученные ценой высоких политических рисков. После 2008 г. правительства весьма смутно (если вообще как-то) представляют себе, как расчистить завалы после финансового кризиса и вернуться хотя бы к какому-то порядку – и уж эту задачу точно не приватизируешь. Меры, принимаемые правительствами и центральными банками по спасению частной банковской системы, постепенно сводят на нет различие между государственными и частными деньгами; особенно наглядно это демонстрирует передача просроченных кредитов государству: деньги практически незаметно перетекают из одного статуса в другой. Сегодня почти невозможно различить, где заканчивается государство и начинается рынок, государство ли национализирует банки или же банки приватизируют государство[60]. Подведем итоги. Время «покупалось» тремя способами и в три последовательных этапа. Парадигматичным стало развитие событий в США, в стране – лидере современного капитализма (рис. 1.8). В начале 1970-х годов произошел первый скачок инфляции, который к 1980 г. после резких колебаний достиг почти 14 %. Тем самым был пройден первый рубеж: инфляция подавлена, а ее место занял государственный долг, который до 1993 г. стремительно увеличивался. В результате политики Клинтона, направленной на консолидацию бюджета, государственный долг всего лишь за несколько лет был снижен более чем на 10 процентных пунктов; однако его сокращение компенсировалось резким ростом закредитованности населения. Незадолго до краха финансового сектора домохозяйства начали ощущать сокращение задолженности, вызванное прежде всего неплатежеспособностью и сопровождавшееся новым увеличением государственного долга при нулевом уровне инфляции.
 Рис. 1.8. Этапы разворачивания кризиса: США
Источники: OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 1.8. Этапы разворачивания кризиса: США
Источники: OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
В Германии кризис разворачивался несколько иначе в силу особых исторических и институциональных обстоятельств, но в целом следовал той же логике (рис. 1.9). В 1970-х годах в ФРГ был очень короткий период высокой инфляции; в принципе, инфляции здесь был положен конец в 1974 г., когда было принято тарифное соглашение по заработной плате для работников бюджетного сектора, а Вилли Брандт покинул пост федерального канцлера. Одновременно произошел резкий рост государственного долга, и, хотя он составлял не более 30 % ВВП, эта тема стала доминирующей в предвыборных дебатах в бундестаг в 1980 г. После объединения Германии в начале 1990-х годов государственный долг вновь стал расти, а вместе с ним – и закредитованность домохозяйств. В начале нового тысячелетия последняя пошла на убыль, тогда как государственный долг, следуя общемировому тренду, продолжал расти. Однако и в первые годы правления большой коалиции (2005–2009 гг.), когда усилия по налоговой консолидации никак нельзя было назвать безуспешными, государственный долг тоже стал снижаться[61]. Но затем, как и в США, финансовый кризис вызвал новую волну роста государственного долга.
 Рис. 1.9. Этапы разворачивания кризиса: Германия
Источники: OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 1.9. Этапы разворачивания кризиса: Германия
Источники: OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Схожая ситуация наблюдалась и в Швеции, где инфляция, государственный долг и закредитованность населения на протяжении четырех десятилетий были сродни сообщающимся сосудам (рис. 1.10). Снижение инфляции после 1980 г. совпало с ростом государственного долга, который в середине десятилетия достиг максимального значения и вылился в первый из двух тяжелейших финансовых кризисов послевоенного периода. Затем консервативное правительство добилось сокращения государственного долга более чем на 20 процентных пунктов, но это возобновило инфляцию или же стало возможным как раз благодаря ей. Следующим поворотным моментом стал конец 1980-х годов: на фоне снижения темпов инфляции государственный долг вновь стремительно пошел вверх. Второй финансовый кризис, разразившийся в 1994 г., закончился длительным периодом устойчивой бюджетной консолидации с неизменно низкими темпами инфляции; для всего мира Швеция стала образцом консолидации [Finansdepartementet, 2001; Guichard et al., 2007; Henriksson, 2007; Molander, 2000; 2001]. Одновременно в порядке компенсации наблюдалось устойчивое увеличение закредитованности домохозяйств.
 Рис. 1. 10. Этапы разворачивания кризиса: Швеция
Источники: Riksgälden (Swedish National Debt Office); SCB (Statistics Sweden).
Рис. 1. 10. Этапы разворачивания кризиса: Швеция
Источники: Riksgälden (Swedish National Debt Office); SCB (Statistics Sweden).
Каждый из трех последовательно используемых методов монетарного создания иллюзии роста и благосостояния – инфляция, государственный долг и кредиты домохозяйств – был эффективен в течение ограниченного времени, после чего от него требовалось отказаться, так как он начинал препятствовать процессу накопления, а не поддерживать его[62]. Неолиберальная революция тем временем продолжала свое шествие, определяя условия для каждой последующей корректировки капиталистической формулы поддержания социального равновесия. Всякий раз, когда формула переставала работать, урон оказывался весьма ощутимым, это вынуждало прибегать ко все более изощренным мерам для исправления ситуации. Разрешение нынешнего финансового и фискального кризиса, по всей видимости, требует ни много ни мало принципиально нового формата отношений между политикой и экономикой, в том числе фундаментальной перестройки международной системы государств, особенно в Европе – на родине современного государства всеобщего благосостояния. Впрочем, нет никакой уверенности, что такие основательные перемены, необходимые для выхода из кризиса, могут быть реализованы в короткое время. Мы сможем приблизительно представить себе следующий этап, если вспомним, как развивался послевоенный капитализм по окончании trente glorieuses (славного тридцатилетия (имеется в виду период 1945–1973 гг.)). Каждый из трех способов достижения нового режима легитимации влек за собой поражение слоев населения, зависимых от зарплаты, и это позволяло оправдывать дальнейшую либерализацию: конец инфляции, подтолкнувший структурную безработицу, надолго ослабивший профсоюзы и их способность вести забастовочное движение; консолидация государственных финансов в 1990-х годах – с посягательством на социальные гражданские права, приватизацией государственных услуг и разнообразными формами коммерциализации, при которых гарантами социальной безопасности становятся частные страховые компании, подменяя в этой роли политические партии и правительства, а также конец «кредитного капитализма» (Pumpkapitalismus) [Dahrendorf, 2009] – с его потерями сбережений в масштабе, который даже невозможно спрогнозировать, с ростом безработицы общей и частичной, с дальнейшим сокращением государственных услуг вслед за новой волной бюджетной консолидации. В то же время арена политико-экономического конфликта по поводу распределения еще более отдаляется от простого человека и его политических возможностей влиять на него. Иными словами, она незаметно сместилась от ежегодной борьбы по поводу заработной платы на уровне предприятий на уровень парламентских выборов, оттуда – к частным рынкам кредитования и страхования и, наконец, в царство международной финансовой дипломатии, заоблачно далекой от повседневной жизни, оперирующей задачами и стратегиями, которые для всех, за исключением непосредственных участников (а может быть, и для них самих), остаются за семью печатями. Затем я покажу, что дальнейшее следование по пути последних сорока лет означает попытку окончательного высвобождения капиталистической экономики и ее рынков – не от государства (с ним они по-прежнему останутся связаны множеством способом), а от массовой демократии, в свое время составлявшей часть режима послевоенного демократического капитализма. Сегодня средства для обуздания кризисов легитимации путем создания иллюзии роста, кажется, исчерпаны. Особенно это касается виртуозных фокусов с денежными потоками в последнее двадцатилетие, предпринятых с помощью вырвавшегося на волю финансового сектора, – не исключено, что они стали слишком опасными, чтобы государства снова попытались купить время таким же образом. Если чуда не произойдет и никакого роста не случится, то капитализм будет вынужден обходиться без «формулы социального мира», построенной на кредитном консюмеризме. Утопическому идеалу нынешнего кризисного управления предстоит политическими средствами положить конец далеко зашедшей деполитизации экономики, зажатой в тиски реорганизованных национальных государств под контролем международной правительственной и финансовой дипломатии, не допускающей демократического участия, с населением, которое за долгие годы гегемонистского перевоспитания научилось искренне считать итоги рыночного распределения справедливыми или, во всяком случае, безальтернативными.
Глава 2 Неолиберальная реформа: от налогового государства к государству долгов
Стандартная экономическая теория политики – которую не следует путать с политической теорией экономики в марксистской традиции – объясняет кризис государственных финансов крахом демократии. Она представляет собой более или менее формализованную версию тезиса о «чрезмерной нагрузке» или «неуправляемости», характерного для консервативных теорий кризиса легитимации. Его любимая присказка – о завышенных требованиях к «общему котлу» (common pool): старое, хотя и не слишком древнее понятие, изобретенное в XIX в. для оправдания под лозунгом эффективности обычно насильственной приватизации средневековых общинных угодий при переходе к современному капитализму [Alesina, Perotti, 1999; Poterba, von Hagen, 1999]. Маркс описал этот процесс как «первоначальное накопление» в первом томе «Капитала» [Marx, 1966 (1867), Kap. 24].ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ИЗ-ЗА КРАХА ДЕМОКРАТИИ?
Вкратце многочисленные версии «трагедии общинных владений» (tragedy of the commons) [Hardin, 1968] сводятся к следующему: если ресурс не принадлежит кому-то одному и все члены сообщества могут свободно им пользоваться, то этот ресурс очень скоро будет исчерпан – пастбища истощены, водоемы опустошены и т. д. Люди, подчиняясь своей индивидуальной рациональности, будут не в силах противостоять соблазну извлекать из общественных запасов больше, чем возвращают взамен, и больше, чем этот ресурс способен дать в долгосрочной перспективе. С этой точки зрения государственные финансы можно рассматривать как общедоступные ресурсы, а демократию – как лицензию, дающую гражданам право использовать их по своему усмотрению. Поскольку политики, получающие свои должности в результате выборов, действуют рационально (в смысле стандартной экономической теории), т. е. эгоистично, они будут уступать давлению и требованиям большинства избирателей; конкуренция за голоса избирателей будет подпитывать иллюзию о неисчерпаемости «котла». Выиграв гонку и получив должность, они будут стремиться быть избранными на новый срок и потому станут тратить больше, чем может позволить себе государство. Следствием этого являются хронический дефицит бюджета и растущий государственный долг. С точки зрения основного направления экономической теории кризис государственных финансов есть результат непроясненных отношений собственности и, значит, неоднозначно распределенной ответственности, а последняя, в свою очередь, объясняется крахом демократии, или, если точнее, распространением демократической практики принятия решения на проблемы, которые таким образом не решаются. Именно поэтому для преодоления фискального кризиса требуется защита государственных финансов от демократически сформированных требований, а «общественные угодья», поддерживаемые за счет налогов, в конечном счете «подстрижены» до приемлемых размеров. Как станет ясно, это весьма влиятельная доктрина. Однако я попытаюсь противопоставить ей альтернативную историю нынешнего государственного долга, которая, как мне кажется, имеет большее отношение к реальности. В конце концов, она тоже будет сводиться к теории «общего котла» и краха демократии с той разницей, что обе будут поставлены с головы на ноги. Страдают ли государственные финансы демократического капитализма от переизбытка демократии? Если проследить истоки сегодняшнего фискального кризиса, то мы обнаружим, что самый резкий скачок увеличения задолженности со времен Второй мировой войны приходится на период после 2008 г. (рис. 2.1), и, очевидно, он не имеет никакого отношения к инфляции, вызванной демократическими требованиями электората. Если тут и замешаны возросшие требования, то они исходили от проблемных банков: попав в трудное положение, они смогли провозгласить, что «слишком крупны для банкротства», т. е. так важны для системы, что заслуживают спасения из рук политиков. Не последнюю роль в этом сыграли их многочисленные агенты влияния в государственном аппарате, например Хэнк Полсон, бывший шеф банка Goldman Sachs и министр финансов в правительстве Дж. Буша-младшего[63]. Поступая таким образом, банки играли на опасениях граждан и правительства по поводу обрушения реального сектора экономики. Благодаря этому был расчищен путь для дорогостоящего спасительного кейнсианства, прикрытого лозунгом недопущения коллективного обнищания и не имевшего ничего общего с беспечным обогащением массы избирателей. Снижение темпов роста, которое тем не менее последовало, во многих странах привело к увеличению заемных средств по отношению к собственным, сюда же добавились расходы на реализацию дополнительных программ повышения экономической активности и операции по спасению банков от банкротства. То, что углубление фискального кризиса после 2008 г. никак не связано с чрезмерным присутствием демократии, а имеет прямое отношение к финансовому кризису, подтверждается и количественными исследованиями, обнаруживающими положительную корреляцию между размером финансового сектора страны и величиной нового, послекризисного долга [Schularick, 2012]. Рис. 2. 1. Рост государственного долга начиная с 2007 г.
Источник: OECD Economic Statistics Outlook: and Statistics Projections, and Projections.
Рис. 2. 1. Рост государственного долга начиная с 2007 г.
Источник: OECD Economic Statistics Outlook: and Statistics Projections, and Projections.
Как мы убедились, резкий рост финансового сектора в последней трети XX в. во многом связан с фискальным кризисом богатых демократий. Его дерегулирование и раздувание началось в США в 1980-е годы, когда администрации Рейгана пришлось бороться со снижением темпов экономического роста и фискальными последствиями соответствующего сокращения налогов [Krippner, 2011]. Ожидалось, что при большей свободе финансовой отрасли, во-первых, удастся выправить хронический дефицит платежного баланса путем привлечения иностранного капитала и обеспечить привычный уровень жизни населения[64], а во-вторых, государство получит возможность профинансировать собственный дефицит. Последний, в свою очередь, отчасти был связан с подавлением инфляции в начале 1980-х годов и с проведением Федеральной резервной системой США политики высоких процентных ставок. Это положило конец обесцениванию государственного долга и вследствие начавшегося экономического спада и кризиса занятости привело к повышению требований к системе социальной защиты. В то же время ожидалось, что дерегулирование финансовой отрасли будет способствовать структурным изменениям на пути к экономике услуг и экономике знаний, придаст новый импульс экономическому росту и – не последний фактор – обеспечит более высокие налоговые поступления. Следующий импульс финансиализации придала администрация президента Клинтона со своими впечатляюще успешными (хотя и недолговечными) мерами поддержки государственных финансов [Stiglitz, 2003]. Профицит бюджета, зафиксированный на короткий период в начале тысячелетия, был достигнут среди прочего за счет сокращения социальных расходов. Финансовое дерегулирование позволило залатать дыры, образовавшиеся в результате попыток сократить дефицит бюджета, путем стремительного расширения возможностей кредитования для домохозяйств – в период, когда падение или стагнация трудовых и трансфертных доходов в сочетании с растущими затратами на «ответственное самообеспечение» могли бы вызвать несогласие населения с либерализацией экономики. Расширение возможностей кредитования в обмен на сокращение социальной помощи и стагнацию доходов домохозяйств обозначило поворотный момент в экономической истории демократического капитализма; эта тенденция имела продолжение уже при Дж. Буше после 11 сентября 2001 г. в политике «легких денег» и пропаганде программы приобретения собственного жилья путем высокорисковых ипотечных кредитов для бедных слоев населения, которые с большой вероятностью не смогут по ним расплатиться.
КАПИТАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
На этом фоне довольно сложно увидеть в накоплении государственного долга западными демократиями начиная со второй половины 1970-х годов результат демократического давления на партии и правительства, как это предполагалось в теории «общего котла». На самом деле, рост, сокращение и снова рост государственного долга тесно связаны с победой неолиберализма над послевоенным капитализмом, что сопровождалось политическим выхолащиванием массовой демократии. Первые серьезные бюджетные дефициты 1980-х годов появились вслед за укрощением воинственно настроенных профсоюзов и ростом безработицы. Последняя, в свою очередь, легитимировала радикальные реформы рынка труда и сжатие системы социального обеспечения, которые – под лозунгом о якобы назревшей необходимости придать большую гибкость институтам рыночного регулирования – фактически пересмотрели основные положения общественного договора послевоенных десятилетий. Об этом в общих чертах я уже рассказывал в главе 1. Наиболее заметным свидетельством оглушительного успеха неолиберальной революции является растущее неравенство доходов и имущественное расслоение в странах демократического капитализма. Если бы рост государственного долга был обусловлен набирающей силу массовой демократией, нельзя было бы объяснить, каким образом богатство и возможности для его обретения могли оказаться столь радикально перераспределены от нижних уровней общества к верхним. Что же касается распределения доходов, то за эти годы оно становилось все более смещенным не только в странах с относительно высоким уровнем неравенства (таких как Италия, Великобритания и США), но и в относительно эгалитарных странах (таких как Швеция и Германия) (см. рис. 1.3)[65]. На примере Германии я попытался продемонстрировать, что этот тренд тесно связан с постепенной дезинтеграцией системы установления зарплатной тарифной сетки на уровне отрасли и как результат с ослаблением профсоюзов [Streeck, 2009, S. 41]. Брюс Вестерн и Джейк Розенфельд приводят более детальные расчеты для США, показывая негативную корреляцию между переговорной силой профсоюзов и неравенством доходов [Western, Rosenfeld, 2011]. Томас Кохан, один из ведущих американских исследователей рынка труда, считает, что динамика заработной платы в США с конца 1970-х годов является следствием нарушения американского общественного договора: до этого производительность труда, доходы домашних хозяйств и средняя почасовая оплата росли примерно с одной скоростью (1945 г. – 100 пунктов, 1975 г. – 200 пунктов), но затем производительность продолжила плавный рост, достигнув 400 пунктов в 2010 г., тогда как почасовая оплата осталась на отметке около 200 пунктов. Да, доходы домохозяйств поднялись почти до 250 пунктов, но лишь за счет увеличения продолжительности рабочей недели и участия женщин в качестве рабочей силы – в совокупности это означало, что семьи все больше своего времени отдают рынку труда [Kochan, 2012a; 2012b]. Таким образом, на фоне роста производительности труда наемные работники в США почти ничего не выиграли после 1980-х годов, несмотря на возросший трудовой вклад, более высокую интенсивность труда, более гибкие требования со стороны работодателей и постоянное ухудшение условий найма. Совершенно иная картина с остаточной прибылью собственников и менеджеров крупного капитала. 26 марта 2012 г. Стивен Раттнер сообщил в «The New York Times», что не менее 93 % дополнительного дохода в 2010 г., составившего 288 млрд долл., отправилось к 1 % самых богатых налогоплательщиков, причем 37 % досталось 0,1 % налогоплательщиков, чей доход, таким образом, увеличился на 22 %. Во многом благодаря последовательному снижению налогов «у верхнего 1 % в любой фазе экономического роста последних двух десятилетий дела всегда лишь улучшались. При Клинтоне верхнему 1 % доставалось 45 % от общего роста доходов, в эпоху Буша – 65 %; сейчас эта доля достигает 93 %»[66]. Что касается имущества, то, как сообщила «The New York Times» 12 июня 2012 г., с учетом инфляции чистые активы среднестатистической американской семьи в 2010 г. – после краха рынка жилья – опустились на уровень 1990 г. Какие бы данные мы ни использовали для описания столь беспрецедентного смещения перераспределения к верхним слоям, результат один. По подсчетам Ларри Мишеля из Института экономической политики США, с 1983 по 2009 г. 81,7 % прироста активов в стране попадало к верхним 5 % населения, тогда как нижние 60 % теряли до 7,5 % от этого прироста (в эквиваленте). Что же касается оплаты руководителей, то, как писала «The New York Times» 7 апреля 2012 г., в кризисный 2011 г. «компенсации» сотне самых высокооплачиваемых менеджеров США составили в среднем 14,4 млн долл., что в 320 раз больше среднего дохода в Америке. Аналогичные показатели для сравнения с 1970-ми годами найти, к сожалению, затруднительно, но нет никаких сомнений в том, что доходы топ-менеджеров корпораций в последние два-три десятилетия выросли в несколько раз, и не только в США[67]. Степень, с которой неолиберальный капитализм вытесняет демократический капитализм всеобщего благосостояния 1960–1970-х годов, можно оценить по тому факту, что численность граждан, участвующих в выборах, постоянно и зачастую ощутимо снижается, особенно среди тех, кто должен бы быть наиболее заинтересован в получении социальных выплат и в перераспределении доходов от верхушки к нижним слоям общества [Schäfer, 2010; Schäfer, Streeck, 2013]. Во всех западных демократиях на протяжении 1950-х и 1960-х годов наблюдалась высокая явка избирателей, однако с тех пор она упала почти на 12 процентных пунктов (рис. 2.2). Тенденция имеет универсальный характер, и нет никаких признаков того, что она изменится. В послевоенный период более половины национальных выборов с самой низкой явкой избирателей случились после 2000 г.; чем ближе выборы к сегодняшнему дню, тем выше вероятность того, что явка на них будет хуже, чем в любой другой предыдущий послевоенный период. Явка избирателей в региональных и местных выборах, как правило, еще ниже, чем в общенациональных, по крайней мере в Германии (рис. 2.3). Самая низкая явка – на выборах в Европейский парламент. Страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.
Рис. 2.2. Явка избирателей на национальные выборы в парламент, 1950–2000-е годы
Источник: International Institute Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Voter Turnout Database.
Страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.
Рис. 2.2. Явка избирателей на национальные выборы в парламент, 1950–2000-е годы
Источник: International Institute Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Voter Turnout Database.
 Рис. 2.3. Участие в выборах в Германии, 1950–2000-е годы
Источник: Armin Schäfer, Demokratie im Zeitalter wirtschaftlicher Liberalisierung, <www.mpifg.de/projects/demokratie/Daten/Wahldaten>.
Рис. 2.3. Участие в выборах в Германии, 1950–2000-е годы
Источник: Armin Schäfer, Demokratie im Zeitalter wirtschaftlicher Liberalisierung, <www.mpifg.de/projects/demokratie/Daten/Wahldaten>.
Низкая явка еще не означает, что граждане всем довольны, как это утверждается в ревизионистских теориях демократии 1960-х годов [Lipset, 1963 (1960)]. Как показал Армин Шефер [Schäfer, 2010; 2011], представители самых низкодоходных групп и социальных страт реже всего участвуют в голосовании; именно среди них наблюдается самое значительное падение явки. В результате наблюдаем сильную негативную корреляцию между участием в выборах и региональным уровнем безработицы (или количеством получателей социальной помощи в регионе). В крупных немецких городах дисперсия явки между районами на выборы всех уровней начиная с 1970-х годов непрерывно увеличивалась; в более бедных районах (с высокой долей иммигрантов, безработных, низкодоходных домохозяйств и т. п.) явка стала настолько низкой, что партии все чаще стали отказываться проводить там какую бы то ни было предвыборную агитацию[68], что, в свою очередь, еще более уменьшает явку представителей социальных низов и способствует смещению партийных платформ ближе к центру. Все свидетельствует о том, что снижение явки избирателей в капиталистических демократиях объясняется не удовлетворенностью граждан, а их безразличием. Проигравшие от нелиберальных изменений не видят, что может дать им смена правящей партии. Политика безальтернативной «глобализации» давно достигла дна общества: те, кто больше всего выиграл бы от политических изменений, не видят смысла голосовать. Чем меньше они возлагают надежд на выборы, тем больше те, кто может себе позволить полагаться на рынок, должны страшиться политического вмешательства. Политическое безразличие нижних слоев общества лишь способствует неолиберальному повороту, в результате капитализм еще дальше уводится от демократии.
ЭКСКУРС: КАПИТАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ
Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление и поделиться своими общими размышлениями на тему отношений капитализма и демократии, рынков и демократической политики, неолиберализма и государственной власти. Довольно часто указывалось на то, что неолиберализм нуждается в сильном государстве, которое могло бы подавлять исходящие от общества – особенно от профсоюзов – требования вмешаться в свободную игру рыночных сил; это убедительно показано в работе Эндрю Гэмбла «Свободная экономика и сильное государство» на примере правительства Тэтчер [Gamble, 1988]. И, напротив, неолиберализм несовместим с демократическим государством, если под демократией понимается режим, который, ссылаясь на то, что действует от имени своих граждан, использует механизмы государственной власти, чтобы вмешиваться в распределение экономических благ, произведенных в условиях рынка. Такой режим подвергается критике также со стороны теории «общего котла», описывающей фискальную неэффективность государства. В конечном счете, речь идет об очень старом конфликте между капитализмом и демократией. Во времена «холодной войны» общим местом в политическом дискурсе было заявление о том, что демократия без капитализма (или, что по сути то же самое, без экономического прогресса) невозможна, равно как невозможен и капитализм без демократии[69]. В межвоенные годы это виделось иначе: в то время как буржуазия, являясь естественным меньшинством, опасалась экспроприации со стороны демократически избранного правительства большинства (которое не могло быть никаким другим, кроме как правительством рабочих), радикальное левое движение каждую минуту остерегалось антидемократического путча в исполнении коалиции представителей капитала, армии и аристократии; фашистские режимы 1920-х и 1930-х годов доказали фундаментальную несовместимость демократической политики и капиталистической экономики. Зеркально отражая «буржуазный» подход диктатуры правого крыла, левые склонны были верить в необходимость провозглашения демократии советов, советской демократии, «диктатуры пролетариата» или «народной демократии» – конкретная терминология менялась в зависимости от теоретической и политической конъюнктуры. Так что соединение на послевоенном Западе капиталистической экономики с демократической политической системой – к тому же такой, которая строила свою легитимность на постоянном вмешательстве в рыночную экономику, объясняя, что поступает так во имя достижения демократически принятых общих целей (в интересах армии наемных работников, т. е. большинства граждан страны) – ни в коем случае не является очевидным. В политической экономии демократического капитализма послевоенного времени были институализированы сразу два конкурирующих принципа распределения: я назову их рыночной справедливостью (Marktgerechtigkeit) и социальной справедливостью (soziale Gerechtigkeit). Под рыночной справедливостью я понимаю распределение производственных результатов согласно рыночной оценке – выраженной в относительной стоимости – индивидуальной производительности каждого участника; критерием для установления величины вознаграждения с точки зрения рыночной справедливости является предельная производительность, т. е. рыночная стоимость предельной единицы труда в условиях конкуренции [Böhm-Bawerk, 1968 (1914)]. Социальная справедливость, напротив, измеряется культурными нормами и базируется на статусном, а не на договорном праве. Она придерживается коллективных представлений о справедливости и реципрокности, соглашается с требованиями обеспечивать минимальный уровень жизни независимо от экономических показателей и эффективности, признает гражданские права и право человека на здоровье, социальную защиту, участие в жизни сообщества, охрану труда и профсоюзную организацию и т. д. И рыночная справедливость, и социальная справедливость противоречивы. Вопросом о том, каковы должны быть условия для того, чтобы конкуренция была честной, а ее результат мог считаться справедливым, занимался еще Эмиль Дюркгейм [Durkheim, 1977 (1893)]. Однако на практике стандартная экономическая теория исходит из того, что большинство рынков и так «совершенны», поэтому, что бы они ни порождали, всё будет справедливо и эффективно. Несколько сложнее обстоит дело с социальной справедливостью, чья суть «конструируется социально» и потому может меняться в зависимости от культурного и политического дискурса и в разных исторических обстоятельствах. Что считать справедливым с точки зрения рынка, решает сам рынок, выражая это при помощи цены; что считать справедливым с социальной точки зрения, решается политически – в процессе поиска баланса между властными рычагами и мобилизацией избирателей, это находит свое выражение в формальных и неформальных институтах. Если общество воспринимает себя через призму стандартной экономической теории или подчиняется ее интерпретационной логике, в крайних случаях оно может выдавать рыночную справедливость за социальную справедливость и тем самым снимать напряжение между ними[70]. Один из вариантов этого подхода состоит в том, чтобы, ссылаясь на Фридриха фон Хайека, признать понятие социальной справедливости бессмысленным[71] и выстроить политические и экономические институты таким образом, чтобы с самого начала исключить те требования социальной справедливости, которые плохо сочетаются с рыночной справедливостью. Как бы то ни было, сторонникам рыночной справедливости постоянно мнится угроза: представления о социальной справедливости завладеют умами демократического большинства, которое, подчинив себе государственную власть, начнет систематически искажать слаженную работу рынка. Социальная справедливость по природе своей материальна, а не формальна, и потому с точки зрения формальной рациональности рынка ее можно рассматривать только как нечто иррациональное, непредсказуемое и произвольное[72]. Так что, с одной стороны, если политика подчиняется требованиям социальной справедливости, она начинает мешать рыночным процессам, спутывает их результаты, порождает ложные стимулы и «моральные риски» (moral hazards), сводит на нет принцип вознаграждения по достижениям и, в принципе, является «экономически чуждой». С другой стороны, «демократическая классовая борьба» [Korpi, 1983] с позиций социальной справедливости является необходимым элементом корректировки системы, построенной на неравноправных соглашениях между наемными работниками и получателями прибыли, что всегда приводит к накоплению преимуществ согласно так называемому эффекту Матфея: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29). Несмотря на то что корректировки рынка, производимые в соответствии с социально-политическими представлениями о справедливости, мешают капиталистической практике, с ними приходится мириться как с чем-то неизбежным до тех пор, пока есть вероятность, что проигравшие рынку откажутся от дальнейшего участия в игре: без проигравших нет победителей, без вечных проигравших нет вечных победителей[73]. Кроме того, если социальное вмешательство в работу рынка оказывалось чрезмерным, капитал всегда мог отреагировать кризисом. Кризисы возникают тогда, когда индивиды, контролирующие ключевые средства производства, начинают опасаться, что полученное вознаграждение не будет соответствовать их представлениям о рыночной справедливости; в такой ситуации их доверие падает ниже необходимого для инвестиций минимума. Собственники и распорядители капитала могут перевести его за рубеж или оставить где-нибудь в пределах денежного сектора экономики, тем самым навсегда или на время выведя его из обращения в экономике политической системы, утратившей их доверие. В результате – безработица и низкие темпы роста, что особенно наблюдается сегодня в условиях свободы рынков капитала. Рыночная справедливость тоже следует определенным нормативным стандартам – их задают собственники и распорядители капитала, – и в этом смысле включает элементы социальной справедливости, хотя и при помощи стандартной экономической теории преподносит ее как естественную, а не как социальную. Тот факт, что «психологическое» доверие капитала в практике политических отношений является важнейшим техническим условием для функционирования капиталистической экономики, изначально накладывает ограничения на возможность шлифовки рыночной справедливости инструментами демократически провозглашенной социальнойсправедливости. Фундаментальная асимметрия капиталистической политической экономии состоит в том, что притязания капитала на адекватный уровень вознаграждения рассматриваются как эмпирически необходимые условия для функционирования всей системы, а аналогичные притязания труда – как источник помех. Макс Вебер, как Шумпетер, а за ним и многие другие, опасался, что материальная, субстантивная справедливость под влиянием «бюрократии» и ее сторонников-социалистов постепенно подчинит себе формальную справедливость рынка, что в конце концов приведет к гибели капитализма, а вслед за ним и к исчезновению свободы буржуазного индивидуализма, характерного для капиталистического экономического порядка [Offe, 2006b]. Неолиберальный поворот, который наблюдается с 1970-х годов, устранил эту угрозу на обозримом горизонте. Сегодня – поскольку все сложнее становится симулировать социальную справедливость, подбрасывая в конфликт перераспределения фиктивные ресурсы и продолжая при этом руководствоваться рыночной справедливостью – либерализация капитализма достигла точки, в которой происходит окончательное высвобождение принципа рыночной справедливости из исторически наложенных ограничений социальной справедливости. Подробнее речь об этом пойдет ниже. Защитить рынок от демократических корректив можно путем либо неолиберального перевоспитания граждан, либо устранения демократии по модели Чили 1970-х годов; в первом случае необходимо просвещать общество в русле стандартной экономической теории, тогда как второй вариант в настоящее время не представляется возможным. Таким образом, стратегия ослабления напряжения между капитализмом и демократией и провозглашения примата рынка над политикой на долгосрочную перспективу должна фокусироваться в первую очередь на пошаговых реформах политико-экономических институтов [Streeck, Thelen, 2005]: сначала – шаг к экономической политике, основанной на четких правилах, к независимым центральным банкам и фискальной политике, независимой от результатов выборов, далее – передача ответственности за политико-экономические решения органам регулирования и «экспертным советам», и наконец, закрепление «долгового потолка» на конституционном уровне, что законодательно ограничит правительства если не навсегда, то хотя бы на несколько ближайших десятилетий. В ходе указанных реформ государства развитого капитализма должны быть перестроены таким образом, чтобы вернуть себе доверие собственников и распорядителей капитала, предоставив им надежные гарантии на уровне проводимой политики и институтов, что государство не будет вмешиваться в экономику, а если и будет, то исключительно для защиты или восстановления рыночной справедливости в форме разумной прибыли на капитальные вложения. Предварительное условие для этого – нейтрализация демократии (в смысле социальной демократии послевоенного капитализма) и успешное завершение программы хайекианской либерализации. Риторически и идейно-политически сторонники рыночной справедливости стремятся добиться перевеса в свою сторону, представляя социальную справедливость как «политическую» (а точнее – отражающую интересы узких слоев), а значит, нечистоплотную или коррумпированную. Рыночная же справедливость, по их заверениям, напротив, лишена всего этого в силу своей очевидной обезличенности и стабильных, исчисляемых теоретически затрат, она свободна от политики, действует в соответствии с универсалистскими принципами и поэтому чиста в смысле своей аполитичности. Ассоциируемые с этим разграничением понятия давно и прочно вошли в повседневный язык: когда говорят, что решение было принято исходя из политических соображений, часто под этим понимается, что оно принято с целью обогащения определенной группы интересов[74]. Рынки, как не устают повторять пиарщики капитализма, осуществляют распределение согласно общим для всех правилам, тогда как политическое распределение выполняется с оглядкой на мнение власти и с учетом связей. Тот факт, что при оценке эффективности и распределении ресурсов рынки игнорируют неравенство первоначальных вложений своих участников, обойти молчанием гораздо легче, чем публичные меры политики перераспределения, которые требуют открытого обсуждения и реализации. К тому же в случае с политическими решениями можно протянуть ниточку к конкретным лицам или институтам, вменить им ответственность за эти решения, тогда как рыночные суждения как будто в готовом виде падают с небес (особенно если рынок представляется как естественное состояние), а люди не имеют к ним вообще никакого отношения – это своего рода судьба, которую надо научиться принимать, а постичь сокрытые в ней высшие смыслы могут только эксперты.МОНСТР ИЗГОЛОДАЛСЯ!
Если рост государственного долга коррелирует с неолиберальным поворотом и падением интереса к участию в политической жизни и не коррелирует с массовой демократической мобилизацией, то в чем же причина этого? В нынешнем кризисе государственных финансов я наблюдаю современное проявление функциональной проблемы модернистского государства, диагностированной еще в начале ХХ в., а именно: попытки государства изъять у частных собственников средства, необходимые ему для решения своих задач, обычно проваливаются. Так что причиной государственного долга становятся не высокие расходы, а низкие доходы – экономика и общество, организованные по принципу собственнического индивидуализма (Besitzindividualismus), не позволяют поднимать налоги выше определенного предела, одновременно предъявляя все больше требований к государству. Действительно, можно заметить, что начало увеличения государственного долга в богатых демократиях в 1970-х годах совпадает с отставанием роста налоговых поступлений от роста государственных расходов. И если до определенного момента в среднем они росли в одном темпе, то с середины 1980-х годов объем налоговых поступлений оставался практически неизменным (рис. 2.4), а в ряде стран (особенно в Швеции, Франции, Германии и США) под победный марш неолиберализма к концу столетия он даже понизился (рис. 2.5)[75]. Так что и здесь по большому счету тренд был единым для всех стран и причины были схожи. Окончание фазы роста покончило и с так называемой холодной прогрессией (или «разрядным переходом»), когда налогоплательщики переходят в группу доходов, подлежащих налогообложению по более высоким ставкам. Для государственных финансов этот эффект был частично компенсирован инфляцией 1970-х годов; впрочем, очень скоро реальное сокращение доходов среднего класса привело к росту налогового непослушания [Block, 2009; Citrin, 1979; 2009; Steuerle, 1992] и призывам провести реформу по индексации налоговых ставок. В сочетании с успешной финансовой стабилизацией эти процессы привели к тому, что государственные доходы могли расти только в условиях гласного повышения налогов – вместо скрытого, что было бы менее рискованно политически. Рис. 2.4. Государственные расходы и налоговые поступления с 1970 г. по семи странам
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 2.4. Государственные расходы и налоговые поступления с 1970 г. по семи странам
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
В 1990-е годы добавились новые факторы. Благодаря быстрой интернационализации экономики крупным компаниям были предоставлены невиданные возможности перенести свои налоговые обязательства в менее требовательные страны. Даже там, где перевода производства не случилось, государства демократического капитализма вынуждены были ужесточить налоговую конкуренцию друг с другом, что заставило правительства стран снизить верхнюю границу корпоративного налогообложения [Ganghof, 2004; Ganghof, Genschel, 2008; Genschel, Schwarz, 2013]. Да, ожидалось, что отмена различных налоговых льгот расширит национальную налоговую базу и сделает общий бюджет менее зависимым от налоговых поступлений, однако о повышении налоговых ставок нельзя было и помышлять. К тому же неолиберальная доктрина настойчиво предлагала радикальные инициативы для ускорения экономического роста, что приводило к повышению оплаты и снижению налогов на верхних этажах доходной пирамиды, но к сокращению зарплаты и льгот для нижних этажей. И в этом «разновидности» капитализма различались лишь степенью интенсивности процесса: в Германии это были комбинация реформ налоговой системы [Ganghof, 2004, p. 98–117] и реформы рынка труда (Hartz IV![76]) в исполнении красно-зеленого коалиционного правительства Шрёдера; в США – демонтаж «социальной системы в привычном нам виде» («welfare as we know it») при Клинтоне вкупе с печально известным снижением налогов администрацией Буша после 2001 г.[77]

 Рис. 2.5. Налоговые поступления по семи странам, 1989–2011 гг., % ВВП
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 2.5. Налоговые поступления по семи странам, 1989–2011 гг., % ВВП
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Случай США убедительно доказывает, что истоки государственного финансового кризиса как минимум в такой же степени связаны с доходной частью госбюджета, как и с расходной. Для стратегов организованного налогового сопротивления (Steuerwiderstand) – движения, распространившегося в конце 1970-х годов и отпраздновавшего первые победы в Калифорнии – популярное требование снижения налогов преследовало гораздо более серьезную цель: помешать государству реализовать другие столь же популярные социальные программы. Лозунг этого чрезвычайно успешного движения, за которым и поныне стоит одна из влиятельнейших фигур американской политики – антиналоговый активист Гровер Нурквист [Kuttner, 1980; Martin, 2008; Tarschys, 1983], звучит так: «Монстр изголодался!» («Starving the Beast!»). О том, что главной задачей движения является не сбалансированный государственный бюджет, а возвращение государства с неолиберальной колеи, свидетельствует тот факт, что политический знаменосец этого движения Джордж Буш, получивший от своего предшественника профицит бюджета, в первое десятилетие нового века не нашел ничего более срочного, чем провести резкое сокращение налогов для сверхбогатых, что вновь привело к (рекордному) дефициту, параллельно с этим он умудрился развязать две войны, это еще больше увеличило дефицит расходной части бюджета[78]. То, что государственные доходы после 1970-х годов подошли к стагнации, тогда как расходы продолжали расти вплоть до первой неолиберальной волны налоговой консолидации в конце XX в., не следует приписывать демократическим усилиям ненасытного электората. Скорее, проблему стоит рассмотреть с позиций функционализма: сложившаяся ситуация отражала растущую потребность в государственных инвестициях и целительных мерах по сопровождению капиталистического развития – в мерах, которые бы устранили ущерб, нанесенный накоплением капитала, а также создали условия для дальнейшего экономического роста[79]. В качестве целительных мер может быть рассмотрено увеличение расходов на выплату социальных пособий в связи с возвращением структурной безработицы[80] или же на здравоохранение и реализацию новой экологической политики. На инвестиции же ориентированы, скорее, все государственные расходы, связанные со строительством и поддержанием физической инфраструктуры, с развитием человеческого капитала и научно-технологическими исследованиями, – все это необходимые условия для успешного накопления частного капитала. В более широком смысле сюда же относятся и государственные расходы, связанные с так называемым мирным использованием атомной энергии, без которых частное производство электроэнергии с использованием атомных реакторов, очевидно, было бы полностью убыточным; государственные программы заботы о детях, позволяющие расширять участие женщин на рынке труда и тем самым способствующие экономическому росту; обслуживание авианосцев, а также развитие и применение беспилотных летательных аппаратов и других аналогичных технологий для обеспечения импорта нефти по приемлемым ценам; впрочем, как выяснилось, это относится и к весьма рискованному дерегулированию частного финансового сектора, направленному на раздувание объемов кредитов в качестве последнего средства обеспечения экономического (фиктивного) роста[81].
КРИЗИС НАЛОГОВОГО ГОСУДАРСТВА
Сложно не вспомнить в данном контексте классический образ финансовой сферы, изгнанный из экономической теории за недостаточную строгость, когда государственные финансы (public finance) были заменены общественным выбором (public choice). Я имею в виду закон Адольфа Вагнера о возрастающей активности правительства и постоянном росте государственных расходов, который был сформулирован в последнее десятилетие XIX в. (см.: [Wagner, 1911]) и оставался важнейшим источником вдохновения для Ричарда Масгрейва еще в 1950-е годы [Musgrave, 1958]. Катедер-социалист, сторонник государственного социализма, ректор Берлинского университета, советник Бисмарка по экономическим и социально-политическим вопросам, а с 1910 г. член Прусской Палаты господ, Вагнер считал, что участие государства в современной развивающейся экономике будет неуклонно возрастать как для повышения общего цивилизационного уровня, так и для защиты от того, что сегодня назвали бы «экстерналиями» расширения рынков и частного способа производства[82]. В данном случае отголоски мысли Маркса о растущем обобществлении капиталистического способа производства в условиях и вопреки частнособственнической организации производственных отношений едва ли случайны, даже если у Вагнера нигде не встречается центральная для Маркса идея о внутренних противоречиях капиталистического развития и необходимости их скорейшего революционного решения, дабы привести производственные отношения в соответствие со способом производства. Особенно важными идеи Вагнера оказались для «социологии финансов», активно развивавшейся перед Первой мировой войной. Рудольф Гольдшайд, австрийский социалист и известный оппонент Макса Вебера в ранний период существования Германского социологического общества, трактовал эволюцию феодального «вотчинного государства» в современное «налоговое государство» – которое получает свои доходы благодаря налогообложению частных собственников – как процесс, сопровождающий капиталистическое развитие [Fritz, Mikl-Horke, 2007; Goldscheid, 1926; 1976 (1917)]. Переформулировав в ключе фискальной социологии теорему Маркса о нарастающем противоречии между способом производства и производственными отношениями, он ожидал, что способность налогового государства изымать необходимые средства у своих граждан – или, точнее, у гражданского общества, подчиненного власти собственников – рано или поздно исчерпает себя. В этой точке, по мнению Гольдшайда, развитие налогового государства достигнет своего предела, поскольку в условиях капиталистического социально-экономического устройства государство действует как «экспроприатор», не имеющий собственных ресурсов для исполнения взятых на себя обязанностей. После этого должна будет произойти «рекапитализация» государства, чтобы свои расходы оно могло оплачивать не за счет налогов, а за счет собственной экономической деятельности. Функционирование государства в интересах общества с помощью фискальных средств невозможно, поскольку налоги– пройдя через соответствующий трубопровод государства – оказываются выгодны только влиятельнейшим собственникам капитала. Их власть и дальше будет усиливаться, тогда как отведенная государству роль управляющего делами будет ослабевать. Те, кто обладает возможностями и влиянием, найдут способ обойти налоговое бремя, тогда как основная масса населения должна будет взвалить его на себя. Даже прогрессивное налогообложение доходов означает лишь то, что государство имеет скрытые интересы в сохранении неравенства и концентрации прибыли [Fritz, Mikl-Horke, 2007, p. 166].Гольдшайд был не одинок в своем фискально-политическом пессимизме. Возможность «кризиса налогового го сударства» широко обсуждалась после Первой мировой войны, на этом фоне особенно заметным и влиятельным стал эпохальный доклад молодого Йозефа Шумпетера, прочитанный перед Австрийским социологическим обществом [Schumpeter, 1953 (1918)]. Шумпетер пришел к выводу, что налоговое государство как исторический институт еще не достигло своего предела и что, в частности, военные долги Австрии и Германии можно погасить, не прибегая к всеобщей национализации. В то же время в долгосрочной перспективе он не исключал и даже ожидал, что налоговое государство и капиталистический способ производства в целом когда-нибудь себя изживут[83]. В последующие годы эта идея будет предана забвению в катакомбах догматической истории экономики – особенно после 1945 г., когда, как казалось, началась новая эпоха, «одомашнившая» капитализм согласно социально-государственной – кейнсианской – концепции. Тем не менее то здесь, то там она всплывала в более или менее новой формулировке – в том числе не последнее место отводилось ей в фискальной теории кризиса марксиста Джеймса О’Коннора [O’Connor, 1973] и в последовавших за ним в 1970-е годы пессимистических размышлениях о будущем капитализма Даниэля Белла [Bell, 1976b, p. 220–282].
ОТ ГОСУДАРСТВА НАЛОГОВ К ГОСУДАРСТВУ ДОЛГОВ
Если фискальный кризис современного государства, предсказанный О’Коннором и Беллом, связан, скорее, с доходами, чем с расходами, – и в этом смысле является кризисом налоговой системы в понимании Гольдшайда и Шумпетера – то нам следует обратить внимание на два тренда последних десятилетий, которым никто не придал должного значения. Первый – это трансформация налогового государства в государство долгов – государство, которое большую и постоянно растущую часть своих расходов оплачивает за счет заемных средств, а не налогов, что приводит к росту долгов до небес, и на их финансирование приходится тратить все большую часть своих доходов. В предыдущих дискуссиях такой вариант объяснения проблемы финансирования современных государств почти не рассматривался – к примеру, в работе О’Коннора этот вопрос затрагивается лишь вскользь[84]; возможно, это связано с тем, что рутинное финансирование государственного долга прежде всего требует построения эффективной финансовой системы и финансиализации капитализма посредством дерегулирования финансовых рынков. В свою очередь, финансовые рынки должны были быть интегрированы на международном уровне, чтобы обеспечивать колоссальные потребности в кредитах богатых индустриальных стран, особенно США. Как уже отмечалось, подобные процессы начались во всем мире в 1980-х годах, если не раньше. Формирование государства долгов можно рассматривать и как фактор, замедляющий кризис налогового государства, и как возникновение новой политической формации с собственным сводом законов. Ниже я буду ориентироваться в основном на второй вариант. Однако необходимо иметь в виду, что рост государства долгов тормозился кое-какой противодействующей силой, связанной с попытками кон, солидировать государственные финансы в рамках неолиберальных государственных реформ 1990–2000-х годов, – путем приватизации государственных услуг, «наросших» на теле государства за двадцатое столетие. Это вторая историческая тенденция, которую не могли предвидеть кризисные теории 1970-х годов: полное или частичное возвращение государственных функций – от пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования до ответственности за уровень занятости – обществу и рыночной экономике. Как было сказано, самым простым способом достичь этого было расширение возможностей кредитования для домохозяйств. Частично приватизация широкого спектра государственных услуг стала возможной и оправданной благодаря возросшему уровню благосостояния и потребления. Однако отмена социальных гарантий послевоенной эпохи под натиском рынка проходила параллельно с формированием новой формы демократии (К. Крауч называет ее «постдемократией» [Crouch, 2004]), при которой политическое участие стало восприниматься как форма развлечения, а принимаемые решения, особенно в сфере экономики, потеряли с ним связь[85]. С этой точки зрения нынешние усилия, предпринимаемые на национальном и международном уровнях с целью долговременной консолидации государственных финансов за счет урезания государственных расходов, – это, по сути, не что иное, как продолжение неолиберальных реформ 1990–2000-х годов с применением изобретательно усовершенствованных инструментов. Прежде чем перейти к политической анатомии современного государства долгов, мне хотелось бы резюмировать все вышесказанное. Моя идея – в том, чтобы в объяснении государственного долга поменять местами, а не отвергнуть теорию «общего котла» (т. е. общедоступных ресурсов) и гипотезу о крахе демократии. Что касается теории «общего котла», я убежден, что финансовый кризис государства не является следствием того, что масса населения, искушенная избытком демократии, якобы растащила для своих целей слишком много средств из государственного бюджета; скорее, причина в том, что те, кто больше всего выиграл от капиталистического хозяйствования, все меньше и меньше выплачивали в государственную казну. Если «взрыв требований» и послужил причиной структурного дефицита финансовой системы государства, то он коснулся прежде всего представителей высшего класса, чьи доходы и активы за последние 20 лет стремительно возросли – не в последнюю очередь за счет снижения налогов в их пользу, в то время как заработная плата и социальные выплаты беднейших слоев общества стагнировали или вообще упали; этот процесс скрыл и на время легитимировал – при помощи денежных иллюзий, замешенных на инфляции, – государственный долг и «кредитный капитализм». Все это проясняет истинные обстоятельства краха демократии в неолиберальные десятилетия. Демократия и демократическая политика потерпели крах, когда они проглядели контрреволюцию, направленную против социального капитализма послевоенного времени, и никак ей не сопротивлялись; когда в период ложного процветания в 1990-е годы они не стали спешить с регулированием хаотично и повсеместно разросшегося финансового сектора; когда они доверчиво разглагольствовали о замене «жесткого» правительства (government) «мягким» управлением (governance) (см.: [Offe, 2008]); когда они не стали настаивать на том, чтобы возложить на главных бенефициаров капиталистической экономики социальные издержки их прибылей[86], и когда они не только согласились с усиливающимся неравенством между верхними и нижними слоями, но и провели – во имя капиталистического прогресса – «стимулирующие» налоговые реформы и реформу социальной сферы. Кроме того, демократическая политика оказалась причастна к формированию государства долгов: ей не удалось обеспечить политическое участие тех слоев населения, которые заинтересованы в том, чтобы воспрепятствовать снижению налогов для наиболее состоятельных граждан. Вместо этого происходит смещение электорального состава к верхним этажам социальной пирамиды, и осуществить повышение налогов становится все сложнее. Я оставляю открытым вопрос о том, действительно ли и каким образом демократической политике в пределах национального государства – тогда как экономика становится все более глобализованной! – удалось взять под контроль подобные тенденции. Очевидно, растущая международная мобильность промышленного и финансового капитала увеличила его «резервируемую прибыль»[87], при этом возросла также зависимость государств от доверия потенциальных инвесторов. Политика либерализации, охватившая не позднее 1990-х годов все правительства капиталистического мира (и консервативные, и социал-демократические), обещала долгосрочное благополучие при условии, что общество будет всесторонне адаптировано к новым условиям производства, заданным все более мобильным капиталом. Она упустила из виду чрезвычайно ограниченную совместимость капитализма и демократии и то, что достичь ее можно лишь жестким и эффективным политическим регулированием и вмешательством. Здесь и произошло крушение демократии сразу в двух плоскостях – в структурной и идеологической. Результат мы наблюдаем с 2008 г.ГОСУДАРСТВО ДОЛГОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Еще одной осечкой демократии при переходе к государству долгов стало то, что в публичном обсуждении практически никак не поднимался вопрос о его влиянии на политику распределения. В повседневных общеполитических дискуссиях принято считать, что консервативные партии среднего класса менее склонны к наращиванию долга, чем социал-демократы. Сравнительный статистический анализ свидетельствует о том, что это не совсем так [Wagschal, 1996; 2007]; впрочем, слишком доверять подобным оценкам по целому ряду причин не стоит. Действительно, может показаться, что в риторическом поле критика долговой политики более характерна для правых, чем для левых. Но причина этого может быть в том, что социальные группы, которых представляют консервативные партии, обеспокоены не столько свободой от долгов, сколько способностью государства гарантированно обсуживать и выплачивать свои долги, взятые у собственных обеспеченных граждан, – обеспокоенность, полнозвучно выраженная рынками в нынешний долговой кризис. Политическая взаимосвязь между государственным долгом и распределением богатства становится очевидна только тогда, когда мы рассматриваем финансирование долга в эпоху неолиберальных перемен как следствие низкого налогообложения состоятельных слоев общества. Чем меньше налоговая система требует от высокооплачиваемых специалистов и их семей[88], тем более неравным будет распределение богатства и тем более высоким будет уровень сбережений высших слоев общества. Для тех, кому налоговая политика государства позволяет образовать личный избыточный капитал, это создает проблему поиска возможностей для инвестирования; и тут на экономической сцене воскресает кейнсианский рантье, который по большому счету должен был бы стать жертвой политической эвтаназии [Keynes, 1967 (1936), Kap. 24] (рус. пер.: [Кейнс, 1993 (1936), гл. 24]). Готовность правительств брать кредиты – не в последнюю очередь обусловленная успешным сопротивлением общества налоговой политике – дает прекрасный ответ на вопрос о том, где найти пути для безопасных инвестиций: нищета государства не просто означает богатство инвесторов – она открывает им золотую жилу для того, чтобы инвестировать это богатство выгодно. Насколько мне известно, единственный экономист, обративший внимание на эту взаимосвязь (хотя он и оценивает ее положительно – и, возможно, потому и заметил ее), – это Карл Кристиан фон Вайцзеккер. В отличие от подавляющего большинства немецких экономистов, Вайцзеккер выступает за увеличение государственного долга, по крайней мере в тех странах, которые имеют положительный баланс текущего счета[89]. Он обосновывает это избытком капитала в долгосрочной перспективе в таких богатых обществах, как Германия, что, в свою очередь, объясняется возросшей потребностью обеспечить будущее в условиях стареющего населения. Чтобы не попасть в ситуацию «инвестиционного кризиса», государство должно быть готово рассматривать накопления населения в качестве кредита – еще и потому, что подобные целевые инвестиции исключают рискованные варианты, а также потому, что в развивающейся экономике знаний инвестиционные возможности с относительно низкими требованиями к капиталу практически отсутствуют. Вайцзеккер не рассматривает два варианта с возможными эгалитарными последствиями: во-первых, более высокие налоги могли бы смягчить «чрезвычайную инвестиционную ситуацию» обеспеченных слоев, конвертируя избыточные сбережения в регулярные поступления в государственную казну (в буквальном смысле это конфискация); во-вторых, проблему будущего пенсионного обеспечения вместо индивидуально накопленных личных сбережений можно было бы решать солидарно путем вычетов из зарплаты[90]. Вайцзеккер убежден, что предложенное им решение имеет не столько технические, сколько политические мотивы, «поскольку явные и скрытые личные капиталы затрагивают вопросы создания резервов и наследования ‹…› и потому являются своего рода “структурным параметром”, который не может быть изменен без масштабного покушения ‹…› на буржуазную социальную структуру нашего общества» [Weizsäcker, 2010]. Исследование Вайцзеккера ясно показывает: до тех пор, пока кредиторы верят в платежеспособность государства, долговременное софинансирование деятельности государства в виде предоставления займов определенно находится в сфере интересов владельцев финансовых капиталов. Чтобы окончательно закрепить свои позиции, победители в борьбе за распределение на рынке и с налоговыми органами должны иметь возможность как можно более надежно и выгодно инвестировать свой капитал, отвоеванный ими у государства и общества. Им нужно государство, которое не просто оставляет им их деньги в качестве собственности, но и заимствует их в качестве кредитов, сберегает и выплачивает проценты, а также – и это не последний по важности резон – позволяет передавать их детям, и впредь, как было уже долгие годы, сохраняя налог на наследство на минимальном уровне[91]. Тем самым государство, будучи государством долгов, само способствует увековечиванию сложившихся моделей социальной стратификации и вытекающему отсюда социальному неравенству. В то же время оно подчиняет свою деятельность контролю кредиторов, явленных в виде «рынков». Этот контроль дополняет демократический контроль со стороны граждан, что не исключает возможность наслоения их друг на друга или, как становится ясно сегодня, даже упразднения последнего в процессе перехода от государства долгов к государству консолидации.ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ДОЛГОВ
Текущий фискальный кризис и переход от налогового государства к государству долгов определили новый этап в отношениях между капитализмом и демократией, который не был в поле зрения традиционных теорий демократии. Развитие кризиса после 2008 г. привело богатые демократии на такой уровень задолженности, что кредиторы озабочены, смогут ли эти государства выполнять свои платежные обязательства в будущем. Как следствие, чтобы защитить свои интересы, кредиторы начинают оказывать гораздо большее влияние на политику государства, чем прежде. Таким образом, в государстве долгов наряду с гражданами – которые в демократическом налоговом государстве и в русле традиционной политической теории являются единственной референтной группой для современного государства – появляется вторая группа стейкхолдеров. Примечательным образом это возвышение кредиторов до уровня второй группы «избирателей» современного государства очень похоже на появление в корпоративном мире активных акционеров при продвижении идеи «акционерной собственности» в 1980–1990-х годах [Rappaport, 1986]. Подобно советам директоров котирующихся на рынке компаний, которые оказались на новых «рынках корпоративного контроля», правительства нынешних государств долгов в отношениях со своими финансовыми рынками вынуждены обслуживать дополнительный комплекс интересов тех, чьи притязания внезапно стали более решительными вследствие расширения их возможностей уйти на более ликвидные финансовые рынки. Как и рынки капиталов в период трансформации корпоративного управления, кредитные рынки в процессе трансформации демократии спешат испробовать свою вновь обретенную власть (особенно возможность продавать и изымать свои доли), чтобы минимизировать вероятность противоречивых требований к соответствующему представителю исполнительной власти (будь то требования трудового коллектива к администрации или требования граждан к избранному ими правительству). Оба случая сводятся к конфликту распределения: в компаниях это вопрос о том, должны ли излишки распределяться среди акционеров, а не среди трудовых коллективов или же должны тезаврироваться для укрепления позиций менеджмента; для государства долгов это вопрос о сохранении «облигационной стоимости» (bondholder value) государственных долговых обязательств. Подобно тому, как увеличение акционерной стоимости (shareholder value) требует от руководства компаний либо полностью подчинить себе трудовые коллективы, либо – лучше – совместными усилиями работать над повышением курса акций, так и сохранение доверия кредиторов требует от правительств убедить либо принудить своих граждан умерить требования к государственному бюджету в пользу финансовых рынков. Ниже я хотел бы предложить стилизованную модель нынешнего государства долгов, в которой оно предстает как адресат и как поверенный двух по-разному образованных коллективов, а также стыковочную систему между двумя конфликтующими мирами: миром «обычных граждан» (Staatsvolk) и миром «участников рынка» (Marktvolk) – «государственным народом» и «рыночным народом». Несмотря на то что логики функционирования этих миров обычно несовместимы, государственная политика должна в максимально возможной степени одновременно учитывать интересы каждого из них (рис. 2.6)[92]. «Государственный народ» образован на основе национального государства и состоит из граждан, соединенных с этим государством неотчуждаемыми гражданскими правами. К таковым относится также право участвовать в выборах и тем самым выражать свою волю. В период между выборами они могут влиять на решения своих конституционных представителей, публично высказываясь и формируя «общественное мнение». За право это делать они обязаны сохранять лояльность своему демократическому государству, в том числе в вопросах уплаты налогов, решения о дальнейшем использовании которых обычно принимают компетентные государственные органы самостоятельно. Гражданская лояльность может рассматриваться и как ответная услуга за то, что государство участвует в обеспечении средств существования, в том числе выступает гарантом демократически обоснованных прав на социальную поддержку. Рис. 2.6. Демократическое государство долгов и его два народа
Рис. 2.6. Демократическое государство долгов и его два народа
Демократическое государство, управляемое своими гражданами и существующее за их счет в качестве налогового государства, превращается в демократическое государство долгов, как только его существование начинает зависеть не только от денежных выплат граждан, но в значительной степени и от доверия кредиторов. В отличие от «государственного народа» налогового государства, «рыночный народ» государства долгов объединен на транснациональной основе. Его представители связаны с национальным государством исключительно узами контрактов – как инвесторы, а не как граждане. Их права по отношению к государству имеют не публичный, а частный характер, они проистекают не из конституции, а из гражданского права. Вместо расплывчатых и политически расширяемых гражданских прав они предъявляют государству такие финансовые требования, которые, в принципе, можно оспорить в суде и аннулировать по окончании соответствующего договора. В своей роли кредиторов они не могут избавиться от неугодного им правительства, но они могут продать его облигации или воздержаться от участия в торгах по новым облигациям. Процентная ставка на этих торгах – соответствующая оценке инвесторами рисков, что они не получат своих денег обратно или получат не в полном объеме – является общественным мнением «рыночного народа», выраженным количественно и потому более точным и легче считываемым, нежели общественное мнение «государственного народа». Если от своих граждан государство долгов ожидает лояльности, то в отношении «рыночного народа» оно заботится о том, чтобы завоевать и сохранить его доверие, для чего добросовестно обслуживает свой долг и всячески старается показать, что сможет его обслуживать и впредь. Если попытаться понять принципы функционирования демократического государства долгов, то удивительным образом обнаруживается, что никто не знает, кто же именно представляет этот важнейший «рыночный народ». Аналогично весьма немного пишется о том, как устанавливаются цены, которые государства должны платить за свои кредиты, – во всяком случае, об этом почти ничего нет ни в социологической литературе, ни в еженедельной и ежедневной прессе[93]. Мы знаем лишь, что каждое государство несколько раз в год продает облигации с целью рефинансирования своих прежних долгов; это означает, что практически постоянно где-нибудь в мире происходит аукцион. Экономическая теория, судя по всему, считает само собой разумеющимся, что рынок государственных облигаций является совершенным рынком, и не одобряет, если кто-то пытается в этом усомниться; видимо, в том числе этим объясняются трудности с получением данных о рыночной структуре спроса – и это особенно удивительно на фоне того, что в большинстве других секторов экономики (и на национальном, и на глобальном уровне) статистику о доле рынка и его уровне концентрации обычно получить совсем не сложно. Существуют несколько крупных фондов, специализирующихся на рынке государственных долгов, – например Calpers и PIMCO[94]. Но мы не знаем, есть ли здесь, как на других рынках, свой узкий круг крупных корпораций-лидеров, определяющих рыночные условия и цены. Известно, что министры финансов многих стран желают встретиться с руководством PIMCO, чтобы получить совет относительно своей бюджетной политики[95]. На международном уровне не существует антимонопольного законодательства, которое могло бы запретить сговор между лидерами рынка или запланированное решение о покупке; в отличие от ценового сговора между производителями цемента или нижнего белья, никто не понесет наказание, если ведущие мировые инвесторы во время телефонной конференции договорятся между собой держаться подальше от следующего аукциона французских ценных бумаг[96]. Демократические государства долгов вынуждены маневрировать между двумя категориями стейкхолдеров, поддерживая их хотя бы относительную удовлетворенность, чтобы не потерять в одном случае их лояльность, а в другом – доверие. При этом необходимо не допускать чрезмерного сближения ни с одной из сторон, так как это может привести к кризису в отношениях с другой стороной. Демократическое государство долгов может удовлетворить кредиторов только при поддержке своих граждан, готовых сотрудничать; если же граждане увидят в государстве продолжение руки кредиторов, есть опасность, что они откажутся от дальнейшего сотрудничества с ним. В то же время подобного рода государства могут претендовать на легитимность в глазах собственных граждан – особенно тех из них, кто, несмотря на интернационализацию, продолжает платить налоги – только тогда, когда кредиторы готовы финансировать и рефинансировать долги государства и его граждан на приемлемых условиях. Эта готовность может снизиться или вовсе исчезнуть, если государство пойдет слишком далеко навстречу желаниям своих граждан, задействовав для этого ресурсы, которых, возможно, позднее ему будет недоставать при обслуживании долга. Какой из двух групп государство долгов отдаст предпочтение прежде всего, зависит от их относительной власти. Последняя, в свою очередь, определяется тем, насколько вероятной и болезненной была бы для государства и его правительства утрата соответственно доверия или лояльности. Данный конфликт между двумя группами стейкхолдеров, конкурирующих за контроль над демократическим государством долгов, – явление новое, развивающееся и практически не исследованное. Многое свидетельствует о том, что выход финансового капитала в роли второго народа – «рыночного народа», соперничающего с «государственным народом», – знаменует новый уровень отношений между капитализмом и демократией, при котором капитал распространяет свое политическое влияние не только косвенно (инвестируя или не инвестируя в национальную экономику), но и напрямую (финансируя или не финансируя само государство). В теориях кризиса 1960–1970-х годов исследовалось, каким образом послевоенным государствам относительно удалось сохранить свою демократическую легитимность, несмотря на специфическое положение граждан, контролировавших средства производства и инвестиции. Стремительное, с выраженным классовым уклоном ослабление демократической организации и сокращение политического участия в процессе либерализации, равно как и постепенное сокращение политического пространства действий в период череды кризисов последних четырех десятилетий, может означать, что нечто подобное будет невозможно после перехода от налогового государства к государству долгов. Теперь мне хотелось бы обобщить некоторые наблюдения по поводу политики государства долгов и констелляции сталкивающихся в нем интересов, даже несмотря на то, что при недостаточной изученности этой области речь пойдет в основном о впечатлениях, полученных из периодической печати. 1. Увеличение долга богатых демократий вот уже какое-то время ограничивает их фактический суверенитет, и правительственная политика все больше подчиняется указаниям финансовых рынков. Еще в апреле 2000 г. Рольф Бройер, возглавлявший в то время Дойче Банк, в своей довольно скандальной статье в еженедельнике «Die Zeit» заявил, что сегодня политическая повестка дня «более, чем когда бы то ни было, должна формулироваться с оглядкой на финансовые рынки: если угодно, финансовые рынки стали своего рода “пятой властью” и наряду со СМИ играют важнейшую сдерживающую роль». По мнению Бройера, это не должно вызывать большого сожаления: «возможно, не так уж это и плохо, если в XXI в. политика окажется на буксире финансовых рынков». В конце концов:
«Политики ‹…› сами подводили к подобной ситуации ‹…›, когда они связаны в своих действиях, ‹…› и это доставляет им так много неудобств. Правительства и парламенты чрезмерно увлеклись таким инструментом, как государственные заимствования. Это подразумевает – как, впрочем, и для любых других долгов – подотчетность поотношению к кредиторам. Чем выше государственный долг, тем сильнее государства зависят от решений финансовых рынков. Если правительства и парламенты вынуждены сегодня все больше принимать во внимание потребности и предпочтения международных финансовых рынков, то все это связано с ошибками прошлого»[97].Лишь несколько лет спустя ту же мысль стало возможно сформулировать более откровенно, называя вещи своими именами. В сентябре 2007 г. Алан Гринспен, занимавший в то время пост президента Федеральной резервной системы, в интервью цюрихской газете «Tages-Anzeige» (от 19 сентября 2007 г.) на вопрос, какого кандидата на пост президента США он поддерживает, ответил:
«Нам повезло, что благодаря глобализации политические решения в США были в значительной степени заменены глобальными рыночными силами. Если не принимать во внимание вопрос о национальной безопасности, не имеет никакого значения, кто станет следующим президентом. Мир управляется рыночными силами» (цит. по: [Thielemann, 2011]).Ограничение суверенитета национальных государств «рыночными силами» – не что иное, как ограничение демократической свободы выбора «государственного народа» и одновременная передача соответствующих полномочий «рыночному народу», к мнению которого правительство все более прислушивается в своих финансовых решениях. Демократия на национальном уровне предполагает наличие национально-государственного суверенитета, который для государств долгов, попавших в зависимость от финансовых рынков, все больше сжимается. Организационные преимущества глобально интегрированных финансовых рынков по сравнению с выстроенными национально обществами (и вытекающая отсюда их политическая власть) впервые со всей очевидностью проявились в сентябре 1992 г., когда финансист Джордж Сорос смог собрать столько денег, что, успешно спекулируя против Банка Англии, обрушил тогдашнюю европейскую валютную систему. По разным оценкам, его прибыль от этой операции составила около миллиарда долларов. 2. Главной целью кредиторов, ссужающих деньги правительствам, в случае конфликта с гражданами этих стран является обеспечение приоритета своих требований над требованиями «государственного народа» – иными словами, обслуживание долгов должно быть первично по отношению к государственным услугам и социальной поддержке. Наилучшим образом это достигается путем закрепления в конституции институтов, подобных «лимиту задолженности», которые ограничивают суверенитет избирателей и будущих правительств в вопросах государственных финансов. Создание таких институтов можно навязать силой или подать как бонус – угрожая высокими страховыми ставками за риск или же, напротив, искушая низкими ставками. В целом речь идет о ключевой проблеме правовых последствий банкротства, спроецированной на финансовую политику государства: какие требования имеют приоритет по отношению к другим требованиям? Кредиторов интересует лишь то, чтобы возможная будущая «стрижка» коснулась не их, а, скажем, пенсионеров и клиентов государственной системы здравоохранения, т. е. чтобы государства пользовались своим суверенитетом только по отношению к «государственному народу», но не к «рыночному». Если вспомнить дискуссии последних лет, станет очевидно, что этот принцип, по сути, уже стал само собой разумеющимся: то, что ни в коем случае нельзя «тревожить рынки»[98], стало общим местом всего политического спектра, тогда как с перспективой потревожить «граждан-пенсионеров» или «граждан-пациентов» приходится мириться во имя общего блага. 3. В борьбе за доверие рынков государства долгов должны показать, что они могут в любой момент выполнить свои обязательства по гражданско-правовым договорам. В кризисные времена внушить такого рода доверие быстрее всего удается при помощи введения решительной экономии для собственного населения, желательно с вовлечением оппозиции и правовым закреплением постоянных ограничений на расходы. До тех пор пока у избирателей остается возможность при помощи выборов отстранить правительство, обслуживающее рынки капитала, «рыночный народ» никогда не сможет быть полностью спокоен. Уже само наличие менее расположенной к рынкам оппозиции, потенциально способной прийти к власти, может стоить государству доверия, а значит, и денег. В этом смысле лучшим государством долгов является то, где у власти находится большая коалиция, по меньшей мере в области финансовой и фискальной политики, с проверенными методами исключения девиантных позиций из общего конституционального дома. Еще до выборов 2013 г. Федеративная Республика Германия подошла очень близко к этому сценарию. 4. Серьезной проблемой для рынков является то обстоятельство, что, если сокращение расходов на «государственный народ» зайдет слишком далеко, оно может отрицательно сказаться на росте национальной экономики. Рост ведет к уменьшению коэффициента задолженности (соотношение собственных и заемных средств) и облегчает странам обслуживание своих долгов[99]; стагнация или застой в экономике, напротив, повышают вероятность дефолта. Задача объединения жесткой экономии со стимулированием экономического роста похожа на квадратуру круга: никто толком не знает, как с этим справиться[100]. Все это находит отражение в бесконечных спорах между различными школами экономической мысли по вопросу о том, как выйти из государственного финансового кризиса. Одни фокусируются на стороне предложения, призывая снижать налоги и сокращать деятельность государства ради оживления частного сектора. Другие призывают к стимулированию государственного и частного спроса, полагая его условием для новых инвестиций в реальный сектор экономики. 5. Дальнейшие трудности возникают из-за того, что значительная часть «рыночного народа» одновременно является и «государственным народом», значит, их интересы связаны не только с надежным обслуживанием государственного долга, но и, возможно, даже в большей степени, с поддержанием действующей системы государственных услуг. Индивидов в таком двойственном положении в последнее время – в связи с приватизацией некоторых направлений социального обеспечения (например, дополнительного пенсионного обеспечения) и ростом сбережений среднего класса – стало значительно больше. Теперь ключевой вопрос для представителей этой группы: что принесет им больше вреда – государственный дефолт по отношению к рынкам (и, значит, снижение прибыли от инвестиций) или сокращение социальных выплат, направленное на предотвращение такого дефолта? Представляется, что политически им были бы выгодны как политика экономии, которая сбережет их капитал, так и отказ от жесткой экономии, что сохранит социальное государство. В социологическом смысле они могут рассматриваться как новый вид промежуточной группы, испытывающей давление противоречивых интересов. 6. Мало что известно о властных отношениях между «государственным народом» и «рыночным народом» и о том, как они влияют на переговоры по вопросам условий торговли между ними. Власть инвесторов проистекает прежде всего из их глубокой международной интеграции и близости эффективных глобальных рынков капитала – в таких условиях при утрате доверия они могут быстро перемещать инвестиции от одной системы к другой. Кроме того, при определенных обстоятельствах им помогают рейтинговые агентства, координируя их действия в качестве «единого рыночного народа» (рынков), который оказывает совокупное давление на государства, граждане или правительства которых не хотят соответствовать их пожеланиям. В то же время складывается впечатление, что владельцы денежных активов для защиты своего портфеля вынуждены инвестировать хотя бы часть своего капитала в государственные облигации. Правительства, в свою очередь, могут ввести регулятивные меры, принуждающие рынки инвестировать в государственный долг, – например, путем увеличения объема страховой ответственности для банков и страховых компаний[101]. Более того, они могут в одностороннем порядке по своему усмотрению переструктурировать государственный долг, поскольку «суверенные» должники до сих пор не подпадают под действие законов о банкротстве[102]. Также они могут навязать своим кредиторам частичное списание долга или в крайнем случае вовсе отказаться обслуживать долг. Этот кошмар постоянно преследует кредиторов[103]. Однако, поскольку задержка или прекращение платежей может навредить будущей кредитоспособности страны, государства прибегают к этому средству лишь тогда, когда у них нет другого выхода. В принципе, односторонняя ликвидация задолженности может быть мощным оружием государств-должников для защиты требований своих граждан в вопросах реализации государственных услуг и мер социальной поддержки. До тех пор пока государства долгов могут реально грозить этим оружием, кредиторы будут вынуждены проявлять сдержанность в преследовании своих интересов[104]. 7. Рынки могут привлечь на свою сторону международное сообщество и организации для подкрепления своих требований к государствам долгов. При этом они могут использовать свое организационное преимущество по сравнению с государственной системой, которая, хотя и укоренена в глобальных рынках, остается организованной по национальному принципу. В условиях тесного переплетения международных финансовых рынков невозможно сколько-нибудь достоверно предсказать, какие последствия повлечет крах одного государства долгов для других стран. К примеру, иностранные финансовые институты могут так сильно пострадать, что их спасением придется заниматься их собственным правительствам, которые понесут высокие фискальные расходы[105]; или могут пострадать приватизированные элементы системы пенсионного обеспечения; или рынки могут потерять доверие к государственным облигациям как таковым, что отразится на процентных ставках, выплачиваемых другими странами для рефинансирования своих долгов. Поэтому государства, попавшие в критическую ситуацию, испытывают давление со стороны других стран и международных организаций, побуждающих их исполнить свои обязательства перед кредиторами даже ценой невыполнения обязательств перед собственными гражданами. При этом другие страны могут начать испытывать давление со стороны проблемного государства, которое, апеллируя к «международной солидарности», будет пытаться предотвратить дефолт за счет кредитов и трансфертов. В принципе, страны, конечно, могли бы объединиться против рынков, например, выступив совместно против необходимости мер жесткой экономии. Однако здесь тут же возникает классическая проблема коллективного действия, сопряженная с различием интересов и начальных структурных позиций стран-участниц. В частности, Великобритания – страна, более любой другой зависящая от благополучия своего финансового сектора – едва ли присоединится к межправительственному соглашению, требующему от финансовых рынков частичного списания задолженности, если только она не получит за это денежные компенсации от других стран.
ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Политика современного государства долгов, особенно в Европе, стала одновременно более сложной и менее демократичной, поскольку значительная ее часть осуществляется на международной арене – в форме межправительственной финансовой дипломатии. Здесь конфликт распределения между национальными «государственными народами» и международным «рыночным народом» – сам по себе являющийся производным от конфликта распределения между наемными работниками и получателями – проецируется на новый уровень, где он выглядит искаженным до неузнаваемости и представляет собой идеальную сцену для постдемократии. Уже многие годы публика европейских государств, затаив дыхание, следит за ее причудливой игрой, изобилующей такими внезапными поворотами, что они кажутся продолжением приключений маленькой Алисы в Стране чудес. Конечно, ставки в долговой политике несопоставимо серьезнее. Попытка вменить международному «управлению» фискальный надзор и контроль национальных правительств грозит навсегда положить конец конфликту между капитализмом и демократией – и если он будет решен в пользу капитализма, это означает экспроприацию политических средств производства у граждан национальных государств. Если принятые в 2012 г. планы по реорганизации европейской политической системы с помощью «фискального пакта» будут реализованы, то национальные государства и их политика окажутся под давлением финансовых рынков и международных организаций, связанных в международно-правовом и конституционном плане с принципами рыночной справедливости, что в значительной степени лишит их возможности изменить это состояние во имя социальной справедливости[106]. В этой точке либерализация современного капитализма достигнет своей цели, в результате рынки станут устойчивыми перед дискреционным политическим вмешательством. Интернационализация фискального кризиса и долговой политики скрывает политических и экономических субъектов демократического капитализма за конструкцией мира наций с общими внутренними интересами, но различными и противоречивыми внешними интересами. Страны, словно футбольные команды, борются за лидерство в турнирной таблице, соревнуясь в экономических достижениях, конкурентоспособности, уровне коррупции, кумовстве в политике и т. п.[107] Одновременно они предстают как носители коллективных прав и обязанностей по отношению друг к другу – например, когда требуется проявить солидарность в чрезвычайной ситуации. Следствием этого является на удивление популярная практика облачения долговой политики в националистическую риторику с высоким демагогическим потенциалом, а также стремительная повторная национализация и националистическая морализация международного политического дискурса; при этом готовность признать суверенитет страны зависит от степени ее лояльности по отношению к глобальным финансовым рынкам и международным организациям, от соблюдения ею предписанных ими правил поведения. В риторике международной долговой политики нации предстают как целостные, обладающие нравственным императивом акторы, разделяющие общую ответственность; их внутренние классовые и властные отношения остаются без внимания. Это позволяет проводить дискурсивные различия между нациями, которые «содержат свой дом в чистоте и порядке», и нациями, которые поленились выполнить «домашнюю работу» и потому лишены права жаловаться, если другие страны попытаются ими управлять. «Ленивые» страны должны заслужить благосклонность добропорядочных стран, проведя реформы по их образу и подобию или хотя бы изо всех сил пытаясь это сделать. В свою очередь, бедствующие страны ожидают, что их более удачливые и потому состоятельные соседи проявят солидарность и окажут им помощь, руководствуясь моральными обязательствами; если же они этого не сделают или поскупятся на размах, их сочтут надменными и бессердечными. Соответствующие националистические клише, распространившиеся в Германии, можно найти в книге Тило Саррацина «Европа не нуждается в евро» [Sarrazin, 2012], аналогично в Италии и Греции некоторые газеты представляют канцлера ФРГ Ангелу Меркель духовным наследником Адольфа Гитлера[108]. Однако с политико-экономической точки зрения международная долговая политика, напротив, предстает как площадка для сотрудничества между национальными правительствами с целью защитить финансовых инвесторов от убытков, сдержать рост доплат за риски по государственным займам и застраховаться от рисков на случай, если собственным национальным банкам потребуется предоставить средства для компенсации убытков или помощь путем рекапитализации. В этом случае государства тоже заинтересованы в защите своих более состоятельных граждан, которые вложили свои накопления в государственный долг или аналогичные финансовые инструменты. Рынки и правительства в равной степени заинтересованы в том, чтобы государство, находящееся под угрозой дефолта, воздержалось от использования своего суверенитета и прекращения платежей. Главным приоритетом для международного сообщества государств стран-должников является максимально полное обслуживание взятых когда-то долгов всеми членами сообщества, включая самых слабых из них. Конфликт между «государственными народами» и «рыночным народом» отчасти заключается в том, что граждане тех стран, которым финансовые рынки доверяют, испытывают давление со стороны своего правительства и правительств других стран, а также международных организаций и финансовых инвесторов проявлять «солидарность» со странами, которым грозит неплатежеспособность[109]. Поскольку в действительности речь здесь идет не о том, чтобы спасти страны, а о том, чтобы спасти кредитные портфели и тем самым стабилизировать глобальный рынок государственных долгов, не имеет никакого значения, является ли доход на душу населения страны-донора ниже, чем страны-реципиента[110]. По этой же причине нет никакого противоречия в том случае, если помощь будет оказана не нуждающейся стране, а поступит напрямую ее зарубежным кредиторам[111]. Тем не менее от стран, «спасенных» другими странами, требуется провести серьезные сокращения в уровне жизни своих граждан – это необходимо не только для обретения доверия финансовых рынков в долгосрочной перспективе, но и для того, чтобы успокоить граждан стран-доноров, которые, в свою очередь, ради финансирования солидарных интересов сообщества государств пошли на сокращение своих государственных бюджетов и социальных выплат[112]. Таким образом, и доноры, и реципиенты выплачивают требуемые суммы финансовым рынкам, что может показаться взаимным вымогательством между странами или народами, неравными в своем «богатстве» или в претензиях на него. Международная солидарность, которая на практике сводится к наказанию, выраженному в необходимости следовать предписанной извне и сверху политике жесткой экономии, подразумевает, что граждане неплатежеспособных стран-должников несут солидарную ответственность за действия своих предыдущих правительств. Это признается справедливым, потому они выбирали свои правительства демократическим путем. Демократия, таким образом, служит инструментом для конструирования идентичности между гражданами и правительством, между избирателями в роли принципала и правительством в роли агента. Этой идентичности оказывается вполне достаточно, чтобы потребовать от граждан оплачивать кредиты из своего кармана, так как брались они от их имени; и не важно, за кого граждане голосовали и доставались ли им хоть какие-то деньги от этих кредитов. При этом гражданам как политическим субъектам запрещено делать то, что с легкостью было бы позволено гражданам как экономическим субъектам, а именно: добиваться определения чего-то вроде ограничений на опись имущества должника, основываясь на Европейской конвенции по правам человека. Неонационалистический публичный дискурс возлагает вину за чрезмерно высокий уровень государственного долга на граждан одной страны, которые устроили себе комфортную жизнь за счет граждан других стран (что впоследствии уравновешивается, когда первым в порядке солидарности приходится помогать вторым, – применение, так сказать, «солидарности-как-наказания»); однако на самом деле государства долгов набирали новые долги, чтобы компенсировать дефицит налоговых поступлений, которые они не сумели собрать (особенно с богатых граждан), не захотели или не решились (побоявшись разрушить социальный мир или потерять инвестиции). Таким образом международная поддержка государства долгов превращается в солидарность не только с его кредиторами, но и с его высшим классом (который и так платил совсем мало налогов, а после поворота к неолиберализму стал платить еще меньше). В результате солидарность субсидирует неравномерное распределение доходов, потому что она позволяет избавить граждан поддерживаемых государств от необходимости политически объединяться, чтобы исправить ситуацию, и брать на себя связанные с этим конфликты и риски. То, что лицам с высокими доходами сегодня легче, чем когда бы то ни было, уйти от налогов и тем самым вынудить свои родные страны прибегнуть к заимствованиям, является следствием либерализации рынков капитала последних десятилетий. Такие страны, как США, Франция, Великобритания и Германия, серьезно выиграли от утечки капитала из стран с мягкой системой налогообложения и неравным распределением доходов; более всего выиграли их богатые граждане, что нашло воплощение в росте цен на элитную недвижимость. Счет за это предъявляется сегодня гражданам тех стран, правительства которых под аплодисменты финансовых рынков предоставили капиталу свободу перемещения, или тех, которые были вынуждены это сделать под давлением международного сообщества. В перевернутом мире финансовой и фискальной дипломатии, встроенной в систему международных финансовых рынков, уступка национальным суверенитетом своих позиций наднациональным институтам (таким как международная помощь или трансграничные механизмы регулирования) становится инструментом не только защиты финансовых инвестиций и взыскания долгов, но и ограждения рынков от политического вмешательства во имя корректирующей социальной справедливости. Как следствие, капитализм лишается демократии. Национальный суверенитет – ключевое требование национальной демократии – теряет свою легитимность, ибо воспринимается как возможность постоянно жить в долг за счет других стран; в результате – нередко под аплодисменты «государственных народов», завербованных под задачу обслуживания общеевропейских долгов, – он может быть и вовсе упразднен и заменен наднациональными дисциплинарными агентствами, глухими к демократии, причем эта тенденция относится не только к странам, погрязшим в долгах, а вообще ко всем, и отсылает к таким ценностям, как международная солидарность и мирное преодоление национализма путем наднациональной интеграции.Глава 3 Политика государства консолидации: неолиберализм в Европе
С началом финансового и фискального кризиса государство долгов, сменившее налоговое государство, вынуждено превратиться в государство налоговой консолидации и тем самым завершить неолиберальное прощание с европейской системой государственного управления и ее политической экономией на кейнсианском фундаменте. Получившееся в результате государство консолидации неслучайно конституирует себя как международный режим, сочетающий множество уровней управления. То, что между интернационализацией и денационализацией, с одной стороны, и либерализацией – с другой, существует взаимосвязь, отложилось в общественном сознании со времен дискуссий о политических последствиях глобализации. Но никто не выразил это так рано и отчетливо, как Фридрих фон Хайек в своей статье «Экономические условия межгосударственного федерализма», вышедшей в журнале «New Commonwealth Quarterly» в сентябре 1939 г., аккурат в начале Второй мировой войны [Hayek, 1980 (1939)].ИНТЕГРАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
Следуя духу времени, Хайек начинает с вопроса о том, при каких условиях возможен стабильный мир на международной арене. По мысли Хайека, «главная цель межгосударственной федерации – обеспечить мир: предотвратить войны как внутри нее, устранив трения и создав эффективный механизм урегулирования любых споров, могущих возникнуть среди ее членов, так и между ней и любыми независимыми государствами, сделав ее столь сильной, чтобы исключить любую опасность нападения извне». При этом не стоит забывать, что «нет ни одного исторического примера успешного объединения стран для проведения общей внешней политики и обеспечения обороны без введения общего экономического режима» [Hayek, 1980 (1939), p. 256]. Если же внутри федерации сохранить различные экономические и политические режимы, то у граждан каждого входящего в федерацию государства возникнет «солидарность интересов», а вот на стыке государств будут постоянные экономические конфликты [Ibid., p. 257]. В результате все столкновения интересов становятся конфликтами между одними и теми же группами людей вместо конфликтов между группами с постоянно меняющимся составом. Для единства целого необходимо, чтобы эти группировки не были постоянными и, еще более важно, чтобы разнообразные общности интересов не расползались территориально и с ними никогда не идентифицировали себя надолго жители того или иного конкретного региона [Ibid., p. 257]. Но если для единства федерации необходим унифицированный экономический режим, чтобы солидарность не была определена национально, как же должен выглядеть такой режим? Центральное место в аргументации Хайека занимают следующие два тезиса. Прежде всего, Хайек заявляет, что общая экономическая система, в которой отсутствуют тарифные барьеры и существует свободное передвижение людей и капитала, – союз с «единым рынком» [Ibid.] – уже значительно ограничит сферу экономической политики отдельных государств. Из этого он выводит второй тезис: политическое вмешательство в дела рынка, которое должно быть исключено на уровне отдельных государств, не может быть перенесено на уровень федерации с целью быть там подвергнутым своего рода замене, так что «часть экономических полномочий, сейчас обычно принадлежащих национальным государствам, не могла бы осуществляться ни федерацией, ни входящими в ее состав отдельными государствами». Это подразумевает, «что в целях жизнеспособности федерации роль правительства везде и во всем должна быть меньше» [Hayek, 1980 (1939), p. 266] (Курсив мой. – В. Ш.). Что касается первого тезиса, то Хайек указывает, что при свободном движении «людей, товаров и капитала» вмешательство отдельных государств в дела рынка для поддержания собственных продуктов имело бы для федерации как единого целого более существенные последствия, чем те, которые она смогла бы выдержать. Государства – члены федерации не смогли бы проводить и собственную денежную политику: «Действительно, представляется сомнительным, чтобы в союзе с единой денежной системой продолжали существовать самостоятельные центральные банки государств; скорее всего, им пришлось бы реорганизоваться в нечто наподобие Федеральной резервной системы» [Ibid., p. 259]. Об остальном позаботится конкуренция, которая не позволит ни одному государству чересчур зарегулировать свою экономику: «даже такие законодательные меры, как ограничение детского труда или продолжительности рабочего дня, становится трудно осуществлять в отдельных государствах» [Ibid., p. 260]. Свобода перемещения внутри федерации государств осложняет процедуры налогообложения в пределах отдельных государств: чрезмерно высокие прямые налоги вынудят людей и капитал покинуть страну, а отсутствие пограничного контроля затруднит косвенное налогообложение многих товаров. С подобными ограничениями столкнутся также торгово-промышленные ассоциации и профсоюзы отдельных государств: «Как только границы перестают быть закрытыми и обеспечивается свободное движение, все эти национальные организации, будь то профсоюзы, картели или профессиональные ассоциации, утратят свои монополистические позиции, а значит, и способность контролировать в качестве национальных организаций предложение соответствующих услуг или товаров» [Ibid., p. 261]. Но почему же нельзя заменить на международном уровне то, от чего на национальном уровне следует отказаться ради сохранения единства федерации? Причина проста: в федерации государств разнообразие интересов значительно шире, а чувство общей идентичности, наоборот, слабее, чем в национальном государстве. Протекционистские тарифы для отдельных производственных отраслей требуют жертв со стороны всего общества в виде высоких цен. Для соотечественников это может быть приемлемым, но в рамках федерации воспринимается совершенно иначе:Насколько вероятно, что французский крестьянин готов будет платить больше за свои удобрения, чтобы помочь британской химической промышленности? Согласится ли шведский рабочий платить больше за свои апельсины, чтобы поддержать калифорнийского садовода? Или лондонский клерк будет готов больше платить за свои обувь или велосипед, чтобы помочь американскому или бельгийскому рабочему? Или южноафриканский шахтер – за свои сардины, дабы помочь норвежскому рыболову? [Ibid., p. 262 и далее].То же относится и ко многим другим попыткам политико-экономического вмешательства: «Даже такие законодательные меры, как ограничение продолжительности рабочего дня, или обязательное страхование от безработицы, или охрана природы, будут восприниматься по-разному в бедных и в богатых регионах и могут в первых на самом деле приносить вред и вызывать резкое сопротивление со стороны той категории людей, которая в более богатых регионах этого требует и выигрывает от этого» [Hayek, 1980 (1939), p. 263]. Структурная однородность, обусловленная незначительным размером, общими национальными традициями и идентичностями, делает возможным серьезное вмешательство в социальную и экономическую жизнь – в более крупном (и потому более разнородном) политическом образовании подобное вмешательство было бы неприемлемым. Поэтому федерализация неизбежно означает либерализацию:
что французы или англичане доверили бы охрану своей жизни, свободы и собственности – короче, функции либерального государства – надгосударственной организации. Но чтобы они были готовы предоставить правительству федерации власть управлять их экономической жизнью, решать, что они должны производить и потреблять, представляется и невозможным, и нежелательным. Вместе с тем в федерации эти полномочия не могли бы быть оставлены и национальным государствам; следовательно, федерация, по-видимому, означала бы, что ни одно правительство не имело бы достаточных полномочий для осуществления социалистического планирования экономической жизни [Ibid., p. 263 и далее].Довод, выдвинутый Хайеком, начинается с изложения экономических предпосылок для создания международного миропорядка и заканчивается перечислением причин, почему по-настоящему крепкая федерация государств обязательно должна придерживаться либеральной экономической политики[113]. Национальные государства, выступающие за мир, должны объединиться в федерацию; но это требует от них не только либерализации их собственных экономических систем, но и формирования самой федерации на изначально либеральных основаниях. Национализм должен быть преодолен одновременно с социализмом, а вместе с ними – и объединяющая их связь, столь опасная для демократии и правового государства [Ibid., p. 271]. Единственная разновидность демократии, которую таким образом можно выстроить, будет строго либеральной и уважающей свободу рынков, потому что только такая демократия может сохранить внутренний и внешний мир внутри федерации государств.
Если в международной области окажется, что демократическое правление возможно только в том случае, когда задачи международного правительства ограничены, по сути, либеральной программой, это лишь подтвердит опыт национальных государств, где с каждым днем становится все очевиднее, что демократия способна функционировать, только если мы не перегружаем ее и если большинство не злоупотребляет своей властью для посягательств на индивидуальную свободу. И все же, если цена, которую нам придется заплатить за международное демократическое правление, есть ограничение власти и сферы деятельности правительства, она, безусловно, не слишком высока, и все те, кто искренне верит в демократию, должны быть готовы ее заплатить [Ibid., p. 271].Статья Хайека 1939 г. воспринимается сегодня как сценарий развития Европейского союза, и не только потому, что в риторической плоскости она апеллирует к теме мирного сосуществования. Европейская интеграционная политика послевоенного периода первоначально ориентировалась на создание транснациональной смешанной экономики (mixed economy) [Shonfield, Shonfield, 1984], и в то время аргументы Хайека в пользу неизбежной (и, по его мнению, желанной) либерализации наднациональной интегрированной политической экономии, скорее всего, большинству казались абсурдными[114]. Со временем, однако, европейская интеграция переросла свои кейнсианские иллюзии и тягу к планированию, и чем дальше заходил интеграционный процесс, продвигаясь к центру европейской политической экономии, тем больше он следовал интуиции Хайека 1939 г.: о необходимости нейтрализовать в пределах федерации влияние демократических институтов на экономику и передать право решения о распределении свободным рынкам; о необходимости запретить разрушительное для рынка вмешательство государства, в том числе упразднить национальные валюты; о политических препятствиях, которые (по мнению Хайека, к счастью) стоят на пути федеративной интеграции, не позволяя двинуться дальше создания и либерализации рынков. В сущности, возникшая в Европе после Второй мировой войны межгосударственная квазифедерация – первоначально созданная ради гарантий обеспечения мира – благодаря присущей ей политической и экономической логике, предвосхищенной Хайеком, в долгосрочной перспективе оказалась надежным и более мощным мотором либеральной трансформации образующих ее национальных экономик и привела к подавлению различных национальных проектов демократии и утверждению приоритета справедливости рынка над социальной справедливостью. В своей статье Хайек как будто прочертил силовые линии, по которым институты европейского объединения, изначально задуманные совершенно иначе, в конце концов все же стали развиваться. Особенно ярко это стало проявляться на волне неолиберальных изменений в конце 1970-х годов и с еще большей очевидностью – в связи нынешней институционализацией «государства консолидации». Сегодня, как никогда ранее с тех пор, как демократическо-капиталистический конфликт распределения перешел на уровень международной финансовой дипломатии, «силы рынка», целью которых является освобождение капиталистического процесса накопления от политического вмешательства, полагаются прежде всего на институциональную динамику, предвиденную Хайеком в 1939 г. Превращение Европейского союза в средство либерализации европейского капитализма началось не в 2008 г.; это суть и результат непрерывного глобального процесса либерализации, продолжающегося с 1980-х годов, – в его европейской вариации. Этот двойственный процесс – стремительное освобождение экономики от демократии и отделение демократии от экономики, которые в конечном счете приведут к институциональному торжеству рыночной справедливости над социальной справедливостью, – можно было бы назвать хайекизацией европейского капитализма – в память о своем на долгое время забытом, но затем еще ярче интеллектуально воскресшем теоретическом проповеднике[115].
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ КАК ДВИГАТЕЛЬ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
Уже долгое время в Европейском союзе наблюдается «дефицит демократии» и недостает «социального измерения» [Commission of the European Communities et al., 1988]. Что касается первого, то политически это выражается в отсутствии или затянувшемся ожидании единого европейского народа, и в этом винят Европейский парламент с его ничтожно малой сферой влияния. Но гораздо более значимым было и по сей день остается усиление национальных правительств на фоне формирующегося международного многоуровневого режима: правительства выправляют себе в Брюсселе международные мандаты и поворачивают их против политических оппонентов в своей стране, особенно против рабочих и других групп, чьи интересы как-то организованы [Moravcsik, 1997]. Таким образом, в отдельных странах удается снова и снова обходить воздействие демократических сил, к примеру, в отношении приватизации государственных предприятий. Что же касается «социального измерения», то, оглядываясь назад, видим: национальные институты оказались ослаблены, а международные институты вовсе не заменили их. В 1980-х годах, помня о рабочих волнениях 1968 г., Европейское сообщество провозгласило своей целью создание наднационального социального государства, взяв за ориентир западногерманскую модель того времени. Однако, когда в странах-участниках социал-демократы сдали позиции, а британское правительство Тэтчер резко критиковало оставшиеся брюссельские ведомства, процесс интеграции застопорился, в том числе и потому, что выступающие за либерализацию и хорошо организованные работодатели угрожали перестать проявлять интерес к сообществу. Задача переломить эту ситуацию была возложена на Жака Делора, возглавившего две соответствующие комиссии. И решение было найдено: создать единый внутренний рынок, благодаря чему бизнес-компании получат вожделенное расширение рынка за счет «четырех свобод», а наемные работники – тот же рынок, но помещенный в социально-политический ограничительный контур, причем последний, как предполагалось, так или иначе сложится в любом случае. Но он не сложился из-за упрямого сопротивления компаний и британского правительства [Streeck, 1995] и несмотря на все усилия новой научной дисциплины под названием «европейские исследования» (финансируемой, к слову, комиссией из Брюсселя) заставить весь мир поверить, что король вовсе не гол, а щеголяет в новом платье. То, что из этого получилось, сегодня считается устойчивым образцом, скорее, «негативной», а не «позитивной» интеграции [Scharpf, 1996]: трансграничные рынки и рыночные свободы все больше накладывались друг на друга и тормозили работу правовых систем, политических властных структур и демократические процессы в национальных государствах. Главным актором интеграции посредством наднациональной либерализации, или либерализации посредством международной интеграции, являлся Европейский суд, чьи решения в отношении отдельных государств и их граждан становились все более непреложными, тем более что в связи с вхождением в ЕС стран Восточной Европы и связанной с этим возросшей гетерогенностью союза для прежних норм социальной защиты больше не было места [Höpner, Schäfer, 2010]. Если в 1990-х годах эта роль отводилась комиссии, которая успешно осуществляла приватизацию отдельных областей государственного сектора[116], руководствуясь антимонопольным законодательством, то в последующее десятилетие доминирующая роль перешла к Европейскому суду, который во имя беспрепятственного предоставления услуг и осуществления финансовых операций своими постановлениями поставил под сомнение право работников на забастовку и право их участия в управлении предприятием. Так что можно сказать, что ЕС превратился в машину для либерализации европейского капитализма, с помощью которой правительства могут насаждать рыночно ориентированные реформы различного содержания вопреки сопротивлению своих граждан, даже тогда, когда европейские ведомства не принуждают их это делать. Европейский валютный союз на данный момент можно назвать наивысшим достижением юной европейской федерации, стремящейся стать механизмом высвобождения капиталистической экономики от посягательств демократии на рынки. Тут необходимо напомнить, что валютный союз возник тогда, когда богатые западные демократии впервые попытались консолидировать свои государственные финансы. С самого начала бюджетная дисциплина на национальном уровне была частью договоренности: для всех участвующих государств было обязательным условием, чтобы их годовой бюджетный дефицит не превышал 3 %, а уровень долгов – 60 % от ВВП. При этом валютный союз по определению подразумевал, что страны с менее конкурентоспособными экономиками не могут и помыслить о том, чтобы девальвировать свою валюту в порядке адаптации к «уровню игрового поля» (как эвфемистически был назван режим конкуренции в условиях общего рынка) и тем самым избежать внутриполитических конфликтов распределения. Таким образом, притязания на рыночную справедливость со стороны более производительных, ориентированных на экспорт стран должны были быть надежно уравновешены: никакого национального суверенитета ради социальной справедливости, понимаемой в национально-партикулярном ключе. Единственным вариантом для стран – участниц валютного союза, не успевающих за лидерами по своему экономическому развитию, была так называемая «внутренняя девальвация»: сокращение заработной платы, «стимулирующее» урезание социальных выплат и «расширение гибкости» рынков труда – иными словами, всеобъемлющее внутриполитическое завершение программы либерализации, связанной с введением общей валюты. Ни одна из этих целей не была достигнута с первой попытки. Правила, разработанные валютным союзом для воплощения в жизнь строгой бюджетной политики, не были ни достаточно определенными, ни подкрепленными санкциями; национальные государства все еще обладали достаточной свободой действий, чтобы подчиниться требованиям своих граждан, выступающих против рыночной несправедливости. Предложения Франции сделать европейское регулирование более гибким, учредив для этого европейское «экономическое правительство», – и таким образом создать на общеевропейском уровне новое пространство для дискреционного политического вмешательства – не были внедрены в основном потому, что противоречили интересам и национальной политике Германии, ее союзника. Так что правила валютного союза безнаказанно нарушались, в том числе Францией и Германией, когда они не видели для себя подходящей альтернативы. В то же время те страны, которые не были готовы к новому для них режиму существования в условиях твердой валюты [Streeck, 1994], не могли или не хотели модернизировать свое общество и свои представления о социальной справедливости. Чтобы окончательно не разориться после изменения валюты, они с благодарностью обращались к изобильным кредитным источникам,которые с готовностью были предложены им международной финансовой отраслью[117]. И еще один раз время было куплено – до тех пор, пока финансовый и фискальный кризис не положил этому конец, пусть, быть может, и не окончательный. Нынешние дискуссии о Европейском пакте стабильности и роста содержательно охватывают и во многом продолжают те тренды, которые наметились в Европе с 1990-х годов; их можно рассматривать как попытку укрепить вновь образованные или реформированные политико-экономические институты, чтобы они завершили и увековечили либерализацию европейского капитализма. Хотя необходимость написания фискального пакта действительно была обусловлена кризисом, программно он гораздо старше и уже давно принадлежит к стратегическим базовым целям неолиберальных изменений в Европе. Это очевидно еще и потому, что, хотя он и «продается» как ответ на нынешний финансовый и фискальный кризис, этот ответ неподходящий, ибо его эффект можно будет ощутить лишь в долгосрочной перспективе. Нет никакой необходимости детально обсуждать здесь многочисленные новые правила, институты и инструменты, в спешке выработанные и принятые Европейским советом с началом кризиса. Между вступлением в силу 13 декабря 2011 г. так называемого sixpack – шести европейских законов, направленных на реформирование маастрихтского Пакта стабильности и роста, и подписанием 2 марта 2012 г. Европейского фискального пакта прошло менее трех месяцев. Дополнительные изменения в правилах, все более выходящие за рамки дозволенного европейским органом власти [Höpner, Rödl, 2012], разрабатывались летом 2012 г. Впрочем, их общая направленность не меняется уже долгое время. 1. Предписания, которым должна следовать фискальная политика государств-членов, становятся все более детализированными. Наградой за их соблюдение и особенно за готовность – под давлением рынков – объединить государственные и частные кредитные риски обещана помощь со стороны европейского сообщества. 2. От национальных правительств настойчиво требуется усилить работу по переустройству собственных экономических, социальных и правовых систем согласно рыночной логике. Например, они вынуждены закрепить в своих конституциях принцип «долговых тормозов» по немецкому образцу. Правительства также должны скорректировать свои системы формирования заработной платы в соответствии с определяемыми ЕС целями по макроэкономической стабилизации, для этого они должны быть готовы реформировать соответствующие собственные национальные институты, если это необходимо, преодолевая сопротивление со стороны населения, независимо от того, затрагивает ли это национальные права на свободное обсуждение условий коллективного договора или сферу компетенции ЕС. 3. Не менее важно и то, какие области избежали вмешательства предписаний ЕС в автономию участвующих государств-членов. Так, отсутствуют предписания относительно минимального уровня налогообложения, которые способствовали бы ограничению налоговой конкуренции в рамках единого внутреннего рынка и валютного союза[118]. Это соотносится с давней традицией европейского валютного союза, чьи критерии конвергенции (маастрихтские критерии) и критерии вступления (копенгагенские критерии) не содержат ни слова о максимально допустимом уровне безработицы или социальной несправедливости. 4. Европейские институты, уже существующие и только планируемые, получают все более широкие полномочия для контроля и оценки экономической, социальной и финансовой политики государств-членов, решения, в том числе принимаемые национальными парламентами, отслеживаются еще на стадии их разработки. Ведущую роль на общеевропейском уровне чаще всего играет Европейская комиссия; государства-члены представляет Европейский совет, который выступает, скорее, на вторых ролях, обладая своего рода правом вето, часто при условии единогласного голосования. 5. На государства могут налагаться большие штрафы за несоблюдение ими установленных ЕС правил. Необходимые для этого процедуры юридического характера все чаще инициируются автоматически, что оставляет все меньше возможностей для дискреционных политических решений. 6. Национальные и европейские правила, определяющие экономическую и фискальную политику государств-членов, формулируются таким образом, чтобы оставаться в силе всегда, т. е. они принципиально неизменяемы даже в случае смены политического большинства. 7. Наконец, все чаще требуются положения, которые позволяют брюссельской штаб-квартире, прежде всего комиссии и суду, в случае несоблюдения отдельными странами предписаний иметь возможность за них принять решения, отвечающие требованиям рынка. Куда все это может привести, недвусмысленно указал в своем выступлении 14 июня 2012 г. в Маннгейме президент Немецкого федерального банка Йенс Вайдман. До недавнего времени он был ближайшим советником Ангелы Меркель по экономико-политическим вопросам. Основная идея в его выступлении заключалась в следующем:В случае если страна не соответствует бюджетным нормам, национальный суверенитет автоматически в полном объеме отдается на общеевропейский уровень с тем, чтобы обеспечить соблюдение поставленных целей ‹…›. Можно было бы, к примеру, воспользоваться правом и запустить – а не только требовать – повышение налогов или провести пропорциональное сокращение расходов ‹…›. Подобные рамочные установления позволяют обеспечить гарантии развития по общему европейскому пути даже тогда, когда для этого не находится большинства в национальном парламенте[119].К концу лета 2012 г. Фискальный пакт в тех рамках, в которых от обсуждался на уровне переговоров по спасению общей валюты, все еще не был ратифицирован всеми странами. Более того, в некоторых государствах-членах прошли протесты против политики, направленной на восстановление доверия рынков путем принятия международных обязательств для долгосрочной компенсации национальных бюджетов, в первую очередь за счет экономии. Ни в Греции, ни в Италии назначенные Брюсселем главы правительств, призванные как «технократы», не смогли сломить сопротивление своих граждан против проводимых мер жесткой экономии. В Греции на короткое время даже появилась вероятность победы на выборах левой партии, которая угрожала объявить государство банкротом и вернуть национальную валюту, – к слову сказать, это еще один шаг, который, как и исключение из валютного союза, не был предусмотрен заранее. После того как на президентских выборах во Франции Олланд одержал победу над Саркози, в Европе с новой силой разгорелась дискуссия о необходимости принятия программы содействия экономическому росту не только для стран-должников, но и в целом для Европы. Однако до сих пор непонятно, каким образом она должна была осуществляться. С учетом неопределенности и финансовой ограниченности внесенных предложений стремительно возрастающие риторические утверждения о необходимости новой политики роста удивительным образом напоминают мольбы о появлении deus ex machina, который в одинаковой степени осчастливил бы всех участников, начиная от финансовой отрасли, жаждущей новых кредитов, включая греческий и испанский средний класс, и заканчивая гражданами стран-кредиторов, волнующихся за свой уровень жизни. Впрочем, вполне возможно, что новые программы роста, если они действительно представляют собой нечто большее, чем просто риторику, превратятся в прямые субсидии южным государствам Европы, которым необходимо заплатить за то, чтобы они согласились и дальше оставаться вечными неудачниками, уравновешивая тех, кто выигрывает от расширения рынка. Это была бы своего рода компенсация за проведение в жизнь рыночного режима в духе Хайека – компенсация тем, кто больше ничего от него не получает.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ОТ КЕЙНСА К ХАЙЕКУ
Историческое значение начавшегося в 1970-е годы перехода от кейнсианской к хайекианской политической экономии лучше всего раскрывается, если вспомнить состояние дел в самом начале неолиберальных изменений. Если сегодня – в условиях открытых границ – некогда суверенные государства с независимыми центральными банками должны руководствоваться теоретическими принципами эффективности и проводить соответствующую экономическую политику, то кейнсианская смешанная экономика послевоенных десятилетий имела в своем распоряжении набор инструментов, позволявших государству по своему усмотрению вмешиваться в сферу хозяйствования. Прежде всего это касалось распределения национального продукта и жизненных шансов граждан. В международно «укорененном либерализме» [Ruggie, 1982] 1950–1960-х годов национальные государства капиталистического Запада имели собственные валюты, которые они могли в определенных пределах девальвировать, если требовалось компенсировать потери внешней конкурентоспособности, вызванные уступками сильным профсоюзам и коммунистическим партиям. Таким образом, государства и правительства могли «искривлять» рынки и уступать внутриполитическим требованиям социальной справедливости, не подвергаясь каким-либо внешнеэкономическим санкциям. Бегство капитала могло быть предотвращено или, по крайней мере, придержано при помощи контроля за перемещением капитала; это ослабляло позиции инвесторов в борьбе за минимальный уровень прибыли, который они могли потребовать от общества в качестве вознаграждения за использование своего капитала. Ключевыми институтами политической экономии кейнсианской эпохи были корпоративно институализированные объединения труда и капитала, а также выстроенная между ними система переговоров [Schmitter, Lehmbruch, 1979]. С их помощью государство прибегало к политике трехсторонних договоренностей по вопросам доходов и – там, где это было возможно – ценообразования, пытаясь обеспечить полную занятость и приемлемое распределение доходов и богатства. Сдерживание роста заработной платы достигалось путем «политического обмена», при котором сильное налоговое государство в обмен на макроэкономическое профсоюзное сотрудничество принимало активное участие в социальной политике, защищая наемных – зависящих от зарплаты – работников от рыночной неопределенности (переводя на язык теории кризиса: от изменчивого настроения тех, кто зависит от прибыли) и тем самым стабилизируя эффективный спрос. Для этого кейнсианскому государству были необходимы сильные, хорошо организованные профсоюзы, которым оно обеспечивало различную организационную поддержку. Кроме того, желательны были крепкие ассоциации работодателей и экономические союзы; таким образом, компании и предприниматели ощущали давление со стороны и профсоюзов, и государства, заставлявших создавать свои организации для ведения переговоров и представления своих интересов, чтобы иметь возможность управлять капиталистической экономикой в тех пределах, которые установлены для них демократической политикой[120]. Неолиберальная революция не оставила от этого почти ничего. Ее целью было по максимуму обобрать государства послевоенного капитализма, сведя их роль к обеспечению функционирования и экспансии рынков, институционально лишив их возможности вмешиваться и корректировать рыночную справедливость. Однако одержать полную победу она смогла только в процессе интернационализации европейской политической экономии и трансформации европейской системы государств в многоуровневый режим с национально ограниченными демократиями и мультинационально организованными финансовыми рынками и надзорными ведомствами – конфигурация, которая за долгие годы успела зарекомендовать себя как идеальное средство нейтрализации политического давления снизу и расширения при этом свободы заключения частных договоров по отношению к государственному контролю. Последний этап этого тренда – нынешний переход от национального государства долгов к международному государству консолидации. С его окончанием проект Хайека по созданию либерализованной капиталистической рыночной экономики, привитой против политического давления, будет полностью реализован[121].ГОСУДАРСТВО КОНСОЛИДАЦИИ КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ РЕЖИМ
Политика, связанная с консолидацией государственных финансов, предполагает, что финансовые рынки – вторая ипостась современного государства – в случае задолженности будут иметь приоритет перед требованиями граждан. С точки зрения рынков структурно здоровым государственным бюджетом является тот, который обладает достаточным объемом резервов и институциональной гибкостью. Вопрос о том, в какой именно точке достигается такое его состояние, остается открытым: рынки хотят получить как можно больше ясности от государства, но сами мало готовы ее предоставить. К ритуалам консолидации относится и то, что государства вынуждены ужесточать налоговую дисциплину для себя и своих избирателей исключительно в надежде когда-нибудь быть вознагражденными низкими процентными ставками для рефинансирования оставшейся задолженности или для кредитования новых проектов; у них нет никаких правовых оснований для подобных требований, но в «свободном рынке» они и не могут быть предоставлены[122]. Главными конкурентами рантье, объединившихся на позиции сторонников рынка, являются пенсионеры и служащие госучреждений, представляющие «государственный народ». Чтобы политика консолидации вызывала доверие рынков, она должна ограничивать численность этого «народа» и сдерживать его требования. Прежде всего ей необходимо замаскировать так называемое политическое наследие 1960-х и 1970-х годов, т. е. исторически сложившиеся притязания на социальные права, которые после краха налогового государства превышают объемы возможного финансирования [Rose, 1990; Rose, Davies, 1994]. Сокращение государственного сектора также означает дальнейшую приватизацию сферы государственных услуг, которая сопровождается, как правило, антиэгалитарными последствиями для распределения. Основным результатом уменьшения социальных расходов является снижение размера пенсий и повышение пенсионного возраста; подобные сокращения – настолько, насколько снижение пенсий компенсируется дополнительным частным страхованием – наряду с приватизацией государственных услуг привели к политически желаемому расширению поля деятельности капиталистических корпораций. Реформы такого рода – политически тонкая процедура, в том числе из-за того, что, как было сказано, государственное обеспечение запланированных сокращений отчасти состоит из отложенной зарплаты – с тех времен, когда работники и их профсоюзы по настоянию социал-демократического правительства согласились на сдерживание роста заработной платы во имя макроэкономической стабильности. Нарушение подобных неявных договоров долгое время казалось слишком рискованным для демократически избираемых правительств; даже Рейган и Тэтчер воспринимали доставшиеся им от предшественников государственные социальные программы как «незыблемые» [Pierson, 1994; 1996; 1998]. Среди причин всеобщего восхищения Герхардом Шрёдером как сторонником консолидации – то, что вопреки всем протестам ценой своей должности он твердо стоял на собственной «политике реформ» и даже отчасти сумел реализовать ее. Несмотря на подобные примеры, с точки зрения рынков нельзя полностью полагаться на внутреннюю политику демократических государств в качестве гаранта структурной консолидации. Поскольку в Европе пока еще невозможно во имя экономической целесообразности хладнокровно уничтожить останки национальной демократии, прежде всего подотчетность правительств перед своими избирателями, остается объединить национальные правительства в некий общий недемократический наднациональный режим – своего рода международную супердержаву без демократии – и предоставить ему регулировать их деятельность. Начиная с 1990-х годов Европейский союз постепенно преобразуется именно в такой режим. Сегодня интеграция государств-членов в наднациональную систему институтов, освобожденную от давления электората, вкупе с впечатляющей силой общей валюты ведет к потере национального политического суверенитета – последнего бастиона самостоятельной политики в международно интегрированном рыночном обществе. В частности, отказ от девальвации в рамках Европейского валютного союза адресован инвесторам, особенно финансовым инвесторам, чтобы рассеять их опасения в том, что государства в условиях жесткой международной конкуренции будут использовать резкие колебания валютного курса как средство самозащиты; таким образом, и единая валюта находится на службе у рыночной справедливости[123]. Многоуровневая политика в международном государстве консолидации приводит к опосредованию и нейтрализации внутренней политики участвующих в этом национальных государств, помещая их в прокрустово ложе наднациональных соглашений и режимов регулирования, ограничивающих суверенитет. Проверенным средством для достижения этой цели служат регулярные саммиты глав государств, по итогам которых после продолжительных обсуждений выпускаются соглашения, при этом от руководителей стран ожидается, что они у себя в государстве будут проводить их в жизнь, какое бы сопротивление ни встретилось. Правительства, не способные поступать таким образом, теряют уважение у международного сообщества. Поскольку чиновники могут сослаться на эти же аргументы и у себя дома, упомянув всю бесперспективность повторных переговоров, институт подобных «встреч в верхах», саммитов укрепляет свои позиции по отношению к национальным парламентам и внутристрановым группам интересов – этот эффект Европейский союз ощутил еще на заре своей истории. Он усиливается с помощью антикризисных встреч, организуемых под давлением рынков, поскольку любое сопротивление, потенциально угрожающее скорейшей реализации решений саммитов, может запустить опасные реакции; во всяком случае, правительства и рынки успешно используют этот аргумент. Впрочем, кажется, национальные парламенты и оппозиционные партии не так уж и беззащитны перед достигаемыми на саммитах договоренностями. Недавние усилия по вовлечению в принятие решений национальных парламентов независимо от так называемого Европейского парламента не были совсем уж тщетными, что оставило след как на общеевропейском, так и на национальном уровне. Особенно это стало очевидно с началом кризиса, когда парламенты все чаще были вынуждены в конвейерном режиме за несколько дней согласовывать множество проектов резолюций и законов, спущенных европейскими чиновниками. В ряде стран, включая Германию, подобный подход вызвал сопротивление. Так, Конституционный суд Германии всячески старался оспорить доктрину, выдвинутую брюссельской технократией при поддержке рынков и сторонников федеральной Европы, согласно которой национальным демократическим институтам не остается другого выбора, кроме как безоговорочно следовать предписаниям международной дипломатии высшего уровня. Более того, позицию правительства на международных переговорах можно улучшить, если оно сможет обосновать, что меры, которые оно не одобряет, вряд ли удастся реализовать в его стране[124]. Тот факт, что итальянский премьер-министр Марио Монти напомнил федеральному канцлеру Германии в августе 2012 г. о том, что правительство обязано донести до своего парламента необходимость выполнять международные договоренности[125], свидетельствует: проявления парламентского и правового сопротивления амбициям европейской политики, ее приоритету перед национальной политикой воспринимаются более чем серьезно[126]. В долгосрочной перспективе, конечно, неясно, сможет ли подобное сопротивление надолго замедлить или приостановить формирование международного государства консолидации. Европейское государство консолидации начала XXI в. представляет собой не национальное, а международное образование – это надгосударственный режим, регулирующий национальные государства, без демократически ответственного правительства, но при этом с обязательными правилами: с «управлением» (governance) вместо «правительства» (government), при этом рынки укрощают демократию, вместо того чтобы демократия укрощала рынки. Так возникла эта исторически новая институциональная конструкция, служащая обеспечению рыночного единообразия некогда суверенных государств: смирительная рубашка рынка, предназначенная для политики отдельных государств, с полномочиями, которые формально похожи на различные другие новации в сфере международного права с той лишь разницей, что здесь речь идет не об «обязанности защищать» (duty to protect), а о об «обязанности платить» (duty to pay). Целью этой конструкции, которая, надо сказать, становится все ближе, является деполитизация экономики при одновременной де-демократизации политики.ФИСКАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ КАК СПОСОБ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВА
Ответом на фискальный кризис стала начавшаяся консолидация европейских государственных финансов, которая сводится к переустройству европейской государственной системы, координируемому финансовыми инвесторами и Европейским союзом, к новой редакции капиталистической демократии в Европе в значении законодательного закрепления результатов экономической либерализации последних трех десятилетий. Целью является двойная институциональная привязка государственной политики к рыночным принципам экономической рациональности: привязка внутренняя (Selbstbindung) в виде конституционно закрепленного «долгового тормоза» и привязка внешняя (Fremdbindung) посредством международных договоров или европейско-правовых обязательств. В основе такого подхода лежит представление о государстве, сжавшемся до функции защиты рыночных отношений, и самодостаточном обществе, которое не хочет ничего от государства, кроме гарантий собственности и свободы. Будущее, которое ожидает Европу, – секулярное схлопывание общественного договора капиталистической демократии и переход к международному государству консолидации, превозносящему фискальную дисциплину. В связи с этим необходимо возведение между экономикой и политикой китайской стены – на экономическом жаргоне «шлюза безопасности», – которая позволяет рынкам реализовать свою версию справедливости и не беспокоиться по поводу произвольного политического вмешательства. Это возможно в обществе с высокой степенью толерантности к экономическому неравенству. Его «избыточные» граждане должны усвоить, что политика – развлечение для среднего класса, а им от нее ничего ожидать не стоит. Свои представления о мире и свою идентификацию они черпают не в политике, а на фабрике грез высокорентабельной глобальной культурной индустрии, чьи гигантские прибыли используются в том числе и для того, чтобы легитимировать стремительный рост изъятия прибавочной стоимости «звездами» из других областей, особенно из финансового сектора. Кроме того, надежным основанием для поступательного освобождения капитализма от демократически мотивированных вмешательств выступает массовый неопротестантский средний класс владельцев человеческого капитала, который ориентирован на «справедливость успеха» и конкурентоспособность, с высокой степенью готов частным образом вкладывать деньги в собственный индивидуальный рост и в своих детей; это же относится и к нормам потребления, установленным настолько высоко, что коллективные блага по определению не могут им соответствовать [Streeck, 2012a]. Попытки консолидации государственных финансов богатых демократий, координируемые на международном уровне, предпринимаются, как говорилось, с 1990-х годов, и этот опыт в какой-то мере позволяет нам предсказать, каким путем пойдет дальнейшее развитие политики консолидации, ныне привязанной к национальному и европейскому праву. Важнейшим отличием стало то, что во многих странах первая волна фискальной консолидации сопровождалась либерализацией рынков капитала, это позволило широким слоям населения набрать кредитов, дабы компенсировать стагнацию или падение доходов и сокращение социальных и иных государственных выплат. В условиях финансового кризиса таких возможностей уже нет, и более жесткое регулирование финансового сектора в любом случае ограничит их еще более. Таким образом, предстоящий переход к международному государству консолидации будет происходить не только под еще большим давлением рынков и международных организаций, но и, так сказать, даже без местной анестезии. Можно выделить три пути, по которым пойдут грядущие процессы консолидации, меняя европейскую систему государств и ее отношение к капиталистической экономике. 1. Опыт событий, происходивших до 2008 г., может подсказать лишь одно: только в малой степени (если вообще в какой-то) консолидация государственных бюджетов будет проходить за счет повышения доходов, скорее, она полностью или в значительной мере произойдет за счет сокращения расходов[127]. В любом случае в публичном дискурсе консолидация почти всегда отождествляется с сокращениями, словно это само собой разумеется. Глобальная либерализация, особенно рынков капитала, делает повышение налогов на высокие международно движимые корпоративные доходы настолько нереалистичным, что никто такой вариант даже не обсуждает[128]. Повышение налогов пришлось бы проводить вопреки тренду, наблюдаемому последние полтора десятилетия (рис. 3.1). Если бы это все же произошло, то, скорее всего, они касались бы недвижимых налоговых источников – прежде всего отчислений предприятий на социальное страхование и налогов с продаж. Это означает, что их едва ли хватит для финансирования исторически возросшего уровня расходов современных государств в их нынешнем состоянии. При этом национальные налоговые системы стали бы еще более регрессивными, чем они есть сейчас. 2. Предстоящее сокращение государственных расходов коснется прежде всего тех, кто по причине своих низких доходов зависит от государственных услуг. Занятость в государственном секторе продолжит сокращаться, а уровень зарплат – снижаться, начнутся новые волны приватизации и рост дисперсии оплаты труда. Доступ к прежде одинаково доступным государственным услугам – к образованию и здравоохранению – будет все более различаться в зависимости от финансовых возможностей граждан. В целом сокращение государственных расходов, а с ним и деятельности государства приведет к дальнейшему закреплению за рынком статуса важнейшего механизма распределения жизненных шансов, и тем самым завершится неолиберальная программа перестройки или демонтажа социального государства послевоенного периода. Примечание. В расчеты включены страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.
Рис. 3. 1. Налоговые поступления по некоторым странам ОЭСР, % ВВП, 1970–2008 гг.
Источник: Revenue Statistics: Comparative Tables, OECD Tax Statistics Database.
Примечание. В расчеты включены страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.
Рис. 3. 1. Налоговые поступления по некоторым странам ОЭСР, % ВВП, 1970–2008 гг.
Источник: Revenue Statistics: Comparative Tables, OECD Tax Statistics Database.
3. В результате сокращения государственных бюджетов все большая доля расходов неизбежно будет идти на выполнение существующих обязательств в ущерб незапланированным расходам и новым программам, нацеленным на решение возникающих социальных проблем [Streeck, Mertens, 2010][129]. Такая тенденция сохранится, даже несмотря на то что фискальная экономия обычно сопровождается сокращением социальных пособий: поскольку численность потенциальных получателей их возрастает по мере ухудшения экономической ситуации или старения населения, сокращение размеров пособий не приведет к снижению их совокупного объема, но при этом окажется болезненным для отдельно взятых граждан. Сокращение государственных бюджетов непропорционально затрагивает инвестиционные расходы, направленные на создание физической инфраструктуры; это также отражается на семейной, образовательной, научно-исследовательской политике и активной политике на рынке труда, все из которых являются дискреционными [Streeck, Mertens, 2011]. Как хорошо видно на примере США, Швеции и Германии, в период первой фазы бюджетной консолидации в 1990-е годы их государственные инвестиции сократились не только как доля государственных расходов, но и по отношению к ВВП (рис. 3.2). К странам, в которых государственные инвестиции возросли, относится Великобритания периода нахождения у власти новых лейбористов; однако государственный долг там не только не уменьшился, но, напротив, неуклонно рос год за годом. Взаимосвязь между государственным дефицитом или государственным долгом и государственными инвестициями сохраняется, даже если мы исключим из анализа инфраструктурные расходы и рассмотрим только «социальные» инвестиции, т. е. расходы государства на человеческий, социальный и интеллектуальный капитал страны. Это верно не только для Германии, где начиная с 1981 г. эти расходы упали с почти 8 до 6,5 % (рис. 3.3), но и для Швеции – традиционно одной из ведущих стран по социальным инвестициям: сокращение с 13 до 10 % (рис. 3.4; [Streeck, Mertens, 2011]).
 Рис. 3.2. Государственные инвестиции в трех странах, % ВВП, 1981–2007 гг.
Источник: Comparative tables, OECD Tax Statistics Database.
Рис. 3.2. Государственные инвестиции в трех странах, % ВВП, 1981–2007 гг.
Источник: Comparative tables, OECD Tax Statistics Database.
Если рассуждать логически, то описанная здесь взаимосвязь не является неизбежной: сегодня, на втором этапе бюджетной консолидации, страны могли бы попытаться уйти от неудачного структурного закрепления государственных расходов в консолидированном государстве[130] и защитить или даже увеличить свои социальные инвестиции в будущее, несмотря на дефицит. В то же время опыт событий, происходивших до 2008 г., демонстрирует, сколь высоки требования к подобного рода проектам и сколь сложно их было бы реализовать. Этот опыт подтверждает, что за фискальной консолидацией с большой вероятностью последует дальнейшая приватизация социального обеспечения в русле тренда неолиберального разворота и на фоне возрастающего сокращения государственных расходов на удовлетворение требований стареющих граждан и избирателей, вплоть до того момента, когда государство всеобщего благосостояния в конечном счете окончательно не износится и лишится поддержки своих граждан[131]. Сужение возможностей политического выбора в сочетании с сокращением возможностей государства браться за новые проблемы и обеспечивать будущее развитие своего общества и своих граждан приведет и к снижению политических ожиданий, влияющих на готовность к политическому участию.
 Рис. 3.3. Германия: государственные социальные инвестиции, % ВВП, государственный дефицит, долг и расходы, 1981–2007 гг.
Источники: OECD Education at a Glance; OECD R&D Database; OECD Social Expenditure Database; OECD Database on Labour Market Programmes; OECD Public Educational Expenditure, Costs and Financing: An Analysis of Trends 1970–1988; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 3.3. Германия: государственные социальные инвестиции, % ВВП, государственный дефицит, долг и расходы, 1981–2007 гг.
Источники: OECD Education at a Glance; OECD R&D Database; OECD Social Expenditure Database; OECD Database on Labour Market Programmes; OECD Public Educational Expenditure, Costs and Financing: An Analysis of Trends 1970–1988; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
 Рис. 3.4. Швеция: государственные социальные инвестиции, % ВВП, государственный дефицит, долг и расходы, 1981–2007 гг.
Источники: OECD Education at a Glance; OECD R&D Database; OECD Social Expenditure Database; OECD Database on Labour Market Programmes; OECD Public Educational Expenditure, Costs and Financing: An Analysis of Trends 1970–1988; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 3.4. Швеция: государственные социальные инвестиции, % ВВП, государственный дефицит, долг и расходы, 1981–2007 гг.
Источники: OECD Education at a Glance; OECD R&D Database; OECD Social Expenditure Database; OECD Database on Labour Market Programmes; OECD Public Educational Expenditure, Costs and Financing: An Analysis of Trends 1970–1988; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Консолидация необязательно означает освобождение от давления финансовых рынков. И в консолидированном государстве, даже если его бюджет каждый год закрывается с профицитом, приходится брать кредиты, так как свои долги оно может погашать лишь постепенно, периодически рефинансируя их. В связи с консолидацией в самом деле часто звучат обещания: дескать, таким образом государство восстановит свой суверенитет по отношению к рынкам[132]; однако если это когда-то и произойдет, то лишь в очень далеком будущем. Освобождение от долгов потребует десятилетий бюджетного профицита, что, вероятно, возможно только в условиях высокого роста в сочетании с определенным уровнем инфляции. А до тех пор государственная политика должна непрерывно обеспечивать акции своего «рыночного народа», который за любое отклонение от заданного пути может наказать повышением процентных ставок[133]. Предпосылкой для сохранения государственного бюджета сбалансированным в течение продолжительного времени является удержание достигнутого уровня налогообложения – он не должен снижаться. Но это едва ли возможно даже в консолидированном государстве. Как показывает пример перехода президентской власти от Клинтона к Джорджу Бушу-младшему, профицит бюджета может служить основанием для снижения налогов, это приводит к новому дефициту, с которым борются за счет дальнейшего сокращения расходов, чтобы вновь вернуться к профициту [Pierson, 2001][134]. Согласованность сокращения расходов и снижения налогов свидетельствует о том, что подведение баланса бюджета в консолидированном государстве – не самоцель, но часть программы приватизации и либерализации, дабы вернуть государству прежние позиции и возможность интервенции в дела рынка. Под предлогом режима жесткой экономии профицит бюджета позволяет «вернуть гражданам то, что им принадлежит» (Дж. Буш-младший). В этом смысле политика консолидации начинает воспроизводить сама себя, особенно по мере того, как граждане, которые все меньше и меньше ожидают чего-то от государства, все больше и больше должны создавать себе блага частным образом и потому все менее охотно платят налоги. Таким образом, снижение государственных расходов приводит к снижению государственных доходов, которое, в свою очередь, требует дальнейшего снижения государственных расходов, если государство-должник планирует как-то консолидировать свои финансы. Постоянное сокращение доли участия государства в экономике оказывается выгодным для тех, кто инвестирует в остающийся государственный долг: чем ниже уровень налогообложения в экономике, тем проще должно быть для государства в случае необходимости обеспечить обслуживание требований своих кредиторов путем краткосрочного повышения налогов[135].
ПРОБЛЕМЫ РОСТА: НАЗАД В БУДУЩЕЕ
С начала кризиса в 2008 г. в европейской политике произошло много событий. Среди них замена европейским «сообществом государств» демократически избранных председателей правительств Папандреу и Берлускони представителями финансовой индустрии, чего прежде никто даже вообразить себе не мог. Общественное мнение – в той степени, в какой оно еще живо – все менее последовательно и все более забывчиво. И это только на руку политикам. Это объясняет, почему после греческих и французских выборов 2012 г. опять стало возможным завести речь о европейских «программах роста» и о том, что жесткая экономия, замысленная во имя консолидации, должна быть дополнена так называемым «компонентом роста», финансируемым за счет государственных или частных кредитов. Некоторый рост экономики, пусть и краткосрочный, в европейской антикризисной политике включал не только окончание президентства Саркози, но и временное усиление леворадикальных сил на выборах в Греции, а также сопротивление политике правительства Монти в Италии. Даже в Германии выражения неудовольствия зазвучали все более отчетливо, когда хорошо узнаваемыми контурами стало проступать консолидированное государство. Как и в золотой век послевоенного капитализма, новые обещания роста могли бы ненадолго помочь. Но, вероятно, решающим фактором стало то, что в июне 2012 г. впервые возникла реальная угроза, что в Греции – в стране, которая является одним из крупнейших должников на периферии Европы – к власти может прийти правительство, не ощущающее никаких обязательств перед западноевропейским центром и готовое в одностороннем порядке аннулировать государственные долги своей страны. В этом случае Франции (особенно) и Германии (в меньшей степени) пришлось бы прибегать к дополнительным деньгам налогоплательщиков, чтобы спасти свои частные банковские системы от краха под ударом греческого долга. Так что объявление о запуске «пакета роста» также имело целью заставить греков отказаться от стратегии, которая, с точки зрения Западной Европы, сопоставима с финансовым самоубийством[136]. Левый поворот, случившийся в Греции, впервые предоставил ей возможность выйти из валютного союза и позволил установить очень высокую цену, которую западные европейцы готовы были заплатить за то, чтобы Греция и дальше оставалась в валютном союзе. И все же есть большие сомнения в том, что программа расходов, принятая 28 июня 2012 г., даст какие-либо результаты. В сущности, обещанная новая политика экономического роста кажется такой же нереалистичной, как и ее предыдущая версия, а серьезная дискуссия, которая объяснила бы, почему нынешняя версия вдруг окажется более успешной, никогда не проводилась. За последние десятилетия Европа неоднократно предлагала программы роста не только Греции, но и Испании, и Португалии после того, как в этих странах был сломлен фашистский режим и произошел переход к парламентской демократии западноевропейского вида. Вплоть до середины 1990-х годов ЕС через свои различные структурные и когезионные фонды финансировал львиную долю государственных инфраструктурных инвестиций трех средиземноморских стран, ожидая в ответ, чтобы те отказались от еврокоммунистического пути развития (не такая уж фантастическая перспектива в 1970-е годы), и надеясь на скорую социальную и экономическую конвергенцию с Германией, Францией и северной Италией. Это все еще ждало своего часа, и далеко не во всем были достигнуты намеченные цели, когда в 1990-е годы потоки помощи из Западной Европы стали заметно скудеть (рис. 3.5)[137], и это произошло не только из-за того, что помощью необходимо было поделиться с молодыми демократиями восточноевропейских стран (рис. 3.6) и Германия была полностью поглощена поддержкой своих восточных земель, но и потому, что к этому моменту богатые страны вступили в первую фазу фискальной консолидации. Произошедшее уместно сравнить с внешнеполитическим эквивалентом «приватизированного кейнсианства» [Crouch, 2009], к которому прибегли в своей внутренней миротворческой политике национальные государства в 1990-е годы: замена государственных пособий улучшением возможностей получения кредитов, причем на сей раз не внутри государств, а поверх границ. Еще в 1990 г., когда Германия после французского согласия на объединение ФРГ и ГДР согласилась ввести евро, было уже давно решено, что три экономически слабые средиземноморские страны станут членами Европейского валютного союза; это должно было рассматриваться как своего рода программа роста и конвергенции, ибо обеспеченный тем самым доступ к западноевропейским рынкам и отсутствие валютных рисков для иностранных инвесторов должны были стимулировать быстрый расцвет национальных экономик. Однако сначала были снижены процентные ставки, с помощью которых правительства средиземноморских стран собирались финансировать свои дефицитные бюджеты и рефинансировать растущий государственный долг, вплоть до того, что к официальному введению евро они практически достигли немецкого уровня (рис. 3.7). Это можно объяснить только тем, что рынки имели основание ожидать, что в случае дефолта страны валютного союза дружно вмешаются и оправдают сближение процентных ставок, которые опередили сближение экономических показателей, на которые участники рассчитывали или надеялись[138]. Рис. 3.5. Нетто-платежи Европейского союза, % от национального дохода, 1982–2009 гг.
Источники: Europäische Kommission: EU-Haushalt Finanzbericht; OECD National Accounts Statistics, собственные расчеты автора.
Рис. 3.5. Нетто-платежи Европейского союза, % от национального дохода, 1982–2009 гг.
Источники: Europäische Kommission: EU-Haushalt Finanzbericht; OECD National Accounts Statistics, собственные расчеты автора.
 Рис. 3.6. Брутто-платежи ЕС южноевропейским и восточноевропейским странам, млрд евро, 2000–2010 гг.
Источник: Europäische Kommission: EU-Haushalt Finanzbericht, 2010.
Рис. 3.6. Брутто-платежи ЕС южноевропейским и восточноевропейским странам, млрд евро, 2000–2010 гг.
Источник: Europäische Kommission: EU-Haushalt Finanzbericht, 2010.
Пример Греции можно считать идеальным случаем для описания приватизации европейского межправительственного государства всеобщего благосостояния (рис. 3.8). Греция стала членом Европейского сообщества в 1981 г., а с 2001 г. находится в Европейском валютном союзе. Когда в середине 1990-х стало известно, что западноевропейские страны намерены включить Грецию в валютный союз, налоговая ставка, регулировавшая выплаты страны по ее долгам, за пять лет упала с 17 до неполных 6 %. Одновременно нетто-платежи Евросоюза Греции были уменьшены с 4 до 2 % от греческого ВВП, по-видимому, в ожидании, что теперь, имея доступ к рынку капитала, страна будет в состоянии залатать дыры сама. Перед вступлением в валютный союз за короткое время Греции удалось сократить дефицит бюджета с 9 до 3 % ВВП, что свидетельствует о выполнении ею хотя бы одного из двух необходимых критериев для вступления. После вхождения страны в валютный союз кредитное финансирование ее государственных расходов подешевело, но потом довольно резко дефицит вновь стал расти, и в 2008 г. он был выше, чем в 1995 г. Из-за чрезвычайно низкой процентной ставки доля государственных расходов, направляемая на обслуживание государственного долга, продолжала снижаться, а государственный долг, который при вступлении в валютный союз составлял чуть больше 100 %, увеличивался поначалу весьма постепенно. Но в 2008 г. все изменилось: дефицит и процентная ставка резко поползли вверх, а вместе с ними и квота на обслуживание долга, и сам государственный долг. На сегодняшний день единственное, что Греция, безусловно, приобрела от своего членства в валютном союзе, – это государственный долг, выросший по сравнению с 1995 г. почти на 60 % от годового объема производства страны.
 Рис. 3.7. Процентные ставки по государственным облигациям отдельных европейских стран, 1990–2011 гг.
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 3.7. Процентные ставки по государственным облигациям отдельных европейских стран, 1990–2011 гг.
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
 Рис. 3.8. Греция: валютный союз и государственные финансы
Источники: Europäische Kommission: EU-Haushalt Finanzberichte; OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook Database.
Рис. 3.8. Греция: валютный союз и государственные финансы
Источники: Europäische Kommission: EU-Haushalt Finanzberichte; OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook Database.
В непродолжительный период расцвета евро прежде всего Греция и Португалия имели возможность заменить убывающиеплатежи из Брюсселя на дешевые кредиты[139]. Впрочем, и после 2008 г. это стало чрезвычайно очевидно, аномально огромный приток денежных средств все эти годы способствовал лишь созданию пузырей, которые хотя и выглядели как рост, но ни в коем случае им не были; резкое отрезвление наступило тогда, когда из-за кризиса мировая финансовая система отказалась предоставлять дешевые кредиты, и правительства, как домохозяйства и частные компании, оказались не в состоянии обслуживать свои долги. Удивительно, но в публичной дискуссии о финансовом и фискальном кризисе почему-то не возникает вопроса о том, почему в огромном наблюдательном аппарате крупных национальных государств и ЕС, ЕЦБ, ОЭСР и МВФ никто не замечал, что происходило прямо у них на виду. Когда Греция, чтобы войти в Европейский валютный союз, замаскировала свои долги, а позже занималась тем, что еще больше брала в долг под новые – низкие – проценты, ей помогал небезывестный американский инвестиционный банк Goldman Sachs, получая в обмен, как это у него принято, непомерные сборы, украшающие его счета[140]. Трудно поверить, будто в тесно переплетенной сети международного финансового сообщества ни о чем не догадывались. Президентом Центрального банка Греции тогда был экономист Лукас Пападемос; выполнив свою работу, он перешел на пост вице-президента Европейского центрального банка (а в 2011 г., как известно, стал премьер-министром Греции, пришедшим «со стороны» как далекий от политики «эксперт», основная задача которого – путем «реформ» обеспечить платежеспособность своей страны по отношению к кредиторам). Можно ли поверить в то, что после переезда во Франкфурт[141] он полностью лишился контактов со своей родиной и ничего не знал о действительном состоянии государственного долга Греции? Примерно в то же время, когда Пападемос перебрался в ЕЦБ, Марио Драги, вице-президент Goldman Sachs и глава европейского отдела, был назначен на должность председателя Банка Италии, тем самым он занял место в исполнительном органе ЕЦБ. Эти перемещения наверняка сопровождались приступом амнезии, но важно то, что все действующие лица – и политики, и финансовая верхушка – остались чрезвычайно довольны: благодаря валютному союзу им удалось заменить межгосударственный трансферт кредитом отдельной страны. Политики обрадовались потому, что их фискальное пространство для маневров было почти исчерпано, а финансовая индустрия – потому, что для нее открылись новые рынки и ее подвели к мысли, что если что-то все же пойдет не так, то богатые государства обеспечат долги бедных, а финансовые институты Европы и Америки без потерь продолжат свое существование. В свете опыта докризисного периода можно сказать, что программы роста, оказавшиеся в центре европейской повестки после греческих и французских выборов 2012 г., имеют характер исключительно символической политики[142]. Все, кто имел отношение к принятию решений, знали или могли знать, что сегодня фискальное пространство стран европейского центра для финансирования «импульсов роста» значительно у́же, чем в 1990-е годы, и что кредиты на рынке капитала в тех объемах и на тех условиях, что были распространены в начале столетия, более недоступны. Если уже тогда не хватало средств, чтобы оживить ситуацию в странах европейской периферии кроме как с помощью фиктивного роста, о чем они могут говорить сегодня? Единственное, чему помогли запущенные летом 2012 г. меры, – это сохранить лицо новому президенту Франции, а также пообещать правительствам периферийных стран немного свежих денег, которые могли пойти на содержание государственного аппарата или на какие-либо заказы[143]. Впрочем, в объединенной Европе по-прежнему господствовала доктрина неолиберализма, поэтому единственная «политика роста», которая заслуживает так называться, заключается в уничтожении организаций и институтов любого рода, ограничивающих рынок и конкурентную среду, будь то картели, палаты, профсоюзы и гильдии такси[144] или минимальная заработная плата и защита в области занятости. Ничего другого не имеется в виду, когда нынешние кредиторы требуют от стран-должников «структурных реформ», и это лишь подтверждает гипотезу о том, что с самого начала меры, стимулирующие рост, были частью европейской политики модернизации. Дерегулирование как программа роста обладает значительным политическим преимуществом: никто всерьез не ожидает, что за короткий срок она сотворит чудо, и даже если чудо не наступит и за более длительный период, в этом несовершенном мире это всегда можно объяснить тем, что доза была недостаточна. Между тем, чтобы пациент соблюдал спокойствие при приеме горьких пилюль, необходимо, насколько это возможно, временно избавиться от демократии, например, путем создания «правительства экспертов». Если потребуется, личину дерегулирования можно прикрыть и гуманистической маской – в форме символических денежных подарков. Благодаря тому что дерегулирование само по себе ничего на стоит, если, конечно, не принимать во внимание проведение полицейских спецопераций в случае необходимости, оно очень складно вписывается в нынешние финансовый и фискальный кризисы. Не в последнюю очередь его демонстративное насаждение в нынешних обстоятельствах в государствах долгов уже само по себе, даже без эффекта роста, ценно тем, что способствует доверию рынков, показывая, что правительство достаточно сильно, чтобы контролировать свой народ.
ЭКСКУРС: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РОСТА
Почему же в таком случае ощутимая финансовая помощь, которую Евросоюз оказывал средиземноморским странам вплоть до конца 1990-х годов, не привела к устойчивому экономическому росту? Технократические разговоры о том, чтобы как-то «завести» находящуюся в упадке экономику, оставляют без внимания тот факт, что экономический рост требует не только институциональных, но также социо-структурных и культурных условий, которые ни в коем случае не универсальны и уж тем более не могут быть тотчас же созданы министерскими решениями. Государства и правительства, жаждущие стимулировать экономический рост в малоразвитых регионах, с завидным постоянством прибегали к таким методам, как субсидирование заработной платы, стартовые гранты для начинающих свое дело, инвестиционные гранты, налоговые скидки в связи с износом оборудования, налоговые льготы и государственные инвестиции в местную инфраструктуру. В каждом случае подобные меры вмешательства оказывались чрезвычайно дорогими, а эффект от них можно было ощутить лишь в долгосрочной перспективе, и то не всегда. Наглядные примеры – Меццоджорно в Италии и «новые» федеральные земли в бывшей ГДР, присоединенные к Западной Германии после 1990 г. Что касается Италии, то в послевоенные годы правительство и европейское сообщество направляли значительные суммы в развитие экономики южной части страны для того, чтобы постепенно нивелировать разницу между севером и югом. Если в начале 1950-х годов доход на душу населения в Меццоджорно[145] составлял менее половины от среднего дохода по Италии, то к концу периода послевоенного роста в 1970-х годах разница сократилась до 33 % (рис. 3.9). После этого в середине 1990-х годов она опять достигла 45 % и к 2010 г. чуть снизилась – до 41 %[146]. В социологической литературе экономическая отсталость итальянского юга, кажущаяся поистине неискоренимой, обычно объясняется его традиционной социальной структурой, в том числе господством местных властных элит, боящихся потерять свои позиции в процессе капиталистической модернизации. Как пишет Йенс Беккерт, капиталистическая экономика предполагает такое социальное устройство, которое допускает и поощряет ориентацию повседневного поведения на базовые принципы конкуренции, креативности, коммодификации и кредитования («4 К») [Beckert, 2012]. Стандартная экономическая теория отличается от социологической своего рода антропологической верой в то, что подобные поведенческие ориентиры универсальны для всех людей[147]. И потому экономистам трудно понять, почему регионы вроде Меццоджорно отказываются реагировать на многочисленные «стимулы», предъявленные капиталистической рационализацией, и почему лишь внедрения современных институтов вроде капиталистической частной собственности недостаточно для того, чтобы запустить капиталистическую модернизацию. Рис. 3.9. Италия: чистые трансферты в Меццоджорно и разрыв в доходах, % ВВП, 1951–2008 гг.
Источник: Daniele V., Malanima P. Il prodotto delle regioni e il divario Nord-Sud in Italia (1861–2004), Italia (1861–2004) // Rivista di Politica Economica. 2007. P. 267–316.
Рис. 3.9. Италия: чистые трансферты в Меццоджорно и разрыв в доходах, % ВВП, 1951–2008 гг.
Источник: Daniele V., Malanima P. Il prodotto delle regioni e il divario Nord-Sud in Italia (1861–2004), Italia (1861–2004) // Rivista di Politica Economica. 2007. P. 267–316.
Даже специалисты затрудняются сказать, сколько именно средств Италия и Европейское сообщество затратили на содействие региональному развитию в Меццоджорно и экономическое выравнивание Италии, в том числе и потому, что методы расчета неоднократно менялись, а соответствующие институты все время реформировались[148]. Согласно наиболее достоверным оценкам, объем чистых трансфертов в Меццоджорно сегодня составляет 4 % от итальянского ВВП, пик этих выплат пришелся на 1980-е годы и достиг 5 %, затем – на первом этапе консолидации государственных бюджетов – он снизился в конце столетия до 3,4 % (рис. 3.9)[149]. Несмотря на столь серьезные вливания, южная Италия остается наглядным примером того, как региональные программы развития могут не привести к желаемому результату в силу своих уникальных политических и социальных обстоятельств. Сегодня почти все признали, что помощь итальянского правительства осела в местных властных структурах и была использована для укрепления традиционного кланового господства. Между тем партии Италии, прежде всего Democrazia Cristiana (Христи анско-демократическая партия), научились использовать средства, отпущенные на региональное экономическое развитие, для приобретения политической поддержки, в том числе в виде гарантированных голосов избирателей. Снисходительность итальянцев-северян к столь внушительным трансфертам югу была возможна лишь потому, что левые силы преподносили выравнивание качества жизни на юге как национальную идею и проявление национальной солидарности, а также потому, что Евросоюз с самого начала решительно поддерживал итальянскую региональную политику[150]. Когда в 1980-х годах поддержка закончилась, общественность обратила внимание на тот факт, что внушительные ресурсы, потраченные на региональное развитие юга, не только не помогли сблизить две части страны, но даже на протяжении десятилетия лишь увеличивали разрыв между ними. С этого момента можно констатировать рост протестных настроений против дальнейших программ помощи; наиболее активно эти настроения выражает сепаратистская североитальянская региональная партия «Лига Севера». На примере Италии можно увидеть, что региональная политика роста и развития, постольку поскольку риторически она предусмотрена в том числе и для валютного союза, должна решить две тесно связанные между собой проблемы. Во-первых, каким образом в рамках традиционной социальной структуры использовать средства, направленные для стимулирования экономического развития, так, чтобы запустить самостоятельный рост и со временем сделать свое участие в нем ненужным. Иными словами, речь идет о том, чтобы средства помощи использовать инвестиционно, а не потребительски, каким бы сложным ни было это различие в отдельных случаях. От того, удастся ли когда-нибудь решить проблему эффективности региональной политики, зависит, будут ли готовы регионы-доноры оказывать помощь. Во-вторых, необходимо прояснить, кто осуществляет контроль за использованием средств, выделяемых для стимулирования роста, или, говоря иначе, каким образом должен распределяться контроль между центральным донором и локальным реципиентом, между центром и периферией. Слишком высокая концентрация локального контроля может привести к тому, что средства будут использоваться потребительски, а не инвестиционно; в условиях же слишком высокой концентрации центрального контроля возникает опасность игнорировать местные условия при осуществлении властных полномочий. Имеющаяся здесь проблема, которую необходимо разрешить, является проблемой управления. К значимым факторам относятся политическая и правовая структурная организация региональных органов государственной власти, которые образуют институциональную связь с центром, региональные социальные структуры и политическая зависимость центра от поддержки периферии. Что касается Германии, то после ее воссоединения более всего опасались того, что получившиеся из бывшей ГДР «новые федеральные земли» станут «немецким Меццоджорно». За два последовавших десятилетия федеральное правительство затратило значительные средства на выравнивание уровня жизни и экономической конкурентоспособности восточных земель с западными. Но и здесь сохранялись опасения, что помощь пойдет, скорее, на потребление, а не на инвестиции. К 1994 г. разрыв в доходах между двумя частями страны снизился с 60 до 33 % от среднего дохода по стране (рис. 3.10). После этого потребовалось вновь полтора десятилетия для того, чтобы сократить этот разрыв еще на 6 %. Этот процесс сопровождался ежегодными нетто-трансфертами, составлявшими в период с 1995 по 2003 г. от 2,8 до 4 % ВВП, впоследствии они упали до 3 %; в 2012 г. они уже составляли около 3,3 %, т. е. на 0,5 % ниже уровня Италии. Так как население «новых федеральных земель» составляет чуть более 20 % от общего населения Федеративной Республики, в то время как население Меццоджорно в Италии уже на протяжении десятилетий равно 35 %, то в Германии легче было не только найти средства, но и передать их относительно небольшому числу бенефициаров. Навскидку Италии необходимо тратить 6–7 % ВПП для того, чтобы соответствовать эффективному уровню трансфертов Германии.
 Рис. 3. 10. Германия: чистые трансферты в «новые федеральные земли» и разрыв в доходах, % ВВП, 1991–2010 гг.
Источники: Arbeitskreis VGR der Länder: Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands Deutschlands 1991 bis 2010; ifo Dresden Institut (2012), Mitteilung an den Verfasser, Studie 63.
Рис. 3. 10. Германия: чистые трансферты в «новые федеральные земли» и разрыв в доходах, % ВВП, 1991–2010 гг.
Источники: Arbeitskreis VGR der Länder: Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands Deutschlands 1991 bis 2010; ifo Dresden Institut (2012), Mitteilung an den Verfasser, Studie 63.
Несмотря на то что, в отличие от Италии, в Германии разница между богатыми и бедными областями страны действительно уменьшилась (на момент начала кризиса в Италии она составила 41 %, т. е. примерно столько же, как и в 1990 г., и в 1,5 раза больше, чем в Германии), говорить о полном преодолении разрыва до сих пор не приходится. Поэтому, несмотря на более благоприятное распределение населения по территории, чем в Италии, федеральное правительство в обозримом будущем вынуждено сохранять введенную после воссоединения «надбавку солидарности» к подоходному налогу[151]. Упорное экономическое отставание бывшей ГДР[152] особенно удивительно на фоне того, что на момент воссоединения в стране не было сложившейся властной структуры, которая бы воспрепятствовала капиталистической модернизации или потребовала взятки от центрального правительства. Полностью дискредитированы были не только коммунистические власти; большая часть бывших поместий на востоке Германии – в структурном отношении очень близких Сицилии и Калабрии – была уничтожена сначала нацистами (после попытки переворота в вермахте 20 июля 1944 г.), а потом в период советской оккупации и правления Социалистической единой партии Германии, отчего говорить о феодальном наследии, вставшем на пути экономического прогресса, не представляется возможным ни при каких обстоятельствах [Hirschman, 1982]. До сих пор продолжаются споры о том, в какой степени столь медленное сближение восточных и западных земель после 1995 г. объясняется валютным союзом, обменом восточногерманских марок в соотношении 1:1 и расширением западногерманского социального государства на восток. Многие рассматривали и продолжают рассматривать все эти меры как покупку голосов на востоке страны со стороны правительства Коля, что позволяло сравнивать эти действия с итальянской практикой в Меццоджорно. Многое свидетельствует о том, что значительные объемы трансфертных платежей, ставшие необходимыми в последующие годы, во многом объясняются состоянием шока, последовавшим за денежным и социальным объединением. Можно быть уверенным в том, что сверхдорогостоящая финансовая поддержка «новых федеральных земель», величина которой стала неожиданностью для избирателей[153], несмотря на гарантированное Конституцией создание «равных условий жизни» во всех частях страны, могла политически выстоять только на фоне неожиданно сильного чувства национальной общности и чувства долга. Уроки, которые можно вынести из этих двух случаев, неутешительны в отношении принятой летом 2012 г. «Программы роста» Европейского союза для южных сран-должников. Греция, Португалия, Испания и другие страны, потенциально нуждающиеся в помощи, – это национальные государства, а не субъекты федерации или провинции централизованного государства. Их правительствам и партиям гораздо сложнее обходить Европейскую комиссию или Европейский совет, чем региональным силам обходить правительства национальных государств[154]. Европейская комиссия все еще продолжает предпринимать попытки управлять региональной политикой, игнорируя национальные государства; впрочем, ей это так и не удалось. Все, что мы видим в Италии, есть также и в ЕС, только на более высоком уровне и в больших масштабах. Более того, в отличие от Италии и Германии, в Европейском союзе отсутствует исторически сложившееся чувство общности между плательщиками и получателями. Напротив, в любой момент может быть мобилизована национальная идентичность для того, чтобы разоблачить требования солидарности и признать их незаслуженными, а короткий поводок, навязываемый программами помощи регионам, – империалистической интервенцией. Чтобы определить, сколь сложной является поистине гераклова задача помощи кризисным средиземноморским странам – не дать им в валютном союзе еще более отстать от Германии, полезно сравнить относительные величины и степень экономических различий в пределах еврозоны (табл. 3.1). В Испании, Греции и Португалии – трех беднейших странах кризисной зоны Средиземноморского региона – проживает 68,1 млн человек. Три крупнейшие и относительно наиболее платежеспособные страны – члены Европейского валютного союза – Германия, Франция и Нидерланды – суммарно насчитывают 163,5 млн жителей. Таким образом, соотношение составляет 41 к 100. Аналогичное соотношение Восточной Германии к Западной равно 27 к 100. Взвешенный доход на душу населения трех средиземноморских стран в 2011 г. составлял около 21 тыс. евро, а в трех потенциальных странах-донорах – 31,7 тыс. евро, т. е. разрыв в доходах не менее 34 %. Это на 7 процентных пунктов больше, чем внутри Германии, где около 4 % ВВП еще какое-то – пока неопределенное – время по-прежнему будет идти на то, чтобы Восточная Германия не утратила достигнутый уровень. Если же добавим к списку средиземноморских стран Италию, то разрыв в доходах по сравнению с севером уменьшится, а вот соотношение населения ухудшится и составит 80 к 100. Даже если Германия объединит усилия с Францией и даже если экономическая ситуация в Германии останется такой же благоприятной, как в 2011 и 2012 гг., совершенно очевидно, что она чрезмерно отягощена для финансирования региональной политики средиземноморских стран, чтобы та принесла какую-то реальную отдачу[155]. Интервенции в региональную политику извне или сверху не только дорого обходятся в финансовом отношении, но и с трудом поддаются управлению. Если итальянское центральное правительство не в состоянии контролировать использование своих средств на Сицилии и в целом фискальные действия своей региональной администрации, возникает вопрос: каким же образом комиссия из Брюсселя или же федеральное правительство Германии сможет обеспечивать контроль за греческим, испанским, португальским или итальянским правительством? И если даже в Германии, несмотря на ее федеративное устройство и значительные объемы затрачиваемых средств, спустя 20 лет после воссоединения все еще конца не видно поддержке «новых федеральных земель», сколько же времени потребуется на то, чтобы входящие в валютный союз суверенные государства решили, что региональные субсидии им уже не требуются, особенно если добавить в уравнение и кумулятивный эффект от предоставления преимущества в условиях капиталистической конкуренции? В период сокращения государственных бюджетов и социального обеспечения от избирателей в странах-донорах потребуется максимум терпения. Но почему финны и голландцы должны иметь больше терпения по отношению к грекам и испанцам, чем граждане Пьемонта, Ломбардии и Венето по отношению к гражданам Палермо и Неаполя?
Таблица 3.1 Численность и доходы населения в некоторых странах Европейского валютного союза, 2011 г.
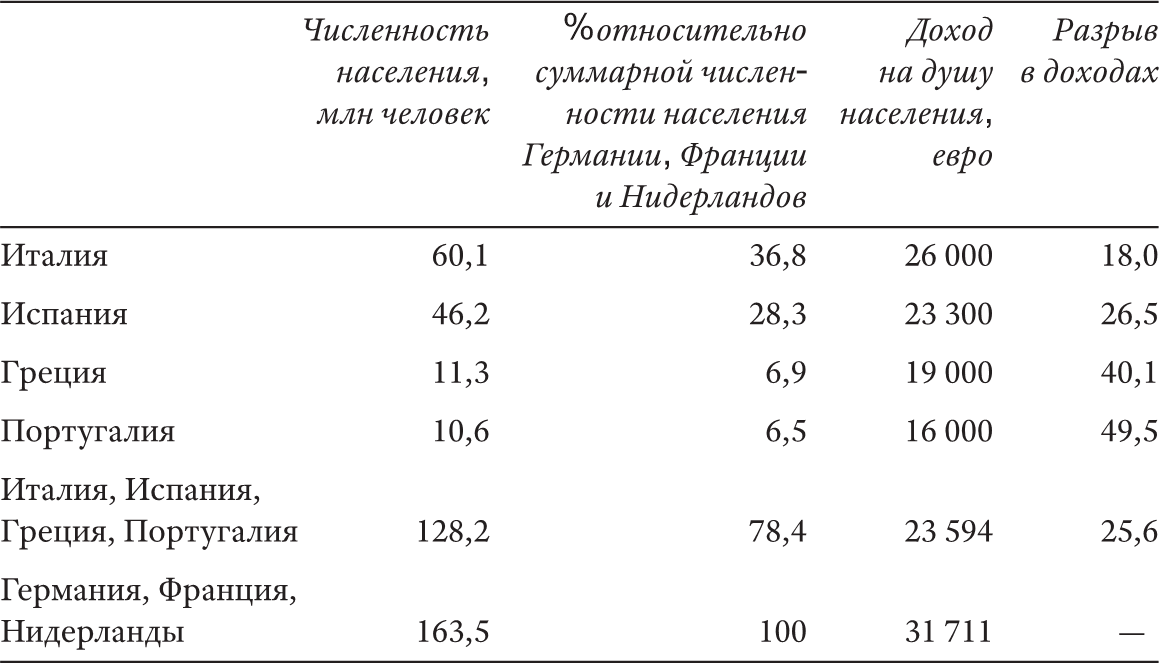
Все свидетельствует о том, что те ограниченные ресурсы, которые в условиях фискального кризиса Западная Европа может направить странам южной Европы, в лучшем случае помогут купить лояльность государственного аппарата и центристских партий – эта конструкция удивительно напоминает многоуровневый клиентелизм итальянской послевоенной демократии и совсем не нова для Евросоюза. После того как в 1970-е годы Португалия, Испания и Греция избавились от фашизма и военной диктатуры, эти три страны могли пойти по пути еврокоммунизма, особенно на фоне итальянского «Исторического компромисса» (Compromesso storico)[156]. Это подразумевало бы сведение счетов с традиционными высшими классами, дискредитировавшими себя сотрудничеством с диктатурой, и способствовало бы, как минимум, возникновению вероятности революционной модернизации социальной структуры. Но подобное разворачивание событий противоречило интересам Западной Европы и США, которым по причинам геополитического характера были необходимы надежные союзники и сохранение спокойствия на Средиземноморье. Принятие этих трех стран в ЕС – и почти одновременное их вступление в НАТО – имело не экономические, а политические причины: это было поощрение за то, что они выбрали прозападный, европейский курс и готовы вкладываться в процветание западноевропейского ядра. Предполагалось, что рост и благосостояние возникнут не вследствие социальной революции, а благодаря дотациям из структурных фондов ЕС и модернизации государственного аппарата по западноевропейским лекалам при финансовой поддержке Брюсселя. Целью была смягченная версия еврокапитализма с социал-демократической амортизирующей прослойкой: за счет растущего благосостояния он приведет к национальному примирению в новых демократических странах – к модернизации без кровопролития. Новые средние классы, ориентированные на Западную Европу, надеялись благодаря постепенным структурно-экономическим изменениям мирно и надолго утвердиться в качестве ведущей внутриполитической силы в своих странах, даже несмотря на компромиссы со старой олигархией, которые поначалу казались неизбежными (в Испании это было связано с монархией, а в Греции – с сохранением и закреплением в Конституции привилегированного положения православной церкви, включая значительные налоговые льготы на ее обширный земельный фонд и коммерческую деятельность)[157]. Финансовый и фискальный кризис, а возможно, и случившийся ранее распад Восточного блока в 1989 г. и возникшая необходимость дальнейшего – теперь уже за счет восточноевропейской периферии – расширения ЕС положили конец проекту дотационной экономической и социальной конвергенции. К 2008 г. ни одна из трех новых средиземноморских стран – и, как выяснилось, даже Италия – не достигла такого уровня развития, чтобы быть в состоянии устоять в кризис. Сегодня очевидно, что уже в 1980-е годы план ЕС по умиротворению Средиземноморского региона с помощью еврокапиталистической модернизации оказался слишком затратным и обещания социальной и политической конвергенции посредством экономического роста, содержащиеся в программе одновременного расширения и углубления интеграции Европейского союза, были невыполнимы. После приема новых стран необходимость введения мер жесткой экономии возникла и в западноевропейском ядре, а рост осведомленности о рисках на рынках капитала способствовал окончательному крушению надежд на получение значительных внешних дотаций, даже на уровне структурных фондов 1980-х и 1990-х годов. Немецкий План Маршалла для Европы[158] несимволического масштаба был бы немыслим уже в силу относительного размера вовлеченных стран, не говоря о том, насколько действенным он вообще мог бы быть. Кроме того, послабления, сделанные для Греции, тут же потребовалось бы распространить на Португалию, Испанию и, возможно, Италию, не говоря уже о Венгрии (хотя она еще не стала членом валютного союза), а также на Сербию, Косово, Боснию, Албанию – в сущности, в целом на Балканы, которые начиная с 1989 г. находятся в состоянии нестабильности, угрожающей зоне западноевропейского благосостояния. На языке международных отношений фискальный кризис европейской системы государств может быть представлен как следствие чрезмерной экспансии бывшей «мирной силы» Европейского союза и превращения его в расширяющуюся рыночную империю. В условиях ограниченных финансовых ресурсов для сохранения единства государствам брюссельского блока остается возлагать надежды лишь на неолиберальные «структурные реформы» при одновременной нейтрализации национальных демократий – силами наднациональных институтов и путем целенаправленной региональной поддержки со стороны «современного» среднего класса и государственного аппарата, которые связывают свое будущее с западноевропейскими экономической системой и образом жизни. Так что структурные программы, программы повышения экономической активности и программы роста, разработанные центром, скорее, имеют символическое значение – как тема для публичных обсуждений и тщательно отрепетированных решений саммитов в верхах, а также для абсорбции социал-демократических остаточных воспоминаний в политическую риторику[159]. Кроме того, эти программы, сколь бы ничтожное финансирование они ни предлагали, можно использовать для распределения «премий» местным сторонникам в качестве инструмента кооптации элит в процессе «хайекизации» европейского капитализма и его государственной системы.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА КОНСОЛИДАЦИИ
Только самые узкие круги консолидированного государства имеют представление о том, действительно ли за непрерывно разыгрываемыми спектаклями саммитов и правительственных консультаций сокрыт стратегический центр, который задает общие долговременные цели и затем контролирует их достижение с необходимой в подобных вопросах осмотрительностью и компетентностью. Все, кто на протяжении многих лет наблюдал и пытался понять закулисные игры, сильно сомневаются в том, что это так. Из телевизионных новостей рядовой наблюдатель может почерпнуть лишь вновь и вновь разыгрываемые постановочные сцены о принятии решений и стратегическом видении, в спектакле участвуют виртуозы в области мер по укреплению доверия, аккомпанирует им исступленная какофония «экспертов» самого разного толка, чьи суждения имеют все более короткий срок годности. И это всё? Или все же за хаосом и неразберихой можно проследить некую последовательность, а возможно, даже стратегический потенциал ЕЦБ, Еврокомиссии, МВФ, национальных правительств или рынков с их подковерными играми в Нью-Йорке или во Франкфурте? Если попытаться найти константы в этой неразберихе кризиса и антикризисной политики, то выясняется, что все, кто занимает ответственные посты, с самого начала приняли как должное тот факт, что, единожды введя евро, они должны защищать его всеми возможными средствами независимо от того, способствовал он чему-либо или нет. Разумеется, к коалиции, заинтересованной в сохранении евро, относятся рынки, поскольку они инвестировали в него и хотели бы быть уверенными, что розданные ими кредиты в евро будут полностью выплачены. В то же время они могли бы хорошо заработать и на крахе единой валюты в случае, если они своевременно к этому подготовятся и тем самым ускорят процесс. Правительства всех стран, относящихся к Европейскому валютному союзу, в том числе стран с пассивным платежным балансом, стараются отговорить их от этого. На их стороне выступает и ЕС, для которого валютный союз есть финальная фаза строительства единого рынка, «завершенного» предположительно в 1992 г. и задуманного как механизм обеспечения свободной игры рыночных сил внутри Европы, более не сдерживаемой государственными границами, протекционистскими тарифами или вмешательством отдельных государств. Возможность девальвации национальной валюты для защиты конкурентоспособности отдельно взятого европейского государства не отвечала духу и намерениям неолиберальной программы создания внутреннего единого рынка. Чтобы рынок мог полностью вступить в свои права, нельзя допускать спорных политических интервенций, которые будут корректировать результаты выполненного им распределения. Замена национальной валюты на единую валюту, действующую в рамках общего внутреннего рынка, проходила по логике неолиберального поворота как освобождение экономики и рынка от политических вмешательств; единая валюта стала венцом программы создания единого внутреннего рынка[160]. Стилизованная политэкономия коалиции сторонников евро, пишущих сценарий антикризисной политики вплоть до сегодняшнего дня, берет свое начало в ориентированных на экспорт отраслях в странах с положительным торговым балансом (прежде всего это относится к Германии), позиция которых в этом вопросе полностью согласуется с профсоюзами. Для них евро выступает гарантией того, что протекционистские тарифы не смогут поднять цену на их продукцию в других европейских странах. В условиях нынешнего кризиса появилась еще одна причина для защиты евро: экономические проблемы стран с пассивным платежным балансом давят на обменный курс евро по отношению к другим валютам, что, в свою очередь, положительно отзывается на возможностях конкурентоспособной части европейской промышленности за пределами Европы. Все это способствует тому, что в Германии евро поддерживают сторонники как ХДС, близкие к промышленным кругам, так и СДПГ, представляющие профсоюзы: и те и другие считают этот вопрос краеугольным камнем национальных интересов и важнейшим общим основанием для немецкой политики. Примечательно, насколько ловко у коалиции сторонников евро, особенно в Германии, получилось перенести эту тему на уровень политического дискурса, приравняв валютный союз к «европейской идее» и в целом к «Европе»; при этом игнорируется тот факт, что этот союз имеет характер рыночно-экспансионистского проекта рационализации, а десять из 27 стран ЕС, образующих единый внутренний рынок, не вступили в зону евро. В частности, к таким, несомненно, «европейским» странам – членам ЕС относятся Великобритания, Дания и Швеция, которые оговорили для себя особые правила, позволяющие им не вступать в Европейский валютный союз даже тогда, когда для этого имеются все необходимые условия, закрепленные в соответствующих соглашениях. До кризиса это рассматривалось, по крайней мере в Германии, как недостаток, который будет исправлен в самое ближайшее время. Однако сегодня ясно, что расширение Европейского валютного союза, что бы там ни было предписано в соглашениях, – дело в лучшем случае далекого будущего при условии, что текущий кризис когда-нибудь закончится, а проект Европейского валютного союза или даже Евросоюза к тому времени не накренится окончательно. Между тем этот факт предпочитают не замечать, в то время как загадочное заявление Меркель «если потерпит поражение евро, то потерпит поражение и Европа» разделяется всеми партиями, представленными в бундестаге, за исключением левых, и служит формулой национального консенсуса. Поскольку в Германии не может быть никаких дебатов о том, что немецкая политика должна быть «европейской», защита евро любой ценой становится не только требованием экономической целесообразности, но и морально-политического raison d’état. Тем, кто считает иначе или полагает, будто без евро «Европа» все-таки сохранится, ответственные лица дают понять, что подобная позиция ставит их вне «конституционной арки» (arco costituzionale), как ее долгое время называли итальянцы[161]. На первый взгляд довольно сложно объяснить, почему правительства тех стран, которые от евро не получили ничего кроме долгов, так сильно к нему привязаны[162]. Дело в том, что политика этих стран определяется союзом между собственным государственным аппаратом и городским средним классом, ориентированным на Западную Европу. Последний высоко ценит возможности мобильности, предоставленные Европейским союзом гражданам и их сбережениям, связывает с этими возможностями процветание в будущем и постоянный доступ к импортным товарам, которые девальвация национальной валюты сделала бы запретительно дорогими. На этой стороне и все те, кто стремится – нередко под влиянием националистических мотивов – модернизировать государство и экономику, преодолеть «отсталость» своей страны и под давлением валютного союза провести внутреннее обесценивание, т. е. осуществить неолиберальные реформы, направленные против инерционных сил профсоюзов и традиционного образа жизни. Только так, считают они, можно избежать национального обнищания. В четырех средиземноморских странах, испытывающих сегодня трудности, союз между элитами, ориентированными на модернизацию, и городским средним классом недостаточно силен, чтобы преодолеть наследие традиционного общества, которое по-прежнему препятствует движению этих стран в сторону еврокапитализма. Они надеялись и все еще надеются найти в Брюсселе союзников и сторонников, чтобы те помогли им провести «структурные реформы», которые они не в силах провести самостоятельно. Причем навязанные извне политические обязательства могут быть им не менее полезны, чем финансовые субсидии. Надежды на перераспределение внутри валютного союза, подкрепленные межгосударственными переговорами, отвечают интересам стран центра в вопросах обеспечения стабильного спроса на периферии и с этой точки зрения выглядят вполне реалистичными. Трансферты с севера на юг могут быть использованы странами-бенефициарами либо для оздоровления собственной экономики (в рамках программ по рационализации и модернизации для повышения национальной конкурентоспособности), либо для поддержки национального политического класса по аналогии с моделью южной Италии[163]. При этом адресата вполне устраивает, что на практике из-за широких временныбх горизонтов догоняющего капиталистического развития оба этих сценария трудно различимы. И все же коалиция между севером и югом, целью которой является сохранение валютного союза, становится источником серьезных конфликтов как на межгосударственном, так и на национальном уровне. Для северных стран принципиальным остается вопрос, сколько они должны и хотят выплачивать странам юга в виде компенсации или помощи для развития, чтобы те были мотивированы оставаться в валютном союзе. При этом на внутренней политической арене они должны договориться, кто будет нести расходы валютного союза. Особенность экспортных отраслей в Германии такова, что они склонны распределить эти расходы по максимальному числу участников, включая тех, кто мало или ничего не получает от экспортной прибыли страны. Это ставит перед правительством трудную задачу: незаметно переложить на плечи рядовых налогоплательщиков, потребителей и получателей социальных пособий то, что, в сущности, является своего рода налогом на конкурентоспособность отечественной экспортной индустрии; возможностей для этого у правительства, конечно, немало, в том числе обращение к Европейскому центральному банку. Что же касается южан, то они, в свою очередь, заняты не только тем, что стараются как можно выгоднее продать свое дальнейшее пребывание в валютном союзе, но и тем, что пытаются минимизировать ущерб для своего суверенитета, на который посягают (в форме институционализированных инструментов контроля и вмешательства) северяне в качестве платы за предоставляемую финансовую помощь. Во внутренней политике этих стран линия фронта проходит между сопротивлением надвигающемуся «евро-империализму», с одной стороны, и готовностью к сотрудничеству с богатыми странами – с другой, в надежде на высокие компенсации или на постепенную конвергенцию с благополучным западноевропейским ядром (европеизация). Межгосударственные конфликты легко запускают националистические всплески с обеих сторон, в то время как сопротивление внутри страны необходимо сдерживать путем нейтрализации демократических институтов: на севере истинные объемы трансфертов камуфлируются техническими уловками или сознательным замалчиванием, на юге – отсылками к международным обязательствам или же клиентелистской покупкой голосов. Вокруг представленной здесь упрощенной картины базовой структуры интересов в политэкономии объединенной Европы множество векторов турбулентности создают климат многомерной неопределенности. Что будет, если к Европейскому валютному союзу присоединятся (как это предусмотрено соответствующими соглашениями) Болгария, Польша, Румыния, Чехия, Венгрия и другие члены ЕС? Как должны в будущем строиться отношения между ЕС и ЕВС? Насколько Фискальный пакт, заключенный в рамках международного права, соответствует европейскому праву? Как относиться к идее присоединения балканских государств к ЕС?[164] Должны ли они тоже получать «субсидии для развития роста» и кто будет за это платить? Все догадываются, что через несколько лет ЕС (если он, конечно, к тому времени сохранится), а вместе с ним и европейская система государств в целом будут выглядеть совершенно иначе, чем это можно было себе представить совсем недавно, но никто из «ответственных лиц» не высказывается на эту тему. Все только и говорят о длительных сроках, когда речь заходит о возвращении к росту, который, как все надеются, поможет вернуть ситуацию под контроль. Тем не менее – вопреки всей неразберихе – на тактическом уровне в действиях Европейского союза и его ведущих государств с начала кризиса можно проследить четыре относительно последовательные линии. 1. Рынки, какими бы они ни были, стремятся по возможности устраниться от участия в расходах по спасению неплатежеспособных стран. Получается, что единственные, кто должен все оплачивать, – это другие страны, точнее, их граждане. Сегодня все согласны с тем, что настойчивое предложение канцлера Германии на старте операции по облегчению долгового бремени Греции, сводившееся к умеренной «стрижке» частных кредиторов, было ошибкой, которую нельзя повторять; решения Меркель, которые поддержал «простой народ», не смогли даже ориентировочно компенсировать потерю доверия среди народа к финансовым рынкам. Тем не менее центральным банкам и некоторым государственным банкам, похоже, хватило времени, чтобы выкупить у частных банков и других кредиторов большую часть имеющихся у них в наличии греческих облигаций на приемлемых для их владельцев условиях, прежде чем стало известно, что большая часть убытков все равно досталась государству и, скорее всего, достанется вновь в ближайшее время в связи с необходимостью новой долговой «стрижки». 2. Проблемные банки не национализируют, а спасают при помощи государственных средств, делая это как можно незаметнее, чтобы не вызывать раздражение у населения. Задачей финансовых «инженеров», заправляющих в «машинном отделении» государства консолидации, является организация и осуществление необходимых трансакций таким образом, чтобы они не всплыли в государственных долговых книгах. К числу наиболее очевидных примеров подобного рода относится одно из первых решений Марио Драги на посту главы ЕЦБ, когда он раздал банкам в общей сложности 1000 млрд евро по ставке 1 % (а позднее – 0,75 %) сроком на три года. В свою очередь, банки в ответ на это без каких-либо договоренностей заявили о готовности купить долговые обязательства проблемных стран в том объеме, который они сами сочтут необходимым для того, чтобы помочь снизить надбавки за риски. Легко предположить, что ЕЦБ знает, каким образом он сможет избавить от вероятных убытков банки, которые пошли ради него на подобного рода сделки, дабы обойти действующий в отношении ЕЦБ запрет на государственное финансирование, зафиксированный в Маастрихтском соглашении[165]. 3. Неплатежеспособным государствам, насколько это осуществимо, блокируется возможность банкротства или односторонней реструктуризации долга. В особо критических случаях они могут претендовать на недостающие фискальные субсидии для исполнения своих обязательств перед кредиторами, чтобы те согласились и в дальнейшем обеспечивать консолидированные государства долгов доступными кредитами. Но и эти платежи должны быть защищены надлежащим образом от инспекции со стороны населения. Примером удачного камуфляжа обширных межгосударственных трансфертов (фактических или потенциальных) является использование так называемых TARGET2 балансов национальных центральных банков в ЕЦБ [Sinn, 2011]. 4. До тех пор пока решение финансового и фискального кризиса возможно исключительно за счет общего обесценивания государственных долгов – т. е. прежде всего, хотя и необязательно, в условиях отсутствия роста, – его необходимо смягчить и растянуть во времени насколько допустимо, чтобы крупные инвесторы с санкционными полномочиями смогли своевременно защитить свои портфели от убытков. И в этих вопросах технические знания экспертов центральных банков имеждународных организаций оказываются чрезвычайно востребованы. Им надлежит разработать для правительства меры по ликвидации долгов, с которыми не справляется экономический рост: меры «финансовых репрессий» за счет рядовых вкладчиков (желательно мелких держателей активов за пределами финансового сектора), путем комбинирования высокой инфляции и низких процентных ставок, а также оказания давления на банки и страховые компании, чтобы те инвестировали в государственные ценные бумаги [Reinhart, Sbrancia, 2011]. Многие признаки указывают на то, что подготовительный этап для реализации подобного сценария почти завершен, и реализация такой политики может начаться, как только будут преодолены текущие кризисы и удовлетворены интересы финансового сектора. Описанные четыре линии последовательных действий необязательно восходят к каким-то теневым центрам принятия решений с большим потенциалом долгосрочных стратегий. На самом деле степень неопределенности о временном горизонте антикризисного управления и государственном переустройстве чрезвычайно велика. Например, в качестве краткосрочной антикризисной меры обсуждается создание «банковского союза» для санации проблемных банков юга; однако на то, чтобы сделать эту меру полноценной, а не сугубо косметической, потребуются годы. В краткосрочной перспективе для предотвращения банкротства Греции или Италии расходы по рефинансированию этих стран субсидируются центральным банком, даже несмотря на то что в долгосрочной перспективе это может привести к образованию пузыря по американскому образцу или, вообще, к полной остановке запланированной неолиберальной рационализации кризисных стран[166]. То, что всем кажется хаосом, тем не менее в целом методично следует неолиберальной сюжетной линии, являясь в действительности не более чем чередой краткосрочных реакций здравого смысла на «ограничительные условия» капитализма [Bergmann et al., 1969; Offe, 1972a], – воплощенные в потенциале угрозы со стороны частных инвесторов. Предпосылкой для этого является то, что кристаллизация истинного «здравого смысла» вырабатывается и практикуется в эпистемологических сообществах таких организаций, как Goldman Sachs и ему подобные. Поскольку для него нет альтернативы, кроме удовлетворения потребностей «рыночного народа», ему знакомы не стратегические, а исключительно тактические проблемы, особенно общение с населением (с «государственным народом»), потерявшим скромность благодаря завышенным обещаниям демократии. Неотъемлемой частью миропонимания экономических политиков, путеводной нитью их действий выступает непоколебимая вера в управляемость всей вертикали Европы – или, по меньшей мере, непоколебимая решимость неизменно признаваться в подобной вере, чтобы укрепить в ней и себя, и всех остальных. Это относится ко всем: в Германии это не только правительство и оппозиция, но и ориентированные на интеграцию левые интеллектуалы [Bofinger et al., 2012], в Европе – комиссия в Брюсселе и ЕЦБ, а по всему миру – большинство экономических «экспертов». Демократы не видят ничего плохого в том, что для «вертикального управления» необходимо сильное централизованное государство, ведь они надеются когда-нибудь его демократизировать; либералы особенно этим не интересуются, пока их целью остается хайекианское освобождение рынков всех видов от политической правки, т. е. использование сильных сторон сильного государства, чтобы оно уничтожило само себя как интервенционистское государство. Чтобы «вертикальное управление» было возможно, необходимо верить в него, и эта вера имеется. Только так можно объяснить предложение немецкого Совета экономических экспертов, сделанное в ежегодном докладе за 2011/2012 г., о создании фонда погашения долгов (Schuldentilgungsfonds), который потребовал бы от такой страны, как Италия, год за годом обеспечивать в своем государственном бюджете экономические условия для «постоянного первичного профицита» в размере 4,2 % в год на протяжении как минимум 25 лет [Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 2011, S. 115]. И только таким образом Бофингер с коллегами могут бороться за «строгую бюджетную дисциплину» в будущем в обмен на «обобществление» долгов европейских стран сегодня; только так ЕЦБ может приобретать облигации проблемных государств в обмен на их согласие на проведение в будущем реформ – таких, например, как сокращение пенсионных выплат или продажа государственных предприятий. Во всем этом представление о возможности технократического контроля за политикой и обществом в целом держится как рабочая гипотеза, на удивление устойчиво не вызывая разочарования, – можно даже сказать, как идеология в смысле иллюзии, обязательной к исполнению. Здесь уместно вновь вспомнить опыт федеральной земли Бремен: ее долги после заключения с федерацией пакта об освобождении от задолженности в начале 1990-х годов резко увеличились, вместо того чтобы снизиться [Konrad, Zschäpitz, 2010]; однако напоминание об этой истории ничего не меняет в сознании, о чем ярко свидетельствует и опыт Европейского центрального банка с первой программой выкупа итальянских облигаций в 2011 г. в качестве помощи[167]. Реальны ли фантазии относительно управляемости, которыми тешат себя самонадеянные спасители из валютного союза? Быть может, они не более чем выражение решимости использовать все доступные средства, чтобы воплотить эти фантазии в жизнь, плюс вера в то, что обман, запугивание и нравственная маргинализация оппозиции вкупе с разнообразными надежными мерами по обузданию парламентской демократии и институционализации олигархии и экспертократии на национальном и европейском уровнях, в конечном счете, если долго над этим работать, позволят достичь цели.СОПРОТИВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ КОНСОЛИДАЦИИ
Международное государство консолидации занято тем, что обесценивает политические ресурсы граждан демократических национальных государств. Они играют все меньшую роль в новой системе координат капиталистическо-демократического конфликта распределения, тенью нависающего над национальной политикой, т. е. на глобальных финансовых рынках и в залах заседаний межгосударственной финансовой дипломатии. В узких рамках международно опосредованных национальных демократий оппозиция по отношению к надгосударственному диктату строгой экономии чрезвычайно затруднительна, но не невозможна. Как показывает греческий опыт, несмотря на все угрозы и пропагандистские выступления международного сообщества, в случае если его требования заходят слишком далеко, результаты национальных выборов все еще способны доставить немало неприятностей – и взвинтить расходы, которые несут государства-доноры ради того, чтобы государство-должник не вышло из игры. События лета 2012 г. в Греции и Италии, с одной стороны, и в Германии – с другой, наглядно иллюстрируют это. В Германии оппозиция поддерживает правительство в его безусловной приверженности евро и вместе с ним выступает с требованием строгой бюджетной дисциплины в странах-должниках под контролем Брюсселя[168]. Разница лишь в том, что оппозиция ради европейского мира демонстрирует свою готовность заплатить за это очень высокую цену – например, в виде взаимозачета старых и новых долгов стран ЕС или в форме дополнительных «программ роста», вероятно, предполагая, что этого все равно не избежать, и надеясь завоевать голоса избирателей перед выборами за счет усиливающегося недовольства части населения по поводу растущей европейской враждебности к Германии. Если же правительство при молчаливом согласии оппозиции попытается предопределить основные проблемы будущего европейской интеграции и немецкого государства в рамках безальтернативной международной повседневной деятельности, то оно столкнется с сопротивлением некоторых парламентариев, в том числе депутатов от правящих партий, которые могут усмотреть в этом лишение власти парламента партийным руководством и обратятся за помощью в Конституционный суд, чья юрисдикция позволяет разбираться в вопросах демократии и суверенитета. Что же касается Греции и Италии, то там тоже национальные партии, выборы и парламенты тормозят победное шествие международного государства консолидации. В Греции возвращение партий в правительство после провала «технократа» Пападемоса вынудило брюссельское сообщество государств ослабить давление режима жесткой экономии на греческое население и увеличить суммы обещанного вознаграждения за проведение необходимых мер по консолидации. В Италии правительство Монти почти сразу же после своего формирования было вынуждено пойти на уступки левым партиям и профсоюзам, что выходило за рамки тех мер, которые Брюссель считал необходимыми. Кроме того, Монти, уже довольно давно культивировавший националистические настроения, использовал их для улучшения своей переговорной позиции, особенно по отношению к Германии, что позволило ему добиться, чтобы требуемые от него меры по модернизации были ослаблены; в этом смысле возвращение к ведению «политики как обычно» было следствием замедления темпов реализации политики консолидации. В то же время пример Соединенных Штатов отчетливо показывает, что нет никаких гарантий успешного сопротивления против хайекианской «трансформации демократии» [Agnoli, 1967]. Сегодня в США финансовые гиганты Уолл-стрит практически безупречно подчинили себе правительственный аппарат, и этому нисколько не помешало избрание в 2008 г. президента от Демократической партии, рассыпавшего популистские обещания. Несмотря на неприлично высокий уровень социального и экономического неравенства, выросший за последние два десятилетия [Hacker, Pierson, 2011], и такой же высокий уровень безработицы, длящейся на протяжении многих лет, только около половины населения участвует в национальных выборах. Осенью 2012 г. им было позволено выбрать между очень богатым бывшим менеджером хедж-фонда и президентом, который после разового дорогостоящего спасения экономики от финансовых рынков и финансовых рынков от самих себя ничего не хочет предпринимать для регулирования их активности и ограничения их экономических возможностей, чтобы не дать полностью высосать экономику[169]. Примечательно, насколько успешно плутократия сдерживает общество, глубоко расколотое и дезорганизованное, ослабленное репрессиями со стороны государства и одурманенное продуктами культурной индустрии, которые Адорно не смог бы изобразить в своих даже самых пессимистических сценариях, – плутократия, которая опутала весь мир и которой не составляет особого труда купить не только политиков, партии и парламенты, но и общественное мнение. Что делать в объединенной по хайекианскому сценарию Европе, если традиционные каналы демократической артикуляции интересов между межгосударственными и обязательственными соглашениями закрыты? Как известно, социал-демократическая модель ответственной оппозиции заключается в том, чтобы навязать капиталу проекты реформ, которые бы не только были полезны рабочему классу или аффилированным с ним организациям, но одновременно помогали капитализму решить проблему производства и воспроизводства, которые он со своими институциями не в состоянии решить в одиночку. Глава Маркса о борьбе за ограничение рабочего дня [Marx, 1966 (1867)] (рус. пер. Маркс К. Капитал. М., 2013, гл. 8) является в данном случае locus classicus и важнейшим историческим примером того, что для обеспечения прибыльности массового производства необходим массовый спрос, который в фордизме достигается путем повышения заработной платы, завоеванного профсоюзами. Сегодня же возникает ощущение, что больше нет ничего, что широкие массы населения могли бы предложить капиталу или отвоевать у него для его и для собственной выгоды. Все, что он желает получить от населения, – это возвращение рынку исторически завоеванных у него социальных гражданских прав, быть может, не всех сразу, но точно постепенное и не слишком медленное. В начале XXI в. капитал уверен, что сможет организовать дерегулируемую финансовую индустрию по своему разумению [McMurtry, 1999]. Единственное, чего он еще ожидает от политики, – ее капитуляцию перед рынком, достигнутую путем устранения социальной демократии в качестве экономической силы. Если же конструктивная оппозиция невозможна, то для тех, кто не хочет всю жизнь выплачивать долги, которые для него взяли другие, остается только деструктивная оппозиция. Она необходима для усиления тормозящего действия остаточной демократии в национальных государствах. Если для демократически организованного населения ответственное поведение все еще может сводиться к тому, чтобы больше не использовать свой национальный суверенитет и ограничивать себя ради будущих поколений для обеспечения их платежеспособности по отношению к кредиторам, то более ответственным может показаться как раз безответственное поведение. Если быть рациональным означает, что необходимость удовлетворения требований, предъявляемых рынками обществу, нельзя ставить под сомнение и их следует выполнять, пусть даже за счет того самого большинства, которому спустя десятилетия неолиберальной рыночной экспансии ничего не останется кроме убытков, то в таком случае иррациональность становится единственной формой рационального. Но прежде чем это станет очевидно, может пройти немало времени. Обвинение в популизме давно уже стало испробованной техникой утверждения господства, в Германии оно дополняется весьма успешными попытками приравнять критику валютного союза и в целом ход европейской интеграции двух последних десятилетий к враждебному отношению к Европе вообще и тоске по «малым государствам» или даже империалистическому национализму межвоенных лет. Несмотря на всю пропагандистскую обработку, похоже, все больше граждан Европы подозревают, что их правительства не относятся к ним серьезно, – к примеру, когда им постоянно объясняют, что либерализация капиталистической экономики, которая включает сокращение бюджета, демонтаж социального государства, безработицу и ненадежную занятость, отвечает общим интересам роста, при этом растут доходы «экспертов» высшего управленческого звена и снижаются зарплаты и социальные выплаты нижних слоев общества. Задача критически настроенных интеллектуалов должна заключаться в том, чтобы как можно сильнее обострить это ощущение и перестать заботиться о своей репутации перед теми, кто давно считает, что им «нет никакой альтернативы». Безосновательность необходимости верить в абсурд, если она исходит от других, особенно остро затрагивает человеческое достоинство. Примечательно, что в Испании и Португалии протестующих против образцового нарратива жесткой экономии называют «indignados», что можно перевести как «возмутители», а в буквальном смысле означает: те, с кем не считаются, к кому относятся с презрением и кто ущемлен в своем достоинстве[170]. На языке социологической теории проявления гнева имеют экспрессивную природу, а не инструментальную, как в экономике. Чтобы избежать опасности попасться в сети «разумных», конструктивных предложений, сделанных в ходе выполнения решений международной финансовой дипломатии, согласно которой «государственный народ» должен показывать «рыночному народу», что тот является таковым, социальному движению против государства консолидации требуется время, чтобы публично заявить свое возмущение безосновательностью постдемократического капитализма. Достаточно вспомнить события 1960-х и 1970-х годов, чтобы понять, каким образом восприятие политической и культурной «одномерности» может привести к внезапным протестам, кажущимся «иррациональными», «нереалистичными» и «просто эмоциональными», но которые не останутся без последствий именно потому, что они таковы, каковы они есть. В Германии непосредственным поводом для этого стали чрезвычайное законодательство и большая коалиция, а также связанные с ними опасения, что у политики и общества нет альтернативы идеологии технократической модернизации [Habermas, 1969; Marcuse, 1967]. Возможно, диагноз, вынесенный в то время, был преувеличением, возможно, он был преждевременным; в любом случае то, что было тогда, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сегодня, спустя более 40 лет, когда на европейском уровне осуществляется переход к экономически детерминированной, лишенной власти постдемократии. Первое и самое главное, что необходимо было бы оспорить у своих оппонентов растущему движению против медиатизации демократии финансовыми рынками, – это то, что легитимность не на стороне денежных фабрик: почему, в конце концов, выпускаемые ими векселя должны пожирать жизни простых людей? Неоценимым подспорьем в этом вопросе является книга Дэвида Грэбера «Долг: первые 5000 лет истории» [Graeber, 2011; Гребер, 2015]. То, что это справедливо и правильно, когда все должники всегда расплачиваются за свои долги, не более чем миф, который на руку глобальным финансовым рынкам, он утверждает мораль повседневной жизни и позволяет заклеймить как аморальную позицию тех, кто выступает против этого требования. В отличие от частных лиц, государства могут навязать своим кредиторам реструктуризацию долга или, возможно, даже полностью установить свои платежи, что является прямым следствием их суверенитета. Нигде не прописано, что они могут использовать его только для того, чтобы выполнить свои платежные обязательства перед кредиторами за счет высокого налогообложения или низких социальных выплат для собственных граждан. Демократии в первую очередь обязаны своим гражданам и служат им; они могут принимать законы или расторгать договоры; тот, кто одалживает им деньги, должен это знать. Между тем даже в национальном гражданском праве существуют нормы, по которым далеко не каждый обязан выплачивать свои долги. Должники могут стать банкротами и тем самым обеспечить себе возможность для нового начинания. Друзья капитализма не устают с восхищением подчеркивать тот факт, что предприниматели, особенно в США, нисколько не стыдятся время от времени объявлять себя банкротами. По поводу Греции – а собственно, и любой другой репрезентативной демократии – возникают большие сомнения, действительно ли ее граждане могут выступать в качестве принципалов в вопросах погашения долгов, взятых правительством как агентом от имени своего народа, – притом что эти деньги, как правило, использовались для латания дыр в государственных финансах, возникших из-за того, что обеспеченные классы по политическим причинам уклонялись от исполнения своих налоговых обязательств. Также сомнительно, что политический класс Греции не проинформировал своих избирателей, от имени которых брались кредиты, о связанных с этим рисках и побочных эффектах, как это в соответствии с законом должен делать любой финансовый консультант по отношению к своему клиенту; если использовать гражданское право, то здесь можно обнаружить инвестиционное мошенничество в особо крупных размерах при участии крупных международных денежных фабрик. Сегодня простые греческие граждане должны отвечать своим медицинским обслуживанием и пенсионным обеспечением за те сделки, которые им были навязаны группой лиц, связанных круговой порукой, куда входят национальные политики, правительства других стран, международные организации и глобальные финансовые институты, причем масштабы и возможные последствия этих сделок даже приблизительно не сообщались населению. Вероятно, греческий «государственный народ» обязательно был бы освобожден международным гражданским судом, если бы такой существовал, от своих платежных обязательств по отношению к рынкам; те же, кто в качестве наказания за неплатежеспособность угрожает десятилетиями жесткой экономии, должны ожидать, что их признают виновными. Профессиональная политология склонна недооценивать политическую мощь морального негодования населения. Ей нравится пребывать в хорошо заученном безразличии, обозначаемом ею как свобода от оценок, тянуться к теориям, для которых уже не может быть ничего нового под солнцем, и относиться к тому, что она называет популизмом, по остаточному принципу и исключительно с элитарным презрением, разделяемым с властями, в объятиях которых она так страстно желает оказаться. Все это не позволяет ей обратить внимание на то, что все правители ни перед чем не испытывают такой страх, как перед гневом тех, кто чувствует себя одураченным экспертами по извлечению прибыли глобального финансового капитализма. В сложных обстоятельствах страх, вопреки бытующему мнению, может быть хорошим советчиком. То, что кризис может привести к «социальным потрясениям», остается кошмаром для всех, кто стоит на капитанском мостике, кошмаром, который не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило на улицах до сих пор. Вероятно, за исключением событий Парижа или Турина 1968 г., память о которых еще свежа у правящих классов. Исходя из этого, случайные уличные столкновения в Афинах или глобальное движение «Occupy» – «Движение 99 %» являются хорошим началом; преувеличенная оценка этих событий банками и правительствами и страх, который они посеяли, могут многому научить. Представление о том, что рынки должны подстраиваться под людей, а не наоборот, оценивается сегодня как безумное, но, если посмотреть на реальное положение вещей, это действительно так. Возможно, реальность могла бы получиться еще реалистичнее, если бы с завидным упрямством поднималась тема забитых каналов институционализированной демократии, – так, чтобы с этим начали считаться, равно как и с неисправимо романтическим представлением о простых гражданах, которые не должны до конца своей жизни обслуживать ожидаемые доходы от инвестиций каких-нибудь вексельных виртуозов и их экспертов по взысканиям. Сегодня оппозиции против государства консолидации не остается ничего, кроме как продолжать вставлять палки в колеса капиталистическому курсу и дискурсу жесткой экономии. Однако повышенная раздражительность и непредсказуемость «государственных народов» – распространяющееся ощущение неимоверного абсурда рыночной и денежной культуры и гротескная чрезмерность ее притязаний по отношению к жизненному миру – тем не менее является социальным фактом: он мог бы выступить в качестве «психологии» граждан наряду с рынками и так же, как они, требовать к себе внимание. Наконец, граждане тоже могут впасть в панику и начать иррационально реагировать, подобно финансовым инвесторам, при условии, что они не будут претендовать на больший «здравый смысл», чем те, даже если в качестве аргументов у них имеются не денежные купюры, а только слова и, возможно, булыжники.Заключение Что дальше?
Итак, нынешний финансовый, фискальный и экономический кризис – на данный момент та конечная точка, куда привела продолжительная неолиберальная трансформация послевоенного капитализма. Инфляция, государственные и частные долги были временными мерами, с помощью которых демократическая политика поддерживала видимость капитализма, приносящего рост: равный материальный прогресс для всех или даже постепенное перераспределение рыночных и жизненных возможностей сверху вниз. Однако спустя примерно десятилетие эти ресурсы были исчерпаны, бенефициары и администраторы со стороны капитала сочли, что они чересчур дороги и нуждаются в замене.ЧТО ТЕПЕРЬ?
Может ли случиться, что магическая покупка времени с помощью современных денег – периодическое продление старых обещаний социально умиротворенного капитализма, повторяемых, словно заезженная пластинка, и уже давно не имеющих под собой никаких реальных оснований – продолжится во время великого кризиса начала XXI в. и после его окончания? Как раз сейчас, пять лет спустя после 2008 г., это и проверяется в ходе полевого эксперимента глобального масштаба. Единственный источник денег для этого в наличии – виртуальные деньги центральных банков, а главнейший авторитет для управления некогда демократическим капитализмом, наконец-то вошедшим в свою хайекианскую фазу, – руководители центральных банков. Частные денежные фабрики перестали работать, с тех пор как их заемщики окончательно увязли в долгах, и теперь они не имеют ни малейшего представления о том, на возврат каких долгов могут еще рассчитывать. Правительства блокируются парламентами и тем, что осталось от их демократических конституций: в США это делает расколотый на два полюса конгресс, использующий государственный долг как предлог для упразднения государственного управления, а в Европе за этим стоит растущее сопротивление избирателей против необоснованного требования платить по счетам за неолиберальный режим роста, от которого большинство из них ничего не получило. Так что власть – по крайней мере, на ближайшее время – оказалась в руках Драги и Бернанке и подобных им технократов, которые получили ее благодаря все более изощренным инъекциям самодельных денег, направленным на поддержание банков и зависимых от их прибыли лиц, а также создали условия, позволяющие странам регулярно рефинансировать свои долги. Постоянно изобретаются новые схемы, чтобы оплатить новую весну кредитного капитализма, с таким треском провалившегося в 2008 г., даже если она продлится совсем недолго. Бывший исполнительный директор Goldman Sachs, ставший президентом Европейского центрального банка, с момента своего вступления в должность стремится помочь покупателям и продавцам государственных облигаций продолжать энергичную торговлю друг с другом. Осенью 2012 г. знатоки лишь присвистнули, увидев новый план ЕЦБ: выделить средства на приобретение неограниченного количества облигаций в странах с большим долгом, по фиксированной цене и за только что отчеканенные монетки, но лишь тем банкам, которые ранее (пусть всего лишь полчаса назад) уже покупали облигации у правительств этих стран. Таким образом, соблюдя запрет на прямое государственное финансирование, хотя и без должного уважения, рынки получили возможность приобрести долговые обязательства у этих стран в неограниченном количестве, скажем, за 96 % от номинальной стоимости, чтобы тут же передать их ЕЦБ за гарантированные 96,5 %. Все же довольно сомнительно, что такие меры помогут приостановить кризис легитимности нынешнего капитализма еще на десятилетие или дольше. Многое свидетельствует о том, что приобретаемое таким образом время неизбежно будет скоротечным. Бесконечно вливая деньги центрального банка в качестве последнего средства для укрепления доверия на фоне каскада долгов, государство рискует, что и это средство перестанет работать, суть государственного самофинансирования как сделки с самим собой (попытка, достойная барона Мюнхгаузена, который за волосы вытаскивал себя из болота) станет очевидной, а центральный банк может превратиться в огромный «банк проблемных активов» с включенным электронным печатным станком. Привлечение ЕЦБ в качестве последнего прибежища чрезвычайно полюбилось правительствам, например Ангеле Меркель, для которых это было очень кстати, так как внутренние противоречия и сопротивление их национальных демократий мешали «ответственным» действиям, совершаемым в интересах финансовых рынков; с передачей правительственных дел центральному банку для правительств во многом была облегчена некоторая грязная работа, связанная с вопросами политической легитимации. Однако доверие и профессиональная репутация, которыми обычно пользуются центральные банки, и, значит, их истинная политическая полезность могут пострадать, если их роль сузится до беспринципного импровизированного антикризисного менеджмента, казуистического обхода законов[171] и клиентелистского вознаграждения проблемных банков за приобретение ими государственных ценных бумаг. Тем сильнее возрастают и опасения со стороны ЕЦБ: если он открыто переключится с денежно-кредитной политики на государственное финансирование, то утратит свою аполитичную ауру. Если бы Центральный банк вдруг признали тем, чем он в действительности стал, т. е. правительством, ему пришлось бы обосновывать свои решения политически, а не только технически, мобилизуя необходимый консенсус[172]. Это сокрушило бы его в условиях демократии – не только потому, что подобная институция стоит вне демократического процесса, но еще и потому, что даже его собственных финансовых средств не хватило бы для того, чтобы купить неолиберальному экономическому порядку видимость социальной справедливости. Однако, действительно, есть примеры того, как в условиях кризиса центральные банки де-факто могли стать правительствами. Интересно, что среди них и Италия 1990-х годов: председатели Банка Италии Гвидо Карли и Карло Адзельо Чампи временно исполняли обязанности премьер-министра, министра финансов и президента республики, после чего в 1993 г. партийная система страны, не выдержав груза коррупционных скандалов во время так называемых «anni di fango» («годы грязи»), окончательно развалилась. Правление сильного центрального банка стало в Италии традицией, которую продолжает Марио Драги, правда, сегодня уже на европейском уровне: после увольнения из Goldman Sachs – с 2006 г. и вплоть до своего назначения на пост президента ЕЦБ – он тоже занимал должность председателя Банка Италии[173]. Передача значительной части властных правительственных функций, изъятая у дискредитировавшей себя партийной системы и переданная независимому от нее центральному банку, которая произошла в Италии в 1993 г., была возможна еще и потому, что выполнение условий для вступления в Европейский валютный союз на тот момент считалось ключевым национальным интересом. Антикризисная терапия посредством синтетических денег – по американскому образцу – могла бы привести к краткосрочному успеху и в Европе: бонусы банкиров и дивиденды их акционеров вновь стали бы обычной практикой, а премии за риск, которых так жаждут рынки в обмен на приобретение государственных облигаций, после передачи рисков центральному банку вновь стали бы доступны. Действительно ли эти меры в долгосрочной перспективе могут привести к новому росту, особенно такому, который способен продлить существование демократически-капиталистической формулы мира, сокращая или хотя бы как-то маскируя разрыв между богатыми и бедными, между севером и югом и каким-то образом приводя к общему знаменателю рыночную и социальную справедливость? Сомнительно. Поразительно, как президент Европейского центрального банка постоянно настаивает на том, что ЕЦБ со всей своей помощью, которую в соответствии с возложенными на него правовыми обязательствами он может предоставить в период кризиса, не может избавить правительства от проведения «структурных реформ». Да и неолиберальные политики, в сущности, не предлагают ничего другого в ситуации, когда необходим новый режим роста, который остановит раздувание денег и долгов (на этот раз – самим Центральным банком) и не даст им снова привести к перегреву и коллапсу финансовых рынков или к повторению глобальной инфляции 1970-х годов. Чтобы антикризисный менеджмент не стал прелюдией к следующему кризису, а послекризисная ситуация не превратилась в предкризисную, необходим новый импульс роста, который, судя по тому, как обстоят дела в политике, возможен только под знаком неолиберализма – более того, как результат реформ государственного переустройства последних десятилетий. Потому-то правящий центральный банк строго увязывает свои благодеяния с политическими обязательствами. Другой вопрос – насколько они осуществимы, ведь и государства могут попытаться спекулировать на тему своей «системной значимости»[174]. Кроме того, никто не может гарантировать, что политика предложения действительно будет функционировать. Достаточно вспомнить о продолжающейся с 2008 г. стагнации в США: сочетание относительно свободных денег центрального банка и неолиберальная «гибкость» – подобная той, что складывается сегодня в Европе – вот уже десятилетия демонстрирует лишь иллюзию роста, который в период кризиса обернется взрывом. И если даже каким-то образом все-таки удастся достичь нового роста, то – в отличие от кейнсианского государства всеобщего благосостояния прошлого – «прилив поднял бы уже не все лодки»[175]. После инициированного рынками самоотключения перераспределительной политики (сколь бы обманчивыми ни были ее методы под конец), а также вынужденного самоограничения государств для защиты свободы рынка и прав собственности (особенно права собственности на государственные ценные бумаги) даже рост уже не сможет погасить конфликт распределения, зашитый в обществе рыночного капитализма; напротив, постоянно будет возрастать опасность, что в условиях кумулятивно предоставляемых преимуществ вечные неудачники наконец заметят, что их просто используют. Если новый рост действительно произойдет, при этом сохранятся прежние миротворческие функции, он должен количественно и качественно отличаться от того, что было в последние 20 или 30 лет. С 1970-х годов средние темпы роста индустриальных стран неуклонно снижались. Если в начале 1970-х он составлял около 4,5 %, то в высших точках экономических циклов – в 1980-х и 1990-х годах – достигал лишь 3,5 %. В предкризисные годы средний рост не превышал 2,7 %, а с началом кризиса составляет менее 1 % (рис. 1). От нового роста, оберегаемого демократическо-капиталистической стабильностью, потребуется изменить основы этого тренда, но только непонятно, каким образом это сделать[176]. Начиная с 1990-х годов требовалось все больше заимствований для обеспечения даже падающего роста предкризисного периода. Так, общий государственный долг Соединенных Штатов – распределенный по частным домохозяйствам, частным и государственным компаниям, финансовому сектору и самому правительству – в 1980 г. составлял менее 1/5 от валового национального продукта, далее он непрерывно рос вплоть до 2008 г. Развитие Германии шло по удивительно сходному сценарию, хотя, конечно, отчасти это обусловлено воссоединением страны (рис. 2). Это лишь подтверждает следующее предположение: для достижения желаемого эффекта следует увеличивать каждую новую инъекцию долговой дозы по сравнению с предыдущей. Совсем не факт, что центральные банки Соединенных Штатов и Европейского валютного союза без помощи государственного бюджета и частных домохозяйств, уже давно обремененных долгами сверх меры, смогут нагромоздить новые горы долгов в объеме, необходимом для обеспечения капитализму конца ХХ в. еще одной отсрочки на более высоком уровне. Но даже если это все-таки получилось бы, то, скорее всего, результат представлял бы не более чем переход из огня экономической стагнации в полымя все более коротких циклов бумов и спадов, все чаще чреватых риском утраты политического доверия и соответствующим экономическим спадом. Примечание. В расчеты включены страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.
Рис. 1. Среднегодовые темпы роста развитых индустриальных стран, 1972–2010 гг.
Источники: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections 2012; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012.
Примечание. В расчеты включены страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.
Рис. 1. Среднегодовые темпы роста развитых индустриальных стран, 1972–2010 гг.
Источники: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections 2012; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012.
Другой вариант – возвращение инфляции: случайно или же как следствие стратегии сокращения долгов сначала медленной, но постепенно набирающей темп и наконец бешено несущейся без всякого контроля. На первый взгляд может показаться, что возвращаемся к началу кризисного цикла, запущенного в конце послевоенного периода. Но в социальном мире не вступают дважды в одну и ту же реку. В отличие от 1970-х годов, сегодня инфляцию стимулировал бы не рынок труда, а центральные банки и их усилия по спасению кредиторов через спасение должников. Поэтому подавить ее так же легко, как тогда, уже не получится. Кроме того, в первую очередь инфляция коснулась бы не тех, кто располагает существенными денежными активами, – в мире, в котором отсутствует контроль за движением капитала, с легкостью можно прыгать от валюты к валюте, – а возросшего за это время количества пенсионеров и получателей социальной помощи. Это затронет и рабочих, чьи интересы – в отличие от интересов рабочих 1970-х годов – больше не защищены профсоюзами, которые могли бы позаботиться, чтобы заработная плата шла в ногу с инфляцией. Поэтому на сегодняшний день инфляция в качестве массово-демократического инструмента умиротворения исчерпает себя еще быстрее, чем тогда. И риск того, что она вызовет социальное недовольство и политическую нестабильность, будет очень большим.
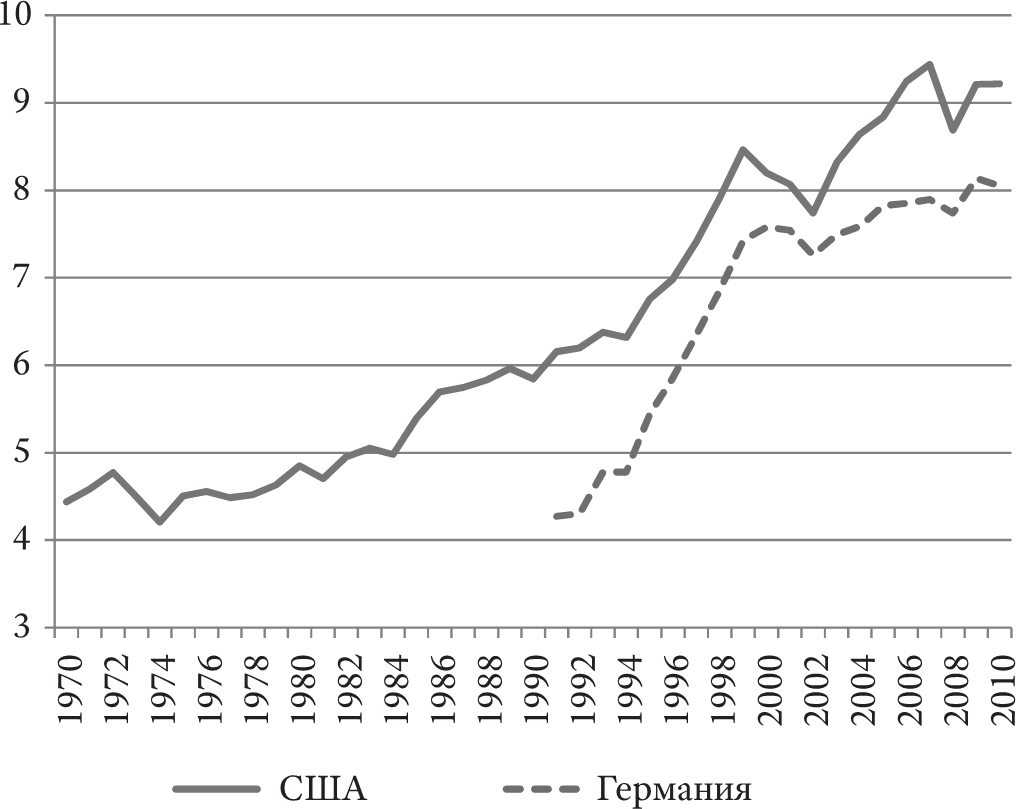 Рис. 2. Общая задолженность по отношению к ВНП, 1970–2010 гг.
Источники: OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
Рис. 2. Общая задолженность по отношению к ВНП, 1970–2010 гг.
Источники: OECD National Accounts Statistics; OECD Economic Outlook: Statistics and Projections.
КАПИТАЛИЗМ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ
Если капитализм государства консолидации больше не в состоянии производить даже иллюзию социально справедливого роста, то рано или поздно неизбежно наступит момент, когда дороги капитализма и демократии должны разойтись. На сегодняшний день наиболее вероятным выходом было бы окончательное завершение хайекианской модели социальной диктатуры, при которой капиталистическая рыночная экономика защищена от демократической коррекции. Ее легитимность будет зависеть от того, научатся ли те, кто некогда составлял «государственный народ», отождествлять рыночную справедливость с социальной и считать себя частью «единого рыночного народа». Для поддержания ее стабильности потребуются эффективные инструменты, при помощи которых всех остальных, кто откажется это принять, можно будет идеологически маргинализовать, политически дезориентировать и физически сдерживать. Тем же, кто не захочет подчиниться рыночной справедливости, при экономически нейтрализованных политических институтах останется лишь прибегать к мерам, которые в 1970-х годах называли внепарламентским протестом: эмоциональным, иррациональным, фрагментированным и безответственным. Именно этого и следует ожидать, когда демократические каналы артикуляции интересов и формирования предпочтений оказываются перекрытыми, – либо потому, что они производят одни и те же результаты, либо потому, что эти результаты больше не интересны рынкам. Альтернативой капитализма без демократии была бы демократия без капитализма, по крайней мере, без того капитализма, который нам известен. Она составила бы конкуренцию хайекианской утопии. Но, в отличие от последней, эта утопия не следует историческому тренду, а, наоборот, выступает за его изменение. В связи с этим, а также из-за огромного организационного преимущества неолиберальных решений, страха перед неизвестностью, неизбежно возникающего при любых изменениях, на сегодняшний день демократия без капитализма кажется абсолютно нереальной[177]. Ее опыт тоже свидетельствовал бы о том, что демократический капитализм не выполнил свои обещания, но она винила бы в этом не демократию, а капитализм[178]. Для нее речь идет не о социальном мире благодаря экономическому росту – и уж тем более не о социальном мире вопреки растущему неравенству, – а об улучшении положения тех, кто оказался за пределами неолиберального роста, при необходимости за счет социального мира и роста. Если демократия означает, что социальная справедливость не должна сводиться к справедливости рыночной, то демократической политике следует озаботиться тем, чтобы повернуть вспять институциональное опустошение, образовавшееся в связи с неолиберальным развитием последних четырех десятилетий, и защитить, восстановить всеми возможными способами те немногие остатки политических институтов, которые еще сохранились и которые помогли бы социальной справедливости исправить рыночную или даже выдавить ее вовсе. Только в этом контексте имело бы смысл рассуждать о демократии, лишь так можно избежать ловушки намеренной демократизации исключительно тех институтов, которые ничего не решают. Демократизация сегодня должна означать создание институтов, которые смогли бы вернуть рынки под социальный контроль: рынки труда, сохраняющие пространство для социальной жизни, рынки товаров, не наносящих вреда окружающей среде, рынки кредитов, ведущие не только к массовому производству невыполнимых обещаний. Однако, прежде чем нечто подобное станет предметом серьезного обсуждения, потребуются годы политической мобилизации и настойчивой дезинтеграции того социального порядка, который сегодня складывается на наших глазах.ЕВРО КАК «ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
Введение евро стало завершающим этапом создания европейского внутреннего рынка. Еврозона появилась как политическая юрисдикция, соответствующая идеалу свободной от политики рыночной экономики: политэкономия без парламента и правительства, хотя и состоящая из еще формально независимых национальных государств, которые, впрочем, навсегда отказались от собственных валют и тем самым лишили себя возможности использовать девальвацию в качестве средства для улучшения экономического положения своих граждан. Это позволило евро строго в соответствии с неолиберальной программой устранить возможности политического самоуправства из конституции общего рынка, а правительства государств-членов, в обязанности которых входят вопросы занятости, благосостояния и социальной защиты населения, вынуждены теперь, используя неолиберальный инструментарий, осуществить внутреннюю девальвацию: повысить производительность и конкурентоспособность за счет более гибких рынков труда, низкой заработной платы, увеличения продолжительности рабочего дня, более широкого участия на рынке труда, а также государства всеобщего благосостояния, перенастроенного на рекоммодификацию. Сегодня введение евро может служить примером того, как должно перестраиваться общество – в данном случае высокогетерогенное, транснациональное общество еврозоны – в рамках «легкомысленного эксперимента» в духе политико-экономической идеологии, превратившейся в религию, в рыночное общество, как обозначил Поланьи, в соответствии со схемами стандартной модели экономики независимо от многообразия структур, институтов и традиций. Устранениедевальвации в качестве инструмента национальной экономической политики представляет собой не что иное, как прививание единой экономической и общественной модели всем странам, подчиненным единой валюте; оно подразумевает возможность быстрого сближения их социальных систем и жизненных укладов и форсирует этот процесс. Одновременно оно выступает дополнительной движущей силой той универсальной экспансии рынков и рыночных отношений, которую называли капиталистическим завоеванием, стремясь – в манере, обозначенной По-ланьи как «планированное laissez-faire» [Polanyi, 1957 (1944), Kap. 12] (рус. пер.: [Поланьи, 2002, гл. 12]) – с большей или меньшей степенью насилия заменить государства и политику при помощи рынков и их саморегулируемой автоматики. В этом отношении устранение девальвации подобно отказу от золотого стандарта XIX в. – в «Великой трансформации» Поланьи блестяще анализирует его разрушительное воздействие на способность возникавших тогда национальных государств защитить свои народы от непредсказуемости свободных рынков, а также воздействие этой эффективности на стабильность международных отношений. Оглядываясь назад, в европейских формах проявления экономического, финансового и фискального кризиса несложно распознать манифестации политического протестного движения [Polanyi, 1957 (1944), Kap. 11] (рус. пер.: [По-ланьи, 2002, гл. 11]) против институализированного рыночного фанатизма внутри пространства единой валюты. Еще до недавнего времени – до назначения комиссаров Папа-демоса и Монти осенью 2011 г. – Европейский валютный союз состоял исключительно из демократических стран, правительства которых не могли или не хотели объявить войну своим реально существующим «государственным народам», которые все еще фундаментально отличаются от воображаемых моделей народов чистого учения рыночного капитализма, и провернуть их через ряд реформ, предписанных брюссельскими технократами и абстрактно рассуждающими экономистами. Как и предыдущие протестные движения, национальные государства, сплоченные под властью евро, не всегда придерживались политической корректности или экономической рациональности; в отличие от политики laissez-faire, как показал Поланьи, сопротивление общества рынку возникает спонтанно и несогласованно. Это привело к возникновению бюджетных дефицитов, государственных долгов, кредитных и ценовых пузырей в тех странах, которые не хотели двигаться в предложенном им темпе капиталистической рационализации жизненных укладов и жизненных миров и чей урезанный политический инструментарий, предназначенный для собственной защиты, не оставил им ничего кроме постепенного накапливания системных функциональных нарушений, которые уже на протяжении нескольких лет угрожают разрушить европейский союз государств и подорвать послевоенный мир между европейскими нациями. Происходящее сегодня напоминает ожившие иллюстрации к книге Поланьи. Сопротивление народов, представленных своими национальными государствами, против подчинения собственной жизни международным законам рынка воспринимается ecclesia militans (воинствующей церковью) международной религии рынка как проблема неуправляемости, которая должна и может решаться путем дальнейших реформ подобного рода, путем давайте еще: посредством создания новых институтов, которые исторгнут последние остатки национальной способности к артикуляции и политического самоуправства из системы; с помощью рациональных стимулов, в том числе негативных – в виде денежных штрафов, призванных возместить безмолвное принятие судьбы, предопределенной рынком. Таким образом, на протяжении десятилетий жесткая экономия продолжит оставаться реальностью для простых людей в странах, которые были определены рынком как неконкурентоспособные, а «легкомысленный эксперимент» по введению единой валюты в рамках гетерогенного, мультинационального общества будет признан успешным. В конце концов, после проведения реформ нации не сразу, но согласятся с политической экспроприацией либо потому, что им не останется ничего другого, либо потому, что в ходе рыночно ориентированного неолиберального сближения они все-таки придут к рыночной рациональности и, изведав ее в достаточной степени, начнут прислушиваться. Правда, пока в это остается только верить, потому что увидеть его воочию все еще не представляется возможным. Увидеть же можно растущее количество конфликтов между народами Европы и выяснение того, кто и сколько кому должен, с одной стороны, за реформы, с другой – за компенсационные выплаты, кто должен нести расходы за простых «маленьких» людей и кто – за «больших» и получать от этого выгоду. Тот, кто тверд в своей вере, может надеяться, что реально существующие «государственные народы» Европы когда-нибудь – а в моделях стандартной экономики, в которых время вообще не предусмотрено, «когда-нибудь» всегда означает «сейчас» – будут соответствовать свободному рынку и сольются с моделью народа, объединившись в рамках рыночной справедливости. Те же, кто не принадлежит к данной церкви, не перестанут удивляться власти иллюзий и страха перед тем, что может натворить теория не от мира сего.ДЕМОКРАТИЯ В ЕВРОЗОНЕ?
Способна ли демократизация еврозоны привести к умиротворению конфликтов, разрывающих сегодня ее изнутри? Может ли демократия остановить центробежные силы, возникшие из-за того, что различные общества вынуждены были оказаться в одной связке общего рынка и единой валюты и тем самым лишились способности к политическим действиям? Может ли демократизация нейтрализовать линии национальных конфликтов внутри еврозоны посредством поперечных к ним линий социальных и экономических конфликтов? Многим из тех, кто надеется на решение текущих проблем европейской экономической системы путем ее демократизации, последняя представляется как силовой акт, с помощью которого одним махом были бы устранены партикуляристские барьеры, препятствующие проведению наднациональной политики в области оплаты труда, европейской социальной политики, единого трудового законодательства и режима соучастия трудовых коллективов в управлении предприятием или политики общего регионального развития [Bofinger et al., 2012]. Спекуляции на возможном могут продолжаться целую вечность, особенно если они связаны с надеждами или добровольно взятыми на себя обязательствами конструктивного оптимизма. Впрочем, можно согласиться с тем, что демократический проект для Европы, заслуживающий собственного названия, должен кардинально отличаться от проектов «политического союза», отстаиваемых такими авторитарными неолиберальными стратегами, как, например, Вольфганг Шойбле, для которого речь прежде всего идет об облегчении неолиберального «сквозного управления» для хайекианского центра управления. Избираются ли президенты комиссий или Совета ЕС народом или нет, не имеет никакого отношения к демократии, пока им – в отличие от президента ЕЦБ и Европейского суда, не говоря уже о президенте Goldman Sachs, – нечего будет сказать. Понятие «фасадная демократия» [Bofinger et al., 2012] как нельзя лучше подходит для политической системы, правовая или фактическая конституция которой сводится к обязанности держаться как можно дальше от самостоятельных устремлений рынков. Проект демократии, призванный осуществлять поручения европейского министра финансов, который, в свою очередь, призван обеспечивать обслуживание рынков и, таким образом, восстанавливать их доверие, – т. е. проект демократии, который исходит из привязки демократических вопросов к вопросам неолиберализма или даже капитализма, – не стоит усилий демократов. Все развивается исключительно в соответствии с неолиберальными желаниями, само по себе. Кроме того, европейский проект демократии должен быть не столь утопичным, каким был рыночный проект, находящийся с 2008 г. в крайне шатком положении. Это означает, что необходимо не допустить повторения его ошибок, в частности, путем анализа экономики и общества, экономического и жизненного укладов независимо друг от друга. В действительности они неразрывно связаны между собой. Как маловероятно, что навязывание единого экономического порядка различным жизненным укладам возможно без применения насилия, так и наивно было бы ожидать, что различные экономические и жизненные уклады можно было бы привести к общему социальному и политическому порядку без всякого сопротивления с их стороны[179]. Демократия в Европе не может представлять собой институциональный проект гомогенизации: в отличие от неолиберализма, она не может не учитывать исторически обусловленные национальные различия между европейскими государственными народами, внутри которых тоже следует установить свой порядок[180]. Бельгии, давно уже зарекомендовавшей себя как национальное государство только из двух обществ, в котором тем не менее существует угроза развала из-за объединения конфликта идентичности и конфликта распределения, актуализированных фискальным и финансовым кризисом еврозоны, недавно потребовалось полтора года, чтобы суметь сформировать национальное правительство. Создатель европейской конституции должен уметь справляться с подобного рода конфликтами, правда, гораздо более масштабными и комплексными, причем занимаясь всем сразу одновременно, и не внутри существующей демократической конституции, а как предваряющий ее шаг. В реально существующей Европе унитарно-якобинская конституция демократических европейских государств была бы немыслима. Европейскую демократию невозможно представить без федерального разделения и обширных партикулярных прав на автономию и преимущества, без защиты групповых прав для многих различных существующих в непосредственной близости друга от друга экономических сообществ и сообществ на основе общей идентичности, из которых и состоит Европа. Это распространяется не только на Бельгию, но и на Испанию и Италию, характеризует отношения между Финляндией и Грецией или между Данией и Германией[181]. Тот, кто хотел бы написать конституцию для Европы, должен учитывать не только различные интересы европейских стран, например Болгарии и Нидерландов, но и нерешенные проблемы незавершенных национальных государств, таких как Испания или Италия. Их внутренняя множественность идентичностей и интересов должна быть представлена в любом европейском учредительном собрании[182]. Свести их в приемлемую для всех конституцию – титаническая задача, для решения которой требуется конструктивистский оптимизм, напрочь отсутствующий у рыночных технократов неолиберализма[183]. Наконец, для редемократизации Европы потребуется время, как неолиберальному рыночному проекту потребовались десятилетия, чтобы приблизиться к реализации, вплоть до того момента, когда он оказался в глубочайшем кризисе, из которого он не оставляет попыток выбраться. Институты наднациональной европейской демократии не могут быть рождены как волюнтаристская фантазия. За неимением исторических образцов придется работать с тем материалом, который может предложить история. Конвент, которому предстоит разработать конституцию демократической Европы, может состоять только из известных ныне политических фигур. В его состав будут включены представители всех стран ЕС, а не только члены валютного союза. Он должен будет работать в напряженной атмосфере возникающих конфликтов по консолидации бюджета, сокращению задолженности, мониторингу и реформам, в условиях роста взаимного недоверия и предвзятых результатов обсуждений. Пройдут годы, прежде чем будет явлена конституция, способная объединить Европу и, быть может, демократизировать еврозону путем очередного обуздания рыночного капитализма. Разрабатывать ее для неолиберального решения нынешнего трехсоставного кризиса уже слишком поздно. Гетерогенность европейских обществ в обозримом будущем будет представлять собой гетерогенность между различными локальными, региональными и национальными жизненными и экономическими укладами. Демократическая конституция единой Европы возможна только при принятии этих различий на правах автономии. Игнорирование их наличия может привести лишь к сепаратизму, борьба с которым сводится либо к денежным выплатам, либо к насильственному подавлению; чем неоднороднее «государственный народ», тем больше крови было пролито в ходе успешных или неудачных попыток его унифицировать (достаточно вспомнить Францию, Испанию времен Франко или даже Соединенные Штаты). Главной для любого гетерогенного государственного общества является финансовая конституция, регулирующая то, какие части общества (в статусе сообщества) имеют право на коллективную солидарность с другими частями общества. При этом внутри национального государства действует правило: чем больше автономии, тем меньше притязаний и обязательств в вопросах солидарности между различными частями общества. Конфликты подобного рода встречаются всегда и везде, даже в таком гомогенном национальном обществе, как Германия, где полемике относительно финансового выравнивания между федеральными землями не видно конца. В еврозоне, где подобного рода конфликты из-за ее крайней гетерогенности повсеместно возникнут уже через несколько лет, они будут лишь углубляться, чтобы впоследствии быть урегулированными мажоритарными решениями, особенно в тех случаях, когда институциональная уравниловка неолиберального утопизма – в условиях невозможности сецессии – провоцирует притязания на социальные исправления рыночной справедливости при помощи компенсационных платежей между разными частями общества. Нет никаких причин ожидать, что региональный и национальный партикуляризм, равно как и обслуживающие его конфликты интересов и идентичностей, уйдет в прошлое, даже если слишком гетерогенное для общей валюты общество еврозоны внезапно получит единую демократическую конституцию[184]. Ошибкой Хайека в его проекте международной федерации, стремящейся к либерализму, было то, что он полагал: все участвующие в этом национальные общества ради сохранения мира захотят устремиться прочь от центрального правительства в сторону свободного и всеобщего рынка и его режима конкуренции и для достижения этой цели смогут оставить свои коллективные партикулярные интересы и вопросы идентичности в прошлом. Тот факт, что они будут пытаться, опираясь на свои культурные особенности, использовать политические институты для защиты своих жизненных и экономических укладов, он не учел – возможно, потому, что решил, что это не более чем татуировки на теле универсального homo oeconomicus, или потому, что демократические возможности коллективных действий в отношении справедливости рынка были не предусмотрены его картиной мира.ХВАЛА ДЕВАЛЬВАЦИИ
Вместо того чтобы наблюдать, как неолиберальная политика завершает создание валютного союза путем реформ, которые окончательно иммунизируют рынки от политических корректировок и укрепят европейскую систему государств как международную систему государства консолидации, полезно было бы напомнить себе и другим об институтах защиты национальных валют. Право на девальвацию представляет собой не что иное, как институциональное выражение уважения нациям со стороны представляющих их государств в качестве уникального экономического жизненного сообщества и «сообщества единой судьбы». Оно тормозит влияние капиталистического экспансионистского давления, равно как и давления рационализации, идущего от центра на периферию, и предлагает интересы идентичности, которые противопоставляются этому, а в мире свободной торговли крупных внутренних рынков – вытесняются в сторону популизма и национализма (реалистичная коллективная альтернатива добровольной самокоммодификации, требуемой от них рынком). Страны, имеющие возможность проводить девальвацию, могут самостоятельно решать, хотят ли они избавиться от до– или антикапиталистического наследия, как скоро и в каком направлении они хотели бы его изменить. Поэтому-то возможность девальвации и представляет собой бельмо на глазу тоталитаризма свободного рынка. Девальвация национальной валюты корректирует – грубо и только на определенное время – отношения распределения в асимметричной системе международного экономического обмена, которая, как любая капиталистическая система, функционирует по принципу кумулятивно предоставляемых преимуществ. Девальвация является довольно примитивным инструментом – справедливостью «без отделки», – но с точки зрения социальной справедливости это все же больше, чем ничего. Если страна, которая экономически либо уже больше не успевает, либо пока не хочет гнаться за таким темпом, девальвирует свою валюту, это приведет к тому, что экспортные возможности зарубежных производителей ухудшатся, а отечественных – улучшатся; тем самым повысятся возможности трудоустройства для населения страны, проводящей девальвацию, за счет лучше трудоустроенного населения других стран. Обесценивая свою валюту, страна тем самым повышает стоимость импорта, что затрудняет для ее состоятельных граждан приобретение зарубежных товаров; в то же время это способствует повышению заработной платы той категории граждан, которые от нее зависят, и не приводит к удорожанию продуктов, производимых ими, за рубежом, тем самым исчезает угроза сокращения занятости. Иными словами, возможность проведения девальвации не допускает ситуации, когда более конкурентоспособные страны принуждали бы менее конкурентоспособных к сокращению пенсий своих малообеспеченных граждан, чтобы их обеспеченные граждане могли и дальше приобретать свои БМВ по фиксированной цене у производителей более конкурентоспособных стран. В международной экономической системе девальвация как институт работает по принципу гандикапа в таких видах спорта, как гольф или конный спорт, в которых различия между участниками настолько велики, что без уравнивания возможностей они разделились бы на тех, кто постоянно выигрывает, и тех, кто постоянно проигрывает. Чтобы слабые игроки имели возможность принять участие в соревновании, сильных игроков ставят в заведомо невыгодное положение: в гольфе это выражается в том, что слабые игроки получают дополнительное количество ударов, в конном спорте – в виде дополнительного груза, который при забеге получают потенциальные победители. В политэкономии национальных экономических обществ для этих целей служит прогрессивное налогообложение – или, по крайней мере, оно должно так использоваться[185]. В этом смысле устранение девальвации в Европейском валютном союзе является ликвидацией прогрессивного налогообложения, или же гандикапа в скачках. Международная экономическая система, допускающая девальвацию, обходится без права вмешательства какой-либо страны или международной организации в экономические или жизненные уклады своих стран-членов. Она толерантно относится к разнообразию и благожелательно – к автономному сосуществованию, бережно координируя периферию. Она не предполагает, что ведущие страны в состоянии реформировать отстающие по своему образцу, и не требует того, чтобы последние оплачивали первым предоставление лицензии. Таким образом, отказ от евро, напоминающий в его нынешнем виде золотой стандарт 1920-х годов, может вновь привести к тому, что Поланьи обозначил каквозможность относиться с терпимостью к стремлениям других стран строить свои внутренние институты по собственному разумению, что позволит человечеству возвыситься над пагубной нормой XIX в. о необходимости безусловного единообразия внутренних систем в рамках мировой экономики [Polanyi, 1957 (1944), p. 253; Поланьи, 2002, с. 274].Вне всякого сомнения, находясь под влиянием возникающего тогда, в 1944 г., послевоенного порядка, Поланьи продолжает:
Уже сейчас можно видеть, как на развалинах старого мира возникает фундамент мира нового – экономическое сотрудничество правительств и свобода отдельных стран устраивать свою жизнь по собственной воле [Ibid., p. 254; Там же].Гибкий валютный режим, который мог бы возникнуть после ликвидации евро, согласится с тем, что политика представляет собой нечто большее, чем профессиональная экзекуция мер по рационализации, и отведет ей центральное место в своем устроении из уважения перед коллективными идентичностями и традициями, которые репрезентируются через политику. Международная экономическая система, допускающая девальвацию, защищает себя, что, между прочим, соответствует мысли Хайека, как система распределенного интеллекта, обходясь без «Претензий знания» (Хайек Ф. Претензии знания. Лекция памяти Нобеля. 11 декабря 1974 г., Зальцбург, Австрия. <http://hayek.ru/hayek2.html>). Хайек справедливо настаивал на том, что подобные системы превосходят планируемые централизованно; то, что было ему недоступно как экономисту, – представление, адресованное Поланьи против него, о том, что рыночно справедливый и рыночно покорный транснационально-капиталистически обустроенный мир, который Хайек считал естественным состоянием и видел в этом источник мира во всем мире для своей либеральной федерации, можно произвести только путем планирования, так как он предполагает разрушение предыдущих партикуляристских структур социального сосуществования и социальной солидарности. Режим девальвации позволяет проводящим его странам избежать необходимости ведения переговоров по вопросам структурных реформ и компенсационных выплат. Вмешательство более конкурентоспособных стран в управление менее конкурентоспособных представляется в рамках этого режима излишним, равно как и «меры по стимулированию роста», которые постоянно рискуют быть неправильно понятыми со стороны реципиентов, воспринимающих их как плату за вход на рынок или как межгосударственное налогообложение конкурентоспособности, потому те, кто должен их осуществлять, отказываются это делать. Международные конфликты возникают только тогда, когда страна проводит девальвацию слишком часто. Впрочем, при чрезмерно частом использовании своего капитала доверия страна очень быстро потеряет больше, чем сможет приобрести с помощью периодического восстановления своего экспортного потенциала. Уже поэтому не стоит опасаться того, что для улучшения своих позиций на рынке страны начнут пользоваться девальвацией сверх всякой меры[186].
Последние комментарии
6 минут 42 секунд назад
5 часов 10 минут назад
12 часов 58 минут назад
15 часов 29 минут назад
15 часов 37 минут назад
2 дней 2 часов назад