Дочинец Мирослав Светован Штудии под шатром небес Роман-ожерелье

Моим самым дорогим женщинам — Эмилии, Марии, Наталии, Иванне, Патриции, Дарине.Автор
Если спишь под открытым небом, ночь не кажется столь темной…Прочитанное в древней книге
Кто мы? Спроси у зари, спроси у волны, у бури, спроси у ветра, спроси у неба, спроси у земли — у земли страданий и у земли любви — кто мы? Мы — Земля.Надпись, высеченная в древнем храме народа майя.
Бабочка, которая не хотела улетать

Голос в трубке был старческий и дребезжащий. Совсем выцветший, выветренный временем голос: — Господин… Не знаю, как вас называть… — Можете и не называть. Говорите, — приохочивал я. — Вы пишете, правда? — Пишу немного. — А я рисую. Всю жизнь рисую. Что-то получается, что-то не очень. Не буду хвастать, пусть люди скажут. Для этого у них есть глаза. Мы, художники, разговариваем красками… — его слова, как и голос, тоже были бесцветными. Слова художника. — Я вас узнал по фотографии в книжке… Вы там совсем другой на вид, но главное в чертах осталось. То, что художники сразу выхватывают в лицах, за что цепляются глазом. Понимаете? — Понимаю, — согласился я, хотя на самом деле не понимал, о чем речь. — Нет, вас я не рисовал… Но я рисовал старика. Того деда, что был тогда с вами. Там, на горе, под развесистым ореховым деревом. Вы варили из яблок сироп. — Мед. Яблочный мед. — Возможно. Не знаю. Да я не о том. Про этого старика… Кто он был? — Кто? Я до сих пор этого не знаю. — Как?! Вы же пишете о нем. — Пишу, чтобы понять. Но так окончательно и не постиг, кем он был. — Хм… Понимаю. Я тоже, чем больше живу, тем все меньше понимаю кое-какие вещи. И вообще, некоторые свои картины, которые все считают самыми лучшими, мне хочется завесить простыней, а простенькие этюдики в несколько мазков готов рассматривать часами. Пока глаза не начинают слезиться от напряжения… Знаете, тот портрет фактически был первым. До этого я занимался росписью, декором. А когда увидел этого человека, руки сами зачесались к работе. Настоящей работе… Я сидел и наблюдал. Видел, как он легко касался всего, как пером, как кистью. И проницательным взглядом, казалось, мог смягчить железо. Хотя внутри чувствовалась твердость. Перебывал как-то и в себе, и в пространстве одновременно. Это тяжело объяснить. Есть люди, которые что-то знают, а есть люди, которые знают что-то. Это что-то и ощущалось в нем. Оно и притягивало. Когда я настроил этюдник, на его руку опустилась бабочка. Красивая такая, яркая. Старик внимательно ее рассматривал. Бородой почти касался бабочки, но та не улетала. Долго не улетала. Пока дед слегка не подул на нее. Я успел набросать этюд, успел поймать этот дивный момент единения человека и божьей твари… Сейчас я готовлю выставку за границей. И там будет эта работа. Интересно, как бы вы ее назвали? — Разве обязательно надо все как-то называть? — Таков порядок. Так требуют учредители выставки, чтобы каждую работу можно было паспортизировать. — Тогда, — сказал я, — так и назовите: "Бабочка, которая не хотела улетать". — А и в самом деле, чего тут мудрствовать? Словами не объяснишь всего в зримом мире. — Не только в мире, но и в книгах. "Чем меньше слов, тем лучше книга", — говорил он. — Кто? — спросил художник. — Тот старик с бабочкой. — Интересно. Очень интересно… о книге. А про живопись… про живопись ничего не говорил? Не припоминаете? — Что-то припоминаю. Как-то мы спускались с Обавского Камня и, когда вышли из ельника на простор, перед нами открылась чудная панорама. Склон горы кипел ярко-желтым дроком, между трав, как золотые змейки, извивались тропинки, громадились целые стада серых валунов. Камни были, как живые: казалось — поднимутся и пойдут. А далеко, совсем внизу, ярко блестело зеркало озера. Мой спутник, тот старик, вытер мокрый лоб и сказал: "Ну вот, братец, еще одну прилюбную картину нарисовал нам, Верховный Маляр". Так он тогда и сказал. А еще говорил, что бабочек разрисовывает Бог. — Хорошо сказал. Я всем своим сердцем согласен с этим… Не раз, бывает, среди бессонной ночи думаешь: зачем ты это все рисовал? Для чего дурачил кого-то крикливой мазней? А в первую очередь — самого себя… Что принесешь на плечах, как крест, и положишь перед Ним на порог? — Перед кем? — Перед тем Верховным Маляром. Перед кем же еще? — голос его надломился. — Где будет выставка? — спросил я, чтобы перебить печальный мотив. — Сначала в Братиславе. Потом, говорят, еще куда-то повезут по Европах… Для вас я сделал фотокопию. Сейчас такая техника, что даже ворсинки от кисточки видно, как настоящие. С радостью перешлю вам, куда скажете. Я поблагодарил и назвал адрес, хотя копий и не люблю. Никаких. На том конце провода долго и тяжело молчали. Наконец решились: — Тогда, когда я рисовал, бабочка неподвижно сидела на его руке. Пока я не закончил, пока не передал на бумаге роспись ее крыльев. А потом она вспорхнула. Мне показалось, что старик ей что-то шепнул. Губы под густыми усами шевельнулись — и бабочка грациозно вспорхнула с его руки. Как вы думаете, может такое быть? — Может, — ответил я, и в тот же момент голос в трубке оборвался. Возможно, это и к лучшему, ибо в таких случаях не знаешь, как прощаться. Через неделю я действительно получил бандероль. И хотя картина была на пластике, я прочувствовал ее сразу — знакомую до боли сильветку. Это был он. Его свежее, как вымытые дойки, лицо, его возвышенный лоб, проницательные, мудрые глаза… Они всегда неспешно и цепко задерживались на том, что рассматривали. Чтобы вобрать в себя, обернуть приветливым вниманием, проникнуть внутренним взором в глубины. Теперь он смотрел так на бабочку, присевшую отдохнуть на его рукав и долго не покидавшую облюбованное место… Стоял вечер, садилось солнце. Я прислонил портрет к стене. Взошедшая над Ловачкой луна косым лучом посеребрила рисунок. И в этом прохладном живом сиянии он ожил. Сначала седые космы шевелюры и бороды, затем глаза и, наконец, уста, что, казалось, шевельнулись: "В добрый вам час!" Так он обычно здоровался с людьми… И то благословенное лето как будто снова отозвалось теплой росой на скользких цветках портулака, повеяло сладковатым ароматом лозы, в которой мы с ним пекли картошку. С высоты (или низины) своих лет я возвращаюсь в те дни светящие, ставшие для меня живыми жемчужинами познания. Память удивительным образом сохранила их свежесть, пересеяв мякину пережитого. Эти крупицы воспоминаний — о нем. Они о том, кто ваял тогда мою душу.
Злоба дня
О, моя неуемная, моя распахнутая неудержимая юность! Мое бурлящее ювенальное море, которое все время искало новые живительные ручьи! Все самое лучшее приходит неожиданно. Впрочем, как и все самое худшее. Если б могли мы разделить наперед равными мерками свои счастья и несчастья! Наш Учитель, дабы смягчить чувствительность нашей неразумной жизни, завещал: каждому дню — своя злоба. То есть, он предупреждал, что не стоит переживать беду, которая еще не пришла. Или уже миновала. На один день хватает и одной злобы-печали. И переживания, гнев должны выветриться из твоего сердца до заката солнца. Но как мог тогда понять это я, стремительный, амбициозный молодой человек-романтик, который выбрал иную "злобу дня" для своего служения. Так тогда модно звалась писанина в газетах, в которых, щедро нахватавшись поговорок из Библии, рьяно боролись за умы и сердца, опровергая по ходу законы той же Библии. Среди той армии борзописцев был и я скороспелым штыком-пером, которое становилось все более разгонистым и плодовитым. Приохоченный вниманием читателей, я извергал на газетные страницы бурлящие словесные реки, поучал, наставлял, критиковал, высмеивал, ставил на место, угрожал, предупреждал, предоставлял последний шанс исправиться. Высшему комсомольскому начальству это импонировало — очень удобно загребать жар чужими руками. Обо мне пошла слава как о безбашенном фейлетонисте молодежной областной газеты, умеющем из камня выжать иронию и сарказм. Начальники из партийных кабинетов снисходительно ухмылялись на все это, мол, пускай себе щенок потявкивает на коротком поводке. До тех пор, пока забавный щенок не цапнул за ногу. Бедолага редактор, бледный, как поздний гриб, хрипло кричал: "Ты, пацан, посягнул на святое! Думаешь, ты их прописал?! Нет, это ты себе подписал приговор. И мне…" Это был очерк о комсорге одного горного селения, инвалиде афганской войны. Смекалистый, инициативный парень, но "со своими мухами в голове", как говорили о нем в райкоме. Несколько этих мух я и запустил в свой очерк, и их, как на зло, не поймало редакционное сито. Среди его смелых и жестких фраз была и такая: "Когда партия говорит "надо", я спрашиваю — кому?" Собственно, эта фраза и произвела взрыв. Моего героя в один миг выгнали из комсомола и понизили с механика до слесаря. Редактор должен был защищаться на бюро. Единственным его оправданием мог быть только больничный, на котором он как раз находился в день выхода газеты. Надо мной сгущались грозовые тучи, момент истины неумолимо приближался. "Тебе лучше на время исчезнуть, — почему-то шепотом советовал редактор. — Езжай на БАМ, сдайся в армию, устрой мелкий дебош в ресторане и отсидишь полгода "на химии"… О газете можешь забыть надолго. Уже не ты, а о тебе будут писать. В прошнурованной папке…" И я, вчерашний студент, не успевший еще насладиться первыми зарплатами и гонорарами, написал заявление об увольнении. Забрал папку с газетными вырезками своих статей (мои статьи — моя "статья") и побрел к общежитию. Я даже не догадывался, что злоба дня успела выпустить только один из своих когтей. Переходя через мост, я на набережной увидел ее. Ту, которая последние пять лет полновластно жила в моем сердце, деля его разве что с газетой. Даже больше — тогда я ошибочно считал, что когда пишешь, должен представлять себе своего читателя. Я при этом представлял ее — смешливую смуглянку с ясно-серыми глазами и капризными, как шейка фарфорового кувшина, губами. Я писал для нее, бросал к ее загорелым стройным ногам слова и предложения — свои самые дорогие в те времена сокровища. Она уже считалась моей невестой, оформление союза казалось только делом времени. Ее двоюродная сестра недавно намекнула, что от меня ждут предложения. Сердцем я давно рвался к этому, но обстоятельства были еще сырыми, никакой устроенности. Завоевав сердце девушки, я рьяно завоевывал газету. Теперь, когда наконец что-то сложилось, я был готов к женитьбе. Но, как оказалось, не была готова она. Там, на набережной, ее поддерживал за талию молодой человек, к которому она доверчиво прильнула. С неожиданным сожалением я подумал, что почему-то никогда не позволял себе с ней на улице такой фривольности. Они улыбались друг другу. Мы с ней тоже все время смеялись. Я знал: чтобы привязать к себе женщину, надо ее смешить… Но сейчас ее смех был совсем другой — смех не от шутки, а от наслаждения близостью. Может быть, это какой-то неизвестный мне родственник, — хватался я за спасательную соломину. Но словно за чьим-то злым сценарием они в тот же миг остановились и поцеловались. Как голуби — мимоходом, привычно, между прочим. И пошли дальше. А я застыл. И если бы мост подо мной вдруг треснул и провалился — меня бы это удивило меньше, чем только что увиденное. Сбитый с толку, я, словно обокраденный, оглянулся вокруг. Казалось, кто-то должен мне что-то объяснить. Но чужие люди несли в глазах свои проблемы. Полуденное солнце заливало теплом уличную суматоху. Все куда-то спешили. Я тоже пошел. От чего я шел и к чему, за чем и куда? Ноги сами повели меня в общежитие — единственное теперь мое пристанище в этом городе. Наверно взгляд у меня был отрешенным, потому что кто-то хлопнул меня по плечу и сказал: "Иди-иди, там тебя уже ждут". Это меня никак не задело, потому что сам я уже никого не ждал. Над вахтерской вертушкой неуклюже возвышался Скурпулен. Так мы за глаза называли отставника-коменданта. После того, как он возле комнаты аспирантов-биологов нашел какого-то чудного жука, наколол его на спичку и бегал по коридорам: "Скурпулен! Скурпулен! Обнаглели до ручки умники. Уже скурпуленов разводят в общежитии!" Это был тот еще "боец". Как-то я стоял в очереди за пивом, а Скурпулен рядом на ящике допивал который уже бокал. Разомлев, моргал такими же желтыми, как пиво, глазками и рассказывал рядом стоявшему трубочисту: "Я брал Рейхстаг!" — "Зачем?" — лениво поинтересовался тот. "Как зачем? Это ж логово фашизма! О, сколько раскрошил я саперной лопаткой голов сосункам из гитлер-югенда! Им дали ржавые австрийские карабины без патронов, и эта сопливая пацанва двинула на нас со штыками. Представляешь? Нам тоже было жалко на них патронов. Мы раскатали по улице бочки с солярой и подожгли. Гитлеренки испеклись заживо. Мы добивали их лопатками… А потом я взял Рейхстаг. Но тебе, чадная голова, этого не понять". — "Почему же? — вяло отозвался трубочист. — Я слышал, что в Германии все что-то брали. Не возвращаться же с такого далека с пустыми руками…" Теперь Скурпулен злорадно рявкнул на меня: "Явился — не запылился! Вот коробка с вашими вещами, комиссионно переписанными. Можете сверить со списком. И чтобы через десять минут духу вашего здесь не было!" У меня не было ни сил, ни желания что-то говорить. Спрашивали только глаза. "Что-то не понятно? — брызгал слюной Скурпулен. — Извольте — объясню". — Достал листок, почему-то подул на него. — "В ночь с 28 на 29 ноль пятого на фасадной стене вверенного мне общежития был сожжен государственный флаг СРСР. Якобы по неосторожности при массовом бросании с окон зажженных газет в связи с победой киевского "Динамо" в футбольном чемпионате. Даже если это и плод разгильдяйства, оно преступно по сути и кроет в себе политический подтекст. Исходя из этого, совет общежития постановил лишить всех подозреваемых в содеянном права проживания. Список прилагается. Деньги, уплоченные вперед, не возвращаются". Я был в этом списке тринадцатым. Ну конечно, какое еще мне могло выпасть число?! "Давай-давай! — Скурпулен перешел на ты. Как же еще обращаться к бездомному? Наверное, уже знал, что я к тому же и безработный. — И скажи спасибо, что на улице сейчас другое время, а то загремел бы ты годков этак на пятнадцать, а может, и вовсе стал бы под стенкой, на которой флаг висел…" Спасибо я не сказал, потому что меня не переполняла благодарность к этому другому времени. Зато на улице было больше воздуха, которого мне остро стало не хватать. И я неуверенной тенью протиснулся через железную вертушку двери. На улице почему-то оглянулся и посмотрел на стену. Там из куска закопченной трубы свисало новое шелковое знамя. Скурпулен ревностно следил затем, чтобы по обеим сторонам центрального входа флаги висели всегда — и в праздник, и в будний день. Один из них сгорел и тут же был заменен новым. Но вот во мне что-то продолжало гореть. Донимала и жажда. Я пошел к киоску. Тут меня догнала вахтерша и молча протянула бумажку. Телеграмма. Я пробежал глазами бледные пляшущие строки: "Военных маневрах Двина погиб…" Я не хотел читать дальше, скомкал бумагу в кулаке, как будто бы ее и не было. Будто бы адресована она не мне — я ведь уже не живу в этом общежитии. Я знал, кто мог погибнуть на Двине. Недавно он написал мне оттуда. Мой лучший друг, еще со школы. И в университет мы поступили вместе. Вернее, он примкнул к моему выбору. Чтобы не разлучаться. Хотя это было не совсем его. То есть, вообще не его. Поэтому после университета и завербовался в армию офицером политотдела — отвоевывать свою судьбу. Не хотел больше себя обманывать, "дотягиваться" до меня… А мое сердце, наверное, принадлежало все-таки троим: слову, ей и ему, моему сердечному другу. Тогда я еще не знач простой истины, что личное счастье — это общение с близкими тебе по духу. И древнее слово "совесть” — это "весть" о том, что существует где-то сродная душа, с которой связаны вы невидимыми нитями. И что самая правдивая радость — это радость в бытии другого. Со-весть: со-братняя, со-радостная весть, идущая от души к душе… Мне открыл это потом человек, который называл себя Светованом. И эта повесть, собственно, о нем. Нас ранит то, что для нас самое дорогое. Слова с серой почтовой бумаги добили меня окончательно. Когда к нам внезапно приходит беда, мы направляем на это всю свою душевную защиту. Когда наваливаются сразу две беды — душа разрывается между ними. А когда одновременно три-четыре — душа замирает в растерянности. Она не готова к такому напору. Не зря Учитель завещал нам: каждому дню — своя злоба. Принимай не больше одной проблемы. Если бы мы были хорошими учениками!.. Я шел по набережной. Река текла в одну сторону, поток людей — в другую. Липы тихонько шумели о чем-то своем. Река напомнила мне, что я хочу пить. И я спустился через бурьяны к воде и напился с колен, как зверь. Вода принесла на миг какую-то ясность. Я понял, что мне некуда идти. Да и не хочу. Я лег в траву и закрыл глаза, потому что векам тяжело было даже моргать. Ничего не хотелось думать, вспыхивали и мелькали какие-то обрывки картин, теснились, сплетались, обжигая разум. Потом я спал. Долго спал — остаток дня, вечер и целую ночь. Но сон этот не был сном — все вокруг я слышал, как наяву. Временами я открывал глаза. Трава холодила тело, одежда стала мокрой от росы, и разгоряченное лицо было мокрым. Я облизал губы — соленые. Значит, это была не роса, а слезы. Я плакал, хотя раньше считал, что уже давно разучился это делать. Я лежал в шаге от реки, из моих глаз текла другая река, начинавшаяся где-то в заледенелой груди, в закаменелой душе. Река горечи. Потом пришло что-то живое, осторожно подышало мне в лицо, облизало. Резиновые губы, шероховатый ласковый язык. Пес, а скорее конь или баран, — эти животные любят соль. Горькой соли на моих щеках хватало. Я не шевелился, притворяясь мертвым. Да особенно притворяться и не было нужды. Животное ушло, а я остался, чтобы пережить эту ночь. Ночь, которая жила во мне и не предвещала никакого просвета дня. Но день пришел. Первый луч скользнул по росистым стеблям, коснулся моего выстывшего лба, залил розовым цветом пергамент век. Зацокали по брусчатке каблуки первых прохожих. Я собрался с силами и поднял свое тело, ставшее таким чужим. Надо было куда-то идти. Наверное, на вокзал. Человек, который не знает, куда ему идти, идет на вокзал. Первым, кого я встретил неподалеку от общежития, был Толя. Мы с ним жили в одном блоке. Он возвращался с ночной смены. Небритый и не выспавшийся, но, как всегда, — глаза горят. Толя работал инженером и был, вместе с тем, комсоргом, таким же строптивым правдоискателем, как и мой герой-афганец, через которого и поднялся весь этот сыр-бор. — Старик, я в курсе, — крикнул Толя издали. — Что тут скажешь? Я не люблю лирику, мне легче объяснить все физикой, через закон сопротивления материалов. Ты превысил температурную границу и перегрел систему. Вот она и выдавливает тебя… — Ну, и что советуют в таком случае твои Менделеевы-Клапейроны? — спросил я без энтузиазма. — Что? Надо временно выпасть в осадок, дабы приобрести новую концентрацию. Залечь на дно, так сказать. — Можешь считать, что я уже на дне, — вздохнул я. — На очень глубоком дне. — К чему такой мрачный тон? Иногда надо упасть на дно для того, чтобы было от чего оттолкнуться. — Это философия тех, кто все время держится на плаву. — Это философия моего деда. Послушай… — пресное после ночи Толино лицо озарилось внезапной радостью. — Дед! Вот где ты можешь перекантоваться. Вы оба молчуны, лишним словом друг друга не потесните. Да и дед больше в лесах пропадает, нежели дома. У него спокойно, никто туда не сунется. Читай себе, пиши, воробьям кукиш показывай. — Что за дед? — поинтересовался я для приличия. — Дед Андрей. Правда. он мне не совсем дед — бабушкин брат. Да ты его знаешь. Мы с ним фруктовые деревья прививали на даче твоего редактора. Ты еще тогда говорил: "Дед-Всевед, как будто из сказки вышел. Жаль, что про таких сейчас не напишешь — патриархальщина…" Я вспомнил этого деда — молчаливого, с мудрым внимательным взглядом и кудлатой бородой, в грубом вязанном свитере. Чем-то он был похож не Хемингуэя, только не на книжного. С какой-то учтиво сдержанной, недоговоренной сущностью. — Ну ладно, — ответил я, — приду я к твоему деду, скажу: "Вам привет от Толи!" А дальше что? — А ничего. Пес пса чует. Это, кстати, его поговорка. Он из тех, кому ничего объяснять не надо. Потому что и сам гонимый-перегонимый. — За что? — А ни за что. Разве тебя в один день выбросили с редакции и общежития за что-то? И разве не ты читал мне когда-то из перепечатанного листка: "Если нога шагает не в ногу с большинством, то эту ногу надо сломать. Если рука не поднимается с большинством рук, эту руку надо отрубить. Если гвоздь вылезает шапочкой из доски, его надо забить". Я тогда еще подумал, что это из Библии. А оказалось — Дзержинский… Не тели ежа, старик. Я дело говорю. Я удерживал сомнения скорее по причине страшной душевной усталости. — Все, постановили единогласно! — Толя стукнул меня по плечу. — Подожди меня здесь, я брошу через окно для деда пакет — батарейки, лезвия, карандаши, спички… — Смотри, чтобы спички не зацепились за флаг, — юморил я из последних сил. — Тогда оба пойдем к деду. Толя весело заржал и забежал в общежитие.Попова гора
Вообще-то в тот день мир смеялся солнцем, красками, звуками. Только не для меня. И я, наверное, выглядел странно, когда подошел к живой изгороди вокруг не особо видного подворья на горе, которую здесь называли Поповой, — прибитый, помятый, нечесаный. С нелепой картонной коробкой под мышкой. — Я Толин приятель. Мне бы несколько дней перекантоваться. Если можно… Я заплачу. — Ты уже сегодня плакал. Может, достаточно? Это было сказано мирным голосом, без эмоций. Тоном перевозчика, который привычно отзывается на просьбу перевезти на другую сторону. Старик прошел в дом, а я, как приблудившийся теленок, последовал за ним. — Дизель за Чопом перегрелся, — бормотал я за его спиной. — Пришлось остановить попутку. А за Мукачевом уперся в канал и долго искал мостик… А здесь дачи… блуждал по ним, пока вышел на проселочную дорогу… — Главное, что пришел, — сказал старик и протянул мне кружку воды. — Ты дома. Эти слова оглушили меня спокойствием. Густым удивительным спокойствием. Похожим чем-то на вечерние лягушачьи перепевы, памятные с детства, на стрекотанье сверчка за бабушкиной печкой. Я пил из глиняной посуды не столько, казалось, воду, сколько этот покой. Уже забытый покой, расплесканный где-то, отправленный за решетку муштрованных нервов. Теперь я его жадно заглатывал. Ослабевшие пальцы не удержали недопитую кружку, и она выскользнула. Но не упала — дедова рука подхватила ее. Старик как будто смутился от своей неожиданной ловкости. Прикрыл веки и пошевелил устами. Я скорее прочитал по ним, нежели услышал: — Опочивай с дороги. И я опочивал. Это был не сон, не забытье, не отдых, а именно опочивание. Тогда я еще не знал закона слов и букв: что малая буквица, ее присутствие или отсутствие насквозь глубинно меняет удельную сущность слова. Отдыхают от чего-то. отходя от него, отпуская его. Я же опочивал в душевном забытьи, как младенец, в гнездышке покоя. Он сочился здесь отовсюду: с дощатого свода, затемненного временем, из глинобитного пола, присыпанного "лугом", из плодов айвы на сундуке, испещренном шашелем, и из самого потустороннего скрипа шашеля, еще и с тугого домотканого покрывала, несущего запах ветра. Я хотел насытиться этим покоем и за вчерашние дни, и на грядущие. Совсем как ребенок. Но вставать все-таки надо. Когда я поднялся и вышел во двор, ноги запутались. Еще больше путались мысли. Но хуже всего было с сердцем — словно его придавило жерновами, что трутся без мелива, и перегрелись. И тянут книзу. Я и упал бы, кабы не его руки. Старик словно вырос из ниоткуда в нужный момент. Уложил меня на лавку, обнажил грудину и приложился ухом. Слушал, переворачивал меня, простукивал пальцем спину, царапал ногтем кожу, заставлял кашлять. Тогда накинул на меня шерстяную джергу, а сам юркнул в сени. Вернулся со ступкой, начал постукивать пестиком. Разошелся тминный запах. Потом растирал мне грудь чем-то шероховатым и маслянистым. Внимательные его пальцы мягко проникали до самих костей. — Проблемы с легкими? — вяло поинтересовался я. — Почему спрашиваешь? — Знаю немного анатомию. Там находятся легкие. — А я знаю, что душа, — тихо сказал он. — Вы лечите души? — Я ничего не лечу. Лечит Господь. — Тогда зачем эта мазь? Бог дает нашим рукам помощь. Это тминное масло. Оно размягчит отек и притушит жар в грудине, — старик отошел, но через три шага обернулся. — Сердце слышишь?
— Да. Его что-то зажало.
— Умники, — буркнул он. — Все беды переводите на что-то и кого-то. И этим рвете свое сердце… Слышишь, парень, отпусти-ка сердце на волю. Куда лежит — пусть туда и бежит…
— Некуда ему возвращаться.
— Я и не говорю, чтоб возвращалось. На обратной дороге ломают ноги, а на мысленной — головы. Говорю: дай ему волю самому выбирать простор и путь. А ты его не путай напрасным думаньем. Оно само выберется и тебя выведет…
— Куда? — равнодушно спросил я.
— Не твоя дума. Твое дело теперь — сторона. Спать будешь трое суток. Здесь, под целительным старым орехом. Листья дадут твоим губам росы ровно столько, сколько надо.
А едой тебе будут две кружки молока с пареным горным мхом. Ложка меда перебьет горечь. Все остальное с воздуха себе тяни. Дыши, как цыганский кузнечный горн, радостно, глубоко и сытно. И выветрится копоть, забившая… как говоришь… легкие… Тогда и в душе настане і рассвет. Будешь сам за собой глядеть, потому что я кажедень в работе. У меня таких, как ты, — целый воз и маленькая тележка. Спи давай!
И я заснул. Проваливаясь в мерцающую бездну, прислушивался к обрывкам его бормотания: "Мудрецы… Анатомия, легкие… Выеденные души, прости Господи".
Так и произошло, как сказал старик. Я лежа пребывал в дреме три дня. Поднимался лишь затем, чтобы выпить зеленоватого молока. Осы будили меня, слетаясь на мед. Просеянные сквозь крону лучи теплой кисточкой рисовали на моих веках золотые линии, щекотали губы, как задиристая Помона, богиня садов. Дышать становилось все легче. В душе произрастала тонкая травинка надежды.
Деда я увидел на четвертый день. Вернее, услышал со своего ложа. Он с кем-то разговаривал: "Девонька, ты сегодня очень нарядная. Что за праздник у тебя? Ну-ка покажи свой "лайбик" (так на Закарпатье называют жилетку). Черная белка прыгнула на стол, за которым старик ужинал, и забавно подняла лапки. Открыла белое жабо на грудке. "Пара-а-а-ада! — похвалил он ее. — Но где праздник, там и танцы. Давай-ка, спляши, чернявая! Потому что у меня гостинец", — достал двумя пальцами сушеную сливу и показал белке. И случилось диво: зверушка засеменила на задних лапках, завертелась, подмахивая хвостиком. От неожиданности я уронил ложку, она стукнула по доске. Белка, словно пораженная током, вздрогнула, замерла и, схватив заслуженную сушеницу, метнулась на дерево. Старик смущенно вернулся к своему ужину.
— Как тебе дышится? — спросил меня погодя.
— Хорошо. Насос лучше работает, — глуповато ответил я словами нашего редакционного водителя.
— Если ты о сердце, то это не насос. Это великое Божье творение. По своей мудрой службе ни один орган ему не ровня — ни голова, ни желудок, ни почки, ни живот, ни легкие. Все органы непрестанно, и днем и ночью, в работе. А сердце размеривает силы поровну: сколько в натуге столько и без. Если бы и мы по нему жили — с мерой и миром!.. Сердце изначала задумано так, чтобы не знало износа, а значит — и все наше тело, ведь именно сердце его и наполняет силой. Так бы оно и было, если б мы сами не вели его к разрушению.
— Как это?
— Сердце изнашивается от злобы. Сиречь — от гнева, гордыни, зависти, неверия, непрощения. Это забивает сердце илом, а тот уже разносится по всему телу. И человек, как заиленный колодец, чахнет. Отсюда и все хвори.
— Я не больной. Но откуда эта усталость?.. Хотя последнее время я почти ничего не делал…
— Усталость наступает не от переутомления, а от пресыщения либо недосыщения, от преступления Закона. Если он живет в нашем сердце, то оберегает нас и ведет, а ежели нет — то мускулы без него быстро устают. А особенно устает беззащитная душа.
Мне хотелось еще спросить кое-что, но я не осмеливался. Сидел напротив старика, а над нами цвел душистый шатер бузины. Кузнечик запрыгнул мне на плечо и замер от испуга. В саду разливался вечер. Возле ног опустили головки покинутые солнцем цветки куриной слепоты. Зато ромашки блестели желтыми зеницами. Мне хотелось сбить щелчком кузнечика, сорвать ромашку и воткнуть между зубов. Но удивительно: возле этого человека я не мог ничего такого сделать, это выглядело бы нарушением тайного закона. Появилась какая-то воздержанность.
Сад казался полудиким, что только там не росло! Но я успел приметить, как ходит по саду хозяин — ставит ногу осторожно, словно кот, не вытаптывает тропинки (вокруг одинаково буйствуют травы), обходит стайки слабеньких цветков-самосеек. Местами в траве притаились валуны. Их спины серели, как у заснувших черепах. Это ж, наверное, мешает косить?! А старик их не вывернет, и мох с них не сдирает. Как я мог знать тогда, что в засуху он даже поливает этот мох. ("Какая ни какая, а тоже ведь трава Господня").
Но тогда меня жгло мое, и наконец-то я решился на вопрос:
— Вы говорили о непрощении. Это тоже нам вредит?
— Пожалуй, больше всего. Если зависть разъедает сердце, то нежелание прощать огорчает его и сушит.
— Значит, я должен прощать тех, кто в один день меня уничтожил? Вероломно отобрал работу, жилье и двух самых дорогих для меня людей. Без особых на то причин. Прощать?!
— Прощать! И не потом, а сейчас же. Но, будь добр, подвинься немного — ты топчешь румянок.
Я подвинулся на лавке, удивляясь вслух:
— Как это вы увидели через столешницу?
— Почуял запах мятых цветков. И ты учись у травы.
— Чему учиться-то? — удивился я.
— А хоть бы и прощению. Когда мы топчем цветок, он отдает нам свой аромат. Вот он — смысл прощения. Трава к этому пришла, а мы ж ведь люди! Однако прощать — этого мало, надо еще и благодарить обидчиков. Ибо если в нашей жизни нету испытаний — это проклятье.
— И вы прощали своих обидчиков? Прощали им все?
— Прощал, и поэтому я тут. А они… они давно уже не приносят никому зла.
Его слова меня оглушили. Смотрел я на этого странного деда, как дитя на конфету. И не было у меня, чего ему ответить. А он обнял меня зорким взглядом и продолжал:
— Я не знаю твоих обидчиков, не знаю, чем доняли они тебя, но знаю одно: не было, нет и не будет никогда человека, которого можно было бы только осуждать либо оправдывать. Бывает, и святой на святого обидится… Поэтому надо прощать. Ибо это твое освобождение, твоя самая большая победа. Если даже весь мир против тебя, тебя оберегает сила прощения.
Бог дает нашим рукам помощь. Это тминное масло. Оно размягчит отек и притушит жар в грудине, — старик отошел, но через три шага обернулся. — Сердце слышишь?
— Да. Его что-то зажало.
— Умники, — буркнул он. — Все беды переводите на что-то и кого-то. И этим рвете свое сердце… Слышишь, парень, отпусти-ка сердце на волю. Куда лежит — пусть туда и бежит…
— Некуда ему возвращаться.
— Я и не говорю, чтоб возвращалось. На обратной дороге ломают ноги, а на мысленной — головы. Говорю: дай ему волю самому выбирать простор и путь. А ты его не путай напрасным думаньем. Оно само выберется и тебя выведет…
— Куда? — равнодушно спросил я.
— Не твоя дума. Твое дело теперь — сторона. Спать будешь трое суток. Здесь, под целительным старым орехом. Листья дадут твоим губам росы ровно столько, сколько надо.
А едой тебе будут две кружки молока с пареным горным мхом. Ложка меда перебьет горечь. Все остальное с воздуха себе тяни. Дыши, как цыганский кузнечный горн, радостно, глубоко и сытно. И выветрится копоть, забившая… как говоришь… легкие… Тогда и в душе настане і рассвет. Будешь сам за собой глядеть, потому что я кажедень в работе. У меня таких, как ты, — целый воз и маленькая тележка. Спи давай!
И я заснул. Проваливаясь в мерцающую бездну, прислушивался к обрывкам его бормотания: "Мудрецы… Анатомия, легкие… Выеденные души, прости Господи".
Так и произошло, как сказал старик. Я лежа пребывал в дреме три дня. Поднимался лишь затем, чтобы выпить зеленоватого молока. Осы будили меня, слетаясь на мед. Просеянные сквозь крону лучи теплой кисточкой рисовали на моих веках золотые линии, щекотали губы, как задиристая Помона, богиня садов. Дышать становилось все легче. В душе произрастала тонкая травинка надежды.
Деда я увидел на четвертый день. Вернее, услышал со своего ложа. Он с кем-то разговаривал: "Девонька, ты сегодня очень нарядная. Что за праздник у тебя? Ну-ка покажи свой "лайбик" (так на Закарпатье называют жилетку). Черная белка прыгнула на стол, за которым старик ужинал, и забавно подняла лапки. Открыла белое жабо на грудке. "Пара-а-а-ада! — похвалил он ее. — Но где праздник, там и танцы. Давай-ка, спляши, чернявая! Потому что у меня гостинец", — достал двумя пальцами сушеную сливу и показал белке. И случилось диво: зверушка засеменила на задних лапках, завертелась, подмахивая хвостиком. От неожиданности я уронил ложку, она стукнула по доске. Белка, словно пораженная током, вздрогнула, замерла и, схватив заслуженную сушеницу, метнулась на дерево. Старик смущенно вернулся к своему ужину.
— Как тебе дышится? — спросил меня погодя.
— Хорошо. Насос лучше работает, — глуповато ответил я словами нашего редакционного водителя.
— Если ты о сердце, то это не насос. Это великое Божье творение. По своей мудрой службе ни один орган ему не ровня — ни голова, ни желудок, ни почки, ни живот, ни легкие. Все органы непрестанно, и днем и ночью, в работе. А сердце размеривает силы поровну: сколько в натуге столько и без. Если бы и мы по нему жили — с мерой и миром!.. Сердце изначала задумано так, чтобы не знало износа, а значит — и все наше тело, ведь именно сердце его и наполняет силой. Так бы оно и было, если б мы сами не вели его к разрушению.
— Как это?
— Сердце изнашивается от злобы. Сиречь — от гнева, гордыни, зависти, неверия, непрощения. Это забивает сердце илом, а тот уже разносится по всему телу. И человек, как заиленный колодец, чахнет. Отсюда и все хвори.
— Я не больной. Но откуда эта усталость?.. Хотя последнее время я почти ничего не делал…
— Усталость наступает не от переутомления, а от пресыщения либо недосыщения, от преступления Закона. Если он живет в нашем сердце, то оберегает нас и ведет, а ежели нет — то мускулы без него быстро устают. А особенно устает беззащитная душа.
Мне хотелось еще спросить кое-что, но я не осмеливался. Сидел напротив старика, а над нами цвел душистый шатер бузины. Кузнечик запрыгнул мне на плечо и замер от испуга. В саду разливался вечер. Возле ног опустили головки покинутые солнцем цветки куриной слепоты. Зато ромашки блестели желтыми зеницами. Мне хотелось сбить щелчком кузнечика, сорвать ромашку и воткнуть между зубов. Но удивительно: возле этого человека я не мог ничего такого сделать, это выглядело бы нарушением тайного закона. Появилась какая-то воздержанность.
Сад казался полудиким, что только там не росло! Но я успел приметить, как ходит по саду хозяин — ставит ногу осторожно, словно кот, не вытаптывает тропинки (вокруг одинаково буйствуют травы), обходит стайки слабеньких цветков-самосеек. Местами в траве притаились валуны. Их спины серели, как у заснувших черепах. Это ж, наверное, мешает косить?! А старик их не вывернет, и мох с них не сдирает. Как я мог знать тогда, что в засуху он даже поливает этот мох. ("Какая ни какая, а тоже ведь трава Господня").
Но тогда меня жгло мое, и наконец-то я решился на вопрос:
— Вы говорили о непрощении. Это тоже нам вредит?
— Пожалуй, больше всего. Если зависть разъедает сердце, то нежелание прощать огорчает его и сушит.
— Значит, я должен прощать тех, кто в один день меня уничтожил? Вероломно отобрал работу, жилье и двух самых дорогих для меня людей. Без особых на то причин. Прощать?!
— Прощать! И не потом, а сейчас же. Но, будь добр, подвинься немного — ты топчешь румянок.
Я подвинулся на лавке, удивляясь вслух:
— Как это вы увидели через столешницу?
— Почуял запах мятых цветков. И ты учись у травы.
— Чему учиться-то? — удивился я.
— А хоть бы и прощению. Когда мы топчем цветок, он отдает нам свой аромат. Вот он — смысл прощения. Трава к этому пришла, а мы ж ведь люди! Однако прощать — этого мало, надо еще и благодарить обидчиков. Ибо если в нашей жизни нету испытаний — это проклятье.
— И вы прощали своих обидчиков? Прощали им все?
— Прощал, и поэтому я тут. А они… они давно уже не приносят никому зла.
Его слова меня оглушили. Смотрел я на этого странного деда, как дитя на конфету. И не было у меня, чего ему ответить. А он обнял меня зорким взглядом и продолжал:
— Я не знаю твоих обидчиков, не знаю, чем доняли они тебя, но знаю одно: не было, нет и не будет никогда человека, которого можно было бы только осуждать либо оправдывать. Бывает, и святой на святого обидится… Поэтому надо прощать. Ибо это твое освобождение, твоя самая большая победа. Если даже весь мир против тебя, тебя оберегает сила прощения.
Единица в большом небесном реестре
Мне не оставалось иного, как только слушать и верить. Тогда я еще не знал, что человек этот, преклонных лет, но безо всяких следов времени на лице, говорит не просто так; что мир не раз и не дважды сжимал его железными тисками. И не один мир. Те миры рухнули один за другим, а он сидел здесь, на заветной лавочке, с облатками цвета на раменах, и пчела умиротворенно жужжала в его белой бороде. Ей там было приютно. …Я не спал почти до утра. Ночь ползла улиткой. Трава в лунном свете застыла, словно отлитая в металле. Моя голова, переполненная думами, отяжелело упала на грудь, но душа рвалась ввысь. Хотелось окунуться в хорошие воспоминания и не упасть при том в бомбовые воронки. И всплыла почему-то строчка моего последнего очерка про опального афганца: "Я — единица в большом небесном реестре". Сказать по правде, разве может так говорить комсомольский вожак, да еще и атеист в придачу?! И как я хочу, чтобы после этого относились ко мне?! Глупость — дар Божий, но не стоит им злоупотреблять. Бисмарк, кажется, сказал. "Ну что же, простите меня, уважаемые-неуважаемые товарищи! То есть… я прощаю вас!" Слово "прощаю" для меня тогда еще не было естественным. Потом я лежал без мыслей, укрытый небом, и звезды, казалось, путались в моих волосах. Заснула вся живая мелкота вокруг. Тишина замохнатилась, сгустилась, и я тоже заснул. Утром я проснулся от какого-то звука — послышался скрип калитки. Старик шел по двору, неся глиняный кувшин. Увидал меня и поклонился: — Они не спрятаны. Они на поверхности и в глубине — во мне и в тебе. Равняй себя за природой. Тогда не нарушать ее мудрое равновесие. И будешь стоять под этим невидимым коромыслом твердо и ровно. И душа будет ходить ровно. По вечному своему пути. — Но ведь все равно надо будет когда-то придти, как та птица, к последней кринице. — Мы не птицы. Мы люди. Рождаемся с криком. Умираем со стоном. Поэтому жить нам надобно со смехом и в радости, — промолвил и сам улыбнулся. — Да, если эта жизнь счастливая, — вставил я. — Улыбка — это не обязательно счастье, — внимательно заглянул мне в глаза. — Иногда это сила. — То есть, надо принуждать себя быть радостным и счастливым? — Хитро спрашиваешь, умно. Но для ума лучшим ответчиком будет мудрость сердца. Яне знаю, что такое счастье. Нам оно не завещано. Зато я точно знаю, что жизнь очень добрая. Но эту ее доброту надо распознать и принять как самый большой дар. Чтоб никогда его не потерять. Это добро, которое можно назвать радостью жизни. Дается оно не от рождения. Его создают сознательный выбор и моральная воля. И трудолюбивая душа. Которая повсечасно в работе, в подъеме… Тогда твое бытие наполняется смыслом и целостностью. Тогда каждый твой час — как святое причастие. Старик говорил кратко и густо, словно бросал отдельные жирные мазки на холст. Странно, в моем эмоциональном воображении они оживали, сливались в чудесную, но неоконченную картину. — А с чего начинается этот?.. — Я не находил нужное слово. — Этот труд, — помог старик. Все начинается с внемления. — С внимания? — Это не одно и то же. Как не одно любование и любовь, зазноба и суженая… Я говорю о внемлении, которое начинает и венчает всякое дело. Но о внемлении цельном, полноценном. Ко всему, ко всем и к самому себе. О внемлении. которое объединяет внимание и уважение, предупредительность и служение. Внемли всему — и все узришь сам. Все откроется. Извне и изнутри… А если не будешь судить, тогда откроется тебе потаенная красота. Жди, покуда глаза пообвыкнут. Тогда и просветлится голова. А за ней — и зрячее сердце. А оно многого стоит! Больше, чем глаза, и уши, и рассудок. Спросишь сердце — и наустит тебя. — Когда? — спросил я уныло. — Когда должно. Жди. Благо приходит за ожиданием. Старик поднялся, заслонив собой утомленное солнце, садившееся за пруг горы. От зарева его волосы и борода светились, как червленая медь. Тень его легла на мураву, и мне показалось, что и тень эта какая-то светлая. Я не видел его спящим. Утром его уже не было во дворе. А вечером, когда я возвращался в свою каморку, видел через приоткрытую дверь, как он молится либо читает. А я не читал. Душа не принимала ничего книжного. О газете без отвращения и подумать не мог. Но мне было интересно, что же читает он. И как-то днем я втихаря проник в его горницу. Здесь все было предельно простым: дубовая кровать, заправленная синим солдатским покрывалом; вместо подушки полено, обтянутое рядниной; под кроватью в деревянном корыте насыпью серела соль; две иконы на стене; массивный стул с длинной домотканой рубахой на спинке; в углу, за дощатыми перегородками, яблоки и орехи; пол, как и всюду, глиняный, чисто подметенный; стены оштукатуренные, но в этой смеси было много соломы, которая играла на солнце теплыми золотистыми блестками. Из мебели — один-единственный самодельный ясеневый шкаф, в котором стояли кипы прошитых бумаг. Я не сразу понял, что это книги. Странные это были книги. Все, до одной, без переплетов, без титульных страниц. Одни только сшитые блоки, пожелтевшие и засаленные, кое-где зачитанные до дыр. Я пролистал несколько. Издания были старые, в основном досоветские — научные пособия, исторические описания, географические карты и записки, философские и теологические трактаты. Была какая-то и беллетристика, но я не узнал авторов. За исключением разве что Сервантеса с его Дон Кихотом. Эта книга лежала отдельно, самая потрепанная и оправленная в тонкую фанеру А все остальное было мне неизвестно. И ничто не подсказывало источник. В каждой книге не доставало семнадцатой страницы. Такую "обезглавленную" библиотеку мне еще не приходилось видеть. И я в замешательстве закрыл дверцу шкафа. Дабы зазря не тревожить это сонное царство. В светлице (он так называл комнаты — светлицами либо покоями) хозяина пахло яблоками и старыми книгами. Даже ворохи горной соли не могли перебить эти крепкие ароматы, что удивительным образом уживались между собой. Тем временем моя жизнь на Поповой горе входила в спокойную гавань. В садовых трудах и прогулках по одичалым совхозным виноградникам я забывал, почему я здесь и что оставил там — в городской суете и безумии новопровозглашенного "ускорения". Здесь никто никуда не "ускорялся", не спешил. Я присматривался к жизненному укладу моего благодетеля. Он не тратил попусту время и энергию на лишние движения, хотя, казалось, все время пребывал в движении. Но не делал ненужных усилий, не ограничивал свободу тела, будто бы с дружелюбным интересом следил за собой со стороны — достаточно ли ловки и мудры его движения. Он не казался крупным и сильным, но чувствовалась порода, мощь внутреннего стержня. И каждое его движение было выверенным, точным, бережливым, красивым. Я поймал себя на том, что люблю наблюдать, как он работает. Словно просматриваю фрагменты немых фильмов Довженко или Бергмана. Простое очарование красивыми движениями. Так мы любим неотрывно смотреть на движущуюся воду, на пламя огня. Пожалуй, даже больше — я начал записывать кое-что в синюю тетрадь, которую нашел в своей коморке. Вот моя первая запись с его слов: "Каждый день — движение до приятной усталости. Это пружина жизни. Сладкая усталость тела — свежие мысли. Живот наш кормят руки. А голову живят хождением ноги. Самые лучшие мысли рождает дорога”. Так спасительно прошла для меня целая неделя. Но странствования, полные новых мыслей и впечатлений, меня еще только ждали. Как-то вечером он пришел поздно. Ужин мы окончили уже в потемках. Сидели молча. Сквозь ореховую крону сочилось, словно дым, фиолетовое сияние. Старик посмотрел вверх и сказал: Луна вышла с ущерба. Это к новости. Такой же щербатой… Но пойдем, может, получится ее приспать… Я не придал значения этой фразе. Только утром начал ее уразумевать. Поднялся чуть свет и принялся за живую изгородь. Почти сразу же послышались с улицы приглушенные голоса. Я раздвинул ветки и увидел худощавого мужчину в белом халате и белой шапочке, идущего навстречу старику от машины "скорой помощи". Он бодро пожал деду руку своими сухонькими ладошками. И голос его был сухой, даже скрипучий, как накрахмаленный халат. — Я вырвался из операционной. Прибежал, чтоб оповестить вас, то есть, предостеречь. В органы поступил на вас сигнал. Какой-то подонок пишет, что вы принимаете больных, устроили целую подпольную клинику. — Отнюдь, я не принял здесь ни одного больного. С какого б это чуда? Вы же знаете, что я не доктор. — Знаю. Вы больше, чем доктор. Потому что мы в здоровом человеке ищем болезни, а вы в болезни видите другую сторону здоровья и усиливаете ее. Мы доктора болезней, вы — доктор здоровья. Я вам это уже говорил. — А я, дорогой профессор, сказал вам, что не лечу. Я мастер, садовник, только не врач. Но если кто-то очень уж просит починить его подупавшее естество — как же здесь откажешь? Что сам получил, тем и помогаю нуждающимся. Разве это криминал? А дома больных я не лечу. Чужими постолами ноги не согреешь. У вас больницы — вам и лечить. — Не об этом сейчас речь, уважаемый Андрей. Писанина эта дошла до высоких кабинетов. Ну, люди там сидят не глупые. Они тоже под Богом ходят. И соображают, что может случиться и к вам на поклон придти. Не всегда ножом и уколами поможешь. Я сам, чего таить, тоже собираюсь посоветоваться с вами насчет своего слабого естества, как вы говорите… Так вот, переслали нам распоряжение — рассмотреть дело, пока что без привлечения органов. Комиссию уже образовали. Ну, вы знаете, как это у нас делается: если хотят достать, то достанут любым концом. — Знаю. Если не по коню, то хотя бы по оглобле, — вздохнул с печальной иронией старик. — Поэтому я и решил их опередить. И привязать вас, извините за слово, хотя бы к какой-то медицине… Здесь документы, оформленные задним числом, вам осталось только поставить подпись. Это значит, что вы работаете при нашем аптекоуправлении как заготовитель лекарственных растений. И дома вы почти не бываете — собираете в горах сырье… Но работа есть работа. Здесь перечень, сколько чего надо сдать к концу лета. Все другое — моя забота. На этом прощайте, брат, до осени! Прошу вас, не долго собирайтесь. — Но не спешить же так, как мертвецу рубаху шьют? — Вот именно, спешить. Самое позднее — до утра. Да, еще о вашей зарплате… Деньги будут только к осени. Как-то выкручивайтесь. — Пустое. Свадьба рубаху найдет. Мужчина в белом халате пожал дедову руку. Мне даже показалось, что он хотел его обнять, но тут с машины крикнул шофер: "Профессор, вас вызывают по рации!" Старик повернул во двор. Молча стоял и смотрел, как я работаю. Я почти физически чувствовал его внимательный, дружеский взгляд. — Были гости? — спросил я, словно ничего не слышал. — Были, — тихо ответил он. — Иногда мне кажется, что время обо мне забыло. Но не люди… Оставь зелень в покое. Пусть растет себе, как знает. Она зеленеет и цветет не для кого-то, не ждет на чужую похвалу и любование. И в этом ее молчаливая мудрость. А мы все делаем для чего-то и длякого-то. И нам за это платят. Кто чем… Он говорил это, как всегда, словно сам себе. Так шепчут листья на дереве, так журчит ручеек, гудет шмель. Правда, выглядел он сейчас более задумчивым, чем обычно. Поднял с дорожки сундучок с инструментами и зашел в мастерскую. Впервые за все это время он не пошел "в работу", а остался дома. Приводил в порядок двор. Я тоже для отвода глаз искал себе занятие. Был готов к тому, что придется прощаться. Ждал, когда он поведет об этом речь. Вечером дед и вправду обратился ко мне: — Ты ждешь от меня ответов. Все ждут ответов от того, кто готов отвечать. И не догадываются, наивные, что тот прочитывает ответы в их голосе, в их глазах, в душевном строе. Ибо в большинстве вопросов уже есть то, что хотят слышать. А в остальных вопросах нету для человека утешения… И я был таким, как ты, и не было вокруг того, кто бы посоветовал. Я должен был учиться слушать мир. Если мысль не приходила, я шел за ней в горы. Поднимался на гору каждое Божье утро вместе с солнцем. А затем спускался. И ответы прикатывались мне под ноги… Понимаю, сколь чудно это слышать. Но ты можешь и сам в этом убедиться. — Каким образом? — Завтра выходим в горы. Пойдем с первыми росами. Готовься. Я не ждал такого поворота. И не ждал этого тона, не допускающего каких-либо возражений. Поэтому согласно пробормотал: — Хорошо, но я не знаю, что брать с собой. Никогда не забуду выражение его глаз. Его взгляд скользнул по мне, и в нем смешались и удивление, и сочувствие, и поощрение. — Когда не знаешь, что брать с собой в путь, возьми одно — молитву… — промолвил тихо. И я взял с собой только смену белья, несколько книг и ту синюю тетрадь. В тот вечер я записал туда еще одну фразу, сказанную стариком профессору: "С людьми теми хлопоты со всех сторон. Если будешь жить близко возле них — будешь для них потерян. Если далеко — утратишь их сам ”.Богоспасаемый мир
Вышли мы ранним утром, и когда забрели в молодую кольчинскую рожь, солнце уже пробежалось по колосьям. Парной туман разошелся по полю, и из-под него, как из-под теплого руна, слышались голоса перепелок. Мы словно плыли в этих сизых свитках, освежающих наши лица. Шли налегке: старик с полупустым выцветшим заплечником, у меня вещи за пазухой. Вся одежда была на нас. Мне еще досталась мятая фетровая шляпа — так званая крысаня. В ней, да еще хорошенько заросший, я тоже был похож на моложавого деда. — Рассветная мгла — предвестник погожего дня, — отозвался старик. — На Талагия большая надежда. Сегодня его день. Правда, будет жарынь. Видишь, какие росы сбиваем? Я не только видел, но и чувствовал — мокрый был уже по пояс. Из Латорицы тянуло сырым лепехом и рыбным духом. Ветерок со стороны реки развеял туман и словно разнес по полю огоньки маков. Я сорвал несколько цветков, которые тут же в руке сложили свои нежные, как девичьи ланиты, лепестки. — Горят, как жар, — сказал дед. — Будто бы червленые червецом. — Чем? — переспросил я. — Червецом. Букашка такая. Ею красили нитки, которыми вышивали потом цветы. Такое шитье не выгорает. Бывает, потускнеет с годами узорчатый рукав, выветрятся цвета, а червецовый узор горит, словно мак… Собирали червец только в июне, тогда созревали его соки. Вот тебе и июнь! Может, поэтому и называют этот месяц у нас так — "червень". А может, потому что черешни поспевают в эту пору. И гусень сейчас живо плодится в садах. И пчелиные матки сеют червей-личинок… Здесь долго можно гадать. Намного легче с названиями июля и августа — "липень" и "серпень". — Червец, — и я попробовал это слово на вкус. — Может, от него и червленые знамена? — Да, и шелковые багряницы — одеяния нашего панства. Даже сакос, царское убранство. И все это благодаря красителю из маленькой букашки. Сильнее всего процветал этот промысел за нашими горами, в галицкой земле. Поэтому купцы, которые со всего мира приезжали сюда за товаром, называли ее Червоной Русью. То есть Красной. Вот тебе и букашка! Мал золотник, да дорог. Красным колесом катилось по горе и солнце, подгоняло нас к редкому шатру перелесья. Обок трещала узкая речушка, здесь уже другая — подвижная, острая, горная. Перебрасывала через зубья камней жемчужную пену Старик часто останавливался, подбирал невидимый в папоротнике гриб и бросал в рюкзак. Будто невзначай, наклонялся изредка и за травами, срывал их. Получалось это у него легко, прихватом, привычно. Его глаза действительно видели "что-то", вмиг находили нужное, а руки ловко это выхватывали. В этом улавливалось какое-то сходство с птицей, добывающей из коры личинок. Скупой в движениях на своем подворье на Поповой горе, здесь он был в своей стихии, на приволье. — Ужин уже в торбе, — ободряюще бросил мне. Но я все еще не понимал, куда мы идем, с чем и за чем. Тем временем солнце выплеснулось в чистую синеву и побелело. И забелило полуденный простор. Даже землю под ногами. — Ты ходил когда-нибудь по белой дороге? — неожиданно спросил меня старик. Я отрицательно покачал головой. Потому что и вправду по таким дорогам еще не хаживал. И вообще, что я знал тогда о дорогах?! А тем белее про Путь. — Супесь, — добавил мой попутчик как нечто само собой понятное. Мы шли все вверх да вверх, опираясь местами на отполированные дождями жерди ограждений. Иногда на забор вылетал петух и провожал нас острым и независимым взглядом. Я с опаской обходил его. Здесь, у подножья горы, деревянные избы стояли так близко одна возле другой, что соседи могли бы дотянуться друг к другу из окон чарками. Как в полусне, звенели где-то косами невидимые косари. А над церковью, что осталась позади, завис белый дым голубей. Село резко обрывалось и начинались заросли ежевики. Возле крайней избы мы сели на скрипучую лавку. Я достал солдатскую флягу, но воды в ней уже не было. Видимо, из окна за нами подглядывали живые глазенки, потому что в тот же миг, когда я задумчиво капал остатки воды в яичную скорлупу, на улицу выпрыгнул парнишка с кувшином, едва не больше чем он сам. Щербатая глина креши остро пахла малиной. А вода… бывает так, что вода, словно редкостные запахи, неожиданно оживляет в памяти давно позабытую картину. Пока я пил, прикрыв глаза, вспомнилось мне, как мы в интернате кормили медведицу Машу. Ее еще медвежонком подарили школе лесники, и она взрослела вместе с нами, обгоняя в росте парней и девчонок. Больше всего нас развлекало, как Маша разворачивала конфеты — в ход шли и когти, и зубы, и черная пуговичка носа. Но конфеты мы тоже любили, и их немилосердно не хватало. Поэтому в клетку чаще всего летели подделки — обернутые камешки. Маша долго сопела над каждым "гостинцем" и когда наконец обнаруживала обман, печально чесала за ухом. А мы дружно смеялись… — Такой водой достаточно смочить губы — и можно идти дальше, зная, что уже не умрешь, — сказал старик, прижимая к груди кувшин, как мать ребенка. — Да что там? — совсем по-взрослому обозвался мальчик. — У нас целый колодец этой воды. Некому и пить. Федя в армии, мама в своем клубе с утра до вечера, а отец где-то в Казахстане. Нашел себе там одну. Рубашку мальца тянула книзу пестрая шеренга значков — наверное, туристы благодарили его так за вкусную воду. У меня не было чем пополнить его коллекцию. Достал из кармана баночку сгущенки, завалявшуюся среди моих пожитков, и протянул мальчику. — Не надо, — махнул тот рукой, рассматривая свои босые ноги. — У нас корова. — Это к чаю, — сказал я. — Мы чаи не пьем, — убил овода на коленке. — Тогда с водой. — Скажете тоже — с водой, — удивленно посмотрел сначала на меня, потом на деда. На заборе запел, как пионерский горн, рябой петух. Малец пригрозил ему кулаком: — Ну-ка замолкни — ребятенка разбудишь! Но петух непокорно потряс лоскутками бороды и разинул клюв для нового крика. В то же мгновение старик проворно подбежал к нему с поднятой ладонью. Петух замер, как заколдованный. Пальцы деда приблизились к клюву и сжали его. Второй рукой он ухватил крыло и перевернул птицу навзничь в траву. Минуту дед подержал возле петушиных глаз два пальца, пока тот вяло не сомкнул веки. Тогда старик спокойно отошел. Мальчуган даже зашелся от удивления: — Дедушка, как вы это сделали? Научите и меня. Может, и малого так можно успокоить, когда ревет не переставая? — Нет, парень, на душу людскую шикать не годится. Пусть плачет, коли ей хочется… И мы пошли дальше по белой дороге, мимо заброшенной лесопилки. Я оглянулся через минуту. Мальца уже не было. Жестянки со сгущенкой, которую я положил на лавке, тоже. Мне еще никогда не приходилось идти по такой белой дороге. Колея закаменевшей белоснежной глины, будто рассыпанная чумаками когда-то соль, волнами плыла в сторону соснового бора. — Это грех — топтаться по такому диву в ботинках, — сказал старик и вправду сел расшнуровывать обувь. — Такие дороги, видимо, и к раю ведут… Мы перебросили связанные ботинки через плечо и пошли дальше, обходя босыми ступнями рыжие ежики шишек. Лес дышал нам в лицо могучей зеленой грудью. Деревья расступались неохотно. Под их густыми тенями, что ощущались почти физически, накатывало такое же густое, какое-то первобытное спокойствие и уверенность, что ты вечен в этом мире. Незадолго нам встретились по пути два болотных блюдечка с дождевой водой. Одно из них высохло до кофейной гущи, в которой доживали последние часы полусонные головастики. Второе, гораздо полноводнее, не было заселено этими существами. Старик опустился на колени и с улыбкой промолвил: — О небо, подай дождя этим бедным лягушачьим детям! Достал острый камень и обеими руками принялся долбить в затвердевшей земле канал с одной лужицы к другой. Когда мутная жижа до краев заполнила пристанище головастиков, он заградил его глиной, перемешанной с хвоей, словно маленькой дамбой. И вытер руки листом папоротника, не срывая его. А потом мы лежали на лиловом одеяле чабреца под руинами старой-престарой каплицы. Сквозь прикрытые веки просвечивало солнце, и ветка шиповника, свисавшая над головами, казалась телесно-розовой, словно морские кораллы. Мир застыл в полуденной дреме, даже тишина заснула, только изредка тревожил ее самолетным гуденьем одинокий шмель.
— Хорошо тут, — выдохнул я, растроганный. — Здесь заканчивается суета, здесь дышат земля и судьба. Богоспасаемый мир. Около ручья я сорвал пучок цветов. Они виднелись издали — эти живые искорки в зеленой пелене разомлевшего луга. Ярко-фиолетовые цветы росли то тут, то там в гордом царственном одиночестве. — Центории… — прошептал дед, словно голосом можно было их испугать. — Сейчас это редкостные цветы. Во времена моего детства они обильно росли вокруг, и мы целыми охапками носили центории в еврейскую корчму. Там за них насыпали нам в ладошки немного сахара. И мы слизывали желтые крупицы долго-долго, и вечером не мыли руки, чтобы ладошки и завтра казались еще сладкими. Мне до сих пор цветок этот пахнет тем сахаром. — Интересно, а почему ее так назвали — центория? — спросил я. — Возможно, от слова "цент", сантиметр. Лепестки как раз в один сантиметр, — размышлял он. — А, может, потому, что цветок этот гордый и неприступный, как римский центурион… На солнцепеке сорванные цветки, словно утомленные бабочки, сложили крылышки-лепестки. И мы тронулись, чтоб поскорее укрыть их под влажной свежестью леса. На ароматной траве после нас остались горячие отпечатки тел. "Чабрецовые саркофаги", — отметил я про себя. Во мне снова просыпалась потребность играть со словами. .. Больше никогда в жизни я не встречал белые дороги. Как знать, вспомнил бы я эти наши дороги, не найди сейчас в синей тетради между страниц засохшую бледную центорию. А рядом — записанные слова радости, услышанные от своего спутника: ".Жизнь преходяща и тленная, все придется когда-то покинуть. Останутся только пойманные мгновения счастья. Такие, как сейчас…"
Горовое гнездо
Мы прибыли к месту еще до темноты — "разменяли день". На самой горе, в просветах густого сада, серела халупа. Хворостянка, как объяснил старик, мазаная глиной и отороченная для тепла кукурузными стеблями. Дабы не упасть на ветру, она прислонилась к щербатой скале. Издали это жилище скидывалось на заброшенное гнездо огромной птицы. Дверь, подпертая хворостиной, встретила нас старозаветным скрипом. Здесь давно не обитали, но что удивительно — совершенно не чувствовался затхлый дух. Наоборот, я, смакуя, втянул ноздрями острую, почти озонную свежесть. — Горная соль, — кратко объяснил старик. Суть этого я понял позже. Скала, которая служила здесь задней стенкой жилища, замерцала при свете свечи. Это были кристаллы соли. Грубой горной соли. Первое, что старик сделал, — отколол пластинку и бросил в котелок. Я не успел оглянуться вокруг, как он уже накрошил грибов, порубил собранное зелье и развел огонь в печи. Пока готовилось варево, нарезал кружечками картошку и положил на горячую плиту. Картошку он достал из своего заплечника, а еще — бутылку масла, упаковку свечей, спички, инструмент, несколько книг. Вот и вся его ноша. От печи и каганца потянуло обжитым духом. Мы поужинали в сенях. Старик тут же и постелил себе. А я лег в боковой комнатушке на лавке. После дневного перехода спал, словно камень. Хотя утром и чувствовал каждое ребро. Позавтракали тем, что осталось со вчера. Старик посолил и сдобрил маслом зелень. Пучки солнечного света играли на стене, и она переливалась, словно огромный бриллиант. Такую же соль я видел у него дома под кроватью. В моем взгляде, наверное, читался вопрос. Позже я привыкну к тому, что он будет их считывать глазами. — Очень полезно дышать солью, — объяснил он. — И легкие очищаются, и для кожи защита, и рассудок светлеет. Соль дает прыть всему естеству (взбадривает все естество), укрепляет каждый орган. Почему говорят: носится как присоленный? Говорят, а почему — и невдомек. Соль не только замедляет старение, так она еще и взбадривает человеческую натуру, помогает выбрать правильное решение… Умник Илько знал об этом. Поэтому и прислонил свою хижину к соляной скале. Но постарел человек, вошел в годы. Тяжело стало одному здесь куковать. Спустился в дол доживать век, к дочери. Подворье опустело, но для меня стало хорошим приютом в моих летних "бродах" (путях, странствованиях), когда захочется подышать небом. Я вышел во двор, окунулся в роскошь простора. Ничего здесь, на самой вершине горы, не мешало взору. А небо лежало прямо во дворе. Мне тоже захотелось "подышать небом". После соляной коморки здесь пахло кислым ветром. На все стороны сбегали вниз пестрые луга, не тронутые еще косами. И лишь далеко внизу жалось к самой кромке сосняка селение из десятка-второго подворий. Кое-где шевелились, словно кузьки, фигурки людей и скота. Мы были на самой верхушке, над всем миром. Среди такой красоты, что оставалось только дышать и молчать. — Сколько мы будем здесь? — спросил я. — Сколько эти птицы, — старик кивнул на стайку мелких птиц, которые кружились, словно мошка, в синеве неба. — Когда они улетят за теплом, тогда и мы… Чикотнями зовутся. Тоже любят высь. Единственные птицы, которые не боятся ястреба. Уничтожают его. — Как? — воскликнул я удивленно. — А так. Слетаются стайкой вверх и испражняются на ястреба. Крылья у того так и слипаются. Их разъедает кислота… Такое птичье коварство. Совсем как среди человеческого племени. Сколько между нами такого отребья, что одним только дерьмом и может победить того, кто сильнее… Он неотрывно наблюдал за птицами. И взгляд его становился острым, как кончик спицы. Словно они что-то ему писали на небе. Тогда обернулся и указал пальцем вдаль: — Видишь иглу мачты над сизой горой? Мы пришли оттуда. Глаз видит расстояние одного дня пешего перехода. Я до слез всматривался, но ничего не видел. Да что там даль? Этот дед не единожды выхватывал гриб прямо из-под моей ноги или предостерегал, когда я чуть было не поскользнулся на мокрой тропинке. Еще к полудню он вышел "в броды". Так называл прогулки за зельем. Возвращался с плахтой за спиной и говорил: "Кого кормит луг, у того твердый дух”. И приносил целыми охапками этот "луг" — зелье, коренья, цветы, ягоды, грибы. Мои опасения, что же мы здесь будем кушать, понемногу отступали. На следующий день пришел к нам первый гость. На коне. Кляча была худая, а мужик в теле. Между собой они были похожи вытянутыми зубатыми ртами. Коню мешала узда, а человек не закрывал свой рот ни на секунду. Тарахтел без устали, заискивающе бегая татарскими глазками. — С Илькового горба потянуло дымом. Я унюхал и понял: дед Андрей печет свой ореховый хлеб. И давай сюда, чтобы поклониться. — Твой нос водит тебя за нос, — улыбнулся дед. — Хлеб я еще не пек. Жду, покудова принесешь от Бецы муку. Ржаную, молотую жерновами. — Знаю, знаю ваши вкусы. А мы уже к покупному хлебу приучились. — Оно и видно. Носишь на себе мешок сала. Пузо растет от недоброго хлеба, не от мяса. Ну, носи себе на здоровье. — Да где на здоровье, уважаемый Андрей! В животе у меня к ночи печет, режет. — Кушать меньше надобно. — Насколько меньше? — Дели хотя бы пополам. — Ой-ой! Так я совсем похудею. — И худей. Земле станет легче тебя носить. А вторую порцию отдавай кобыле. Имей Бога в сердце — так замордовать животное… — Лошадка в работе, Андрей. То лес, то пахота, то одно, то другое. Сейчас уже полегче. Теперь, когда вы здесь, хотел бы я и за своим здоровьем присмотреть. — Придешь завтра — приготовлю тебе траву. За живот свой не страшись — дыханье чистое, глаза не сухие. Но порцию урежь… Будешь идти, не забудь прикупить мне муки. Мерку-вторую пусть смелет Беца. Вот деньги. — Какие деньги?! Не позорьте меня, вечного своего должника. Да и Беца с вас не возьмет ни копейки. Надолго ли в наши дебри? — Лето пробудем с Божьей помощью. — Это хорошо. С вами здесь и мы люди. Гость неохотно распрощался, оставив на колоде банку молока и жирный сверток. Уже на втором выверте тропинки догнал его дедов окрик: — Передай людям, Штефан, что я здесь при работе. Времени на сказки у меня нет. Пусть себе не выдумывают пустые хвори. Я им не фельдшер… А об ужине своем забудь. Кружка кислого молока — и будет с тебя! Мужик радостно замотал головой. И конь тоже, словно обезьянничал. — Э-эх, скорее собака станет щипать траву, чем этот голодать, — тихо произнес старик. И склонился к беленьким цветочкам, рассыпавшимися по траве яркими бусинками. И погладил их нежно, как ребенка по головке: — Маленькие мои, дождались… Мне показалось, что цветки ему улыбнулись и своими ротиками, и глазками. На следующий день я подхватился с раннего утра. Потопал к кринице, что журчала из-под дуплистого явора. Совсем близко звенела коса. Срезали траву в лад, с присвистом. Сквозь заросли ежевики белела рубаха. Я пошел туда. Мой дед поднимался по плаю с первым укосом "луга”. — В добрый час твоей работе, Иван! — поздоровался с косарем. — И вам доброго здоровья, дедушка. — Здоров косишь? Как сено? — Сено такое, что даже попадья, присолив, съела бы в пятницу. Спешу, пока роса. — Оно так, с косарей пот — корове полон рот. — Точно. Поэтому и хватаемся. Потому что лето мигнет, как один день. А чего, скажите, провещает нам нынешняя Олена? Старик сорвал какую-то травинку. Посмотрел на нее против солнца, прищурился. — Олена зелена. И сухотела. Такая и осень будет — сухая. Как теперь — с ложкой болота. А средилетье покропит нас. Покропит и погремит. Правде быть, без молний. Что тебе сказать, Иван? Трава и мед в этом году будут хорошие, а вот хлеба не очень. — Эка беда! Хлеб сегодня дешевый, а мед купим. Мой отец пасеку держит в Заломе. — Знаю. Я его мед в опару кладу. А как Митро? — Благодарить Бога, не хуже, чем в том году. Зато младший брат очень подупал. печень его мучает. И аптека не помогает. — А что кушает? — спросил старик. — Как и все. Что на столе. — Пьет? — Хм, ну выпьет, когда есть что. Не буду обманывать. — А при какой работе состоит? — В пекарне. Сторожем. — С этого следовало и начинать. Передай своему брату, что я велел сразу же бросать свою пекарню. Пусть выбирает: или работа, или здоровье. Это будет первое лекарство. — А почему? Работа у него хорошая, каждое утро несет домой авоську хлеба. Да и на работе не голодает… — Это его и губит. Глаза всегда жаднее живота. Запихивает в нутро горячий хлеб, да еще и макает в пережаренное масло, которым смазывают формы. А это страшный яд. Не выстоявшееся тесто продолжает бродить в его потрохах, разрывает печень. А братец, дабы заглушить боль, заливает ее водкой. Да, на полдня печень утихнет, а потом… Хорошо, что еще болит, не убита совсем… В аптеки они бегут за здоровьем… — Я его завтра причащу, отец, — блеснули острые, как лезвие, глаза косаря. — Увидит он у меня Христа живого! — Расскажи ему, какой еды должен придерживаться: каши, творог из собранного молока, блюда из овощей, сушеные абрикосы, тыквенные семечки, вареные в крахмале ягоды, изредка рыбу и курицу. Хлеб только подсушенный, а пить — чаи с ромашки и шиповника. Такая еда для печени — самая лучшая аптека… А пекарню пускай бросает с легкой душой. Там, в этом перегреве, еще и дышат дрожжами, которые затем грибом оседают в легких. Знали бы вы, что это за дрожжи в вашем дешевом хлебе!.. — Большое спасибо вам за совет. Если б еще сказали вы, какую погоду ожидать на субботу Овец собираемся гнать. — Я б на твоем месте, Иван, на полонину пока не собирался. Чувствуешь, как пахнет мята? И вода в потоке потемнела, и клен "плачет"… Ты еще дома присмотрись, веселы ли овцы. — Очень! Бараны даже бьются. — Это знак предгрозья. Как раз на двое суток затянется. — Чудеса! — не удержался от восхищения косарь. — И откуда вы это все знаете? — Ежели бараны знают, то как не знать человеку? — тихо промолвил старик. Смешные вещи он всегда говорил с серьезным видом. А серьезные — с улыбкой. Словно смягчал приветливостью, сердечной теплотой суровое содержание истины. Потом его остановил другой косарь, старший, с угрюмым, нелюдимым взглядом. И они отошли в сторонку. Тот, уткнув косовище в землю, что-то заискивающе объяснял, помогая себе при этом руками. Ветер теплыми волнами прочесывал взгорье, рвал голоса, и до меня долетало не все сказанное. -.. И тогда я, отец родимый, чуть души не лишился..-. Виноват, вокруг виноват… — Ну. не один шел за шерстью, а вернулся стриженным, — нехотя отвечал старик. — Э-э-э, здесь не найдешь таких слов, чтобы объяснить, что я тогда пережил… В сравнении с этим смерть благом покажется… — В этом я вам не помощник. — А кто же, как не вы, милостивец вы наш? — Сами знаете Кто. Кого молитвами надо просить… Вы хотя бы верите? — Все мы во что-то верим… — Я не спрашиваю обо всех. Вас спрашиваю. — Да верю… — Просите покаяния, молите для себя прощение? — Куда я денусь?.. Успею еще по церквям набегаться. — Ждете, когда вас другие в церковь понесут? — голос старика каменел. — Ступайте к Богу сами, пока есть чем. — Да-да, конечно… Я думал, вы мне пособите чем-то… — Послушайте, вы пришли за духовной помощью к тому, кто сам каждое утро просит себе крепости на день, а вечером благодарит за это. Просит — и получает. Почему б и вам не попросить? — Не знаю… О вас идет такая молва… Что сочувствуете всем, справедливый… — в голосе косаря прорывалось раздражение, а может, и нотки насмешки. Во взгляде появилось что-то недоброе. Глазами он ломал встречный взгляд. — Справедливый, говорите? Вы справедливости желаете? Тогда пойдите и заявите о себе на суд людской — и подучите свое. Не знаю, снесете ли столько?! — Да я вам как отцу родимому рассказал, а вы… — А я вам как сыну говорю: просите для себя не справедливости, а милосердия. И отступитесь от греха. В сию же минуту отступитесь. И мыслью, и сердцем. И несите то послушание до конца. Хотя это и нелегко… — Забросил корзину на спину и пошел. А косарь остался стоять, словно прибитый громом. Я ловил каждое слово, принесенное ветром. И они имели запах, эти слова. В них было какое-то потаенное содержание. Какая-то тревога, оплодотворенная надеждой. Здесь не так разговаривали, как в городе, где словеса текли заунывно, словно вода из незакрытого крана. А общение зачастую было просто данью этикету либо чтобы заполнить затянувшиеся паузы. Здесь же слова имели вес и ложились густо. И хотя подбирали их, казалось, легко, но тщательно. Так и плелось соцветие разговора. Чин беседы. Я видел, что старик возвратился совсем без души. Перегодя я спросил его, что это был за человек. — A-а, выветренный камень… — Лицо у него злое, — сказал я. — Не знаю… Люди, может, и не злые, но очень запуганы… И грешат. И набираются еще большего страха… У него не было желания дальше разговаривать. Но я потом видел, как он, прислонившись к дереву, не мигая, наблюдает за этим пожилым косарем, который, волоча за собой сложенную косу, уныло плелся вниз. Шел так, словно тянул на себе незримую копну. Дед, тяжело дыша, съедал глазами крохотную сутулую фигурку. Казалось, уста его что-то шепчут. Только под вечер проронил он несколько фраз, словно бы самому себе. Я записал их в синей тетради: "Не равными мы приходим на свет — равными уходим… А бывает — и наоборот… Ох, не просто выровнять кривое дерево. Очень не просто… Господь нынче обеими руками оберегает мир, не то что в былые времена — одной хватало…" С тех пор начал я присматриваться к каждому его движению, ловить каждое слово. И спрашивал себя: кто же он, этот человек, который привел меня, как слепого теленка, на эту гору?..Держава трав
Утром он позвал меня на "свои броды, в гости к лесу". За садами, где начиналась луговая воля, он разулся и положил ботинки в заплечник. И торжественно произнес: — Здесь, где не слышно петушиного крика, начинается держава трав. И вступать в нее надобно с чистыми ногами и помыслами. По давнему обычаю следовало бы еще и искупаться в росе. Так поступали древние".лекари". Ца еще брали с собой на промысел скамейку, сбитую из дощечек девяти хвойных деревьев. И становились на колени, дабы зелье не утратило силу. Это мне открыл Кукумир, великий травник Алтая. Он был единственный, кто находил траву самтарин. У нее всего четыре листика — желтый, синий, красный и багряный. Он носил ее в кожаном мешочке на груди и никому не показывал. Хвастал только орлиханом, который растет там, где паруются орлы. Из остатков их семени и прорастает орлихан. А когда Кукумир ослеп, рассказывали, то отыскал и рождественскую траву, которая приносит большую удачу рыбакам и помогает переправиться через самую бурную реку… Это был последний волхв, который сидел в чащах, словно замшелый пень. Забыл и лета свои, и речь человеческую. Но я его разговорил, потому что прошел когда-то хорошую школу флоры у румына Джеордже Вадаску. В Трансильвании. Нам было о чем разговаривать с таежным дедом… Пряные ароматы смешивались, и от этого кружилась голова. Цветы неслись нам навстречу друг перед другом, каждый со своим ароматом. Я шел, словно пьяный, в голове гудели пчелы, стрекотали кузнечики, трещали деркачи. Но как он, мой поводырь, ориентировался в этом кипении звуков и ароматов?! Будто плыл по грудь в травах. Плыл, точно угадывая направление. Находил то, что искал: совсем крошечные островки неприметного зелья или несколько стыдливых соцветий. И кланялся им. И меня учил, как брать растение, каждое своим способом. Не было ни лопаты, ни ножа, ничего. Только руки. Правда, для кореньев он мигом сделал себе маленькое приспособление. Разбил камнем кость, подобранную где-то, и ее осколком разгребал корневище. Его пальцы живо, слаженно хлопотали в земле. Он брел впереди с ивовым прутом, и птицы касались крыльями его рамен. Я их не интересовал. Я не выдержал и спросил, в чем дело. — А ты их не угощаешь, — улыбнулся. — Как это понимать? — насторожился я. — Видишь, я ступаю высоко, сбивая с отавы (.молодой травы) букашек и жучков, еще и палкой помогаю себе — птицы и летят к поживе. И благодарят меня. Все у него было просто. А для меня чудно. Собранное перевязывали осотовыми перевяслами и оставляли в обозначенных вехой тайничках. И шли дальше, растворяясь в душистой мгле поднебесья. Мы потыкались то в одну сторону, то в другую, петляя по склонам горы, спускались во влажные яруги. Заветные травы водили нас по какой-то странной, только им известной карте. Получалось так, словно они, как и звезды на небе, посеяны здесь, на земле, в такой же гармонии между собой. И старик считывал этот потаенный рисунок. А я ходил за ним, как заблудший теленок. — Божий день, — объяснял утешительно. — Травы сейчас вступили в большую силу. Напоенные солнцем, прислушиваются к далеким облакам, тянут из корней густые восковые соки. Поэтому и пахнут так остро и так далеко. Это первый признак зрелости. Лучше всего брать траву в такой час, когда солнце показывает уши. — Что показывает? — мне показалось, что я не расслышал. — Приглядись из-под ладони: солнце будто бы троится. И действительно: по обе стороны раскаленного круга блестели два бледных нимба. — Когда солнце спрячет уши, придет дождь, — сказал дед. — А пока у нас еще много времени, но все же будем держаться леса. На срезах подлесий и сырых балок мурава растет очень буйно… Ты не ходи слепо за мной, а высматривай и сам полянки самосевок. Когда-то должен ты начинать обучение. Я тоже влез в эту школу, как Пилат в Библию… Уважаемый Джеордже, мой милостивец в беде, открыл мне понимание того, что человек и трава — это одно сродное. Одними соками напоенное. И когда человек что-то теряет, трава ему это возвратит. Ибо ежели природа посылает болячку, то имеет от нее и лекарство. И произрастает не пустой бурьян — все есть трава Господня. И великая загадка таится в каждой травинке, каждая растет по какому-то предназначению. Как и человек. Ибо нет у Господа пустоцвета. Древние знали это, и зверье знает, и некоторые из тех, кто носит природу в себе, тоже знают… Травник Кукумир научил меня "приманивать" траву. Как бы это донести тебе попроще? Привольные люди ищут грибы, выслеживают зверя, высматривают целебное зелье. И не догадываются, что должно быть наоборот: гриб сам проявится, зверь сам придет к человеку, трава призывно запахнет, откроется. Так оно и есть, но не для тех, кто в жадности и слепоте топчет первобытное мирозданье. Это и называется "приманиванием" — то есть, перекликанием разумной природы с неразумной, но такой же живой, по-своему мудрой… — И этому может научиться каждый? — по-мальчишечьи спросил я. — Каждый может в какой-то мере замечать знаки, видимые в толщине мира. Но тонкий мир мало кому открывается. Только тем, кто не вредит ему, кто знает и чтит закон меры. Закон вечности этого мира… Но я не закончил про науку ведуна Кукумира. Он умел "вытянуть" нужную траву из буйной таежной глуши, чуял ее за версту. И она шептала ему о своей готовности помогать, о своей целебной силе. — Как шептала? — Ароматом. Оглашала себя так. Человеческая хворь пахнет так, как и зелье, излечивающее от нее. Ибо что такое болезнь? Это вялость или засорение организма. Или его усталость. Когда-то правильно это понимали, говорили: немощность. Потому что какая-то телесная либо душевная частица утратила силу, мощь, воспалилась, стала немощной. И просит укрепления и отдыха. Как и все в природе, что постоянно меняется, светит и меркнет, цветет и высыхает, перетекает одно в другое… Вечное движенье мудрого равновесия. Не зря нам дано две руки и ноги, дабы распределять на них тяжесть; два глаза, уха, ноздри, легкие, почки, две части мозга, сердца и печени, две котомки с семенем… Чтобы смотреть вперед и назад, слушать мир и самого себя, нюхать и выбирать, вдыхать и выдыхать, отделять и оставлять, помнить и забывать, радоваться и горевать, очищать и потреблять, сеять и собирать… И когда эту согласованность и размеренность нарушить перенапряжением, чрезмерностями либо отравой греха — тогда одна из частиц начинает чахнуть и высыхать. Это — замирание живой природы в тебе. Врачи называют это болезнью и начинают бороться с ней, то есть, бороться с подупавшей человеческой природой, которая смиренно ожидает поддержки от Матери-Природы, вернее сказать, — от Бога. Первое, что просится на помощь, — зелье. Звери слышат этот зов сразу. Хорошо, когда и люди… Подслеповатый дед Кукумир чуял это едва ли не кожей. Мы бродили с ним по таежным буреломам, а он шамкал: "Травка эта очень хороша от "дыхавицы" (астмы). А эта — от чахотки. Та — от "сверби" (коросты), а которая — на хворь "жабную" (сердце), "каменную" (почки), "донную" (подагру), "чечуйную" (геморрой), "трясучку" (малярию), "златяницу" (желтуху), "камчуг" (артрит)… Земная сила через траву произрастает. Поклонись ей и набери. Запахи слушай, запахи! Прислушайся — и услышишь, что пахнет тленным миром. Это в мир, в тлен и понеси, и подай нуждающемуся, дабы исполнился закон…" Так говорил тот замохнатевший (заросший) дед-баильник. И я прислушивался. Еще раньше, возле профессора Джеордже Вадаску в Букурешти, я ходил возле мертвецов. Я слышал, что запахи от них идут разные. Запахи дозревших болезней, от которых те и скончались. Потом я приближался и к больным в лечебнице. От них шел похожий запах, только слабее. За теми запахами я различал их болезни лучше профессоров. До тех пор, пока пан Джеордже не открыл мои тайные способности… Я сходу угадывал диагнозы, даже не зная их названий, за три шага от болящего. Особенно, когда они не мылись за сутки до этого и были разуты. Я чувствовал это на нюх, но я не знал, как лечить. Присматривался к практике уважаемого Джеордже. Помогал ему готовить лекарство из флоры для его аптек. Это была книжная наука, сложная и громоздкая. А старец алтайский, можно сказать, оплодотворил ее мудрой простотой, духом природы. Другими словами — открыл мне дух травы. И круг стараний двух великих травников сомкнулся. Сошелся на мне. Поэтому я и топчу до сих пор этот ряст, прости Господи… Так вот кто он, этот мудрый молчун в сандалиях, сделанных с автомобильной шины! Человек, который носит в себе жадность к знаниям природы. Для меня приоткрылась узенькая щелочка в новый мир человеческой сущности. Собственно, это был отдельный мир, обособленный в своем самонаполнении. Мир в мире. Мир Светована. "Набирая луг", он, походя, рассказывал мне про зелье. Помнится, возле дубового леска мокрые луга всецело желтели бородавником, чистотелом по-книжному. Его еще называют ласточкиной травой, потому что идет в рост, когда ласточки прилетают. А с их отлетом и сам уходит. Здесь, на мокрых глинищах, он рос густо, выгоняя под самую грудь. — Это первое лекарство при внезапной боли, лихорадке, при ломоте костей, — объяснял старик. — Останавливает кровь, чистит нарывы и струпья, помогает даже при туберкулезе кожи. Ценят его, когда зубы болят, им же изводят муть на глазах, бельмо. Очищает зрачки, носовые проходы и мозг… Не смейся, так оно и есть. В голове нашей собирается "злая вода", ей нужен выход, отток. Здесь и пригодится ласточкина трава. Исправной метелкой выметет из утробы слизь, избыток желчи и все ненужное… Как раньше люди узнавали целительное зелье? Ежели становилось лицо у человека желтым — давали ему бородавник с желтыми цветками. И помогало. Закололо в боку — бери колючий чертополох. Тошнит печень — запаривай печенницу. Ее лист аккурат такой формы, как печень. А чистотел и впрямь освобождает тело от разной нечистоты, как внутренней, так и зримой. "Священный огонь" (рожистое воспаление) на теле — и то гасит. А некоторые его называют еще "прозорником". За то, что зрение от него становится острыми. — Вы тоже читаете без очков… — Зачем мне носить стекла на носу, ежели у меня всегда под сволоком висит вербена, рута, шиповник и эта невидная, на первый взгляд, ласточкина травка. Правда, не такая уж она и тихая, сок у нее горький, словно жгучая отрава. Даже коза ее обходит. Для лекарства берут малую толику, чтобы добавить к соли. А чаще — смешивают с вином, рыбьим маслом, козлиным лоем, золой из чеснока, яичным белком или лягушачьей икрой… Когда солнце вошло в силу, мы спрятались под буковый шатер. Пошли в заросли ярко-пурпурных цветов, которые источали очень сильный, манящий запах. В непрестанном гудении висели над ними дикие пчелы. Высокие стебли с кудрявыми медовыми головками отяжелело отмахивались. — Божьи батожки, — сказал старик. — Что? — не понял я. — Так их называют. Или еще бараньими язычками, или бук-травой. Ежели пить эту траву с рутой, то почувствуешь, как от глазных яблок отходит дурная кровь, и в голове светлеет. И сердечный ритм выравнивается. В почках она дробит камень и изгоняет песок. Для этого хорошо употреблять ее со старым вином и перцем. А чтобы почистить легкие от мокроты и чада, бук-траву рубят с редькой и капустой и запаривают медовым квасом. Если кто-то упадет с высоты, забьет нутро, тогда ее варят в пиве с цикорием, подорожником и тысячелистником. Одним словом, божий батожок выгоняет из нутра всякое притеснение. Запаренный с солью, затягивает переломы, трещины черепа. Боится его всякая нечисть, даже змеи обходят, а мыши бесятся. Зато человеческая натура, наоборот, — уравновешивается. Эта трава давняя, как мир, как сизые буки, которые берегут приземную тайну… Ну вот, и моя душа причастилась к ее кротости. — Осторожно тыльной стороной ладони дед погладил нежно пахнущие колоски цвета. Я заметил, что граненные мохнатые стебельки батожков, колышась, не отгоняют пчел, а, наоборот, — словно тянутся к ним навстречу. — Срывай те, из которых слетела пчела, — советовал старик. — Ежели пчеле дались, значит, готовы и к нашим рукам. Мы увязали душистые снопы за спиной и вышли на дикое поле. И в заросших яругах, под лягушачье кваканье, выкапывали просвирник. Рос он редкими группками, очень высокий, с шелковистым пушком и стыдливыми цветками, похожими на мальвы. "Эй, красивые женушки!" — громко поприветствовал их мой спутник. Для меня он сломал какую-то рогатину, а сам подкапывал осколком кости. Когда я намекнул, что с лопаткой или ножом работалось бы быстрее, коротко объяснил: "Не годится ранить корень ножом". В его рассказах алтей-просвирник прорастал, словно из сказки. Когда-то это была первая солдатская помощь. Раны и ожоги заживляет мазь из корня алтея, воска, утиного жира и ромашки. Им же выгоняют яд, смазывают места укусов. При этом надо пить молоко смирной коровы. С гусиным жиром алтей успокаивает боль в суставах, воспаленных нервах и растянутых мышцах. Очень целебны грудные чаи с алтея при кашле, бронхите и пневмонии. Просвирник — главный компонент. знаменитого "рейнского вина", которым чистят от слизи желудок, печень и селезенку. А впрочем, он смягчает, гасит воспалительные процессы во всех органах. Где надо — сушит или, наоборот, — обволакивает целебной смазкой, связывает разрывы. Отвар на молоке пьют при чахотке, настойками лечат язву желудка и болезни кожи. — В свою бытность в лесу, — признался старик, — я мял его жесткие стебли и из волокон делал очень хорошие веревки. А ты сегодня попробуешь его корень на зуб. Время и об ужине подумать. И о сухом стойле. Слышишь, как лягушки шалят? Через час небо разразится дождем. Признаться, я давно ждал этого. С самого утра мы ничего, кроме земляники, не ели. А о том, чтобы вернуться домой через три-четыре горы, не могло быть и речи. Мы забрались в самую гущу Пузняковских лесов. Кто знает, сколько было отсюда к селу, о котором я слышал когда-то поговорку: "Махнул рукой, как Бог на Пузняковцы". Беспокоило иное: в заплечнике старика я не видел ни крошки съедобного. Только "луг". И я не удержался: — О каком ужине вы говорите? — Наберись терпения. Для каждой дыры найдется свой гвоздь. И тогда послышался тревожный грохот. Перевал резко затягивался темным свинцовым занавесом. В распаренном от жары воздухе завертелись-закружились первые порывы свежего ветра. Они и нас подхватили и понесли к притихшему потемневшему лесу. Я не поспевал за стариком. Его посох, как и ноги, чуть касался земли. Его выцветшая фиолетовая рубаха парусом вздымалась над папоротником и буреломами. Он петлял, прислушивался, принюхивался к чему-то. Остановился и бросил мне через плечо: — Есть места, в которых можно войти под землю. Но это не тот лес. Здесь нужно другое… Думаю, вот этот тополь… И мы пошли к огромному дереву, издалека видневшемуся среди редколесья. Не доходя несколько шагов, мой поводырь на ходу сбросил рюкзак. Мы обошли тополь, и я увидел подле самой земли огромное дупло. Целая ямища в корне дерева. — Вот и нашли мы на ночь приют, — обрадовано молвил дед. — Надеюсь, дядя Миша не рассердится. Я не понимал, о чем он. Был сбит с толку и неожиданной находкой, и белыми молниями, которые рубились в верхушках деревьев. Тем временем старик притащил несколько толстых жердей. Уперев их концами о тополь, прикоренки укрепил на земле камнями. И приказал мне: — Наломай еловые лапы и сложи крышей на этих стропилах. Будет защита для костра. А я выйду разжиться кое-чем, — и растворился среди зелени.
Во чреве дерева
Я ухватился за работу. Благо, что лохматые ели росли совсем рядом. И скоро над входом в дупло образовалась небольшая плотная крыша. Тогда я бросился собирать хворост. Когда тащил пятую вязанку, первые капли ударили по спине. Холодные и твердые, как град. Капли с силой били по листьях, это даже заглушило гром. Словно и вправду разорвалась туча, целое небо. К укрытию я добежал весь мокрый. Зато языки пламени жадно облизывали мой хворост. В лицо повеяло теплым дымом обжитости. Как это старик ухитрился вернуться и зажечь огонь, что я даже не услышал? И бревно принес откуда-то, чтобы было удобно сидеть. Старик поджег пучок папоротника и обошел с ним вокруг. Из самодельного факела сыпались искры, вился горький дым. — Это выгонит медвежий дух, — объяснил дед. Только сейчас, в свете огня, я заметил на стенах свалявшуюся шерсть. Кое-где язычок пламени успевал коснуться ее, и шерсть синевато воспламенялась. — Это медвежья берлога? — ойкнул я. — А чья же еще?! — Как же вы угадали, что она здесь? — Ну, как?.. Медведь чует меня, я чую его. То есть, его заброшенное жилище. Нюхом учуял, а глаза подтвердили. Медведи любят устраивать себе логово под старыми тополями. Мягко и тепло. Дерево поскрипывает, баюкает, подслащает сон. В эту ночь и ты испробуешь, как это — спать во чреве дерева. Но до этогонадобно что-то перекусить. Лес нам пожертвовал мясо, — кивнул на землю. На листьях папоротника лежал заяц и смотрел на меня удивленным мертвым глазом. На меху не было ни капли крови. Правда, вокруг тушки был силок из лыка. — Как вы его поймали? — вырвалось у меня. — Совсем просто. Если б ты был рыбаком, то знал бы, что перед дождем легче всего приманить рыбу. Точно так же и со зверьем. От грома некоторые чуть не в ступор впадают. Тогда их можно взять почти голыми руками… Я нашел след по свежему заячьему помету. Дошел до его норы и поставил на выходе силок. А выманить зайчонка — не штука, если знаешь чем… Этот ужин мы с тобой заслужили. "Возможно, что и так. — думал я. — но что он будет делать с дичью, если у нас даже нету ножа?" Но старик, похоже, не беспокоился. Подвесил серого за задние лапы к жерди. Тогда достал из шляпы толстую, как сапожная дратва, иголку. Царапнул ею вокруг лапок, потом вдоль животика. Под его умелыми пальцами открылась нежная розовая плоть. Дальше он продолжал уже без иглы. Я и не заметил, как он содрал шкурку. Острой костью надрезал шею и сломал позвоночник. Голову отбросил в сторону — "муравьям, чтобы нас не ели". А шкурку на рогатине подвесил. Тогда сделал на тушке разрезы и наполнил их травами с ароматом чеснока и укропа. Достал из кармана горсть серебристого лишайника, истолок на бревне и обмазал им тушку. — Этот мох, — объяснил, — вытягивает из камня соль… Если его порубить, выпускает зеленый рассол. Тогда мясо на вкус не будет пресным. Дичь он насадил на рожон, а концы его засунул в узелки лыковых веревок, которые перебросил через жердь. Притушил немного открытое пламя. Тогда той же костью ободрал коренья просвирника и закопал их в горячие угли. — А вот и сегодняшний наш хлеб. Я с восхищением наблюдал за его умелыми точными движениями, и мне казалось, что ощущение реальности покидает меня. Словно это происходило не со мной. Это была не столько работа, как привычный ритуал, молитва рук. Я не мог отвести глаз. И не мог не спросить его: — Кто научил вас этому, Кукумир? — Нет, я сам дошел до всего, когда вынужден был вековать свою молодость в лесу. Первое время думал, что пропаду, один, как перст. А потом пообвыкся и осознал, что я не один — с Лесом и его обитателями. И это, может быть, даже лучшая компания, чем люди. По крайней мере, добрее, честнее. Я им открылся, они мне… Вокруг снаружи хлестал дождь. Тугие, как жгуты, струи были по веткам, лупили по опахалам папоротника, по прошлогоднему листу. Дым от огня неохотно тянулся из-под елового крова. Жар от костра прогрел наше дупло, подсушил одежду. Мы сидели без рубах, впитывая кожей благодатную теплынь. Тело у старика было жилистое, крепко сбитое. Но немилосердно изувеченное рубцами, шрамами от ожогов, оспинами затянутых колотых ран. Следами злобного то ли животного, то ли человеческого мира. А, возможно, и одного, и другого. Тело охотника, воина, борца. Это никак не ассоциировалось с его приветливой, безгранично мирной натурой. И я, удивленный и тронутый увиденным, неожиданно спросил его: — Кто вы? Его не удивил мой вопрос. Он вообще редко удивлялся. На минутку задумавшись, ответил: — Я очарованный странник в этом мире. Светован. Где-то я уже слышал, что его так называли. Поэтому переспросил: — А что значит Светован? — Тот, который прошел мир (свет по-нашему) и идет дальше. — И куда ведет ваша дорога? — Я на пути к самому себе. — А что такое ваша очарованность? — Это печаль по недостижимому. Я смотрел на огонь и размышлял над услышанным. Словно языки пламени могли объяснить мне подспудный смысл этих дивных слов. Он выгреб из золы печеные коренья алтея и положил на ажурную салфетку листа папоротника. Отломил заячью ногу и протянул мне. Из холщевого мешка вытащил разной зелени. И я набросился на еду. Пока он раз укусил, я — трижды. Такого вкусного жаркого я никогда еще не ел. Мясо было нежное и ароматное. Наверное, от лесных приправ, которыми он обмазал дичь. А корнеплод вкусом был похож на жареный каштан. Буря перевалила через горы. В зарослях шелестел густой дождь, крупными опаловыми каплями скатывался с еловой крыши. Сытость и внутреннее тепло породили в душе умиротворение. Я подумал, что еще два часа назад не знал, где мы будем спать и что кушать… Впрочем, спать не хотелось. Жаль было терять эти магические, торжественные часы единения с ночным Лесом. Принадлежности к нему. По дороге мы не успели набрать воды, потому что "черпать из криницы после заката солнца не гоже". Старик скрутил лист лопуха и засунул под крышу — в деревянное ведерко побежала дождевая вода. — А ты? — повернулся ко мне. — Что я? — Кем ты себя считаешь? Не спросил "кто ты есть?", а "кем ты себя считаешь?". Наверное, это совсем не одно и то же: быть кем-то и считать себя кем-то. И я без малейшей утайки рассказал ему о себе все. Открылся, как никому дотоле. Казалось, мой рассказ слушал не только этот дед с прикрытыми веками, но и склоненная, отяжелелая от дождя крушина, и заячья голова в траве с печальными глазами. Я окончил повествование и облегченно вздохнул. Потом мы молчали. Каждый молчал по-своему. Казалось, он задремал. Но нет, внезапно его губы вздрогнули — и все тело напряглось. Глаза потемнели и сузились. Прислушивался к чему-то. Так же внезапно разулся, поднялся и вышел. Как был, без рубахи. Замер с приоткрытым ртом, словно ловил капли дождя. Отблески костра мерцали красными разводами на его мокрой спине. Старик помочился на землю. Тогда обошел наше пристанище и там закончил справлять нужду. Внимательно всматривался в лес, непривычно вертя поднятой головой. Словно прорезал мрак верхним, ночным видением… Я услышал, как шагов за двадцать что-то звонко затрещало. Дед, отступая мелкими шагами, нащупал в папоротнике голову зайца, забросил ее в лес. И крикнул вослед густым властным голосом: "Держи! Это твое. И обойдись этим!" "Он пометил территорию, — догадался я, — а сейчас бросил кому-то откупную жертву". Светован вернулся к костру, погрел руки. Все еще затемненный взгляд его был направлен как бы внутрь себя. От старика шел пар, рубцы старых ран влажно блестели, как яичный белок. — Не бойся. Все своим путем. Лес живет по закону распределения, и мы его не преступили. Будь спокоен, здесь безопасно. — Мне здесь лучше, чем дома, — пробормотал я, подбадривая сам себя. — Где бы ты ни был, ты дома. Потому, что мир этот — для тебя. Если будешь принимать его в себя таким, каким он есть, мир никогда не будет враждебным к тебе. Разве человек хочет быть врагом самому себе?! Знаю: душа твоя пребывает в сумятице. Я видел, как ты спишь. Как дитя в утробе — каждой частицей тела ищешь приютности, опоры. Спящий человек — "приявный” человек. Тело спит, а беспокойство души отпечатано на лице… ничего, очистится… — Что очистится? — не понял я. — Да это я так… Была бы душа чиста, а постолы почистим. Люди ломятся куда-то и зачем-то. Где б только нагреть место. Ищут себя и Бога для себя. Где-то. Считают, что хорошо там, где их нет. Проходя мимо добра, при этом, в родимой стороне. Пренебрегая великим законом — законом присутствия, который всюду дает нам доброе место и добрый час. — Что это за закон? — Быть там, где находишься сейчас. Не в прошлом и не в будущем. Быть — значит не делить цельность души и полноту дня. Это твое истинное благо. И оно всегда с тобою… А то, что тебе кажется, будто бы ты потерял… Оно не было твоим. Потому что свое нельзя потерять, как бы ни хотел… Учись жизни у пчелы. Она радуется каждому цветку и несет сладкий сбор в общественную кладовую, и не переживает о том, кто будет вкушать ее мед и будет ли завтра у нее самой еда. Она прежде всего кормит матку и трутней, делает задел для золотых сот, и только потом уже кушает сама. Мудрость ее — в радостном и бескорыстном труде. Может человек все умы съесть, а до того, что знает мелкая букашка, и не дойдет… И не поймет второй важный закон — закон востребованности. То есть — быть ценным для кого-то. Делай даже самое малое дело на совесть. Ибо тебе его доверил мир. И помогай достичь этого другим. Только тогда утверждается твоя ценность. И открывается для тебя ценность другого человека… — Но именно это я и потерял, — сокрушенно сказал я. — «За один день все потерял. — Что же ты потерял? Подневольную работу? Нет, это тебя потеряли те, кто не умеет ценить добрый и честный труд. И очень скоро пожалеют. Но это их забота, а не твоя. Все твои потери на этом заканчиваются. Люди тебя не понимают? Значит, ты делаешь то, что надо. Тебе тяжело? Это тоже хорошо, ибо поднимаешься вверх, сбрасывая лишнюю тяжесть… Ты потерял свою девушку? Да какая же она твоя — в чужих объятиях?! Признайся сам себе: ты думаешь о потере прелестных ног, груди, губ, которыми пользуется сейчас другой… Но ведь это же все временное, оно ни тебе не принадлежало, ни ему не будет принадлежать. А сердцами с ней вы не успели сродниться — этот узел тяжелее всего разорвать. Когда ты встретишь женщину, которая будет беречь свое тело только для тебя и, вместе с тем, беречь твое сердце, — ты поймешь, что она и действительно твоя. Навсегда и нераздельно. И за это подаришь ей надежность, свою порядочность, и характер будешь ровнять, и свои поступки… Ты потерял друга — это горькая правда. Но и в этой жалобе больше твоего самолюбия. То есть, ты жалеешь не его, а себя — за то, что лишился приятного времяпровождения в милом для твоего сердца обществе. Если он на самом деле остается в твоем сердце, пока это нужно тебе, — он не потерян для тебя. Пусть и дальше будет где-то в своих мирах, живой или мертвый, — какая тебе разница?! Главное, что ты жив. И ты в дороге, карабкаешься вверх. Напряжением тела, а особо — мыслию, верой… Теперь самое смешное из того, чем ты завершаешь список горечи твоих потерь, — казенный угол в людском муравейнике, где ты спал на чужой железной кровати, под чужим одеялом, среди чужих запахов. Что же ты имеешь вместо этого?! Тебя греет своим теплом дерево, укрывает звездное небо, а голову будет нежить заячий мех… Старик, загадочно улыбаясь, снял подсохшую шкурку и распорол ее обломком кости. Расстелил в глубине дупла на валик, сбитый из сухого папоротника. Указал на готовое изголовье: — Ложись и спи медвежьим сном. Медведям сны не снятся, потому что они ничего не боятся. И ты не бойся. Все уладится. Просека быстро зарастает. Бог намочил — Бог и высушит. Надо благодарить Его за то, что имеем, и Он даст нам то, чего нам не хватает. Я слушал его, и мой воробьиный мозг замирал. Дождь умолк, дымок от костра шевельнулся и застыл. Сладко потянулся в земле корнями тополь. Казалось, что Бог и взаправду совсем близко. — Это придет неожиданно, то, на что ты даже не смел надеяться, — говорил он почти шепотом, прищурившись к огню, словно считывал письмена безголосого пламени. — То, о чем и мечтать боялся. Придет, и ты даже не удивишься, насколько оно будет естественным, заслуженным. Это будет сама обновленная твоя природа. Новый отсчет душевного пути… Только не переставай стремиться к этому, не уставай просить и приближать его. Судьбу не ждут. Судьбу выбирают. Судьбу творят. — Я не знаю, с чего начать, — откровенно признался я. — А я знаю, — с неожиданным весельем заявил он. — Начинать надобно с воды. Из плаванья. — Из какого плаванья? — силился я окончить разговор, но это уже не я, а кто-то другой шевелил моими губами. И слова сплелись с цветочным кружевом, с луговыми ароматами, музыкой сверчков, молитвенным шепотом костра. — Сон бережно принял меня в свои объятья. Медвежий сон — без картинок, без тревожного соперничества с миром и самим собой. Спала у меня за пазухой и синяя тетрадь, в которой я успел, пока старик кормил невидимого зверя, записать: "Не привязывайся к людям всем сердцем, а тем более — не отдавай им свое сердце. Их много, а сердце у тебя одно”. Мягкое, но сильное дерево стояло над нами в ночном дозоре.Преломление хлеба
На следующий день мы и в самом деле купались. Вернее — он учил меня плавать. И я, выросший на Тисе и Реке под Красной скалой, познавал эту науку как еще одно откровение. Раньше я считал, что плавать — значит держаться на воде. А на самом деле — отдавать себя воде… Но об этом хотелось бы рассказать отдельно. После того, как расскажу о поживе, которая обеспечила сытостью наши насущные дни. О его хлебе. Дома нас поджидали две новости. Буря сорвала соломенную крышу с хлева, где мы сушили зелье. Только остался сереть ребристый, словно бока Штефановой клячи, верх. Зато Штефан оставил нам на завалинке мешочек муки, бидон с простоквашей и баночку меда. Словно издали хотел подсластить нашу неприятность с крышей. Как ни странно, но моего деда это происшествие совершенно не опечалило, ибо "крышу давно следовало обновить". Зелье мы перенесли под сарай. Старик научил меня вязать небольшие лесенки из жердин, на которых следовало просушивать влажную траву, а сам приступил к ворожбе с хлебом. Я видел краем глаза, как он насобирал шишек хмеля, затянувшего золотистой занавеской окошко на крыльце. Истолок их, смешал с мукой и медом, сбрызнул с руки водой, словно окропил, и размешал. Что-то пошептал и закрыл миску полотном. Мы снова вернулись к озеру, в котором утром "обмывали кости". Сам бы я его тогда и не заметил — спрятанное в лощине и всецело затянутое ряской. Светован раздвинул листья кувшинок, и озеро моргнуло любопытным темным глазом. Вода была пронзительно свежей и мягкой, как бархат. Теперь он из сарая притащил сюда для чего-то ржавый лемех. А мне велел прихватить ведра и мотыгу. К лемеху присоединил ремни из старой сбруи, подогнал их под плечо. Я уже привык не удивляться ничему, что он делает. Начинал привыкать и к тому, чтобы ни о чем не спрашивать. Но он сам объяснил в двух словах: — Будем пахать водную ниву. — Зачем? Что это даст? — Это даст нам купель, рыбу и новую крышу для хлева. Уже не говорю об удовольствии от самой пахоты. Ты Давно пахал? — Никогда. — Вот тебе и дела! Человек рожден, чтобы пахать и сеять. Какую ниву — это уже другое дело. И мы пахали. Если бы кто-нибудь подсмотрел на это со стороны, то, наверное, решил бы, что мы сошли с ума. Правда, Светована это заботило меньше всего. Как-то он сказал с легкой улыбкой: "Сквозь дырявую крышу лучше видны звезды". Я брел по пояс в воде и тянул соху, подсекая и выворачивая при этом заросли. А старик выгребал их на берег. После трех-четырех таких борозд получалась полоска освобожденного плеса. Тогда мы черпали ведрами тину, расчищая дно, пока вода не доходила нам по шею. Озеро было шагов семь в ширину, зато довольно длинное. За день мы выпахали где-то треть водной нивы. Островки белых хрупких лилий, недавно распустившихся, мы оставляли. Выглядело это, словно зеркальный плес кое-где украсили цветами. Его зеленоватую гладь временами нарушали своими мордочками караси, а может, и щуки. ' Одна из них больно ударила меня в грудь острой головой. Тину мы выносили на берег. Старик выкладывал ее ровным пластом. И если мне было более-менее понятно, зачем мы пашем озеро, то для чего он это делал — я долго не мог уразуметь. Под вечер, когда густая масса подсохла, он цепью нарезал ровные пласты. И мы отправились ужинать. Опара, замешанная дедом накануне, поднялась и мелко пузырилась. Теперь она шептала что-то старику, а он прислушивался. Зайчатину мы доели на обед, а поужинали кореньями, приправленными орехами и медом. Завершили трапезу земляникой и дикой смородиной, которую он называл "лесной кровушкой". — Каков день — такова и пожива, — сказал словно в оправдание. — Потерпи еще сегодня, а завтра будем с хлебом… Слива — слюнка, груша — гнилушка, рыба — вода, а хлеб — голова. ^ Потом он умылся и надел чистую рубаху (у него было их всего две — из плотной солдатской материи, когда-то фиолетовой). И принялся в глиняной макитре месить тесто. Соскреб со скалы немного соли, зачерпнул пол-ложки меда, нагрел воды. Пригоршнями отмерял муку, к ней домесил закваску из хмеля, ложку масла. Тогда принес из чердака небольшой сундучок. В нем — холщовые мешочки. Развязал каждый и "солил квашу". Это были семена льна, тыквы, тмина, укропа, кунжута, бука. Измельчил на дощечке лесные и грецкие орешки. Высыпал в макитру и начал тщательно размешивать правой рукой. Делал это против часовой стрелки. При этом неспешно рассказывал: — Сказ о хлебе начинать надо с пшеницы. Это царица, венец творения растительного царства. Не зря все главные притчи Иисуса связаны именно с ней. Чтобы понять их глубину, мы должны углубиться в землю. Корень пшеницы похож на дерево из сильно разветвленной кроной. Вокруг основного ствола много волосков с мочками. Сведущие люди говорят, что общей их длины из четырех стебельков достаточно, чтобы охватить весь земной шар. Причем, каждый день эти мочки вырастают еще на 100 верст. Когда-то на жирном те Нила, Тибра, Иордана росла пшеница с целыми пучками колосьев. Она могла дать стократный урожай. Самый слабый урожай в давние времена был 30-кратный. Сегодня за благо, если собирают 5-кратный… Но давай вернемся к хлебу. Если вино делает бочка, то хлеб — жернова. Жернова из живого камня. И хлеб надо печь из живого цельного зерна и живой воды. Потому что из этого теста и мы. Буханки из современных пекарней — это печеное тесто, а не хлеб… Хлеб нам подарен Свыше, как самая лучшая, самая ценная пища. Это величайшее изобретение человеческого разума. Живой хлеб может составлять половину дневного рациона, потому что в нем есть все, в чем нуждаются тело и душа. Именно так, ибо хлеб, окромя всего, живит мозг и нервы. В двух ломтях столько белка, как в куске мяса. Косарь, который шел на сенокос, брал с собой полхлеба, ломтик сала и кувшин топленого молока. И с этим косил целый день, потому что силы имел, как имеет конь с овса. А лев, который обожрется мясом, целый день отяжелело отлеживается… Но говорим мы о том хлебе — правдивом, дедовском, который называли святым. Потому что человечество своей ненасытностью здесь само себя перехитрило… Первыми навредили хлебу мадьяры, которых, к слову, мы научили его сеять и печь. Но погодя они отбросили жернова и придумали круглый железный пресс, который крушил зерна и отбрасывал волокна, завязь и минералы. Самое ценное. Гиблое дело закончили австрияки с их усовершенствованным валом. Так люди получили очищенную белую муку, которая утратила всякое сродство с живой мукой. Хлеб стал мягким, пушистым и… пустым. Бесполезной пищей, которая кормит желудок, но не организм. От него образуется слизь и камнями ложится на дно желудка. Человек бродит в середине, как позабытый бокал пива, потому что волокна и живая оболочка зерна, которые способствуют здоровому пищеварению и чистят нутро, отсеяны в мякину. Бесценный продукт, который был главной пищей в библейские времена и благородной трапезой (с сыром, медом и вином) на столах греков и латинян, стал вспомогательной едой. Пословица "не хлебом единым" приобрела новый смысл, потому что и вправду таким хлебом не наешься. Придуманные немцами дрожжи совсем свели на нет новый хлеб… На Колыме я сидел с одним ученым немцем. Так он мне объяснил состав дрожжей. То, из чего они состоят, мы заливали в аккумуляторы, чистили им движки, дезинфицировали воду в банях, травили вшей, пропитывали факелы для шахт… Дрожжи вымывают из организма витамины, вытравливают белок, попадают в кровь и заражают ее. Не удивительно, что и сама выпечка из дрожжей быстро плесневеет. Но эти дрожжи очень выгодны для пекарей во всем мире, потому что дешевые, долговечны, и хлеб растет прямо на глазах. Вот и имеем. Народ сыт, но чем?! Нарушили главный закон потребления: кушать еду в том виде, в котором она дана нам природой. Но у человека всегда есть выбор. И следует знать: чем больше еду обрабатывать, приправлять и "улучшать", тем больше от нее вреда и опасности. Сладкое всегда хуже горького. Жареное хуже вареного. Сырое более ценно, чем вареное. Постное здоровее жирного. Лучше оставаться голодным, чем переедать. Тогда пища становится не только едой, но и поживой, лекарством… Я увлеченно наблюдал, как делается хлеб. Казалось, насыщался уже одним только взглядом. Старик достал чугунный казанок, смазал середину маслом и выложил тесто. Оно тянулось за пальцами, как живое. Накрыл полотенцем. Но перед этим отщипнул с опары немножко и отнес в погреб — "доживет до второго замеса". У него все вокруг жило. Все было живым. — Я уже мечтаю о хлебе, — сказал он радостно, вытирая руки. — Большая кишка съела малую. Теперь у нас все есть для этого. Кроме одной мелочи — печи. Действительно, я как-то и не подумал об этом. В закоптелой горнице Илька стояла кривобокая жестяная плита, но печи не было. О чем же он думал, этот дед-всевед, замешивая тесто?! — Что же делать? — забеспокоился я. — Как что? — удивился он. — Яму копать. — Какую яму? — Копай яму, а жаба найдется. Меньше всего я мог сейчас предположить, что мы возьмемся сооружать печь. Сначала мы действительно выкопали яму в красной глине, влили туда несколько ведер воды. Потом привалили к скале два камня. На них Светован положил железный лист, ранее стоявший на Ильковой плите. Мы вытянули стенки из плоских камней, скрепляя их глиной. Изнутри тоже все вымазали глиной. Затем он наполнил соломой, разбросанной по двору ветром, дырявый мешок и засунул его между стенок. Сверху выплел арку из гибких веток, и мы забросали ее толстым слоем жидкой глины. Под конец в этот купол воткнули трубу из буржуйки. Из отверстия черным ртом улыбалась дыра с соломой в мешковине. К ней старик и поднес зажженную спичку. Солома зашипела, запрыгали синие язычки пламени, челюсти выдохнули горький дым. — Когда из трубы пойдет дым — печь готова, — подвел итог нашей недолгой работе Светован. — Так просто? — недоверчиво спросил я. — А как, ты думал, муровали наши предки? Правда, у них не было железа. Но если надо, можно найти и каменную плиту, которая будет звенеть, как железная. И огонь ее не расколет. Солома долго чадила и плевалась дымом, выпаливая стенки печи и делая их почти каменными. Но мы, уставшие после трудного дня, легли спать. Хорошо, что я еще успел записать в синюю тетрадь его признание: "Борода моя побелела не на мельнице… Случилось так, что мир без людей открыл для меня свою дверь. И я вошел; дабы принять его порядок. Принял — и спасся в бездне одиночества… Бывало, свеча, подле которой я сидел, как возле живого человека, рассказывала мне больше, чем я ей. Природа открыла для меня мудрость строя и вечность течения времени. Возможно потому, что я не вторгался никуда, не пытался ничего изменить. Я менял себя, ровнял свою натуру под устав природы". …А наутро был хлеб. Зазывно пахнул даже через влажное полотно, в которое был завернут, "умытый" из печи родниковой водой. — Поднимайся, здоров, потому что нищие уже на третьем селе. А у нас хлеб, — старик усмехался, как дитя. Отломал хороший ломоть коричневой, живописно потрескавшейся паляницы и положил возле кружки с простоквашей. Положил на пучок травы. И запах пошел от хлеба совсем иной — тонкий, загадочный. — Василек, — объяснил он. — Самая древняя и мудрая трава. Хлеб ее любит. Но я не слушал. Я ел, заглушая этой вкуснятиной все накопленные доселе голода — озорного детства, распахнутого студенчества, необустроенной журналистики. Тер зубами-жерновами ноздреватую плоть ломтя, радуясь хрупкой твердости орешков и семян. И перед каждым глотком я блаженно постигал новые оттенки вкуса. Мое бедное небо ничего подобного не помнило. — Ты уплетаешь, словно краденый конь, — смеялся Светован. — Отдохни. Теперь каждый день у нас будет такой хлеб. — Так оно и было. Большую паляницу он выпекал на целую неделю, и она совсем не черствела. Мы резали с нее, куда бы не шли: в луг ли, в работу. И была она нашей главной едой. А к ней уже сыр, молоко, яйца, рыба, солонина и зелень. Много зелени. В огороде, за печкой, я перекопал грядку, а он засеял ее семенами из своих мешочков. Лето входило в силу, зелень пошла в рост — и наш хлеб становился богаче и питательнее. И у каждого нового был свой аромат. Затерянные в глухих горах, обкуренные дымами и закаленные солнцем, мы не были одинокими в необозримом зеленом мире. Мы несли в суме хлеб — частицу дома, уголек родового костра. Весь день, целую вечность я ждал, когда мы сядем спиной к дереву и он расстелет на траве конопляную скатерть, разломает пополам краюху. И большую часть протянет мне. Почему-то один кусок всегда был побольше в его безошибочно верных руках. Ели мы с ним редко, но "едко". Пройдут годы, и "память моего желудка" всегда с ностальгией будет возвращаться к этому заветному вкусу. Пока опять не вернется к нему. Уже давно я и моя семья едим только такой хлеб. Его хлеб. И это больше, чем еда.То, что не забирает смерть
"Хлеб — отец, — говорил он, — а вода — мать". И сейчас самое время перейти к воде. Колодезь под явором ("светоносным деревом") мы расчистили на следующий же день нашего тут пребывания. Выбрали ил, крошево деревьев, сопрелые листья — и наш источник ожил, пискнул, как птенец из яйца. В траве запульсировала жилка родничка. По дороге свернула к ямке и заполнила ее студеной и твердой, как стекло, водицей. Здесь Светован по утрам мылся до пояса, вечером омывал после "дневных хождений" ноги. Здесь, в тени соляного отрога, иногда подремывал на широкой лаве. Или "месил небо" — перебирал, тряс поднятыми вверх ногами и руками, как паук. Это было его любимое упражнение во время полуденного отдыха. Говорил, что от него восстанавливается сила в уставших конечностях, а к голове приливает свежая кровь для ясного думанья. Наблюдая день ото дня его ровную силу в одном и другом, я верил. И сам втихаря начал "месить небо". "Наша беда в том, что мы редко смотрим на небо. А еще реже разговариваем с ним”. Из синей тетради. С этого источника мы пили и умывались. А купались в озере. Это началось после того, как вспахали и выгребли тину, устелив ею побережье. Это серое покрывало на глазах становилось твердым. Тогда по кускам начали заносить его во двор. Перевязывали веревкой по пять кусней и поднимали на спину. Высушенная тина была легкой, зато твердой, как прессованный жмых. Я уже знал, что это должно стать материалом для кровли, но не мог понять, каким образом. Пока не пришел черед варить смолу. За сырьем мы пошли в березовый лесок на Клиновецких террасах. Ушлый голова колхоза вокруг горы нарезал здесь уступы. Пытались засадить их молдавским виноградом, но лес вытеснил и колхозников, и капризную валахскую лозу. Сороки засеяли террасу ежевикой, шиповником и березой. И изуродованный склон густо оделся в ярую зелень, среди которой свечами белели березы. Они выгнали так дружно и тесно, что опирались одна на другую. И если ветру удавалось вырвать какую-то из тонкой каменистой землицы, она продолжала стоять, опираясь на плечи соседок. Они не были полностью мертвы. Видимо, росы-слезы, капавшие из кос сестер, живили их оголенные корни. Из таких деревьев мы и драли бересту. Надрежешь слегка ствол сверху к низу — и снимаешь свитки трескучего воскового пергамента. Набивали в мешки, которые затем тащили на свою высоту. И здесь уже рубили бересту топором. Затем я копал яму, а старик принялся за дегтярню. Уже в одном только слове для меня был аромат загадочной старины. А между тем все было предельно просто. Светован густо наделал дырок в куске жести, оставшемся с Ильковой плиты. Тогда набил берестой старое ведро с отбитыми ушками и прикрутил его проволокой к этому жестяному ситу. Готово! Ведро опустили в яму и обложили дровами. За полчаса равномерный огонь разогрел дырявую посуду, и она пузырилась черной смолой. Потянуло острым, едким, древним запахом дегтя. "Бесценное варево, — молвил старик, поддевая смолу лучиной. — Были времена, когда за ложку дегтя давали бочку меда. Потому как без него сапоги и возы скрипят, сбруя трескается, раны не заживают, скот падет через паршу. Да и нашему хлеву без него не обойтись никак…" Пока "гналась" смола, мы добыли с обмели намытый ручейком крупный песок. Дальше делали так: сухие озерные плиты поливали горячим дегтем и присыпали песком. Получалось нечто похожее на толь, подаренный нам самой природой. Когда с берестой покончили, в той же яме сожгли старую тракторную шину, которую еще раньше нашли в ложбине. Я еще удивлялся тогда, зачем мы тащим ее сюда, ввысь. Из такой же резины были сделаны и сандалии Светована. Неужели решил выправить себе новую обувку, думал я. Ан нет: когда шина сгорела, остались связки мягкой проволоки. Ею мы и привязывали к жердям свою кровлю. Просмоленные лоскутки тесно, как рыбья чешуя, лепились друг к другу. Наша кровля впитывала солнечные лучи, и чердак под ней не очень напекался. Для умеренной сушки трав это было именно то, что надо. Мы прорубили в дощатом фронтоне окошко на север. Через него травам предстояло отдавать избыток солнечной силы. Темно, сухо и свежо было на чердаке, и пахло умопомрачительно привянувшим лугом. Я разложил свитки зелья на небольших лесенках, сбитых из жердей, и спустился вниз. Старик сидел на бревне и внимательно рассматривал творенье наших рук. Я примостился рядышком. Дивная картина и дивное состояние. Озеро, которое мы перевернули верх дном, на фоне неба казалось застывшим. Перевернулось что-то и в моем мировосприятии. Пришло наслаждение и, вместе с тем, какая-то растерянность. Мы сделали работу, непростую и нелегкую. Это почти то же, что "пахать волком" (как-то я услышал от него такую поговорку о напрасном труде). И зачем надобно было так украшать ветхий хлевец всего на один сезон?! — А почему нельзя было сушить травы на чердаке избы?! — с требовательными нотками в голосе спросил я. Спросил на правах партнера. Он посмотрел на меня с легким удивлением: — Мы ведь там живем. — И что же?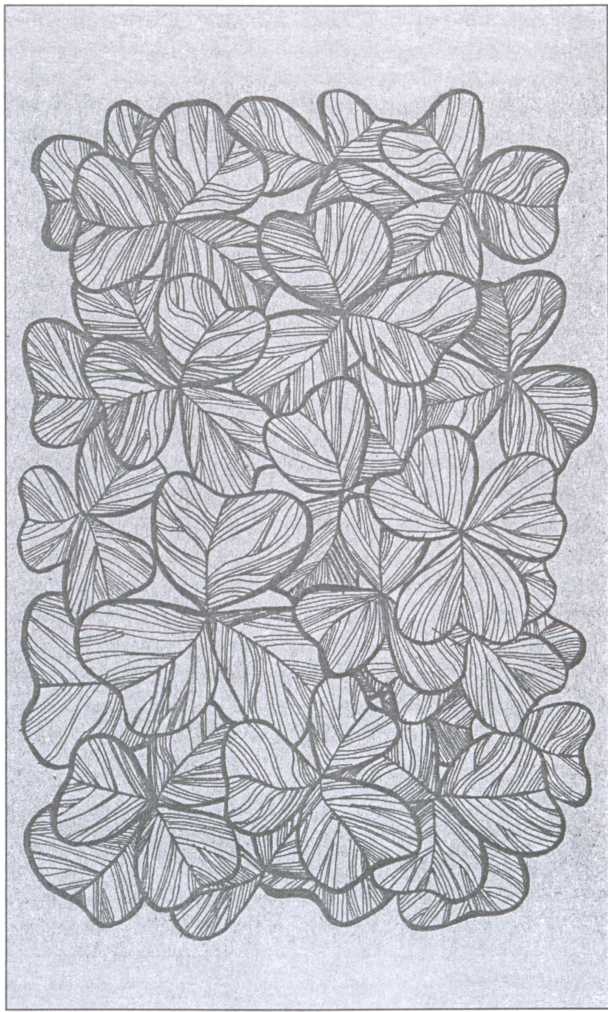
— А травы умирают. Понимаешь? Им покой нужен, чтобы дойти… Меня подымало спросить, куда дойти, но я не решился. Да разве можно было что-то скрыть от этого человека? Его серые глаза наполнились особенной ясностью. — Ты хочешь сказать, что самые главные здесь мы, а не трава. Это так. Трава травой, но мы должны думать и о себе. О человеческом в нас. Мы пришли сюда на все готовое, не так ли? А готовое — это уже кем-то приготовленное. Нам послужило. Мы приложили к чему-то руки — оно еще кому-то послужит. Не гоже, чтобы разрушение начиналось с тебя. Ежели не можешь приумножить сделанное, хотя бы сохрани его. Таков закон нашего существования. Закон сохранения, который хранит и нас. Как мы — так и нам… Меня этому научил Лес, а китаец Чан Бао укрепил мое понимание. Мы вместе с ним бороздили неблизкий таежный мир. Помнится, в одном затяжном переходе совсем отощали наши припасы. Тянулись дожди. Благо, что мы прибились к какому-то охотничьему зимовью. Убогая хижина с дырявой крышей… Вода сбегала по нашим бородам… Но все же хоть какой-то приют с костром — мы сушились дымом. Под утро дождь прекратил свою трескотню над головами. Сквозь щели проникали лучи. Я возился с нашим скудным завтраком, по правде говоря, из ничего. Слышу, что-то шуршит над головой. Чан Бао насобирал кору и чинил крышу. "Мы остаемся здесь?" — спросил я. "Нет, пойдем за дождем. Таежная дорога после него становится мягче". Я ничего больше не сказал, но когда Чан Бао попросил оставить здесь пригоршню крупы, щепотку соли и несколько спичек, я ответил, что у нас самих осталось этого очень мало. "Очень мачо — это что-то, — сказал он. — А "что-то" можно поделить. Ежели сюда придет за нашим следом человек, который не имеет ничего, он согреется и перекусит. И не умрет". Потом он еще занес охапку дров. И теплым взглядом окинул подлатанное жилище. Он был рад за незнакомого путника, который, возможно, когда-то сюда прибьется… После двух дней пути мы вышли к ветхой кумирне. Такие часовни ставили для лесных божков. Там, в кожаном мешочке, мы нашли рис и чай. Своей еды у нас уже не было. "Дух Каньгу позаботился о нас", — набожно проронил Чан Бао. Но я знал, что это позаботился о нас такой же таежник, как он, в сердце которого жил дух братства и закон сохранения добра… Мы без страха шли непролазными чащами, шли, потерянные на просторах, и делились. Делились, сами почти ничего не имея, с невидимыми обитателями Леса. Тогда из узких глаз Чан Бао выкатывались слезы радости и он говорил: "Каньгу весело. Он играет с нами". Мир принимал нас в свои объятья. Я становился светованом. Я приближался к пониманию, что ключ к удаче — это не повить, а бросать, не брать, а давать. А затем добрался и к высшей правде: все, что ты успел сделать для этого мира, ничто не заберет. Даже смерть. Легкий ветерок, приносящий по вечерам из недалекого ельника дух живицы, игриво расчесывал листьями растрепанные волосы старика. Он потянулся к ветке рукой, прижал ее к лицу и сказал: — В этом году неурожай орехов. Зачатые сейчас дети родятся слабыми… Я не переспросил, каким образом завязь орехов связана с завязью детей. Наверное, это одна из известных ему данностей этого мира. Я учился принимать услышанное и увиденное без вопросов. А может, просто это он был таким, что не поучал, не увещал, даже не объяснял. Он просто был рядом, жил, показывал, как жить. А главное — воодушевлял. Это было именно воодушевление, а не вдохновение. Он учил вкладывать во все свою душу и видеть живую душу во всем. Придет время, и я научусь прислушиваться к звучанию слов, ощущать их потаенную мощь. И обыкновенные слова явят свою сокрытую власть. Прежде, чем отойти ко сну, старик бросил воловью шкуру в мочило, вымытое нашим ручейком. Этот ручеек бежал дальше вниз, к селу. Зачем-то это было нужно. А на следующий день мы купались. Вода в озере отстоялась, и оно еще издали подмигнуло нам темнозеленым глазом. На оставленных островках кувшинок сидели, тяжело дыша, большие пучеглазые жабы. Мы разделись и вошли в водяную твердь, вонзившуюся в тело тысячами иголок. И поплыли. Он плыл как-то по-особенному, как бобер, не нарушая плеса, словно без движения скользил по воде, час от часу окуная голову. Я же лупил по верху, поднимая брызги и шум. Мы плыли, как и жили, совсем по-разному. Я быстро устал и выбрался на берег. Я весь дрожал. А он все плыл и плыл, неспешно и без напряжения, прикрыв от блаженства глаза, словно водяной зверь. Потом мы лежали на шелковистой траве псяйке и смотрели в небо. Он неспешно говорил: — Вода сопротивляется, пока ее не примешь. Если доверчиво отдаться ей, то и она тебя примет. Плавай не силой, а внутренней радостью. Так, чтобы вода проходила сквозь тебя, промывала всего. Тогда будешь, как рыба. Не забывай, что ты и сам вода, поэтому отчая вода научит, как быть с ней, и даст тебе все желаемое по нужде твоей. Можно не уметь читать и писать, но плавать надобно знать. Ибо это великое благо. Как голова отдыхает в полете мечты, так тело обретает полноту свободы в воде. Только в плавании. Еще он рассказывал о самой воде. Про нее говорил всегда очень охотно. — Вода — не к воде. Вода есть мертвая и живая, и истощенная, иссякающая. Как и человек. Одна пригодна для питься, другая — для лечения, а есть такая — что для плавания. Надо наблюдать, где любит конь купаться. Я это озеро дано заприметил — сюда всегда заворачивают с ночного валахские кони. Они настырно отбиваются от стойбища. Конь и жаба всегда указывают на живую воду. Видишь, как здесь булькает? На плесе и на самом деле кое-где поднимались нити пузырьков. Оттуда несло тухлыми яйцами. — Гора дышит через это озеро. Выдыхает глубинную горечь. Это именно она покалывает тело. Такая купель очень целебна как для костей, так и для кожи и утробы. Кони знают, что ищут. Плавай здесь кажедень. Насытишься покоем горы. И я плавал. Бывало, что и два раза в день. Сначала свежесть и твердость альпийской воды окатывала меня, вызывая судороги. Невидимые ежи кололи тысячей иголок. Потом это неожиданно переросло в удовольствие, а затем стало потребностью. Я понял воду, вода приняла меня. Появилось ощущение слитности с ней, ощущение легкости движения рук и ног, почти как плавников у рыбы. Пришло неизмеримо глубокое и новое ощущение — радостной свободы. Свободы вновь обретенной родимой среды, первобытного состояния равновесия тела и духа. Я плавал все чаще и дольше в этом озере под самими облаками — потерянной среди лесов небесной капле. Блаженствовал в воде, и жуки-плавунцы, жабы и рыбы уже считали меня своим, а восково-белая лилия, казалось, стыдливо подмигивает мне чувственным желтым глазом. Даже беркут, привлеченный подвижной тенью в воде, опускался над озером столь низко, что я видел свое отражение в его темном стеклянном взгляде. Здесь, в безмолвной карпатской пуще, возле крохотного водоема, рожденного когда-то из обломка ледника, начал я понимать отчую сущность воды, которая древнее, чем мир. Начал осязать слова старика: "Человек возле воды — дома. А при доброй воде и сам добрый. Ежели каждый день ходить пешком хотя бы час, то проживешь на 5 лет дольше. И эти часы будут самыми лучшими в твоей жизни. А если плаваешь, то жить будешь столько, сколько захочешь. И приплывешь туда, куда надо — к тихой воде". Так говорил он, человек, который открыл мне, среди другого, блаженство единения с водой.
"Лечебница" на воловьей шкуре
Однажды утром меня разбудили голоса. Они долетали откуда-то снизу, словно отдаленное гудение мошки. Умывшись, я вышел на гребень и увидел вереницу людей, поднимавшихся по извивистому плаю. Было там и несколько коней, на которых сидели дети. Я заметил, что люди были одеты не как для работы. — Кто они? — спросил я Светована. который как раз снял с жерди подсохшую воловью шкуру и расстелил ее на мураве возле ручья. — Эти люди не хотят быть больными. Пришлые поклонились и отступили в тень под скалу. Старик вышел к ним в чистой рубахе и сказал: — Становитесь по одному босыми ногами на шкуру. Первыми пусть подходят те, кто пришел последним. Говорить будете только тогда, когда буду вас спрашивать. Думайте про то место, которое болит. Если перестало болеть, на шкуру не становитесь. Если нету веры в выздоровление — вы не туда пришли… И запомните: здоровое тоже иногда болит. А боль бывает более правдивой, чем здоровье… Первым подвели коротко подстриженного мальчика; с его обожженных солнцем ушей и носа слезала кожа. Мать от растерянности даже как-то сутулилась. — Голос у ребятенка пропал. Два дня уже ни слова… — Значит, до этого говорил больше, чем надо, — старик прятал улыбку. — Трещал, что твоя сорока, — подтвердила мать. — Но я боюсь, потому что уже два дня как ни слова не говорит. Может, испугался чего? — Разве что жабы. В реке перекупался твой пацан. — А ведь и вправду, безголосым пришел с реки. — Свари ему на малом огне две тертые морковки в молоке. Процеди. Морковь пускай съест, а теплое молоко давай пить на протяжении дня. И завтра так, и послезавтра. На подбородке у него узелок воспалился, так прикладывай к этому месту свежую лепешку: две пригоршни муки грубого помола и ложку меда. Прикладывай два раза в день. А ты, сорванец, — обратился к пацану, — когда снова заговоришь, следи за словами. И чтобы матери ни слова накриво — иначе утратишь голос опять. Бог неспроста отбирает речь. А теперь беги, мне надобно матери сказать еще несколько слов… Почему, молодица, о своей главной боли молчишь? Что съедает тебя? О ком болеешь? — О муже. Ударился во блуд. Прихватывает на стороне. — Беда. Ну, чем же здесь поможешь?! Отпусти заволоку на все четыре ветра. Привязанный пес всегда рвется со двора. Перебесится — вернется. А ежели не вернется — знать, не его это двор. И тебе утрата не большая. А к ворожеям больше не ходи! Только хуже будет, и ему, и тебе, и ребятенку. Сама видишь. Лучше помолись за его полюбовниц. Думаешь, им, несчастным, легко — лизать с чужой тарелки? Помолись сердечно, молитва все сгладит… Мне неудобно было стоять и слушать разговоры. Поэтому я полез на чердак хлева, чтобы перетрясти на сушке зелье. Прорубленное окошко как раз выходило на ту сторону, и отсюда было видно и слышно — все, что там происходило. Худощавый, истощенный мужик жаловался на колики. Старик дал ему пожевать какой-то стебелек и попросил выплюнуть. Посмотрел на слюну и сказал: — Печень барахлит. Надобно ей угождать. Запаривай мяту, семена укропа, бессмертник песчаный, полынь и выпивай по нескольку глотков после еды. Кушай то, что малым детям дают. А с едой употребляй по ложке сиропа из шиповника. Возьми пол-литра воды и всыпь туда полкилограмма сахара и толченых ягод шиповника. Пусть настаивается две недели. Будешь за собой смотреть — печень оживет. Достаточно, чтобы маленькая ее толика была здоровой — и полностью обновится. Мощный дед в крысане с пером показывал свою грыжу, которая уже торчала из-под рубахи. — Запущенная. Надобно резать в больнице, — вынес приговор лекарь. — Я могу только немного облегчить страдания, на недельку-другую, чтоб вы добрались своим ходом. Уложил деда на воловью шкуру, поджег под баночкой клок овечьей шерсти, перевернул ее и приложил к животу. Накрыл онучей. Час от часу повторял это снова. Дед лежал, блаженно прикрыв глаза. Полнотелая женщина, тряся грудью, живо шептала Световану что-то на ухо. Разволновавшись, даже побагровела. Он дал ей жестянку и велел принести мочу. Кого-то попросил разжечь позади печки костер. Тем временем слушал уже другую больную — молодую, стройную, красиво одетую, явно городскую. Жаловалась на усталость, головную боль. Когда много ходит, отнимаются ноги, синеют вены. Старик развернул ее против солнца, рассматривал мочки ушей. Тогда сказал: — У вас, пани, густая кровь. — Как густая? — встрепенулась женщина. — Откуда вы знаете? — Вы знаете. Я только догадываюсь. — Хорошо, — взяла себя в руки. — Что мне с этим делать? Я заплачу за любое лекарство. — Ваше лекарство очень дешевое — вода. — Какая еще вода? — Лучше родниковая, еще лучше — лесная, в которой плавают саламандры. Употребляйте ее сытно, больше, чем требует жажда. Сколько вы пьете воды? — Да не пью я воду вообще. Позволяю себе только компот, чай, кисель. — Это еда. А питье только одно — вода. Пейте ее, куда только повернетесь, мелкими глотками пейте. День начинайте с воды и ею же заканчивайте. Кровь получит свое и побежит, как этот ручеек. И голова перестанет болеть. Но на первых порах можно ей помочь корицей. Чайную ложку размешайте в кружечке теплой воды с медом. Глотайте каждый час, пока не пройдет боль. Пришла тучная молодица с накрытой лопухом жестянкой. Старик пристроил посуду к огню. Постоялнад ней некоторое время, а тогда сказал как отрезал: — Идите себе подобру-поздорову! Женщина разочарованно заморгала мелкими заплывшими глазками: — И что же, отец родимый, лечиться мне не надобно? — Надо. Ваш рецепт — меньше кушать. — На сколько меньше, спаситель мой? — На ведро, — бросил старик через плечо. Толпа вздрогнула, сдерживая смех. А я млел на своем чердаке. Млел не столько от дурманящего аромата зелья, сколько от увиденного. Мне открылось невероятное действие целительства — открытого и простого, едва ли не примитивного. Но вместе с тем оно разоблачало наши болезни, снимало с них покрывало таинственности, развеивало первобытный страх перед ними. Двое сидели в перегороженном мочиле, а их родственники нагревали на костре камни и рогатинами придвигали к воде. Кругляши шипели, бурлили пузырьки. Кто-то толок в ступе семена льна и зверобой, чтобы сделать примочку для мужика с ошпаренной ногой. Светован сам подзывал из толпы людей, слушал их, что-то говорил, некоторых сразу же отпускал, для кого-то выносил из избы пакетик либо баночку, кого-то укладывал на воловью шкуру. Иногда оттягивал веки, осматривал язык, царапал кожу акациевой колючкой, выдергивал волосок и бросал на воду, внимательно всматриваясь. Или подносил его к огню. Или просто замирал, молча разглядывая больное место. Целитель, иное слово трудно подобрать, сразу же своими странными способами проводил анализы, ставил диагнозы, называя их простыми, а порой даже забавными словами, называл лекарство или давал свои снадобья. Иных отправлял, напутствуя, что "здоровое тело, как здоровое яблоко, не без червя — дает о себе знать, ибо не мертвое". И чтоб не получилось, что поднимались сюда зазря, отсыпал им в дорогу отколотые от скалы кусочки соли. И люди возвращались просветленно-успокоенные, неся с этой горы в белых носовых платках бурые соленые кристаллы. Кристаллы новой надежды. Когда солнце белым кругом застыло в зените, старик облил руки и ноги водой и сел под явор. Не ел, не пил сидел, сомкнув веки. Те, кто еще поджидал свою очередь, несмело вытаскивали узелки с едой. Звякнуло стекло — это возница откупорил бутылку. Кого-то пытался угостить. Старик повел в ту сторону острым совиным глазом. — Дядя Андрей, будьте здоровы! — весело крикнул конюх. — К безголовью пьешь! — буркнул старик. — Чтобы быть здоровым — молиться надо, а не пить. Передохнув немного, он опять вернулся к людям. — Я слышал, как советовал молодой застенчивой женщине оздоровить щитовидку. Надобно сварить синий кисель: две столовые ложки крахмала, 10 миллиграммов йода и два кружочка лимона. Это дневная норма. Когда организм насытится, на это укажет все тот же йод. Вечером следует нарисовать на локте йодную сетку. Если к утру она исчезнет, лечение продолжать. А еще — пить очистительный чай: запаривать сосновые иголки, шиповник, листья малины и луковую шелуху, добавить мед. Женщина жаловалась, что хуже всего ей в жару, прямо "заносит" ее. — Всякую хворь лечат, прежде всего, едой. В жару пей чистую воду и горячий чай, но правдивый — зеленый. Кушай овощ белой и зеленой окраски, жидкие блюда с кислинкой. А острое, приправы, солонину и мед не употребляй. Воду с утра подсаливай, и хорошо было бы поменять колодец. Ищи такое место, где любят расти грецкие орехи. Там и есть твоя вода… Женщина смущенно благодарила, прощалась, но дед не спешил ее отпускать. — Не дочь ли ты Юлины, которая была за звеньевую в винницах? — Да. А вы откуда, дедушка, знаете? — Вижу. К тридцатому годку у старшей дочери скулы стают точь-в-точь как у матери. Я знаю твою маму. — А откуда знаете, что мне тридцать лет? — На лице твоем написано. В тридцать лет женщина самая красивая. Та еще больше засмущалась. — Иди и будь здорова! И поклонись от меня матери. Она такую шаслу выращивала на наших холмах, что мадьярам и чехам даже не снилось. Не кисти, а целые котята свисали с лозы. Под самый конец осмотра, "в псиный голос", он оставлял тех, кто "полегче". И люди догадывались об этом, улыбались ему с предупредительной благодарностью. И сам он смягчился, разрешал себе немного отдохнуть в свободной беседе. — Здоров будь, мудрец Юра! — поприветствовал крепкого мужика, почти своего ровесника, согбенного пополам. — Что вы придумали для себя на этот раз? — Беда его придумала. Поэтому и приполз на вашу гору, Андрей. Хотя Бог давно уже зовет к себе. — Ивы туда же, Юра. Все проситесь к Господу, а когда Он зовет — бежите лечиться. — Не ради себя, трухлявого пня, прошу — ради внуков. Хотел бы еще их вывести в люди. — Ой-ой, и куда же вы их собираетесь вывести на таких ногах? Ноги у того и впрямь выглядели страшно: отекшие, в бурых струпьях. Штанины надрезаны, потому как распухшие щиколотки не влезали в них. — Правда ваша, Андрей. Пока сюда вскарабкался, совсем сжег грудину. — Правда в том, уважаемый хозяин, что сердце ваше износилось. Большое сердце. — Почему большое? — дернулся тот, силясь выпрямиться. — Потому что доброе. А добрые сердца быстрее изнашиваются. От душевной работы. У Бога и тут все по справедливости: добрым людям и хворь добрая, и лекарство. Вы вино любите? — А кто не любит хорошее вино? Но я остерегаюсь пить его. Мне ли, с моими болячками? — А теперь себе разрешите. Но вино будет особое. Десять кореньев петрушки вместе с листьями залейте литром вина. Варить пять минут. Тогда добавить две ложки винного уксуса и децу (100 граммов) темного меда. Еще столько же варить — и вино готово. Держите его в прохладном месте. А употребляйте по средней чашке в день. Сердце отпустит — и ногам станет легче. Но сначала надо им помочь. Надобно запечь две луковицы, порезать и примотать к подошвам на всю ночь. А еще пусть ваши домочадцы сварят лимоны, щедро добавят рубленых орехов, толченого сахара и льняного масла. Это выравнивает сердцебиение. Употребляйте по две ложки перед едой… А внуки пускай без ваших рук становятся на ноги. Крепче ноги у них будут. Не опекой излишней пусть живятся, а примером. Есть из чего черпать. Такого деда, как их, по всем горам и долам еще поискать! Под выбеленными временем и солнцем ресницами заблестели слезы. И голос дрожал — слова старику давались с трудом: — Спасибо вам большое, брат. После таких слов и стоять на ногах уже легче, и лежать будет приютнее на последнем ложе, — и, опираясь на внука, медленно пошел к лошади, стоявшей неподалеку под седлом. Подбежал коротко подстриженный юркий мужичок и, щуря лисье личико, прогнусавил: — Отец родной, такая беда у меня, что стыдно и сказать. Такое вряд ли и лечится. — Все лечится, — ответил Светован. — А вылечивает Бог, ежели на то воля его. — Да где? Горбатого, говорят, могила только и выпрямит, — больной резко повернулся спиной. — У меня между лопатками растет что-то… Что-то, извините, похожее на горб… — Вижу, что не крылья. Слушай сюда: летать ты не будешь, но жить, как до сих пор, можешь вполне. Если будешь держаться двух предписаний. Первое: не дави душу злобой, ибо рвется, бедолага, на волю — и выпирает твой горб. Второе: найди твердое ребристое дерево и ежедневно прижимайся к нему своим горбом. От лопатки к лопатке. Пока не разойдется. И не забывай каждый раз поблагодарить дерево. А Богу молись. И не ешь белый хлеб, белый сахар и белую соль. На ночь кушай сушеные абрикосы, сливы, ягоды… Но главное — выравнивай душу. Выравнивай вместе со спиной. Потом принесли девочку с открытым ртом и удивленными глазами. Родители что-то ей говорили, но она совсем не реагировала. Старик велел ей помочиться в баночку. Тогда опустил правую руку в мочу и тыльной стороной ладони коснулся лба, щек, рук и ног малышки. И уложил ее на воловью шкуру. Девочка громко крикнула и сразу заснула. Родители, затаив дух, склонились к ней, укрывая от солнца. — Добрый ребенок у вас растет, — молвил Светован. — Ласковая. Душа еще хрупкая, но ничего — научится отсеивать лишнее… Молодая женщина, иди девушка, державшаяся в сторонке, глухо замотанная в платок и застегнутая доверху, отвела его за дерево и долго о чем-то исповедовалась. Потом говорил он. Ветерок потянул в мою сторону, донося обрывки его фраз. — Это боль любви. Не следует ее бояться. Это скорее дар, чем напасть… Любовь не только возносит, но и сушит… Не так, как у других? А откуда ты знаешь про иную душу?! Никто не знает того, что бывает между двумя. Ежели это настоящее, то оно у каждого особенное… Не бойся, дитя, ни на кого не смотри, никто не сможет разрушить волшебство вашего мира, кроме вас самих… Есть оно — живи им, не сжигай свечу с двух сторон. Не мучай его ревностью и признаниями. Молчание больше таит чувств, чем клятвы. Любовь, как трава, — расцветает, гниет и высыхает, чтобы посеять семена для новой любви… У любви нету смерти. Тело тех, кто любит, смертное, а любовь — нет… Ты не больна. Хотя нет, ты болеешь удивительной болезнью. Тебе должны завидовать все здоровые… Иди себе с Богом и люби так, как советует твое сердце… Остался один человек, смешливый, совсем как мальчишка. Он всех веселил, а теперь, когда остался один, чувствовал себя не в своей тарелке. — Ты, как я погляжу, не больной, — обратился к нему старик, — но смиренно высидел целый день. И заслужил с нами на ужин. Мужик, хихикнув, потянулся к бревну и вытащил из-за него котомки. Это в благодарность оставили больные. Тут же он начал раскладывать простые крестьянские продукты. Светован бросил воловью шкуру в мочило и разобрал дамбу. Сбросил рубаху. Сам вошел в воду босыми ногами и умылся до пояса. По его глазам, погруженным в самое себя, я понял, насколько он устал. Казалось, у него уже не осталось сил даже чтобы разговаривать. Но гостя слушал очень внимательно. Да, я не болен, — оживленно говорил тот. но болен мой дараб — мой надел под горой Гранкой. Обильный урожай там дает только камень. Каждую осень и каждую весну я собираю целые горы камней. Плугом никто не хочет пахать мою землю — стальные лемеха гнутся, как жестянка. Раздвоенной мотыгой разбиваю каменистый грунт. Копаю и плачу. А бросить не могу — немного повыше лежат мои дед и отец. Они жили с этого, а я мучаюсь. Проклятый терен. Проклятый колоколом… — Каким колоколом? — Церковным. Во времена оные, как говорится, была на горе Гранке церквушка, крытая тесом. Ветры ее разнесли. Дерево растянули на изгороди, а колокол, добрый, медный, остался. Старые люди говорили, что на нем было выбито лицо Марии-Терезии. Колокол хотели стянуть на волах вниз. Но пробили подземную яму. Волов вытащили, а колокол потонул. До утра его полностью затянуло. Как раз посреди моего надела… Молодые смеются — не рассказывай, мол, дед, сказки. А я знаю, что колокол там. Слышу его. Бывает, после дневных трудов вздремну, словно заяц, под бузиной и слышу: "Гу-у-у… гу-у-у…" Подхвачусь — где? И ни звука больше. А он, знаю, там… Томится, беспокоит землю… Извините, что я с таким к вам прибился. Вы людей исцеляете, может, знаете что-то целительное и для земли… — По существу говоришь, парень, — ответил старик. — Тело человеческое из землицы вылеплено. Оставайся, переночуешь, а завтра посмотрим на твое каменное поле. — Спасибо большое, но я домашний человек, в чужом не ночую. Сбегу себе вниз, благо, уже не жарит. Он объяснил, как найти его подворье, и нырнул в темень. Ночная тишина сомкнулась над нами. Луна протянула к холму Илька прямые лучи, словно спивала первую росу. Было тихо и спокойно. Я долго не решался нарушить этот устоявшийся мир уходящего дня. — Как вы считаете, этот человек и взаправду что-то слышит? Это надежный знак, что колокол там? — Никаких знаков нет. Мы сами их придумываем и читаем. Но колокол в земле вполне может быть. — Много было сегодня больных, — сказал я, дабы как-то закончить повисшую тему. — Больных? Не знаю… Иногда мне кажется, что только болящий может быть истинно здоровым… — Но здоровыми хотят быть все. — Да. Ибо здоровье — это свобода. Здоровье и вера — две самые большие свободы. — А что же тогда самая большая несвобода? — спросил я. — Грех, — тихо промолвил он. Тогда я еще не был готов это понять. Но продолжал расспрашивать: — А как это так получилось, что все люди дружно пришли? Откуда они знали, что вы готовы их принять? — Воловья шкура их известила. — Как это? — Очень просто: вода ручейка понесла ее ворсинки вниз, к селу, и женщины, стирая белье, их заметили. Не посылать же мне весточку сорокой, не правда ли? Надо обходиться тем, что есть… Ну ладно, пошли отдыхать. Мы сегодня заслужили. Я тоже поднялся. Я уже начал привыкать к его нехитрой философии. "Ничего в этом мире не дается просто так, все надобно заслужить". Из синей тетради."Как мир — так и я"
Я видел, как он после молитвы ложится, и слышал, как засыпает, — мгновенно, словно большая птица, тихо сложив натруженные крылья и закрыв тугие, словно берестяные, веки. Но никогда не видел, как он встает. Когда я просыпался, он всегда уже был на ногах. Теперь, после тяжелого дня, долго не мог заснуть и я. — Подымайся, день настает! — крикнул он с улицы. — Вся живность божья давно уже в трудах. На подоконнике стояла мисочка с ягодами. Это были наши с ним любимые черные дикие черешни, обклеванные птицами. Ничего в мире нету слаще. Я умылся, и мы сели к завтраку, который он успел приготовить — простокваша с мелко нарубленными огурцами, редькой, укропом, зубчиком чеснока и каплей подсолнечного масла. И хлеб. Чаще всего такая еда была у нас на завтрак. Или токан-мамалыга с той же простоквашей. Хорошо, когда была еще брынза. Воловья шкура снова была переброшена через жердь, и с нее на траву капала вода. — Сушите лечебницу? — спросил я. Мне хотелось употребить одно из его слов. Я вкушал их не меньше, чем его еду. — Да. Потому что хворь, как и всякая беда, липнет — сразу и не отдерешь. А так ополоснешь в минеральной воде — она и очистит, да солнце прокалит. В современных больницах это называют смешным словом "дезинфекция". Раньше было проще. На воротах лечебниц, полных горя и боли, писали: "Во имя Господа вход для смерти запрещен!" Но давай думать о дне сегодняшнем. Мы вчера пообещали что-то хозяину каменного поля. — Да. Интересный дядька. — Ну да, видно, что не вчера родился. Наплел нам и про липовые клинья, и про белую березу. Ну что же, тело сыто — ноги в руки! И мы тронулись в путь, сбивая тяжелые, как ртуть, росы. Пустились порожняком. Я спросил, не взять ли нам хоть краюху хлеба. — Хлеб сам нас найдет, — бросил он, не оборачиваясь. Вокруг так широко и привольно разлились просторы, что мало было одними лишь глазами любоваться — хотелось пить их полной грудью. Как в песне поется: "Верховина, мир ты наш!" Зеленое безбрежье переливалось под ясными лучами молодого дня. Горы качались в легкой дымке, словно конские гривы. Ветерок, пронзенный лучами, катил по обе стороны сизые валы папоротника. Дух и сердце замирали перед огромными звонкими просторами, и в сердце звенела радость от этого единения с неземной благодатью. "Эта краса унесла мое сердце", — так мог сказать бы тот, кто молча шел передо мной. Понемногу начал я осознавать его поучения: "Каждый день выходи в путь. Циво не явится само. Диво простора, открытой природы, когда тело твое роднится с землёй, воздухом, светом, водой, огнем и всем миром". Мы шли через папоротник по еле заметной тропинке. Пока не уткнулись в развилку двух дорог. "Там, где путь чихает", — говорил вчера Микула, который маялся со старым колоколом. Дальше мы шли за ниткой ручейка. — Иди, куда вода идет. Она выведет. Вода — наидревнейшее, что есть на земле. Зверье протаптывало проходы к ней, а после и люди прокладывали тропинки да дороги. В этом мире именно вода нас и водит. Мой поводырь сделал шаг в сторону и склонился над каким-то растением. — Иссоп. Спасает тех, кого ужалила змея. Библейская трава… Как-то по молодости потянулся я ночью за хворостиной — и ухватил гадюку. Полверсты оббегал вокруг, пока нашел иссоп. Мне его высветил трухлявый пень. Тем и спасся. Мы шли, а он показывал посохом в разные стороны и говорил: — Там покинутая на Бога Тростяница. Там — грибные Пузняковцы, поднебесное Грабово, швабские Герцовцы, норовливое Белебово, мокрая Вызница, Обава с ее ведемским камнем. Дубино под шатром лесов, Глинянец, стоящий на каменной пяте, Кльочки, до которых не смог добраться колхоз… Названия селений звучали, как отзвук пралесов, как предания старины. Два-три слова его характеристики удивительным образом переносили меня туда, создавая эффект присутствия. Я шел сзади и вдруг увидел что-то на тропинке — это была скрученная в трубочку купюра. Десять рублей. — Здесь деньги! — крикнул я радостно. — Вы не подняли? — Я их не терял, — бросил он через плечо, не поворачиваясь. Наверное, косари десятку потеряли. Перед нами здесь прошло трое — видишь, роса сбита? Двое молодых и один постарше. Прикуривал, две спички поджигал. Тогда, наверное, и уронил бумажку. Будет возвращаться — подберет. Оказывается, он не просто видел на дороге деньги, он "видел" целую историю вокруг них. Я молчал. Он тоже. А потом, словно желая сгладить мое разочарование от того, что мы не подобрали находку, сказал: — Мой карман затянула паутина. Деньги будят осторожность и скрытность. Зачем нам это, правда? — Правда, — неуверенно ответил я.
Для него молвил, не для себя. Денег мне тогда все время не хватало. Через некоторое время перед нами открылся далекий склон, испещренный латками крестьянских наделов. И среди альпийского безмолвия послышался далекйй, словно сон, крик петуха. Мы шли по ребристому верху горы Гранки. Два бока ее действительно были словно срезаны, граненые. Старые липы тесной стражей охватили вершину. Под ними, на бугорках, буйно росли кустарники и дикие травы. — Здесь была когда-то церквушка, — мой спутник остановился. — Раньше вокруг церквей высаживали липы. И камень основания еле затянуло дерном — чувствуешь под ногами? Теперь мы должны проделать воображаемый путь, по которому волокли колокол. Вот вдали сквозь черешни видно, как блестит баня новой церкви… Волов не гнали напрямик, потому как колокол мог искалечить им задние ноги. Тянули ломаным волоком, обходя деревья и ухабины. Волы сами выбирали дорогу, понимаешь? Попробуй почувствовать себя на их месте. Как бы ты поволок тяжесть отсюда? Я припустил вниз, петляя между старых слив. — Может, заяц так и поскакал бы, только не вол, — догнал меня его смех. — Умножь длину вола на пять и через такие отрезки плавно сворачивай. Такими подковками и спускайся. — А почему на пять? — спросил я. — Волам нравится это число? — Это число нравится всем, кто ходит. И муравью, и зайцу, и волу, и человеку. Это отрезок пространственного присутствия. Идя, человек на десятом шагу (длина его, умноженная на пять) сбивается на какую-то толику в сторону. На этой "пяди” нам привольно, там для нас одинаковое давление неба и одинаковое равновесие земли. Во время движения они меняются. И мы незримо меняемся. Поэтому когда идем — получаем свежую струю силы от земли и простора. Поэтому в пути мы не так быстро стареем. — Откуда вы это знаете? — воскликнул я. Он смерил меня острым взглядом птицы, захваченной врасплох. Привязал этим взглядом, словно цепью. — Потому что я Светован. Как мир — так и я. — Вы надеетесь найти следы тех волов… что провалились в яму с колоколом? — Да нет, не такой уж я дурень. Можно обойтись и без следов. Главное — угадать направление волокуши. А на яму, где застрял колокол, укажет иное. — Что? Подземный звук? Наш разговор перебил другой звук — звон камня о косу за грабовой изгородью. И мы двинулись в ту сторону.
Подземный колокол
Буквально через минуту из-за куста появилась знакомая худощавая фигурка в выцвелой рубахе и высоких резиновых сапогах. Веночек реденьких волос трепетал ржавым нимбом. Из прорезей хитрых глаз брызнул смешок: — Вам бы пеплом ноги посыпать… — Бог в помощь, Микула! Косите? — первыми за здешними обычаями здороваются не те, кто работает. — Креплюсь, как дыня на морозе. Роса ушла — какая уж тут косовица? Из зарослей лопуха выбежала рябая шавка, принялась пронзительно лаять. — А матери твоей семь копеек! — топнул на пса Микула. — А вы правильно дошли. Здесь моя планета, — кивнул на взгорье под Гранкой, где стоял его серый дом под шифером. — Сюда залез я навечно, словно червь во хрен. Хотя и дед, и отец говорили, что с куска земли еще никто не разбогател… — Что лучше всего здесь растет? — спросил Светован. — Камень. Я собираю, а кроты пашут. И это была правда. Нива вся испещрена холмиками свежей земли. А внизу — длинные насыпи камней, словно татарская изгородь. Из камня были мурованы фундамент, пивница, хлев, лестница, им же был укреплен и берег. Этот заберут для дамбы, говорил Микула, весной будет еще. Когда другие пашут, он собирает камни. Корзину за корзиной. Камни, как зубья скалы, год от года пробиваются из земли. Они ломают мотыги, лемеха и косы. Это один из отрогов большого каменного массива, на котором издревле промышляют карьеры в недалеком Шелестове. Оттуда возили синюю брусчатку еще в Будапешт, Вену, древний Львов. А теперь этот камень выкапывает на своем огороде Микула. Но это его земля, и ее следует обрабатывать. Когда покончит с камнями, берется за дерн. Другие сеют, а он рубит корни кустарников и бурьянов и тачками свозит вниз, освобождая землю метр за метром. В основном на коленях, отбросив инструмент. Руками пересыпает землю, выбирая камушки и корни. Этот жилистый худенький мужичок долбит скалу, на которой плодородная почва толщиной всего в десять сантиметров. — Эх, была силушка, когда мамка титьку давала! А сейчас… Кто-то окучивает ряды картошки, а Микула мостит террасы, чтобы отвоеванные грядки не смыл дождь, чтобы ботва росла вертикально. Кто-то несет из базара тучную рассаду, а он сеет свои семена лука, капусты, свеклы, огурцов. Кто-то смотрит тоскливо на раскаленное небо, а Микула от зари до зари, вместе с детьми, звенит ведрами. Кто-то потом вздыхает над пожухлой грядкой и жалуется на неурожай, а он несет полные ведра хрустящих огурцов, головки чеснока величиной с кулак, пузатую и сладкую, словно дыни, свеклу. А о картошке и говорить нечего. Сбрызнет ее известковым молочком, подсушит на солнце и насыплет золотой горкой в пивнице. Здесь же — шеренги банок с фасолью, огурцами, томатами в собственном соку, аджикой, борщовой заправкой, грибной икрой, овощными паштетами, виноградным соком. Изо всего винограда, зеленым шатром накрывшего двор, выжимает сок. — От вина я сдурею, а так — для детей витамины и вкусно. Семена отбирает самые лучшие. Он сам себе и селекционер, и агроном, и технолог, и кулинар. Зато живности не держит никакой. — Это чтобы мне во дворе воняло?.. — загибает пальцы. — Сено я меняю с соседом на молоко и творог, кукурузу — на яйца, самогон — на навоз. А осенью поеду в Винницу (туда вышли замуж две его дочки) и где-то в глухом селе выберу себе и свинью, и бычка. Переработаем их с зятьями, а кум-проводник все готовое привезет в Мукачево. Мясо в доме на год. Не переводятся у Микулы и грибы. Каждое утро, когда другие только выходят со двора, Микула уже с полной корзиной возвращается. Поход за грибами для него еще имеет и чисто деловое значение: взять на учет дички-сажанцы, чтобы потом весной их привить. А еще Микула старается заприметить ветки, коренья причудливой формы, которые сгодятся в работе. — Моя голова варит только в одну сторону: что бы такое сделать, чтоб ничего не делать. Вы знаете, что дом я слепил из мусора?.. О том, как Микула строил дом, до сих пор по селу ходят легенды. Строил не за рубли — за копейки. Камни носили с огорода всей семьей. Грузили повозки щебня и намытого рекой песка. Нашли и бесплатный цемент. На станции его выдували из больших цистерн на машины, потом вся платформа была покрыта слоем цемента толщиной в палец. Железнодорожники с радостью разрешали подметать территорию. Когда дело дошло до стен, Микула разработал целую комбинацию. Он придумал свою технологию легкой, теплой, а главное — бесплатной стены. Жена его тогда работала в столовой кирпичного завода — оттуда брали битый кирпич и шлак из печей. Смешивали с каменной мучкой, добавляли извести, немного цемента и заливали это в дощатую опалубку. На следующий день щиты поднимали — и стена вырастала еще на метр. Самое интересное, что делали они это вдвоем с беременной женой. Но как?! На этом строительстве никто не поднял руками ни одно ведро. На каждом углу торчали деревянные "журавли", с помощью которых жена одной рукой поднимала ведра с материалом наверх. Там уже был Микула. На земле же он нарезал и обтачивал стропила, а вверху их только соединял. С деревом тоже не было проблем. Лес сам "зашел" к нему в огород. Лесник ворчал, намекая на "дань". Но Микула быстро поставил его на место: "Что, этот лес сажал твой отец?" От родника, пробившегося под берегом, прокопал траншею, бросил шланг — своя вода круглосуточно. Возник вопрос с отоплением. Из двух газовых труб сварил "барабан". Нагревается щепками, обрезками из мастерской, лозой, опилками. Все это медленно тлеет, окисляется, зато теплынь такая, что дети зимой почти не накрываются. Нелегко здесь жить, но жить можно, если человек хозяин своей голове. — Я давно мог бы уже стать начальником, если бы отца не выгнали из партии через деда-кулака. Не хотел сдавать возы и волы в колхоз. И детям, и внукам подпортил карьеры. Покинул я село, подался в город, научился работать на кране. На высоте хорошо: небо, птицы поют, людской подлости меньше. Но жить на небе не будешь — не святой поди. Государственные общежития, чужие квартиры, а дети ведь свои, родные. И густо их. Полночь прошла — голова и глаза. Мы с женой шли на рекорд. Говорю ей: давай сделаем тридцать штук. В старости будем ходить от одного к другому. Так месяц и проживем без беды… Тридцать не тридцать, а пятерых Бог дал. Надобно было свое гнездо вить. В деревне сказали: садись на трактор в колхозе — дадим участок. Дали, — кивает на каменистое взгорье под Гранкой. — Никто не хотел брать надел с подземным колоколом. А я взял, потому что рядом дедовы и отцовские кости покоятся. Я и сам придерживаюсь их науки: надейся на добро, а плохое и само придет… Так оно внезапно и пришло. Прослышала беда — за неделю сгорела от рака жена. Вместе с ней сгорела и частица его души. Осталось у Микулы на руках пятеро детей. "И мамка, и нянька для них". Но Божья мельница молоть не перестает. Первое, что сделал, — рассчитался на работе. Рабочая элита, виртуоз башенного крана в одну секунду слетел на грешную землю и врос в нее по колени. В эту желтую желтяницу, которая лучше всего рождает камень, а в летний зной и сама становится камнем. Надо было кормить детей, выводить их в люди. Когда голова сельсовета предложил отдать хотя бы самого младшего в интернат, Микула отрезал: "А твоя мать почему тебя не отдала в интернат? Может, был бы мудрее". Думал-гадал, как жить дальше. Светлая крестьянская голова не подвела и на этот раз. В Обаве непрерывно трещат две пилорамы, перемалывая окольные леса на опилки. Там лежат целые терриконы буковых отходов-горбылей. Микула и разглядел & них свое ремесло. Нарезает брусья и подвешивает сушить. Из старой стиральной машины сделал токарный верстак, на котором точит ножки. На складах умирающих заводов все еще можно дешево найти фанеру, плиты, жгуты, пластик и другую мелочь. С этого он мастерит табуреты, столки, полки. Добротную и доступную для села мебель. Еще и украшает нехитрой резьбой. А между тем — вылазки в лес. Оттуда возвращается навьюченный пнями, корнями, причудливыми ветками. — Сделай мало, но хорошо, — мой трудовой закон, как дед покойный говорил. Склонился ко мне и доверчиво шепнул, что собрал небольшую сумму, но не хотел бы ее трогать — это для Оли, на дальнейшую науку. Теперь учится "на филолога". Оля, сероглазая, тонкая, как тростиночка, грациозная, чинно хлопотала по двору, накрывала под айвой стол. Мое внимание дробилось. Краем уха слушал Микулу — это ведь готовый очерк! Одним глазом следил за Светованом, который неспешно обходил Микулин сенокос, время от времени наклонялся и подбирал "луг". Вторым же глазом я втихаря следил за Олей. Она тоже поглядывала в мою сторону, тут же гася свой взгляд. Ходила одной стороной, пряча тоненький шрам от ожога, тянущийся от уголка губ до уголка глаза. Светлая подкова на покрасневшей от смущения девичьей щеке. Почему-то именно этот шрам притягивал взгляд. И девушка, заметив это, еще больше смущалась. Позвали к столу. Прибежали и Микулины мальцы. Старик тоже спускался по склону, держа в руке пучок цветов. Издали крикнул Оле: — Ну что, красна девица, хочешь угадаю, что приготовила? Грибы лисички с луком и укропом… Оля кивнула соломенной челкой. — Более чистый и вкусный гриб, чем лисичка, на земле не растет, — продолжал Светован. — Они растут в местах, облюбованных лисьими парами. С лисьей любви и вырастают. Стол был тесно уставлен закусками с пивницы, зеленью с огорода. — А я боялся, что ты меня камнями угощать будешь, — сказал старик Микуле. — Наша Оля и с жерновов суп сварит, — степенно похвастал тот. — Но хватит сказки сказывать, это только поп и петух поют на голодный желудок. Обедали с хорошим настроением. Старик тоже имел охоту побеседовать, радо общался с детьми. Спрашивал, умеют ли плавать и ловить руками рыбу. Советовал кушать больше ягод, фруктов и ходить босиком до самых морозов. — Это ж какая мне экономия будет! — смеялся Микула. И о пользе от чтения добрых книг говорил дед. — А сколько надо прочитать книг, чтобы стать умным? — спросил самый младший. — Две-три хватит, — серьезным тоном отвечал Светован. — Но чтобы найти эти заветные книги, может, надо перечитать и тысячу. Оля улыбнулась, открыто встретила мой взгляд. И шрам на щеке побелел еще больше. Позже Микула рассказал нам, что это она обожглась, когда несла казан с кипятком. Маленькая хозяюшка бралась за любую взрослую работу. Старик заметил на стриженой головке мальца какие-то вавки и сказал, что передаст мазь. Когда дети разбежались, он вынул из кувшина, в который Оля положила цветы, стебелек с бледными колокольчиками и протянул Микуле. Потряс. — Ну-ка слушай, так ли звенит твой медный колокол? Мужик растерялся, молча улыбнулся. — Бери железный щуп на добрых десять пядей, — велел Светован. — Прощупаєм твою землю. Микула взял пруток арматуры, и мы пошли к некошеному еще клину. Оля шла за нами босиком. Старик указал место. Микула нашел дубинку и начал забивать стержень. Железо входило в землю легко, как в масло. Он даже сопрел от удивления. — Здесь подземная скала треснула, — объяснил Светован. — И колокол провалился туда. — Отец родимый, вы что, видите сквозь землю? — воскликнул Микула. — Нет, умник, я вижу сквозь пелену, которую вам лень стереть с глаз. В тот же миг арматура уперлась во что-то, тихо звякнула. — Ну вот, — протяжно молвил старик, — мы отработали свой обед, хозяин. Микула был ошеломлен и, похоже, потерял дар речи. Не знал, за что хвататься, бил себя по бокам, тер ладоней небритое лицо. Так делают люди, когда неожиданно находят то, что давно искали. Или потеряли то, чем особо дорожили. Быть может, в нем сейчас смешались оба этих чувства — достижение столь давно ожидаемого и утрата сокровенной мечты. Такое случается с людьми. (Позже он выкопает колокол и отдаст его для монастыря. А на том месте поставит каменный крест. Сам его возведет. Благо, камней вокруг предостаточно). Я тоже чувствовал себя словно обворованный, что все так быстро разрешилось. Сорвал цветок-колокольчик и незаметно протянул Оле. А Микулу мы оставили в замешательстве. Куда и делись его смешливость да колючее, как щетина, слово. Он так и стоял неподвижно в своих пластиковых шлепанцах и парусящей на ветру рубахе. Твердый, как камень, который своенравно лезет тут из земли. Светлый, как лучи, греющие косинский берег до позднего вечера. И высокий, как гора Гранка, в своих простых мечтах. На распутье пастушьих тропинок, где мы утром нашли десятку (ее уже не было), я спросил своего спутника: — Вы таки услышали звон из-под земли? — Естественно, нет. — А как нашли то место? — Я нашел колокольчик. Цветок. — Вы надо мной насмехаетесь? — Упаси Бог. Просто я знаю норов земли. Вспаханная почва, например, всегда теплее, чем целина. Там, где высоко подходит вода, тоже теплее. И вокруг деревьев — снег всегда там тает быстрее. В ложбинках холоднее. А над пустотами земными и трава растет пустая. Реденькая, бледная, слабая. Те цветки-колокольчики и указали мне место… Я не знал, что сказать на это. У меня уже не было сил удивляться. — Хорошо, что вы помогли Микуле. — Этому человеку не надобно помогать, — молвил Светован. — Он душой врос в свою землю. Она ему помогает. Для человека доброго попросим у Господа и живота долгого… — Даже рука чешется написать о таком, — вырвалось у меня. — Ну да, написать и присолить. — Что присолить? — не понял я. — Написанное, чтобы дольше помнилось… Я и тебя хочу кое-что спросить. Ты прямо съедал глазами девушку, его дочь. Красивая, правда? — Красивая. — Признайся, хотелось ее поцеловать? — Хотелось, — неожиданно признался я. — А которую щеку больше хотелось поцеловать — здоровую или обожженную? — Ту, которая со шрамом, — ответил я, сам дивясь своей откровенности. — Хорошо. Это хорошо. — Почему? — спросил я. — Почему? Да потому, что ты исцелился, парень… Только через женщину узнает мужчина, кем он является на самом деле… — И с вами тоже такое было? — Конечно было. Разве я из глины?.. Дальше до самого дома мы шли не разговаривая. Он, правда, бормотал какую-то несвязную песенку:Она положила мое сердце под свое.
Такая ладная, словно вырезанная,
Белая, словно нитка,
Очи льном рисованы,
Брови — колесом,
Стройная, как стебелек.
Такую и лебеди унесут…
Слово, которое не нуждается в соли
Не было и дня, чтоб мы хотя бы на несколько часов не уходили в луга или лес. Чтоб соблюдать чин собирательства. Все Светован делал походя, словно между прочим. После того, как я начал внимательнее присматриваться к людям, то заметил, что это привычка многих мастеров. Каждого в его "сродном деле". Еще с вечера он принюхивался, пытаясь угадать завтрашний час. А ранним утром уже знал расписание погоды на ближайшие дни, а то и неделю. В тот день он оповестил с необычным для него пиететом: — Идет влага. И надолго. Я всматривался в ясное небо и не видел никаких признаков непогоды. — Видишь, сухая мгла словно дымом охватила закрайки гор, — показывал он. Размыла их. А небо белесое, вдали сереет тонкая паутина облаков. Она постепенно будет расти и темнеть. Мало того, уже два дня подряд вижу, как вороны поднимаются в небо и камнем падают к земле. Это предвещает крепкие проливные дожди и длительную сырость… Но ничего, мы еще успеем приготовиться. И мы готовились. Испекли хлеб на целую неделю, из леса принесли другой "обкорм". Так он называл пищу, добытую в природе. Дров не хватало, их мы сожгли, когда гнали деготь. А тащить из леса хворост было далековато. Одну-две вязанки — еще куда ни шло. Поэтому я удивился, когда мой "направник" (его словами — наставник) велел брать с собой мешки. В ближнем густом ельнике мы наполняли их колкой — спрессованной сухой хвоей. На это топливо я слабо надеялся. А оказалось — зря. Наверное, никакие дрова не держат так долго ровный жар. как колка. Этому Светован научился в тайге. Только здесь, где предостаточно дерева, об этом не знают. По дороге он набрал еще и мха, чтобы простелить между окон — от влажности. И зеленые кисти рябины — против дыма. Огонь у нас горел "по-черному" — дым выходил через открытый дымоход. — Если бы мы с тобой здесь и зимовали, то между стекол насыпали б еще и березовых угольков. Они не дают стеклу замерзнуть. Жилище надобно сдабривать по-всякому. — Хорошо, если б ваши секреты знало больше людей, — сказал я с легкой грустью. — Да разве ж это секреты?! Это приспособления к труду и жизни. Я готов каждому открыть и дать все, что знаю. Только кто это возьмет, кто это будет делать?! Мы предпочитаем удивляться тому, что делают другие… Так или иначе, я старался записать все весомое, что слышал от него. Поэтому оно и сохранилось, в "первовзоре”. Это тоже его слово, что должно, наверное, означать первоисточник. Слова… Тогда, пережидая затянувшиеся дожди, я услышал много новых слов. А главное — его размышления о самом слове. О чине слова. И вот пришли тучи, синие по бокам и беловатые в середине. Пришли без ветра, но с глухим шумом. Дождь тихо сеялся и день, и ночь, заунывный, словно собачья песня. Времени на разговоры и чтение у нас было предостаточно. Светован достал свои потрепанные книги без обложек. Появилась возможность спросить и о них. — Книги как книги, — объяснил он. — Главное — письмо, а оправа токмо для глаза, не для сердца… Я чинил окна в городской библиотеке, и как-то на улицу выбросили целый ворох книг. И заставили сторожа, чтобы содрал с них обложки. Одни книги были списаны по старости, другие — по вредности. Не тот политический дух. Их должны были отвезти на картонную фабрику в Рахов. Я договорился с начальницей и ночью на тележке вывез то, что отобрал для себя. Теперь у меня есть что читать, а больше — перечитывать. Большинство даже не знаю, кто написал, но из прочитанного часто предстает в воображении некто, кого хочется обнять, как брата, побеседовать с ним… такой дает простор для ума, таким щемящим обручем сжимает сердце… Меня интересовало, что из прочитанного произвело на него самое большое впечатление. — Я не столь безумен, чтобы судить чужое письмо. Я очень мал подле тех великих писателей… Но слово за слово — и я понемногу вытягивал из него читательские признания. Любил он древних "мыслительных” авторов — Канта, Спинозу, Сенеку, Марка Аврелия, Гесиода, Плутарха, Монтеня, Гете, нашего Сковороду. Читал по-венгерски, по-чешски, на румынском, немецком, русском, украинском и русинском языках. Окончил мадьярскую начальную школу. Дед отдал барана, чтоб незаконнорожденного внука приняли учиться. Иные платили деньги за то, чтобы не брали детей в школу. Учился на отлично в чешской гимназии. В Румынии был помощником профессора фитотерапии при Бухарестском мединституте. Русский и немецкий выучил в "университетах" ГУЛАГ а, сидел в одном бараке с немцами. Что касается украинского, то этот язык вошел в кровь и плоть в Хусте, стольном граде Карпатской Украины, которую он защищал с десятью патронами. Но это другая исповедь. Исповедь на перевале духа… Из беллетристов читал меньше, выборочно, хотя некоторых очень любил. Знал наизусть почти весь "Кобзарь". Очень любил Гоголя. ("Читаешь — вроде бы простенький рассказ, сказочка. А закрыл книгу — оно с тобой, пристало к душе, живет в ней, играет, как далекая музыка. Приходишь к тому, что главное в письме не буквенные строчки, а то, что между ними. Что застыло в слове, словно янтарная смола, навеки. Нам для размышлений и удовольствия"). О Чехове говорил, что это "ваятель в слове. Вырезал — и предстало зримо. Ни стереть, ни убавить. Читаешь — и видишь. И веришь. И думаешь: "Это мы, прости Господи!" О Толстом отзывался с тихим уважением: "Пишет так, что и сам удивлен написанным. Откуда оно пришло? А откуда — только Сверху приходит такое слово. Честное, простое, вещее. Словно и не человек писал — для кого-то и чего-то. Птица, что поет, себя не слушает. Просто наполняет малый простор своей малой радостью. И эти звуки словно и ни для кого, и ни для чего, но они не напрасны, не так ли? Толстой наущает, что и наша жизнь должна быть простой и красивой, как песня жаворонка". Сковороду называл "очитанным человеком и некнижным любомудром. Этот мыслитель с серыми глазами предпочел спрятаться от мира. Но что с того, что ты спрятался? Мир все равно найдет тебя. Это я ощутил на себе… Но он стяжал высокий внутренний дух. Его правилом было отсутствие каких-либо правил. Говорят, жил в дупле дерева. Как и я. Где я только не жил…" К моему удивлению, знал Светован и стихи. Тоже давние, удивительные, очень красивые. Как-то прочитал:Ой пастух, пастух, я тебя люблю.
Что меня болит — лишь тебе скажу.
Чародейка есть — сушит лишь тебя,
И тебе с ней плохо, и ей без тебя.
Жил себе дедок, жил он хорошо.
Волка он пугал — тот овец не брал.
Что же делать, как нам быть?
Все терпеть, терпеть, терпеть —
Бога не гневить.
Бедный человек, зря ты думу сушишь.
Силушку напрасно мыслию ты крутишь.
Мыслишь зря о том, что давно прошло,
Посреди реки камнем вниз пошло.
Понапрасну думаешь, что будет потом,
А оно прописано уж в небе золотом.
Отпусти-ка все ты на Божью волю.
На своей стезе вспахивай ты поле.

— А как угадать, что надобно для читателя? — Не надо ничего ни угадывать, ни придумывать. Будь свободным в своем письме, как при плавании, как в пении. Разве птица, когда поет, думает, как она это делает и для кого?! Когда с кем-то разговариваем, следует думать не о себе, а о том, кому говоришь. Когда же ты пишешь — наоборот, вверяй бумаге свою душу. Если это тебе близко, то обязательно найдутся и другие, которые примут его. Конечно, если слово твое будет простое, честное и доверительное. Потому что вся жизнь зиждется на доверии. На жертвенном доверии. Только прислушайся к человеку, чтобы услышать его, чтобы сказать что-то свое, дабы услышал и он. Нужно углубляться в поверхностное, а в мелком открывать цельное. Если душа открыта для природы, тогда и природа творит в ней большую работу, усиливает ее. И это общее творение будет радостным, и плод его — слово — крепким и красивым. — И не надобно будет соли, чтоб дольше помнилось, — докинул я. — Правду говоришь, — улыбнулся он. И прислушался, наставив ухо на окно. — Слышишь? — Что? — я ничего не слышал. — Птицы подали живой голос. Это означает, что к утру они расклюют дождь. "Птицы расклюют дождь", — повторил я мысленно. Уроки слова продолжались.
Тепло первозданного жилища
Все так и произошло. Наверное, он видел сквозь ночь и слышал сквозь дождь. Утром мой старик промолвил в распахнутое окно: — И солнце сияет, и мир Божий красен! — Чудесное утро! — воскликнул и я радостно. — Утро чудесное уже тем, что оно настает, — сказал Светован, набирая в пригоршни воды. Он уже перекусил и сейчас ополаскивал рот. Это он делал каждый раз после еды. Отдавался ритуалу целиком. Эту привычку он приобрел среди абхазцев, когда работал на поймах Колхиды. Умывался, черпая из родника одной ладонью. Последнюю пригоршню выливал себе на голову. Так, говорил, умываются на Кавказе. Обычаи мира, который он обошел, пристали и к нему. Горы сквозь самоцветы капель казались стеклянными. Босые ступни сами попросились к траве — она покалывала пчелиными жалами свежести. От земли парило теплом, большим и душистым, словно копны сена. Душа, обгоняя ноги, рвалась вперед. И потекла наша жизнь собирателей привычным руслом. В лугах и перелесьях мы снова выбирали нехоженые места. Я и раньше наблюдал, что дед не любит проторенные дороги. И как-то спросил его об этом. — А что найдешь на них, ежели и другие не нашли? На протоптанной тропинке трава не растет. Дорога появляется под ногами у того, кто идет. Мы бродили по пустынникам и находили то, что искали. На мочалистых вырубах брали астрагал — желтые и пушистые, как цыплята, цветки, гнездившиеся среди таких же пушистых листьев. Астрагал помогает при малокровии, потому что в нем много железа. Высушенный, он даже звенит. Срезали черную чагу с белых березовых стволов. В этой хрупкой черноте — высосанная сила дерева. Поэтому она и помогает от множества болезней. Старик рассказывал, что когда он промышлял охотой на Далеком Востоке, там вместо чая заваривали чагу. И в тех местах никто не болел раком. И здесь это последнее спасение для обреченного. Хорошая помощь и при переломах, при ожогах, частых простудах, утомляемости. Кроме того, этот гриб плавно понижает сахар в крови. На окраинах нашего озера, куда мы ходили искупаться в жарынь, выбирали из воды частуху — листья, похожие на подорожник, с реденькими метелками белых цветочков. Эта вскормленная илом трава не только лечит почки, но и дробит в них камень. И выздоровление проходит безболезненно. К ней прибегают и при укусах бешеных животных. Но только в сухом виде. Там же, в болотце, выискивали мы мелкую жабью травку Ее еще называют сушеницей болотной. Помогает при грудной жабе, расширяет сосуды, снижает кровяное давление. Сам я ее и не заметил бы — столь мелкая и неказистая. И вообще, жабник попадается очень редко, в том и заключается его ценность. Бывало, мой травовед после долгих дневных хождений заваривал себе сушеницу в ведре и нежил ноги, подсыпая горсть соли. При этом его лицо блаженно разглаживалось: "Каждый из нас носит в себе целителя, надо ему только помочь". Подорожник (он называл его припутник) мы тоже не обходили. С детства знакомые нашим пяткам листья, но какие целительные при всех болезнях легких, даже чахотке. А соком его, говорил Светован, человека можно целиком "преобразить снаружи". Если длительное время тщательно втирать его в кожу, то спрячутся вены и глубокие морщины, исчезнут пятна, высыпания и бородавки, а мышцы подтянутся. Тело обновится, помолодеет. Испокон веков его пользовали при заживлении ран на полях битвы и в походах. Но когда я глубоко разрезал себе на камне ногу, старик не за подорожником потянулся, а разжевал розмарин, посолил и приложил к порезу. За ночь рана присохла. Душистый розмарин мы тоже собирали, эту "очень полезную мураву". Срезали и вьющийся плющ, что тянулся вокруг дубов. Лиана это довольно ядовитая, но в умелых руках изводит мозоли, жировики, чирьи, бородавки и коросту. Чистит воздух, плющ хорошо сажать во дворе тем, у кого слабые легкие. А истолченный в порошок и настоянный на холодной воде, он лечит ревму и "панскую болезнь" — подагру. Это когда судороги выкручивают щиколотки, немеют пальцы, и такая боль, словно от острых зубьев капкана. При этом очень еще целительна трава кошачья лапка, которая и впрямь напоминает подушечку кошачьей лапки, и огонь-трава. Так ее называют, возможно, потому, что для мази сухую траву сжигают и золу смешивают с маслом. Для тех, у кого ломит поясница, додают еще калган и дикий ирис, петушки по-народному. Я видел, как он делал такую мазь для головы колхоза. Тот привез не только топленого масла, сала и подсолнечное масло для лекарства, но и корзину овощей, плетеный бутыль с вином и даже жестяную коробку халвы. Сахара у нас не было, и с тех пор чаи мы пили с халвой. "Погоди немного, — успокаивал меня старик. — Скоро у нас будет яблочный мед". Временами мы находили синильник. Его прямые мохнатые стебли доходили нам под грудь и цвели мелкими желтыми цветками. "Зрячая флора", — важно отмечал дед, ссылаясь на своего румынского "направника" профессора Джеордже. Тот свежим соком синильника лечил сетчатку глаз, за два-три года зрение возвращалось. Позже, в свою таежную бытность, Светован замечал, что таежные охотники до пожилого возраста сохраняют зоркость. А все от этой травы, прозванной там усьмой. Нету в тайге коренных жителей в очках. Синильник и волосы обновляет, надо только запастись терпением. Правда, новые волосы будут темнее. Барышни рисуют его соком брови — тогда они растут гуще. Другую знатную травку — шоломник — открыл ему лесной ведун Кукумир. И когда мы как-то вышли на нее в еловом буреломе, старик почтительно снял крысаню. И долго собирал на коленях целительные корешки. Вечером мы их вымыли и мелко порезали. Они были желтыми и необычно пахли. — В чем их сила? — поинтересовался я. — Это первая помощь для головы и сердца. Ум долго остается ясным, а сердцу не страшен удар, "гута", как здесь говорят. Еще они понижают кровяное давление. Плавно, каплю за каплей. А нервы успокоят лучше, чем валериана или собачья крапива… Кукумир носил этот корень на груди. Столь же целительна и таволга. Ее мы встречали часто — высокую, с густыми душистыми оборками соцветий. Ее заливают кипятком на ночь и пьют для укрепления сосудов, успокоения нервов, для крепкого сна. Он многих учил делать такие простые, но удивительно целебные настои. За хмелем далеко ходить не надо было — чешуйчатыми кистями свисал он с Илькового сарая. Хмель мы брали и на хлебную закваску, и на лекарство от варикоза. Как для питья, так и на примочки. Я слышал, как благодарили моего лекаря, когда через неделю пришло неожиданное облегчение. "Не говорил ли я: надейтесь и запаситесь терпением? — говорил он. — Лечение — словно учение. Тот же труд". С "луговых походов" вместе с мешками травы несли мы что-то и к столу. С озера — рыбу, холодную и твердую, как лед. Не было предела моему удивлению, как он ее ловил. Неслышной, сторожкой нутрией сунулся по воде, причмокивал губами — и рыба с подбережья, как заколдованная, сама шла к нему в руки. В лесных бродах "добывали гриб". Он никогда не говорил во множественном числе, уважительно называл — "гриб". Возможно, потому, что каждый гриб — не только питательная еда, "лесное мясо", но и лекарство. — Почему белый гриб для нас такой вкусный? Потому что приносит облегчение для сердца и укрепляет тело, очищает кровь. Маслята помогают при головной боли, настоем из них растирают больные суставы. Дождевик гасит жар. Шампиньон чистит кровяные протоки, понижает давление. Груздь снимает гнойное воспаление глаза. Высушенная веселка лечит язвы, пролежни и укусы. Толстая свинушка уничтожает опухоли. Губка лиственницы помогает при чахотке и желтухе. Моховик обостряет зрение. Козляк беспощаден ко всякой заразе. Желчный гриб обновляет печень. Опенок разжижает кровь и более того — помогает возвратить память. А полевой дождевик может осилить даже тиф… О целительной пользе грибов он мог рассказывать бесконечно. А про лисички его рассказ вообще звучал, как песня. Всю потаенную силу подземного царства вложил лес в лисички. А камень (они любят каменистую почву) — свою твердую чистоту Никакая земная поросль не сравнится с лисичкой по чистоте. Никакой червь не точит ее, хотя грибы для него — наибольшее лакомство. Лисички сами изводят червей в человеке и всякую другую нечисть. Большая польза от них при малокровии, кишечных проблемах, истощении, детской худобе и ожирении взрослых. ''Хитрая”лисичка сама знает, кому в чем помогать. — Кто часто ест эти грибы, у того молодая и чистая кровь. Они омолаживают человека точно так же, как трава розмарин. Мой направник таки знал в этом толк. И эти знания были у него, как говорят, на лице. Он радо делился всем, что знал: "Мои предписания не для того, чтобы продлить старость, а для того, чтобы подольше оставаться молодым". Сам он таким и остался в моей памяти. Быстрый, легконогий, уравновешенный, жадный к новым знаниям, скорый на шутку, острое слово, с ясным умом. Самособойнаполненный, словно неиссякаемый родник, из которого мне тогда посчастливилось черпать. Он не собирал грибы, он выходил на них, угадывая запахи леса, полян, кустов. На дальних длительных пленерах часто пекли мы болотные сыроежки и рыжики. Первые, говорил старик, богаче на витамины, чем шпинат и помидоры. А вторые не менее питательны, чем хлеб и телячья печень. Я легко этому верил, потому что грибы и в самом деле приносили телу легкость и энергию. Возвращаясь памятью сквозь пласты лет, вижу нас — обветренных до костей, обкуренных дымами и пылью, затерянных среди зеленых гор, спокойных и радостных. Где-то за горными грядами гудят заводы и тракторы, верстаются грандиозные планы прогресса, где-то идут войны народов, вспыхивают бунты и манифестации в помощь голодающим. Голодным еды и правды… А мы печем себе на грабовых прутиках сыроежки и щуримся от ласкового дымка. Тепло первозданного жилища, к которому все время порывается душа. И здесь своя особая сытость, данная щедрой землей, — как дар, как радостная находка. И умиротворенный голос, голос уставшего задень собирателя, который поудобнее устраивается на лежбище из папоротника: — Все на свете переменчиво, братец. Не бывает такого горя, которое бы время не стерло из памяти, нету такой боли, чтобы ее смерть не утихомирила… Он обращался ко мне. Мне это уже можно было знать, потому что ветры наших вольных странствований стерли из памяти злобу вчерашнего дня. И давящая боль из грудины перешла разве что в руки и ноги, которые приятно ноют после работы и ходьбы. Привычная боль жизни, боль служения.Всякая птичка своим носиком живет
Как-то раз, припоминается, он сказал задумано: "Может, мы рождаемся не единожды… Возможно, мы уже приходили на этот свет каким-то животным. Иначе почему бы меня так манили птицы?!" Это было не простое любопытство к пернатым. Птицы "голосами ловили сердце" и были для него "самым родным товариществом и первыми новинарями". Он знал, что зерно цепко ухватится за землю до того, как прилетят ласточки, потому что потом уже почва становится капризной; ежели кукушку слышно ясными вечерами — к неурожаю; если воробьи гнездятся с северной стороны крыши — к жаркому лету; жаворонок поет без устали — неделя будет погожей; на Онуфрия соловей давится колосом — следует приступать к жнивам; если на Тихона кукушка прекращает куковать — надо завершать жатву; женским криком "га-га-га!" можно привлечь коршуна, а он принесет во двор благосклонность неба; соловей поет всю ночь — день будет погожий; хороший выводок гусят — к сытому лету; вороны каркают перед дождем, а филин зовет "пугу" к ясному дню; дятел кричит к холодак; кулик оставляет болото, когда чует длительное тепло; грачи пасут траву перед влагой; журавль перед потеплением танцует; скворцы подают голос — к ночному дождю; ласточки летают высоко — к ясной погоде, низко — перед тучами; воробьи купаются в пыли — после обеда ожидай дождь… В разных местах птицы поют по-разному. Это зависит и от поры дня, и года, от погоды, и даже от состава воды в той местности. "Всякая птичка своим носиком живет", — любил говорить. Эта "крылатая мелочь" была для него отдельным царством под высоким небесным шатром. Припоминаю, как он обрадовался, когда увидел небольшую юркую серую пичужку на нашем подворье. — Прибился тишок. Видать, хорошо ему здесь. Дрозд-омелюх, редкостная птица, любит тишину. Илько-баильник знал, что делает, когда ставил здесь избу. Место удивительно свежее и тихое… Баильниками он называл характерников — своего рода колдунов. Сам себя таковым не считал: "Они обычно слово берут из темноты и выносят на свет, а я, наоборот, — из света во тьму. От страдания — к терпению. От опыта — к надежде…" Не все, о чем он говорил, я понимал, но все больше догадывался. На нижних лугах, случалось, находили мы ямки с гнездами, увитыми корешками и конским волосом. С них слетали желтенькие птички, похожи на воробьев. И сеяли над травами свою нехитрую песню: "синь-синь-синь-синь…" — Овсянка. Указывает косарям на доброе сено. Где вьет гнезда, там буйные травы. А почему ее так называют? Потому что держится возле конского следа, теребит в навозе овсяные зерна. Эта пичужка тем дорога, что самая первая возвещает о весне. Только подаст голос — как снег начинает таять. В наших полевых ночевках не один раз слышали мы при первых сумерках долетающее откуда-то странное мурлыканье: "уэррэррр… эрр. Прерывистое и недолгое. Потом громко хлопали крылья. И больше ни звука с той стороны. — Вот и дремлюга уже собрался спать, и нам пора, — говорил Светован. — Ночь в поле отмеряет лучше, чем петух. Ночь под открытым небом пролетала в один миг. Ее седую мглу мелко пробивал знакомый голос: "тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ…" В рассветной поволоке на старом пне угадывалось серое птичье очертание. Понемногу с него вырисовалась смирная бурая в крапинку птица. "Тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ, тэ-кэ", — живо на что-то указывала она. Я с любопытством подкрался, но что это? — птица, которая, казалось, дремала, закрыв глаза, как только я бросался ее схватить, в последний миг легко взлетала из-под самых рук. — Увы! — смеялся старик. Этот ленивец видит сквозь сон. Спит на лету, может ошибиться и сесть на голову человеку либо корове, но поймать его невозможно. Дремлюга. Днем дремлет, а ночью стремителен, как стрела. Мошку гонит. Поэтому и держится возле скота, где для него много корма. Его еще называют козодой. — Почему? — Потому что ухитряется подлететь к козьему вымени и пососать молоко. И коза этому не противится. Возможно потому, что в уголках его клюва щетинистые перышки, которые козу и щекочут… Рассказал дед, что ленивый дремлюга даже гнездо не строит. Кладет два яйца прямо на землю и дремлет себе на них. Птенцы вылупливаются уже зрячие и оперенные, наверное, чтобы было поменьше с ними возни нерадивым родителям. Это летние птицы. Как только повеет осенью — собираются в дорогу к заморскому теплу. А может, козье молоко для них уже горчит от пожухлой травы. В своих рассказах о "лесном бытии" старик как-то обронил фразу: "И научился я спать, как пищуха, стоя". А чуть позже показал мне и саму птичку — маленькую, юркую, с крючковатым клювом. Она зацепилась им за волокно под корой, хвостиком уперлась в край и так спала. Под корой — ее пища, приют и гнездо. Поэтому пищуху называют еще и "подкоришником". Я видел мудро устроенное гнездышко. На веточках, выложенных между стенками дупла, прикреплены лубяные волокна, а повыше — мох, перышки, шерсть, коконы пауков. В гнездышке лежали белые яичка с красноватыми пятнышками. Видели мы и гнездо ползика, синеватого свистуна, который лазает по деревьям головой вниз. Он лепит его из глины, смачивая слюной. Эта замазка такая крепкая, что не расколоть и камнем. — Заботливое существо. Словно из Святого Письма — не сеет, не жнет, а припасов у него на зиму — полная камора. Набивает в трещины коры семена клена, подсолнуха, конопли, орешки и сухие ягоды… Бывало, и со мной делился. Когда в лесу не можешь найти ничего съедобного — иди на посвист ползика. Он тебя подкормит… Когда Светован вынужден был жить отшельником в диких лесах, нехитрой науке выживания он учился у маленьких жителей леса. Прежде всего, у птиц. Их он знал очень хорошо и трепетно любил. Крохотный комочек с маленьким мозгом, величиной со спичечную коробочку, — а сколько природного ума! Сколько силы в добывании, сколько радости для глаз и ушей, сколько пользы для всего мира! Всякая птичка своим носиком живет. Очень "домашняя" птица синица, держится за свою территорию. А неволя ее губит. У "теплого" дрозда, который протяжно читает с верхушки березы свое напевное письмо, тельце такое горячее, что можно обжечься. От этого он даже задыхается, вынужден проветривать легкие. Из этого получается размеренная, медленная песня: "фи-лип, фи-лип, чай-пить, витью-вить…" Некоторые птицы все время на виду — а гнезда их не увидишь. Например, золотомушка. Она ткет свое гнездышко из паутины и мха, но тщательно прячет от посторонних глаз. Точно так же и костогрыз, с его железным клювом — для косточек диких черешен. Чтобы не перегреть яичка, плетет гнездышко не плотно, оно даже просвечивает снизу. Из лесных верхушек падали удары звонкого молоточка: "тинь-тень-тянь-тень… тинь-тень-тянь-тень". Это отбивал свою песенку крохотный ковалик. — Его тяжело увидеть. Любит высоту. Ловит мотыльков по краям веток, хотя сам не больше их. Как-то старик показал мне ковалика вблизи. У зеленовато-рябой птички были полностью черные лапки, словно и впрямь вымазаны в кузнице. И тоненько стучал ковалик язычком по наковальне клювика: "тень-тинь-тянь…" Всякая птичка не только своим носиком живет, но и своей песней. (Каким постным был бы этот мир, если бы все они пели на один манер! Но творец наш — Художник. Сам ласковый, он выделил каждую живность своим окрасом, своим звучанием. И каждому человеческому племени дан иной язык, чтобы оно его любило, развивало и удивляло братние народы. И мать-землица впитывает эту отчую речь, как дождь и солнечные лучи. И на тех теренах, где эта речь привольно и мудро звучит, там и благодати больше. Ибо язык — это незримый дух, который живет между землей и небом и связывает, крепит сущие души". Эти розмыслы Светована сохранились в моей синей тетради). В нижних лугах, которые плавно переходили в заросли орешника, в ясные лунные ночи слушали мы соловьев. Слушали и молчали каждый о своем. Ибо грешно было посторонним звуком ломать эти райские мелодии, наполнявшие округу тихим ясным миром. И небо слушало их, и ночь. Из рассказов деда я уже знал, что поют это после хлопот с гнездованием самцы. Поют для самок, которые высиживают яйца. И эти серенады будут продолжаться до тех пор, пока не вылупятся птенцы. Они рано, еще до начала лета малышей, покинут гнездо и пойдут искать в зарослях свою дорогу, свою самку, свою песню. Соловей — птица-единоличник, любит уединение. Как, впрочем, и каждый художник. Они прилетают к нам поздно (тоже по отдельности самцы и самки) и рано, почти еще летом, отлетают, оставив над осиротевшими оврагами, словно застывшее марево, свою песню: "фи-фи-фи-тьох-тьох-тьох-юлить-юлить-юлить…" В разных местах, в разное время соловей поет по-разному. Как и человек. Наилучше поет тогда, когда больше всего комаров. Я слушал соловья и вспоминал услышанное раньше: "Разве может это пение звучать понапрасну?! Каким радостным должен быть мир, если даже маленькая птаха имеет такую власть над нашим сердцем!" На внешний вид эта птичка не особо красивая, почти как воробей. Зато ее сестра синешейка очень заметная, пестрая, с красной либо белой звездочкой на грудке. Подвижная певунья. Сколько раз во влажных ольшаниках мы слушали дивные перепевы целого, казалось, хора. А самих птиц не было видно. Хор вела одна синешейка — большая пересмешница пернатого племени. В топях вокруг озера, где мы "справляли плавбу", встречались тонкие, словно тростинки, с вытянутым вверх клювом темно-бурые бугайчики. Неподвижно замирали, только голова незаметно вращалась и поблескивали в нашу сторону бусинки-глаза. А бывало, что из реденьких плавней слышался приглушенный крик. Словно издали ревел бугай. Это птица опускала голову под воду и угрожала кому-то, возможно, коварной щуке. Через этот голос так их и называют — бугайчиками. — Нету птицы более трудолюбивой. Совсем как вол, только пернатый. В четыре часа поутру уже, как монах, кладет поклоны над водой. А заканчивает свой рабочий день, когда садится солнце. Чует теплую зиму наперед и остается дома, не отлетает. Клювом пробивает лед, чтобы прокормиться… О своем гнезде бугайчик особо не переживает, часто использует прошлогодние сорочьи гнезда. А есть птица "домашняя" на удивление, которая плетет не одно гнездо, а несколько: для птенцов, для дневного пребывания и для ночлега. Это ремез. Его гнезда напоминают варежки, прикрепленные к рогатинам веток. Выплетенные из луба, замаскированы мхом и лишайником, устелены вербовым пухом. Плетиво настолько крепкое и толстое, что его редко даже сорока сможет разорвать. А уж про сороку говорил дед много. Как и ворон, сова, кукушка, — это птица-характерница. У нее невероятное чутье. Хвастливая и завистливая воровка. Тянет в свое гнездо все, что блестит. Может даже поджечь избу, если притащит окурок. Не терпит соперничества. Увидеть двух сорок вместе — к счастью. …Кукушка свое откуковала, когда примерялась к новому лету. Считала себе дни и длину полета над чужими гнездами. Теперь же она чаще всего хохотала над нами из густых укрытий: "кли-кли-кли-кли…" Бездомная кукушка — очень скрытная и хитрая птица. Меньше голубя, но когда напыжится, становится похожей на ястреба. Птицы в страхе покидают гнезда, а она садится, чтобы снести свое яйцо. Одно чужое выбрасывает. Кукушка умеет считать. Если гнездо для нее слишком маленькое, то яйцо приносит в клюве. Оно таких же размеров, как и у других птиц, только скороспелое. Кукушата, не успев обсохнуть, выбрасывают из гнезда всех других едоков. Могут поднять крылышками вес вдвое больше, чем они сами. И получают весь корм. Бедная мелкота трудит крылья, чтоб прокормить ненасытного чужака. А мать кукушка только хохочет над этим: "кли-кли-кли-кли…" Но все это ей можно простить хотя бы за то, что немилосердно уничтожает лесную мохнатую гусень, которую другие птицы не едят. На Ильковом подворье, в дупле старой груши-дички, часто ночевала неясыть. Так мой научитель называл небольшую серую сову, которая поселилась тут одновременно с нами. — Пришли мы, за нами придут мыши, слетятся все мелкие пичуги-попрошайки. Мудроокая неясыть знает об этом. И все видит. Особенно ночью. Ночь для нее — это день. Теперь мыши не подточат наши припасы. И змеи будут обходить двор стороной. Бывало, среди ночи я просыпался от глухого тревожного окрика: "гу-ху-ху-хуу!" Это стерегла наше подворье птица с выпуклыми стеклянными глазами и загадочным старозаветным именем — неясыть. Но самыми верными нашими спутниками в долинных походах были ласточки. Словно черные стрелы, носились обок и хватали потревоженных букашек прямо из-под наших ног. По стремительности и высоте полета Светован определял, из каких они мест, сами ли кормятся или собирают поживу для приплода. — Как это можно угадать? — удивлялся я. — А хотя бы по их мордочкам. Кормилец собирает во рту комок насекомых, склеивает их слюной. Только потом летит к гнезду. Это птицы неба. Землю они не любят, потому что ножки у них короткие и слабенькие. Земля для них — только материал для гнезд. Земля и слюна. Ласточки в основном живут и живятся в небе. А когда идут холодные затяжные дожди, они сильно голодают. Это не воробьи и не голуби, которые могут выхватить корм буквально изо рта скота или из руки человека… Услышал я от него и о птичьем молоке. Наверное, только голуби кормят им своих мальцов. Птенцы засовывают свои длинные клювики в горло к матери и пьют оттуда жиденькую кашку. Такое молочко образуется в зобе дикого голубя на протяжении трех недель, покуда мелюзга еще не готова к твердой пище. Его скорее можно было бы назвать птичьим "творогом". Как-то в жаркий полдень мы лежали в тени перелесья. И я увидел странную картину: два дрозда с налета вскочили в муравейник, начали переворачиваться с боку на бок, хлопать крыльями. Они купались в муравьиной куче и чиргикали от удовольствия. Ошеломленный, я молча тронул деда за плечо, но он совсем не удивился. — Купаются, — объяснил кратко. — Достали их клещи, вот и спасаются муравьиной кислотой. — Что, птицы знают, как лечиться? — Еще как знают! Различают насекомых и травы, которые имеют горечь и кислоту, чтобы почистить перья, успокоить боль в костях, улучшить пищеварение. Птицы мне много чего насоветовали… Конечно, меня не могло не интересовать и то, как птицы находят дорогу в теплые края, а потом возвращаются к своим гнездам. — По солнцу. У птиц очень хорошо развито внутреннее чутье времени. Знают, где в какой час суток находится солнце или луна. Потому что некоторые, те же дрозды, летят ночью. Солнце и луна ведут их, а земля поддерживает равновесие для полета. Птицы, как и ангелы, объединяют землю и небо. Я с интересом наблюдал, как он присматривается к птицам. Это было не поверхностное любопытство, нет. Это был внимательный партнерский взгляд, зоркий и вдумчивый. "Одновременно ты должен выхватить глазом движение, характер и настроение”, — поучал меня как-то. Но тогда речь шла о людях. Это же он применял и к безъязыким существам. И они говорили ему не меньше, чем люди. "Были времена, когда птицы заменяли мне людей, — признался как-то. — Я жил в безлюдье, а они летали в мир, слышали людей и приносили мне оттуда совет и утешение, которых мне так не хватало. Собственно, птицы и научили меня лучше понимать людей. Мы ведь так похожи. Просто они летают на крыльях, а мы духом…" Все ближе и ближе подводил он меня к главным тайнам "этого ярого мира". Травы, которые мы собирали, прорастали во мне новым видением, новой верой, новой надеждой.Ловля ветра
Не могу сказать, что жил я тогда только мыслями о травах, грибах и птицах. Давно, очень давно, казалось, услышал я его первые уроки: "Надобно насытить легкие воздухом, а голову — пустотой. Одиночество заселяется, яма заполняется, просека души зарастает". Устоялся и окреп мой дух, раскрепощалось тело. Играла кровь. Играла и звала меня к людям. Вернее — к одной… (Сейчас, ровно тридцать лет спустя, пишу я эти строки под канадским дубом на своей сельской даче в Косино. Сбоку поет ручеек, за живой изгородью созывает своих деток соседская наседка, вдали звенят колокольчики на козьих шеях. Солнце садится за гору Гранку. Желудь упал на клавиатуру ноутбука, выбил в тексте букву "и". Дерево помогает мне писать. А дурманящий аромат скошенной травы — припоминать…) Тогда вокруг Косино тоже было чисто обкошено. Я наугад выбирал тропы — и каждый раз удачно. Какие-то невидимые подземные колокола вели меня туда. Еще с вечера я отпросился в село: — Куплю зубной порошок, возьму на почте газеты. И вы почитаете…, — Зубы лучше чистить вишневой лучиной. А газеты я не читаю. Мне новости птицы приносят. Мои газеты — лица людей. Там все написано. — Тогда… мазь передам для сына Микулы. — Если хочешь, ступай. Но это ловля ветра. Послезавтра придут больные — передадут. Но я пошел. И не столько из-за сына Микулы, сколько через его дочь. "Три вещи я не могу понять в этом мире, — сознавался мудрый царь Соломон. — Это путь птицы в небе, рыбы в воде и змеи на камне. И четвертое, что неподвластно пониманию, — это дорога мужчины к женщине". Я шел к Оле. Шел, не зная, для чего и за чем иду. Манили ее глаза, глубокие и спокойные, как наше озеро, с такими же неожиданными чувственными вспышками, как, бывает, рыба блеснет серебряным бочком в толще сизой воды. Их блестки устремились в мое сердце. И куда б я ни шел — всюду тенью за мной ходили эти глаза. Видел я их и в кружеве папоротника, в резной кроне шелковицы, в колодезном срубе, утыканном мхом, в разводах соляной скалы. Эта неожиданная власть нависла надо мной, и я не мог "взять ее под ноги", как сказал бы мой теперешний учитель. Я спасался от этого ногами. Я шел к ней. Может, Косино и назвали так потому, что это село видных косарей. Косят, как говорит Микула, "рубя в траве орехи". А может, из-за "койсынок" — полудиких персиков, которые сами, словно верба, засеяли все бережки Садовой улицы. Здесь, в запруженном ручейке, я и увидел звонкий ворох детворы, а среди них и парнишек Микулы. Отдал старшему мазь, объяснил, как ею пользоваться. И как бы невзначай спросил об Оле. "Она в библиотеке, за рекой. Через подвесной мостик будет ближе…" Река гремела, бурлила, билась о зубья валунов и опоры узенького мостика, повисшего на тросах. Когда я шагнул на него, он зашатался под ногами. И вдруг это шатание утихло — с той стороны тоже кто-то шагнул на мостик. Из-под нависших веток показалась девичья фигурка. Это была она. Шла, не держась за поручни. Мост замер. Вот ведь какое бывает в природе необычное равновесие, подумал я, когда сойдутся на шаткой дороге двое. — Привет! — крикнул я. — Не надеялся тебя здесь встретить. — Привет, — сказала Оля без особого удивления, словно сама как раз на это и надеялась. — Не кричи так. воду все равно не перекричишь. Те, кто вырос возле воды, угадывают слова по губам.
— Ты тоже читаешь по губам? — И по глазам тоже, — ответила лукаво. А в серых глазах плеснулись знакомые огоньки. Мои ноги опять качнулись, хотя мост был недвижим. Мы стояли, опираясь на трос, и смотрели на стремительное течение, играющее на солнце. Брызги, отлетая от камней, переливались и завораживали. От этого водограя поднималась кисловатая влажная пыль и ложилась на волосы, на лицо, на язык. Мы вдыхали реку, пили ее, и от этого в висках били острые возбуждающие молоточки. Оля была одета в горчичное платьице и белые модные босоножки. За это время она подстриглась, загорела, и против солнца ее подбородок, щека и верхняя губа золотились нежным пушком, как у персика-койсынки. Красивое, не по-сельски благородное лицо мило упрощал розовый шнурочек шрама. И от этого оно почему-то казалось особенно близким и родным. Разговаривать не хотелось. И не только потому, что река заглушала голоса. — Если так долго стоять, — отозвалась наконец Оля, — то начинает казаться, что вода проходит через тебя целиком, промывает все тело и даже дурь из головы. — А мой дед говорит, что лучше всего выветривается дурь из головы в походах. — Хорошо говорит. Ты его внук? — Нет, я ему никто. — Тогда почему он с тобой ходит? — Это я с ним хожу. — Почему ты с ним ходишь? — А ты почему? — Что я почему? — засмеялась она. — Почему ты стоишь со мной уже час и молчишь? — Хм, хороший вопрос. — Меня учили этому — спрашивать. — Где? — В университете во Львове. На военной кафедре. У меня знаешь, какая секретная специальность? — Откуда мне знать? — Спецпропаганда и работа с пленными. — Ого! Получается, что я плененная жертва? — ее глаза обиженно округлились. — Нет, скорее я. — Кто же тебя в плен берет? — Твои глаза, — ответил я напропалую. — Спецпропаганда. Я оценила — хорошо тебя учили. А агитация будет? — Будет. Пошли купаться. — У меня нет с собой купальника. — У меня тоже, — глуповато засмеялся я. — А ко всему — еще и ума. — Это мое слабое место еще с детства. — Вижу. Не зря тебя все еще деды воспитывают. — Ну, не всем же повезло с пединститутом… У тебя сейчас каникулы? — Фольклорная практика. Я должна насобирать полную тетрадь устного народного творчества. — О, а я это невольно делаю каждый день. — Где? — искренне удивилась. — Возле деда. Он просто сыпет фольклором с обоих рукавов. — Поделись с бедной студенткой, если не жаль. — Да хоть сейчас. Где твоя тетрадь? — Еще не завела. — Тогда пошли в магазин. Меня тоже послали за кое-чем, — солгал я. И мы пошли по мосту. И он снова плавно зашатался. Может, мы тогда еще ходили не в ногу… Грудастая продавщица, беря деньги за тетрадь, ехидно поддела: — Интересно, что же вы туда такое будете вдвоем записывать? — Рецепты, — спокойно ответил я. — Рецепты? Какие? — Ну, хотя бы рецепт мази от типуна на языке… Продавщица хмыкнула, но тут подошел какой-то покупатель и она повернулась к нему. — Не надо мне в селе плохой славы, — дернула меня Оля. — Хватит и того, что ты похож на обавского цыгана. Небритый, на ногах ботинки с Первой мировой, а в шляпе, наверное, ворона жила… — Не ворона, а мудрая сова. Это одежда творцов устного народного творчества. Перед тобой — живой типаж. — Передо мной живое пугало. Попрошу отца, чтобы взял тебя на полставки в наш огород. — Я готов хоть на целую ставку, чтобы отгонять от тебя всяких залетных воронов, ястребов, орлов и лебедей…: — Ха-ха-ха-ха… Ну, с орлами и ястребами все понятно, а почему лебедей надо отгонять? — Потому что такую, как ты, и лебеди украдут. — Глупости какие. — Никакие не глупости. Это уже пошло устное народное творчество. Записывай. И она записывала. Мы сидели на поваленной липе у старого кладбища. Здесь его называют "тыном". Очень точное слово. "За тыном" — это уже где-то там, в других мирах. Я вспоминал самое свежее из синей тетради, услышанное от Светована, и чинно диктовал. Я сам удивлялся, скольким вещам наустил меня старик, и сейчас я говорил, словно в лист дул. Не знаю, слушали ли меня мертвые под горбиками, свалянными временем и зализанными ветром, но Оля жадно ловила каждое слово и записывала красивым убористым почерком. — На этом конец — сказанию венец, — оборвал я словесный ливень, потому что не помнил уже больше ничего важного. — Следующая порция позже. — Перешлешь мне? — загорелись ее глаза. — Разве что голубем. — А ручьем? Он течет как раз возле нашей Винницы. — На горе поток очень слабенький. Еле слезится. — А ты запруди его на ночь, а утром отпустишь — и бумажный кораблик поплывет. Я поставлю сито из лозы… — Как ты до этого додумалась?! — воскликнул я. — Я отцова дочь. Он бы так и сделал. — Хорошо. Я попробую. — Только не смей от себя ничего дописывать. Исключительно — народное творчество. — Я тоже народ. Малое стадо, как называет нас дед. — Вижу, что малое. Тебя еще пасти да пасти. На коротком поводке… Потом мы лежали в траве, которую здесь, наверное, не косят. Трава забытья. Наши локти касались друг друга. Она не убирала руку. Ток пробегал по телу от этих касаний, холодил мою грудь и заставлял тихо вздыхать. Некоторые женщины пахнут так, что мы тяжело вздыхаем. Но не от аромата их эти вздохи, а от духа свободы, который поселяется в нашем сердце. — У тебя есть мечта? — неожиданно спросила она. — Не чествую это слово — ответил я дедовым тоном. — Пустое слово. К тому же — придуманное… Но мечта у меня есть. — Какая? — в ее глазах загорелись блестки. — Коснуться твоего шрама над губой. — Гм, разве ты не знаешь, что не следует касаться руками лица? Это негигиенично. — Я не руками хочу, а губами. — Что ж. мечтать не вредно. Тем более — так наивно. — Знаю, наивность не лечится. — Почему же? Ты ведь сам говорил, что дед исцеляет все. — Это если больной сам этого хочет. А я не желаю. Яхочу быть прекрасно больным. И хочу, чтобы этим заразился еще кое-кто. — О, так ты, оказывается, еще и разносчик вирусов ко всему… — Я разносчик мечты. — И не боишься? — резко повернулась, приблизила глаза почти впритык. — Чего бояться? — Того, что мечта может сбыться… — Если честно, немного боюсь. Потому что у меня не совсем окреп иммунитет. — Тогда иди на свою полонину и кушай чернику с брынзой, — резко выдохнула и забрала руку. — Ага. Брынза там белая, как твои ноги… — Парень, у тебя и вправду горячка. Тоже белая. — А черника сизая, как твои глаза. — Ты что, бредишь? — Нет, это устное народное творчество. — Тогда мне жалко этот народ. — Ну конечно, ты ведь народная учительница. — Я пока только народная студентка. — А уже даешь уроки. — Кому? — Мне. — Какие уроки? — встрепенулась. — Самые лучшие уроки — уроки радости. Ты видишь, я смеюсь без причины, словно картонное дурило?! Мы смеялись оба. Хохотали без устали, заглушая шум близкой реки. И при этом читали что-то по губам друг друга. .. Далеко за полночь прибился я домой из ловли ветра. Сладкого ветра. Когда проснулся на следующий день, старик уже давил для кваса собранную малину. Скользнул по мне приветливым взглядом и молвил: — К таким девушкам с пустыми руками не ходят. Я б на твоем месте понес ей хотя бы пучок червоной руты. Я не спросил, кого он имеет в виду (этот дед-всевед знал все, и ничего с этим не поделаешь). Я спросил его: — А разве червона рута существует? Может, это только в песнях?.. — Червона рута — это по-книжному рододендрон. Неужели ты не видел, как на скалистых горах цветет червона рута? Тогда ты ничего не видел…-
Восковые перстни
В то утро он долго молился. Обычно его молитвы были краткими молитвами благодарности. (".Не просить надо, чтобы тебе дали, а благодарить за то, что имеешь. А то, что тебе надобно, будет дано. Не говори Господу, что у тебя есть беда. Повернись к той беде открытым лицом и скажи, что у тебя есть Господь". Из синей тетради). Мы собирались натри дня, нарезали из автомобильной шины выступцы и наколенники. Ибо если выйдем на Острый Кряж, там, на каменистых перелогах с рододендронами, придется сбивать колени. Собирались, планировали — и не пошли. Орлан перебежал наш путь. С глухим свистом пролетел над двором и сбросил серый кимлюшок. Он упал аккурат перед стариком — комочек мха, не донесенный до гнезда. — Ломикамень, — сказал старик. Этот мох растет там, где облака чревом трутся о горные вершины. Там, где уже ничего не растет. Оттуда нас оповестили, что кто-то попросился к небесам… И мы отложили свою дорогу, занялись мелкой работой по двору, а к заобедне, из самого пекла жарыни, вышел дедок в длинной шляпе и прошамкал, что умерла Студеная Марта, дальняя родственница Светована. И что зовут его на "провод почившей души". Старик искал глазами что-то вверху. Там до сих пор почти недвижимо планировал орлан, словно чертил что-то в синей небесной тетради. Каждый из нас имеет свое письмо, подумал я. Только не каждый готов это прочесть. Мы вытрясли с одежды хвою, натерли обувь сажей, смешанной с маслом, и пустились в путь. На похороны. Молчаливым был тот путь. Как и надлежит быть дороге к мертвым. Пришли уже к вечеру, как говорят здесь — в собачий голос. Деревенька была вырублена в черном дубовом лесу, а по низу окаймлена обручем из болот. — Люди здесь посеяны с небес, — сказал мой поводырь. — Сюда не дотянулись ни татары, ни хазарские злодеи, ни мадьярские жандармы-перьяники, ни русские колхозы. Здесь время загустело, как еловая смола… И действительно: тишину сначала видишь, а потом уже слышишь. Деревня носила название Древоделы. Селение деревьев и людей, испокон веков живших деревом. Мы шли по улице, на которой цвел дикий тимьян. Иногда мимо проходили одинокие кони, провожая нас внимательными взглядами лиловых очей. Или взлетал надо головой дятел. Перелесья здесь сливались с садами. Виноград "опорто" вился вокруг вязов. Замшелые валуны и муравейники указывали на границы между дворами. Воротниц не было, двери на срубах были подперты вениками. И людей не было — все на "проводе". Здесь всем миром встречали новую жизнь и так же провожали смерть. В дубовом гробу-труне, с дубовым крестом — под шатер дубовых крон. Чтобы желуди закрыли глаза, а корни переплелись с костями в вечной тверди горы. Похожих похорон я не встречал ни до этого, ни после. Покойница лежала посреди избы на столе. Гроб был выстелен колечками ароматной стружки, тело накрыто белым кружевным покрывалом. На голове сизый платок. Руки на груди, а на двух пальцах — восковые перстни. Это признак того, что умерла невинной девушкой. Строгое мраморное лицо почти без морщин, хотя было ей далеко за семьдесят. Сбоку, на ладе, женщины читали Псалтырь. Книгу передавали из рук в руки. Та, что принимала ее, вставала и макала пальцы в воду. Заунывные речитативы псалом трепетали под сволоком, как стайка ночных мотыльков. Непрочитанная часть книги становилась все тоньше, и точно так же утончались, ставали острее при оплывшей свече черты покойной. В синих сумерках ее лицо становилось моложе, матово светилось. С улицы заходили люди. Свеча тяжело моргала каждому. Мужчины ребром ладони "крестили" смерть, прикрывали глаза и выходили. Женщины наклонялись и что-то шептали над гробом. Незамужние девушки касались восковых перстней и поднимали глаза вверх. За последней вышел и я. Посреди двора горел огонь, и большой котел кипел на треноге. Женщины-сокачки (так здесь называют кухарок, готовящих кушанья на свадьбы либо поминки) общипывали кур, потрошили и бросали в варево. Тут же, на деревянной доске рубили зелень, морковь, кольраби, замешивали и раскачивали яичное тесто, нарезали его тонкой лапшой. Из ароматного пара торчали желтые, как воск, петушиные ноги. Сбоку разогревался лист жести, на него щедро сыпали сахар и брызгали соком мяты. Сахар вскипал леденцовой слюдой. Ее кололи на куски и раздавали детям. В печи под айвой доходили баники — длинные пироги с орехами, сыром и маком. Ароматы мясного навара и пирогов смешивались и разносились по двору. То тут, то там срывался смешок, прорывался гогот. Дети-подростки достали где-то вожжи и позади избы целыми кучками затеяли перетягивание, падая с визгом в траву. Кто постарше, играли иначе. Один держал на коленях шапку, а другой прятался в нее лицом. Кто-то подбегал и бил второго сзади. Если угадывали кто, приходилось бившему "нюриться" лицом в шапку. Как только стемнело, к играм потянулись и девушки. Парни выгребли из костра угольки, вымазали руки. Подбегали к девушкам и чернили им лица. Те не бросались умываться, а по очереди поднимались с лавки и показывали пальцем на злоумышленника. Парень подходил и губами стирал копоть с девичьих щек, шеи. После этого девушки обязаны были "отбеливать" парней… Потом на выгоне замелькали огоньки, подсвечивая красным возбужденные лица. По кругу ходила горящая лучина. Осторожно, закрывая ладонями, передавали ее из рук в руки. Потому что ежели потухнет, та девушка должна поцеловать каждого парня. А за парнями ревностно следили свои, чтобы никто втихаря не подул на огонек, потому что тогда все поцелуи срывал только он. Еловые лучины трещали, перебивая звук неумелых юношеских поцелуев. А в горнице лежала баба-девушка, в самом деле уже студеная, и жар этих игр, видимо, завершал то, что в жизни не долюбила, не утолила. Как последний поклон грешного мира. Под сараем сидели кружком мужики. Им вынесли из подвала ведерко. Пронзительно запахло "изабеллой" — самым распространенным здесь сортом винограда. Кружка пошла по кругу. Посредине, на бревне, сидел "Иван-пан" и черпал вино. Тот, кто брал пойло, что-то должен был сказать о нем: "Ну какой из него пан? Лес залез к нему в огород, а он детей за хворостом гонит". Выпивал, стряхивая капли на соломенную труху, и передавал посуду дальше. "Какой с Ивана пан? Рубашка зимой и летом — одним цветом…" — "Пан с Ивана? А кто нам топоры и мотыги закалит?.." — "Не пан он рукам своим, потому что за выпивкой тянется. Не пан голове, ибо о чужих молодицах думает…" — "Таким паном заделался, что к другим в гости ходит, а сам не зовет…" О мертвых говорят только хорошее. А о живом — наоборот. Чтобы смерть не дослышалась о его добродетели и не прибрала до времени. Так эти дроводелы весело и задорно, под винную чашу, перемывали один другому кости. И чем больше лепили к бедолаге греха, тем громче смеялись вместе с ним. Это было какое-то публичное очищение. Очищение соседством смерти, которая пришла на этот раз не к ним. Женщины разносили посыпанную солью и перцем курятину, от которой шел пар. Потом — бульон из котла. При свете луны в миске блестели мелкие монетки жира. И каждому подносили на виноградном листе кусок пирога "баника", с которого на пальцы стекала сладкая начинка. Доев его, мы облизывали те листья. Возле меня, согнута в дугу, сидела маленькая старушка, цокала острой бородой по коленкам, приговаривая:Марта, Марта, списанная карта.
Девица-сестрица, сердца царица.
Невенчана жена, отцова дочка,
Приплыла к меже живота твоего бочка.
Ручейковая почта
Жизнь шла своим чередом. Старик отправился за иссопом, за душистой травой, которую мы только раз повстречали в своих походах. В ту ночь (хотя, сколько ее было — с петушиный нос?) ему приснилось место. И пошел туда. До этого я не знал, что дневной путь человеку может указать ночной сон. Меня оставил домарить, чтобы прибраться на чердаке, где сушился наш сбор, и заложить "киселицу". Из Древоделов мы принесли дубовые клепки, и Светован починил старую Ильковую бочку. Я долго вымачивал ее, а потом начал наполнять, как он меня научил. Дно выстелил камушками кремния, надробил соли, а дальше слоями выкладывал спелую огородину с нашей грядки, садовые падалицы и сыроежки, которых в ближнем редколесье росло видимо-невидимо. Овощные ряды перекладывал листьями дуба, вишни, смородины. И залил все водой, которая прямо вскипала, гася кремний и соль. Эта киселица — сад, огород и лес в тихом душистом плену бочки — вторая заветная еда, которую он открыл мне после настоящего хлеба. Старик квасил ее именно так, чтобы была в меру кислой и соленой, зато глаз трапезника в первую очередь выхватывал ее среди другой снеди. Квашенина отличалась таким богатым букетом вкуса, такой хрустящей твердостью, что язык не успевал советоваться с небом. Замоченный таким способом овощ не скисал, не сопревал и не гнил. Берег самого себя. При том, что на вкуснятину шли плоды, которым суждено было пропасть, сгнить на земле. Но разве земля простила бы нам это?! Мой учитель был мудро бережливым к тому, что так щедро давала природа. Говорил: "Терпеливый и бережливый купит вторую корову за то, что надоит с первой". Бывало, о разном допрашивался я у него. Даже о таком, почему мы стареем? "Все живое со временем либо высыхает, либо гниет. Человеческая плоть тоже. Чем это превозмочь? Горьким и кислым. Горькими овощами и травами. Кислым молоком, рассолом, квашениной. А что помогает против усыхания? Вода, сочные фрукты, ягоды. И вино в меру". Но вернемся к моим плодам. Точнее к тому, что они во мне вызывали. Ибо в моем сердце созревал, наливался сладким беспокойством совсем иной плод. Я наклонялся за сливой в траве — и сизоватый ее бочок напоминал мне ее глаза. Нежная коралловая морковь была похожа на ее губы. В резном листе видел я изгиб ее рта. Русые пасма молодой кукурузы напоминали ее волосы. Круглое восковое яблоко было совсем как ее плечо… Я понимал, это все это следы моего буйного воображения, но как этому помочь?! Я не считал себя влюбчивым, тем более, что образ бывшей моей девушки, почти невесты, сидел еще во мне дразнящей занозой. Картина на ужгородском мосту все еще всплывала в памяти. Я отгонял ее, словно наваждение, и долго еще хватался за соломину надежды. Зачастую мы очень самолюбивы в своей любви. Ее, любовь, любим больше, чем самого человека.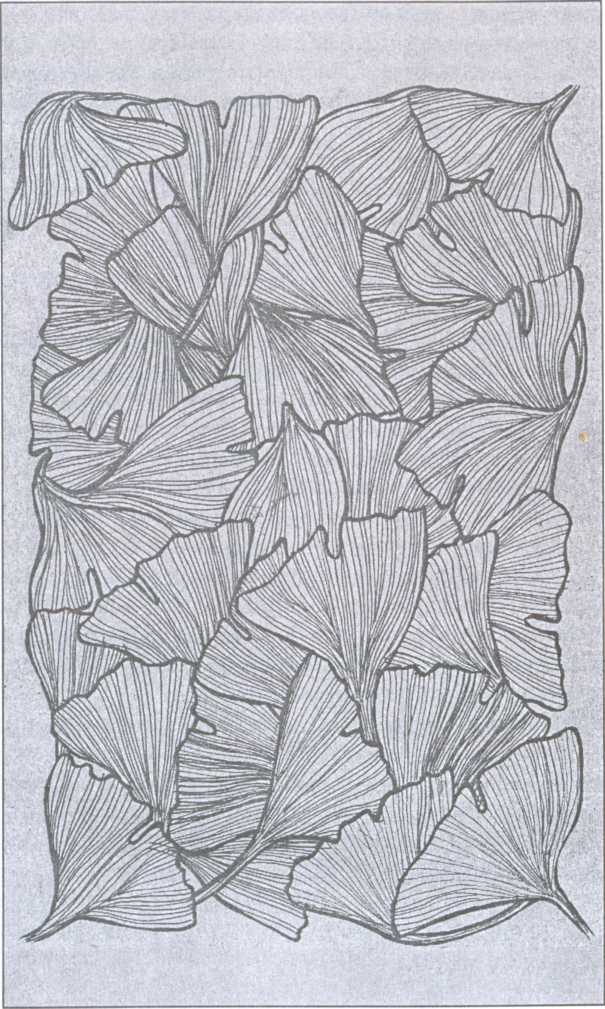
Вылечил меня от этого дед. Фактически, одной только фразой. В порыве откровенности я как-то спросил его: — А люди, которые любят, возвращаются?.. — Люди, которые любят, не покидают нас. И тот, кто нарушает верность, нарушает ее не кому-то, а, в первую очередь, себе. Поэтому если тебе изменили, еще неизвестно, кому из вас не повезло… Клин клином вышибают. Одна болезнь пожирает другую. Любовь возносится над любованием. Любовь сильнее и мудрее нас. Это простые, но вечные законы… Я разговаривал с ней на расстоянии, не шевеля губами. Но этого мне было мало. Хотелось общения более предметного, ощутимого. Чтобы что-то приблизилось, надо идти ему навстречу. И я занялся своей почтой. Словно между прочим, спросил старика, сколько времени надобно воде, чтобы добежать от нашей криницы к селу. — Вода, как и человек, разной бывает — вялой и быстрой, — ответил он. — А если запрудить ручей, вода быстрее потечет? — Вестимо, что так. Но все это можно вычислить. Человек за день может пройти расстояние, сколько охватят его глаза. Конь — в два раза больше. Вода среднего течения еще быстрее раза в четыре… — Почему именно в четыре раза? — Потому что на таком законе зиждется этот мир. Все соотносится как 20 к 80 и наоборот. Все можно вычислить за этими пропорциями. Выложишь 20 мерок — получишь 80. Заберешь 80 — послужит тебе только 20. Мир делит и распределяет все по справедливости… Мне почему-то вспомнился Гоголь, великий магистр слова. Он сказал: "Главное — знать меру вещей и тайну пропорций". Из этой науки я выудил для своей затеи кое-какое мерило и занялся приготовлением. Из бревен и дерна возвел запруду, чтоб ручей вошел в силу. Затем огарком свечи провощил бумагу, сложил из нее кораблик. Он должен был доставить мое письмо сухим. "Милая Оленька, привет из полонины! Здорова ли ты?! Как спалось красивой розе? Добрый тебе час, нежнотелая красавица, день моей ночи, проводница моего пути, услада моей муки! Бью челом пред твоею божественной красотой! Дай тебе, Бог, века длинного! Пускай судьба благоволит к тебе! Мир и покой доброй воле! Счастливого тебе часа! Надеюсь, ты, умница, догадалась, откуда и от кого приплыли эти градуляции? Как видишь, я сдержал свое слово и присылаю письменную шпаргалку для твоих фольклорных записей. Эти заметки из первоисточника, то есть, из оригинала — синей тетради, записаны из уст моего-не моего деда, знаного между людьми как Светован. Он сейчас где-то по нехоженым горным тропинкам пробирается, ищет разрыв-траву. А я муштрую перо, дабы передать тебе его слово. Слово, словно выкованное из железа, которое не возьмет никакая ржа. Потому что оно закалено народной мудростью. Вещее и вечное. Читай и испивай свежесть. Читай и возрадуйся мудрости. Ибо настоящая мудрость всегда веселая. Язык во рту — хранитель головы. Свое ухо не укусишь. Смотрит лисом, а пахнет волком. Нищего накормишь, а его котомки никак. Девушка — как писанка, а язык — словно помело. У пьяницы и портки в дырах. Не хотел, не хотел — а и крохи все поел. Было бы здоровье, а грехи найдутся. Где всегда гостина, там голод дышит в спину. Горькие того года, у кого в лекарстве нужда. В жизни покой, пока не мешает чужой. Еда к волку на своих ногах бежит. Сытый пес от добра бесится. Вола вяжут веревкой, а человека словом. Дураку и Бог уступает. Дурной грош нигде не пропадет. Голод для пса брат. Пропадет, как собачья слюна. Своя земля и в пупке мила. Не занимай ужин — проснешься без долга. Кто молчит — двоих наустит. Дурак наработался, а умный заработан. Лежа не заработаешь одежу. С водой не играй, огню не доверяй, в ночь не пускайся. Жена не варежка — с руки не сбросишь. Пешего орла и ворона клюнет. Черепки дольше живут, чем целый горшок. Кто со страху умирает, по том свиньи звонят. Краса до венца, а ум до конца. Пожалеешь гвоздь — потеряешь подкову. С одного здоровья не потолстеешь. Виновного двумя батогами не бьют. Толстая стена, но не греет. Носил волк овец — понесли уже и волка. Не земля родит, а руки. Голого и ремень греет. Пустая бочка шумит, а полная молчит. Для каждой змеи своя рогатина найдется. Дома и солома едома. Ищи не долю, а волю. Соломенный мир лучше золотой ссоры. Без надежды человек сходит с ума. Сноп без перевясла — солома. Собачье слово к небу не идет. В каждой деревне свои звонари. Вот такие небылицы притягиваются к кобылице. Как видишь, слово народное всюду пригодное… На этом заканчиваются словечка и начинает дышать воля. Хотя нет, передаю еще один маленький подарок от деда — рецепт свежести. Если женщины хотят чаще смотреться в зеркало, то надо растирать лицо льдом из отвара ромашки. А отвар из дуба подтягивает кожу и делает упругой, из березы — смягчает. После этого разговора бывай здорова! Прибиваюсь в писании к берегу, ибо не ведаю, донесет ли мое утлое суденышко этот груз. Живи в добре и здоровье! Сердцем обнимаю тебя и шлю поздравления на все дни живота твоего!" С аистового пера я сделал мачту и к ней, словно парус, приколол свой листок. Разобрал верхушку запруды и пустил суденышко на ожившее течение. Вода весело подхватила его и понесла в долину. Вечерний ветерок попутно подгонял мой парусник. Подкрадывалась ночь, очертания скал становились мягче, запахи, наоборот, — резче. Уставшие за день птицы устраивались в ветвях на отдых. Я, поджидая старика, сидел возле ручейка, время от времени вытаскивая из запруды бревно, чтобы подживить его течение. Слушал сверчков и рукой топил в воде зори. Спохватился, но было уже поздно: надо было положить в кораблик несколько светлячков, чтобы указывали ему ночную дорогу.
Вино с яблочным медом
Если снится мед — это к счастью.— Я забыл купить сахар, когда спускался в деревню, — сказал я, допивая горьковатый утренний час из боярышника и веточек дикой груши. Старик посмотрел на меня удивленно, по-детски. Словно о таком продукте, как сахар, впервые слышал. Действительно, о нем мы как-то вообще не упоминали. Но может эта детскость была вызвана тем, что перед ним стояло дите, глупое в своих прихотях. — Ой-ой, я кормлю тебя горьким, кислым и постным и совсем забыл, что молодой мозг нуждается в сладком. — посмотрел сквозь ветки в небо, словно считывая там что-то, тогда — под ноги и сказал. — Хорошо, вечером будем пить сладкий чай. Лето было сухостойное, и яблоки падали на затвердевшую землю, отмеряя чуть не каждые полминуты. И с шорохом катились вниз, в яругу, заросшую терновником. Яблоневый ряд рос на крутом склоне. Яблоки надо было спасать. Мы вбили чуть ниже колышки и выплели из орешника невысокое заграждение, где-то на два вершка. Теперь плоды, которые скатывались с крутого берега, останавливались возле нашего заграждения. Я им еще и помогал длинной палицей. А старик пошел делать "медоварню". Новое его приспособление как всегда разочаровало меня своей простотой. И вызвало новую порцию удивления: опять из ничего делалось что-то. Из задымленной жести, которая служила здесь на все случаи жизни, старик выгнул противень, формой похож на ракушку. Он сходился книзу воронкой. А сверху плотно был прикрыт другим листом жести. "Медоварня" стояла на трех больших камнях. Между них уже потрескивал костер. Собранные яблоки я мыл в ручейке и сыпал в тот противень. Когда в жаркой бане на первых плодах лопнула кожура, нас обдало умопомрачительным ароматом. Мы сидели друг против друга через огонь, и казалось, что появился между нами третий — густой ароматный яблочный дух. Старик сбил палкой пламя, чтобы плоды томились над ровным жаром. — Ты слышал, как трубили ночью олени? — неожиданно спросил он. — Самое время им реветь. Поэтому раньше этот месяц называли "зарев”. Гнали оленей и ревели в лесах их рыком. А когда люди научились сеять, брались об эту пору за серпы. Отсюда и "серпень”. В народе так и говорят: серпень достает серпы. А еще и так говорят: в серпне серпы греют, а вода холодит. Потому что Илья бросил в нее лед. Настроение у него было праздное, он никуда не спешил, как человек, который все жниво уже сложил в копны. И погодя объяснил, почему. — Луг, прихваченный холодными росами, начинает подгнивать. Трава уже теряет свою силу. И сушить ее теперь надобно дольше. И пчелиные рои в колодах становятся вячыми — не та уже полнота цвета. Зато серые тучи входят в силу, давят на землю. Это первыми чуют аисты. Подбирают день, чтобы против ветра подняться в дорогу к теплым землям… Начинаются ночи больших рос. Чем они обильнее, тем тверже в лесу гриб, зато лен в поле сереет. Когда ржаные соцветия доспевают, надо идти за грибом. Подает гриб и другой знак-зов: лес клубится туманом… После Спаса утихает комар, а после первой Богородицы и вовсе исчезнет. Теплым и мирным будет это полетье. Как сегодняшний час. — Из чего вы это видите? — Как из чего? Все вокруг на это указывает. И ты возьми глаза в руки. Примечай и загибай пальцы. Ночью молодая луна висела так, что с рога ведро не упадет — раз. Звезды ясно мерцали — два. Кузнечики вчера трещали до поздней ночи, разносился крик лягушек… Поутру на густой росе парил туман… Воробьи ссорятся между собой, сбиваются в стайки… Пчела летит стоймя… Стебель под ногами не трещит… Ветерок надувает на воде рябь… Вишни неожиданно брызнули поздним цветом… Из каштанового листа давно не слезится… Вербовые ветки очень сухие… Квасеница распустичась, словно к свадьбе… И желтец веселый… Ягоды рябины обильно распружились. Паук широко плетет свое прядево… Мухи не кусают… Муравьи открыли ходы по всему муравейнику… Чертополох растопырич колючки… Я загибал пальцы уже по какому кругу, а он все сыпал и сыпал приметы, слегка обводя вокруг взглядом. Этот человек, сам ничего не пишущий, читал сокровенную книгу открытого для него мира. Я восторженно сказал ему об этом. — Книга? Хорошо, что ты мне напомнил, — и пошел в дом. Пока он ходил, из жестяной воронки повисла нить густой жидкости. Я еле успел подставить приготовленный кувшин. Тягучая струйка расписала золотыми узорами дно посуды. Я подставлял палец и жадно облизывал. Увар был сладкий, душистый, с еле уловимым оттенком яблочной кожуры. — Найдется роток на готовый медок, — перебил он мое смакование. — Но первую каплю Илье, вторую — Зосиму, который по пасекам стоит, — стряхнул руку на ближний куст. — А вот и книга поспела к лакомству. Это была одна из его обнаженных книг, без названия и авторства. Я открыл на заложенной травинкой странице: Трубным звуком медь предвещает Эру познания Славы и Слова. Море нынче покойно, Приветная осень долги раздает. "Я люблю тебя, жизнь! Я люблю тебя…" Вновь и вновь возвращает волна Звук луны и яблочный мед. Я читал, а Светован постукивал в такт ритма ногтем по гулкой глине кувшина. — Это древняя посуда из Олагова, — молвил он, когда я дочитал. — Те мастера домешивали к глине молотые кости коровьих ног — и она становилась нежной, легкой и прозрачной. Как раз для этого меда. Мы макали в сладкую гущу хлеб и ели-ели, не нарушая наслаждения разговором. А яблоки за бережком продолжали падать и, ударяясь о земную твердь, шустро скатывались к орешниковой загородке. Как раз к этому нашему пиршеству и вышел городской художник — длинноногий небритый мужчина с любознательно вытаращенными глазами. За ухом синело пятнышко краски. Поздоровался, сказал, что разрисовывает в деревне клуб и что решил устроить на выходные пленер. Мы его тоже угостили. Художник, закусывая, достал картон и начал что-то быстро зарисовывать. Мы делали свое, он свое. — Дедушка, — сказал маляр, — на вашем рукаве бабочка. Я успел ее нарисовать, а она и дальше сидит. Какая красота! — Это потому, что их разрисовывает Бог, — сказал с улыбкой старик. Склонился к руке, шелохнул губами — и крупная яркая бабочка нехотя слетела с его рукава. Тогда разгреб огонь, потому что кувшин уже наполнился до краев. — Если мы закончили каждый свою работу, то хорошо было бы скрепить ее не одним только медом. Что, братцы, скажете на то, дабы увлажнить душу винцом?! Мы молчали. Зато наши души, наверное, красноречиво отвечали глазами. Старик вынес из пивницы запотевший бутыль, о котором я и забыл — подарок головы колхоза. Мы перебрались под тень сарая. Вино было таким же прозрачным и зеленоватым, как само стекло. Игривое на языке и холодное, хотя и пахло соломой, нагретой солнцем. — Боже, насыти! — зычным голосом промолвил старик и брызнул каплю на потолок. — Чтобы нам не убавлялось! — налил себе и выпил маленькими глотками. — Хорошая направа, чистая! Мы вкушали молодую "леанку", заедая хлебом, сыром и медом. — Трапеза Одиссея, — многозначительно молвил Светован. Много и охотно рассказывал он тогда о "дивности вина". Сам пил его редко, и пил не всякое. — Приложишься к стакану — и чувствуешь, что "больное". Почему? Может, бочка больная. Бочка делает вино — бочка же его и губит. Возможно, дерево пошло плесенью. Быть может, не вымыто тщательно. А может, посуда стояла на сквозняке или в погребе с гнилой картошкой либо подгнившей квашениной. Вино любит само царствовать в пивнице. И на столе не терпит другие напитки — водку либо пиво. Доброе вино само есть лекарством и живой жидкостью, умеющей самой о себе позаботиться. Не надо только его мучить. В вине можно узнать дым костров и аромат цветов, что росли в виннице. Но вино очень легко погубить сахаром, мертвой водой, спиртом, плесневелыми ягодами, нечистой посудой и "нечистым" духом места, где его делают либо хранят. Чтобы вино было добрым и легким, делать его должна добрая и легкая рука. — Старые вина лучше? — спросил я. — Точно так же, как и старые женщины, — засмеялся он. — Все имеет свое время и меру зрелости. Перезревшее — полумертвое. — Вино — это здоровье, любил приговаривать мой отец, — добавил художник. — Да, — спрятал улыбку в бороде Светован. — Чтобы пить вино, действительно надо иметь здоровье. — А сколько его пить? — поинтересовался я. — Есть какая-то мера? — Мера одна — твоя власть над ним. Или ты над вином — или оно над тобой. Или ты его пьешь — или оно тебя… Так за хорошей беседой мы провели время. — Давно вы малярство выбрали? — спросил старик художника. — Давно, — ответил тот смутившись. — Сколько себя помню. — Это хорошо. Ничто так не крепит нашу судьбу, как сродное дело. А как считаете, все ли можно нарисовать? — Наверное, все. — А вот мне кажется, что есть нечто, не подвластное людской руке. — Что? — блеснули глаза художника. — Воздухи. Они не видимы, но обвивают нас, словно живительная материнская пелена. Каждый непроизвольно посмотрел в небо. Сидели молча, пока маляр не начал собираться. Уже на выходе стукнул себя по карману: — Чуть было не забыл. Тут вам передала письмо соседская девушка Оля. Я возле них снимаю квартиру… Я мигом перехватил конверт и засунул за пазуху, чтобы не увидал дед. Но разве ж от него что-то утаишь?! Отходя к вечерней молитве, он обернулся ко мне: — Я обещал тебе сегодня сладкий вечер. Вот и имеешь, — и скользнул глазами по моей пазухе. Наверное солод уже вытекал у меня через пупок, но я все равно прошмыгнул в погребок и зачерпнул пальцем устоявшуюся, густую, словно резина, яблочную патоку. И долго, как ребенок, держал ее во рту. Здесь, в земляной яме, лучше было слышно, как на воле падают, пронзая "воздухи", спелые яблоки. С этого дня нашу терпкую юдоль среди диких гор подслащал яблочный мед.Старая присказка.
"Живи, как дышишь"
Через некоторое время вслед за моим ночным корабликом пошла в долину весть и от воловьей шкуры. С утра старик постирал рубаху. Затем замочил ее в воде с толчеными ягодами и корой черной ольхи. Распятая на рассохе, рубаха ярела на ветру лиловым крестом. Дважды за мою бытность при нем он красил свои рубахи, которые за какое-то время выгорали в сине-бурую дерюжку. Подкрашивал неизменно в сочно-сытый лиловый цвет. На мой вопрос, почему именно лиловый, объяснил: "Это моя барва. Барва размышлений, свежести и равновесия духа. Каждая душа живет своим потаенным цветом". — А каков мой цвет? — с легким недоверием спросил я. — Твоя масть серая. Но не сокрушайся, это очень богатая барва: половина в ней белого, а половина — иные оттенки. Это свет и тень, неутолимое ученичество, ровный и твердый межевой путь. Очень важно вести эту межевую борозду между светлым и темным. Из сотни только двое-трое становятся на этот путь, служители просветительства ”. Я сделал вид, что все понял. Впервые он вслух признал меня учеником. И добавил: — Ты записываешь за мной. Доселе я никому не разрешал этого делать. — Почему же разрешили мне? — Потому что ты дышишь словами… Это воздухи твоей души. Пишешь, как дышишь. Хотя и не знаешь, что с этими записками делать… — Почему же? Их можно пустить за водой — может, куда-то и доплывут… — Доплывут, хитрец, доплывут, не бойся. А теперь приоденься и пригреби копну на голове. Скоро здесь будут люди, ветер принес запах. Два коня с ними и пес… Спустя некоторое время ветер принес и самих людей. Они поднимались друг за дружкой пестрой вереницей, как и в прошлый раз. Впереди бодро шла парадно, как здесь говорят, одетая молодица. Мой научитель неожиданно шепнул: — Следи за походкой человека, за этим легче всего определить его болячку. Видишь, эта красавица считает себя больной… Но почему она так гордо держится на виду?! Потому что несет сокровище, которое называется женской красотой. Несет перед всеми и для всех. А это тяжесть. Большая тяжесть… Красивые женщины — женщины с большим сердцем. Такие сердца легко изнашиваются… Женщина, запыхавшаяся и раскрасневшаяся, тряся золотыми кольцами, начала без приветствия: — Пока вылезла на вашуГолгофу, думала, что сердце по дороге потеряю. Когда-то его и впрямь загублю, или оно меня… Не властна я над ним, бьется-трепещет, как само себе знает. — Потому что не успевает за тобой, сердечная, — старик взял ее за запястье, прислушался к пульсу. — Рубишь его натрое-начетверо, выжимаешь из него, как из камня, все соки. Не чествуешь его, не слушаешь… — Я вашего совета пришла послушать. — Думаешь, я, чужой, лучший для тебя советчик, чем твое сердце?! — Отец родимый, я готова купить в аптеке самое дорогое лекарство. Деньги есть, а здоровья нет. — Я, сестра, аптеку и сам не пью, и другим не советую. Лекарство тебе назначу очень дешевое, зато сердцу любое. Поздно не ужинай, не употребляй сладкого теста, мясных наваров, не пей молоко. А ежели очень охота — только сырое, и ничем его не подъедай. Приучись вечером гулять пешком. А поутру мочи ноги в росе. Ходи по очереди босиком то на пятках, то на пальцах. Когда выдается свободная минутка, разминай кончики пальцев на обеих руках. Это очень хорошо, и не токмо для сердца. А к нему прислушайся: что желает, о чем кричит. Не рви его на пустые заботы и преждевременное любование. Ибо одно оно у тебя. И ты у него одна. Ступай здоровая! — Спасибо, отец, но я не одна пришла, а с братовой. Беда на ней. Из толпы смущенно вышла худощавая женщина с густой печалью в глазах. — Нет уже беды, — обнял ее взглядом Светован. — Было что-то, перевернувшее душу? — Было, — тихо, словно через стекло, подтвердила женщина. — Что было, то сплыло, слава Богу. Нервы вытеснили недобрую соль? Женщина молча распахнула блузу — грудь, плечи были испещрены белыми пятнами. На вид — как оперение совы. — Слушай, сестрица, и запоминай. Мелко порубишь траву зверобоя, зальешь чистым маслом на десять мерок больше. Пускай упревает часа три на водяной бане. Процедишь сквозь капроновый чулок в темную бутылочку. Смочи этим ткань и приложи к пораженному месту. Держи сорок минут, а затем смой свежей водой. И так сорок дней. При этом твори молитву: "Господи, дай мне принять с покоем, терпением и смирением все, что сегодня услышу. Пусть приблизит оно меня к пониманию Твоей воли, высшей Твоей истины”. — Сказал это громко, чтобы все слышали. — Запомните: это первое в исцелении, ибо чаще всего болезнь наша не кара, а помощь нам, чтобы задуматься и не дойти до кары. Это главная помощь — помощь Сверху. Вторым для исцеления есть то, что я перед этим сказал вашей проводнице-сердечнице. Лекарство самого способа жития, умеренной еды, сна, думанья и душевной чистоты. А в другом — помогут земные Господние травы. Женщин пропускали вперед. Протолкалась и располневшая женщина в строгом синем жакете, словно только что из президиума собрания. "Депутатка", — прошелестело в рядах. Властно отвела она Светована в сторонку, что-то говорила твердым шепотом, рубая воздух ребром ладони. Он слушал опустив взгляд, а тогда словно вздрогнул и скороговоркой произнес: — И вы, пани, пришли, чтобы узнать, что относительно вас думает Бог?! Его и спросите, Он всем отвечает. — Я с этим к вам пришла. — С гневом вы пришли… — Не с гневом, а с отчаянием. — Это почти одно и то же. Железо ржа точит. Золоту ничто не мешает. — Золото — это деньги? — удивленно вскрикнула депутатка. — Золото — это правда. На ее вкрадчивую, скрытную речь он отвечал намеренно громко, чтобы слышали все. Уже позже, размышляя наедине с собой, я пришел к тому, что это тоже был публичный сеанс исцеления. "Чин врачевания", как сказал бы он сам. — Есть две правды, — продолжал Светован. — Придти в этот мир и умереть. Но есть еще и третья — радость служения. — Служения? — почему-то испуганно переспросила женщина. — Служения кому? — Людям, роду, ремеслу, искусству, Господу и непременно — собственной душе. Вы не знаете этой радости и поэтому жалуетесь. — Так чего же мне держаться? Как жить? — Живи, как дышишь, — перешел на "ты", и глаза его потеплели. — Научись слушать свою кровь. Научись разговаривать со своим сердцем. Сердце дочки и сердце матери о многом знает — оно наустит. Как дышишь, так и живи. — Как жить? — По правде. Все, что с Богом, — сохранится. Что без Бога-разрушится. Не Его храмы вы губите, а храмы своих душ… Он резко повернулся и подался к больным. Поравнявшись со мной, словно между прочим бросил: — Уходит понемногу их век. Уже ищут мыло для своей черноты. Оно-то так: дьявол пашет, но сеет Господь… Пошли, сынок, к людям. Он лечил, давал советы, а я старался хотя бы что-то запомнить. Кто-то принес серебряную ложку, которой по его указанию неделю кушал дома. Старик долго рассматривал ее, а затем назначил рецепт, как помочь щитовидной железе: кушать больше рыбы и ржаных сухариков; каждый день употреблять такую смесь: стакан гречки и стакан орехов смолоть и смешать со стаканом горного меда. А чай пить из таких трав: черноплодная рябина, шиповник, болотный сухоцвет, полынь, овечий чертополох. Столовую ложку смеси в пол-литровой кружке упаривать всю ночь в погасшей печи. Камень в желчном пузыре велел лечить куриными желудочками, высушенными и истолченными в порошок. За полчаса перед каждым приемом пищи употреблять одну чайную ложку, а запивать свекольным соком, разбавленным поровну с водой. Лечение усилят травы зверобоя, чистотела, подорожника, бессмертника и полыни. Пить отвар перед сном, представляя себе, что перемалываете зерно в муку, набиваете мешки и отправляете прочь. Напутственная мысль, искренняя молитва, хороший сон во всех случаях делают лечение в два-три раза успешнее. Взять хотя бы "отправление хвори с тучами". Следует выйти на улицу, найти в небе маленькую тучку и рассеянным взглядом наблюдать, как она понемногу уменьшается — до полного исчезновения. При этом представлять, что туча — это болезнь. Рецепты его были, в основном, на удивление простыми. Например, сварить зерна ячменя (пять столовых ложек в литре воды). Одну часть выпить перед обедом, вторую — после ужина. Лечит подагру, рак, почки, селезенку, одышку. При малокровии, высоком сахаре, простатите, головокружениях, неврозах поможет настой лука с медом и белым вином. Пить его по три ложки перед едой. При бесплодии в вине настаивают семена крапивы. "Пустым" женщинам советовал древний способ. В теплое время выйти на рассвете к овсяному полю и лечь голышом на домотканую простыню. Когда хорошо пропитается росой, выгибаться на ней коромыслом то в одну, то в другую сторону. Простыню просушить на солнце и постелить дома на супружеское ложе. Для мужской силы — ложку вина с медом и алое перед едой; меньше мяса, больше рыбы, много сельдерея, салата, каждый третий день яйцо, раз в неделю поститься. Для здоровых, густых и красивых волос тоже был рецепт: сто граммов ревеня настаивать десять дней в бутылке красного вина, час упаривать на водяной бане. Процедить и втирать в кожу головы. Когда болят суставы, крутит пальцы, надо пить хорошо вываренный сельдерей. Частую головную боль — "выжигать" воображаемым костром, словно в голове полыхают фиолетовые языки пламени, а дым быстро развеивается. Если вспухают вены, ноги опускать в бочку с водой комнатной температуры. Сначала на 15 секунд, потом все дольше, а температуру воды понижать. После ванны растворить чайную ложку яблочного уксуса в стакане воды и втирать в воспаленные участки. "Золотую жилу" (геморрой) лечат медной монетой. И следует употреблять как можно больше овощей. Настоянный хрен утихомиривает желтуху. Гнойники следует смазывать сметаной и через семь минут дать слизать собаке. Хотя бы три раза на день. Мучает повышенное давление — кушать яблоки, свежие и сушеные абрикосы, изюм. Отказаться от жирного, копченого, жареного, острого, сладкого. Обходиться без соли. Обливаться водой, много ходить пешком, вволю спать. Пить отвары с кроваво-красного боярышника, сухоцвета, собачьей крапивы. Одновременно лечить позвоночник. При диабете по пять штук фасоли белого и желтого цвета залить на ночь кипятком, а утром натощак проглотить и запить той водой. И так сорок дней подряд. Пить настой из листьев черники. Общая слабость, бледность, упадок сил и духа — настой тысячелистника и мяты. А также шиповника и корня одуванчика. Или ромашки и хмеля. Или сурипицы и мелисы, цикория и боярышника. От гайморита залить водкой порубленный корень цикламена. Через неделю процедить и закапывать в нос по одной капле. А вот его рецепт лечения "семисильным веником" от разных болячек. Связать по три веточки дуба, вишни, березы, калины, ромашки, зверобоя и горькой полыни. Этим веником париться три минуты с ног до головы сзади, а затем спереди. Делать это до обеда, через день, через два, через три дня. После этого не кушать три часа, только пить. Семь сил растений исцеляют от семидесяти болезней, а еще семьдесят предупреждают. Советовал давать детям порошок из яичной скорлупы — два раза на день на кончике ножа. Тогда кости будут крепкие, зубы здоровые, а спина прямой. Это очень важно — сидеть и ходить прямо. "В ровном теле и душа выравнивается". Для остроты зрения надобно много кушать ягод. Летом — на всю зиму вперед. А чтобы обрести душевное равновесие и ясный ум — часто пить родниковую воду: 6–8 раз на день по кружечке. Ею хорошо и раны обмывать, и язвы, ожоги, делать настои. Дождевая вода, собранная в грозу, помогает от перепуга и различных страхов. Талый снег — тоже лекарство, подходящее для пищеварения: худые от него поправляются, а полные худеют. Особенно целительна крещенская вода. Видел я как-то, как он разрезал пополам яблоко, прошептал молитву, вытряс семена на ладонь, сложил яблоко снова и дал съесть больному, который не мог определить, что же его болит. Я заметил, что Светована интересовали не столько болезни, сколько "болезненность", то есть состояние больного, склонность к недуге. Он так и спрашивал: "Чем вы слабы?" И часто давал очень похожие рецепты, хотя пациенты, пребывая в мистическом уважении к своим болячкам, надеялись на особое лекарство. И благоговейно несли в себе эту тяжесть-сокровище, как та женщина свою красоту. Казалось, забери от них эти болезни — и ничего существенного в них не останется. ("Если долго всматриваться в бездну, то бездна посмотрит на тебя. Если долго лелеять болезнь, то она вгнездится, словно кукушкино дитя". Так он говорил. Из синей тетради). От конской упряжи отвязали легкую яворовую лохань. Мне старик велел носить воду и нагревать на костре камни. — Сам же бросал в корыто целые пригоршни снадобий, приговаривая сам к себе: "Крошево дегтярного мыла, картофельный крахмал, почки черного тополя, осины, березы, дубовые галлы, тысячелистник, калган, герань луговая, корень родовика…" С другого коня сняли оцепеневшего подростка, завернутого в простыню, через которую пробивалась присохшая сукровица. Раскаленный камень шипел, поднимая черно-бурое кипение зелья. Я гасил его ведрами студеной воды. Светован потрогал мизинцем воду и остановил меня. Живой кокон, не развертывая, осторожно опустили в воду. Мальчуган охнул и часто заморгал. — Так будешь купать его двенадцать дней подряд, — молвил старик отцу, который с побелевшим лицом стоял рядом. — А тех детей, что с ним играли, купать десять дней. И не рви свое сердце — лес все слижет с тела, все очистит…
Лес, который рубаете под корень. По рукам вижу, что деревом промышляешь. — Йо. лесоруб я. А где еще здесь заработать?! — Ну-ну, рубите пока рубится. Но оставьте хотя бы на лекарство что-то детям и внукам… Мальца заверните в чистое полотно и напоите молоком. Долго будет спать. Не бойтесь, это начинается выздоровление. Мужик с твердым, как дерево, подбородком, крепился, чтобы не расплакаться, только губы дрожали. …Люди расходились, унося в глазах утешение и надежду. Склон горы наполнялся новыми, здоровыми, звуками. В саду снова раздались трели птиц, притихших было от такого количества людей. Мой дед, пошатываясь, снял рубаху и бросил в ручей. Сомкнул на затылке руки и долго так стоял, всматриваясь в бордовый пруг заката. Тогда, не поворачиваясь, проронил: — А теперь — рецепт для тебя. Свари нам спасовский узвар. Возьми дикую грушу, лесные яблоки, чернослив, ягоды смородины и сизой ежевики, добавь немного калгана, васильков, подмаренник… — Подождите, я запишу, — перебил я его. — Не надо записывать. Положись на память. Что сваришь — То и будешь пить. Пришло время уже самому подбирать плоды для жизни. Ведь подбираешь же слова для своей тетради… Что я мог на это сказать? Достал корзину и отправился, пока видно, в сад. Когда на узваре в котле появилось первое колечко розовой пенки, ночь уже полновластно заполнила нашу гору душистой тайной. Я выпустил из нашего мочила "больную воду" и запрудил ручеек для завтрашней почты. Тогда открыл синюю тетрадь и записал: "Живи, как дышишь. Пиши, как дышишь ”.
Дай времени время
Оля писала в письме, переданном художником: "Привет там, на полонинском Парнасе. Спасибо, что сдержал обещание. Но ты уж так рьяно не бей челом — забыл, что оно у тебя слабенькое? Зато какое у деда! Скажи, что я с благодарностью целую его мудрый лоб. От моего отца тоже передай ему поклон. Колокол, который он добыл из земли, отвезли в монастырь и дали ему имя Андрей. Оказывается, колокола, как и люди, тоже имеют имена. Потому что они разговаривают… У этого голос особенный, потому что медь старинного литья — рифейского. Так говорят монахи… Что за дивные фольклорные жемчужины из синей тетради! Мне даже немного стыдно, что я так легко добываю практику. Успокаивает только, что это народное достояние. То есть, оно для всех, и для меня тоже. Если бы еще твой дед вспомнил какую-то старинную песню, обрядовую либо рекрутскую… Развесели его как-то при случае. А еще нужен народный сказ либо причта. Совсем коротенькая. Я заметила — много говорить он не любит… Если все-таки расщедрится на откровения, моя вербовая гавань готова принять новый кораблик из твоих рук. Ну, вот какая я хищница-попрошайка. Самой противно. На этом завершаю эпистолу, потому что надо бежать кормить свою орду. Милой жизни тебе, милый! (Можешь это тоже считать фольклором). Олюня-хитрюня. P.S. Отдельное спасибо за косметический совет. Вижу, что твоему учителю известны даже секреты девичьей красоты. Может, он знает и рецепт женского счастья?!" Я перечитал письмо еще раз, еще раз осмотрел оборот листка, словно за ночь там могли появиться новые строки. Было горько, как в детстве, когда лакомства немилосердно не хватало. Но моя ручейковая гавань ждала отправки нового кораблика. "Бедная моя студенточка! Разжалобила ты наши очерствевшие в дикой горной пустоши души. Вынуждены их увлажнять холодным узваром из лесных фруктов. А чтобы утолить твою фольклорную жажду, сразу же берусь за перо. Вот тебе песни, а, вернее, спиванки, как тут говорят. Они, правда, немного грустные для такой веселой певуньи, как ты.Загремели ключи ночью,
Над морем летя.
Заплакала девушка,
Из-под венца идя.
Ой, не плач, бела девица,
Под белым платком.
Придется еще заплакать
Над малым дитем.
Ой, не плач, бела девица,
Из-под венца идя.
Придется еще заплакать,
За мужем живя.
Ой, заплачешь, бедолага,
В понедельник первый,
Как снимут с твоей головки
Веночек весельный.
Ой, заплачешь, бедолага,
Вторник во второй,
Как обсядет головушку
Разных мыслей рой.
Ой, заплачешь, бедолага,
В среду третью горько,
Как ударит твой хозяин
Лицо твое только.
Ой, заплачешь, бедолага.
Во четверг четвертый —
Бедна моя судьбинушка,
Тяжела и горька.
Ой, заплачешь, бедолага,
В пятницу во пяту —
Не идет домой из корчмы
Пьяница проклятый.
Ой, заплачешь, бедолага,
В шестую субботу,
Как не сможешь ты отправить
Пьяницу в работу.
Ой, заплачешь, бедолага,
Семь раз в воскресенье —
Доля моя несчастная,
Кончилось терпенье.
И вторая "спиванка" — вояцкая.
Гора черн? не пахана,
Лишь пулями засеяна.
Летит пуля за пулями,
Бежит кровь тут потоками.
А в той крови вояк лежит,
Правой ручкой саблю держит.
"Не стой, конь, надо мной,
Неси матери жаль мой.
Да стань себе под забор
Подай голос на мой двор.
Выйдет к тебе стара баба —
Это будет моя мама.
Выйдет к тебе невестица —
Это, знай, моя сестрица.
Мама пусть возьмет песок
И посыплет за порог.
Рожью как песок взойдет —
Сын с войны домой придет.
Песок рожью не восходит,
Нету сына, не приходит.
Зерно в полове
Постиг как-то людей неурожайный год. И зима затяжная. Вымели и поели все зерно. А купить для посева негде, да и денег не осталось. Перемлели в голоде — концы с концами не свести. Пришли всем честным миром к одному старому заросшему деду: "Посоветуй, честный человек, что делать". Тот и говорит: "Сейте полову!" не больно выбор был богат: один посеял, второй, третий. Пролился дождик — зазеленело поле. И люди повеселели: какой ни есть, а хлеб. Поклонились деду: "Спаси Бог, что наустил нас! Но откуда ты знал об этом?" — "Наука проста, — ответил тот. — И в незнании есть знание. И в полове есть зерно".Хлеб с росой
Жили два соседа: богатый и бедный. У каждого было по сыну. Барчук был хилый, слабый, через лень и аппетита никакого не было. А щеки сына бедняка пышут здоровьем, сам он сильный, хваткий ко всему. "Чем кормишь своего парня, что так выглядит хорошо?" — спрашивает богач бедняка. "Хлебом с росой". "Так, может, и моего тем покормишь, чтобы окреп? Я заплачу". Встали на заре и пошли копать. Далеко на меже поставили хлеб, потому что больше ничего съестного не имели. Копают, копают, водой горло смачивают. А живот просит своего. Но узелок с хлебом еще далеко. "Где же тот хлеб с росой?" — спрашивает сын богача… "Под кустом лежит. Правда, к тому кусту еще копать и копать". Когда докопали, барчук сам съел полбуханки мокрого от росы хлеба.Безногий и слепой
Жили два нищие — безногий и слепой. Война искалечила обоих: один ездил на низенькой тележке, а второй ходил вслепую, с палкой. Сидели как-то раз около церкви, попрошайничали. Собрали немного денег. Прослышали, что в дальнем селе скоро будет храмовый праздник. "У меня ноги, у тебя глаза — даст Бог, долезем", — говорит незрячий. Стала перед ними река. Нашли брод, но как дальше? "Возьму тебя на спину, — говорит слепой, — а ты направляй, куда брести". Так перешли и реку, и болото. Один тащил тележку, а второй направлял его. Двое калек — слепой и безногий, а нашли выход. Потому что были мудрые. Такие присказы. Следующим рейсом перешлю другие. Пишешь, сердце, чтобы дать тебе рецепт счастья… Но у моего наставника нету такого. И, более того, — он не жалует такие слова. Придуманные они, как и придумана людьми сама видимость счастья. Но как твой верный слуга, я попытался собрать на нить бусинки его заветных советов, которые ближе всего к понятию счастья.Рецепты здоровой и благодатной жизни от Светована
Избавляйся от хлама. Каждый день убирай там, где ешь и спишь. Не менее важно и выбрасывать хлам из головы и души: то, что не приносит пользы и красоты, не радует тебя. Ложись и поднимайся всегда в одно и то же время. Желательно и за стол так садиться. Ритм, привычный режим дня и ночи — очень важные вещи. Это — устой жизни. Каждый день употребляй зелень, овощи, фрукты, ягоды. Пей на ночь простоквашу. Гуляй каждый день. Диво само к тебе не придет. Ходи прямо. Пусть тело будет прямым, а душа ровной. Обливай ноги холодной водой. А еще лучше — все тело. Полощи рот после еды. И глаза — росой либо родниковой водой. Можно и дождевой после грозы. Береги свое тело. Хорошее тело — как хорошее вино, дольше хранится. Чаще улыбайся. Когда улыбаешься — тебе улыбается весь мир. Когда плачешь — плачешь сам. Взращивай любовь, которую ощутил, и дари ее другим. В этом главный смысл жизни. Не думай о плохом. Не думай о тех, кто тебе неприятен. Ни минуты. Прощай все и всем. Не завидуй и не мсти. Себе принесешь больше вреда, нежели тем, кому позавидуешь или отомстишь. Дай времени время. Оно лечит все. Не трать попусту еду, время и деньги. Тот, кто не считает, умирает не исповедавшись. Не пытайся понять жизнь через силу. Просто живи. Так, как умеешь, как знаешь, как можешь. Ecли не можешь пересилить свои слабости, то научись жить с ними в мире. Наблюдай за жизнью, замечай ее интересные и радостные моменты. Если не хватает времени замечать это, значит, у тебя не хватает времени, чтобы жить. Делай столько, сколько успеваешь. Большего достигнешь, если научишься понимать, что нужно другим, а не тебе. Нужды и бедности не бойся. Остерегайся, чтобы нужда не жила в тебе. Не бойся болезней. Они приходят тогда, когда человек готов. Тем, кто не знал болезней тела, тяжелее прийти к здоровью духа. Верь в чудо. И оно придет. Даже если ты его не заметишь, Бог не проворонит. После этих слов мне нечего добавить. Долгая речь не имеет вкуса. И кто долго закручивает, закручивается сам. Но поскольку наш учитель призывает нас все считать, прошу за свой труд скромную оплату. Отправь по этому адресу телеграмму моему другу, что я жив-здоров, и ежели что — уведомить меня можно через почту вашего села. На этом, неся в сердце твой ясный образ, кланяюсь тебе из державы трав, вод и птиц, которые охраняют самые великие тайны сего мира. Служим слову! Спасемся словом!"Служитель сада
Еще когда мы только обосновались на Ильковом холме, Светован сказал: — Не гоже нам ожидать чужого хлеба, когда стоим на целинной земле. Да и колхоз сюда не доберется, чтобы нас кормить. Как ни крути — а ожидают нас полные руки работы. Как раз отворилась к теплу земля… Запомни: ничто так не пахнет и не бывает таким вкусным, как то, что вырастил своими руками. И принялись мы за свою "кормчую ниву". Нет, мы не бросали семена, которые он достал из своего наплечника, в затвердевшую, сбитую годами каменистую почву. Сначала мы подняли перелог. Узкой лопатой отрезали пласт за пластом, между которыми укладывали бурьян, листья, труху из сарая, сухие кизяки из хлева. Пласты жарились на солнце, пили дождь и росу — и рассыпались железистой охрой. Тогда мы формировали грядки. Густо посыпали их перепревшей хвоей, известью из старой ямы, золой, носили в бесагах (заплечных мешках) зеленый песок и каменистую мучку, болотный торф. Из озерной купели брали подсушенные водоросли. В курятнике наскоблили куриный помет. Все это вместе с глиной перебивали мотыгой. — Такая почва — рассыпчатая, быстрее прогревается и хорошо пропускает влагу. И удобрение хорошо сопрело, вызрело. Оно сильнее, чем коровяк, и нету в нем семян бурьяна, как обычно бывает в сыром навозе. Мы уничтожили корни бурьянов глубоким перекапыванием — одни погибли на поверхности, других подушили пластами земли. Затем мы прокопали вдоль огорода канавки, по которым сбежала верхняя вода. А в сильный зной пускали ими воду из колодца, поили свой урожай. Этим под его руководством занимался я, а старик обрезал и подлечивал сад. Подсаживал новые сажанцы-дички, чтобы потом их прививать. Перед этим плевал в ямку. Редко когда он не выделял хотя бы час для того, чтоб поухаживать за садом. Ведь у сада немало вредителей. Среди них первый — белый мотыль, который точит все плодовые деревья и кусты. Собирать его гусениц не просто, легче заманить их в ловушки. Мы раскладывали под деревьями посуду с водой, а по краям горловин ставили полые стебли. В жару гусеницы ползут попить — и тут уже готовы для них очень удобные трубочки для того, чтобы превратиться в куколки. Из этих стеблей их легко вымыть водой либо выдуть в огонь. За одну жаркую неделю можно извести большую часть этой напасти. А для дротянифв оставляли в саду пучки соломы, которые потом сжигали. Слизней приманивали досками и мешковиной, под которыми щедро поливали водой. А когда там соберется много слизней, ошпаривали их кипятком. Еще была и такая пакость, как кроты. Мы засовывали глубоко в их норы кусочки ткани, смоченные керосином. Хорошо их заливать и водой, потому что крот любит сухие, теплые и тихие места. Не сунется туда, где в землю будут воткнуты палки с жестяными вертушками. Отгоняет кротов и конский боб; мы садили его там, где кроты особо лезли. Рыжие муравьи очень помогают саду, они уничтожают больше вредителей, чем сами люди. А вот черный садовый муравей только вредит, потому что расселяет по листьям и побегам тлю, которая затем вытягивает из растения все соки. Эти муравьи обожают медовую росу, выделяемую тлей. Поэтому они ее "пасут" и охраняют от божьих коровок. Отогнать этих муравьев можно с помощью душистого укропа, тмина и ноготков. А возле их гнездовий надо оставлять кусочки хлебной кваши с медом. И они быстро исчезнут. Зато какую неоценимую услугу оказывают садам ежи, ящерицы, жабы и птицы. А про пчел и говорить нечего! Там, где летают "божьи мухи", и трава здоровее, и деревья, и человек. Чтобы их привлечь, мы густо насеяли люпин, колокольчики, божьи ружи, резеду, оман, бурячок, и собачье мыло. Кстати, оно мылится не хуже покупного мыла. После работы мы растирали его цветки и листья в воде на мыльную пену, которая очень хорошо отмывала грязь, затягивала трещины. Руки после такого мытья становились чистыми и белыми. Мы были не только собирателями, но и садовниками. А это уже был чин земного воспроизводства. И он, мой научитель, охотно открывал для меня эту древнюю радость. ("Жизнь наша течет беспрерывно и перетекает в иные жизни, как и все перетекает в природе, и каждую весну рождает новых детей во славу свою". Из синей тетради). Наши "маленькие дети" всходили зелеными ростками, пили воду и тянулись к солнцу, цвели, крепли, набирались тепла, льнули к рукам. И Светован касался их, ласково гладил ладонью стебли. Перед тем, как сеять, припоминаю, грел руки, смазывал жиром. А когда семена вот-вот должны были проклюнуться, шептал им: "Тужьтесь, тужьтесь, недолго уже, скоро на волю". Или потом: "Тянись, тянись, выравнивайся". Ласковое слово, теплый взгляд, нежные касания — все было словно продолжением кропотливого труда. — Думаешь, для земли самое главное удобрение? Не менее живит ее доброта твоих рук, теплота твоего сердца. Ее память это хранит… Откуда у земли память? Земля — это тела людей, живности и зелья. Она древняя и мудрая, как мир. А мы до поры до времени ходим по ней. Не деревья, шатаясь, делают ветер, а ветер колышет деревьями. Не земля для нас, а мы для нее. И я понемногу начал понимать, что дерево для него гораздо больше, чем просто дерево. И трава это не просто наполненный земной влагой стебель. Все для него было живым. Даже огонь. Как-то я долго силился разжечь влажные щепки. "Не горит? — спросил старик. — Дай ему немного соли". Я бросил пригоршню — и пламя весело разгорелось. Никогда не забуду, как открыл он мне эту "живость". Я поливал капусту, сгрудившуюся зеленым табуном возле орешниковой оградки, а он прививал грушу. Вдруг попросил меня присесть, и сам склонился. Тогда кривым ножом с размаха рубанул хрустящий капустный кочан. И спросил: — Ты что-то учуял? — Да, словно скрипучий крик. — Это одно. А запах, запах уловил? Я думал, что это мне почудилось: легкий горьковатый дух пролетел над грядками. — Что это было? — спросил я. — Раненый кочан оповестил сестер про беду, и другие вздрогнули в предчувствии напасти. Не только солнце греет зелень, не только вода ее питает, не только земля живит, но и любовь живого мира. И мы тоже в этом живом соцветии. Одна рука берет — другая дает. Семена берут нашу силу в работе и возвращают нам ее плодами. Ведь мы любим растения, животных не только за то, что можно их употребить. Они для нас как примета нескончаемости и обновления всего сущего. И эта прадавняя любовь незримой нитью тянется от зарождения Божьего мира. Потому что и мы малая часть его. С забавной нежностью относился он даже к бурьянам. Потому что не меньше от них пользы, чем вреда на огороде. Лободу, крапиву, яглицу (он называл ее снеть), бугилу рубили мы на салат. Некоторые бурьяны привлекают птиц и пчел, ведут борьбу с тлей. Или просто радуют глаз в садовых междурядьях: кислица, полевая фиалка, повейка, плющ, очной цвет. А некоторые еще и лечат ("Может, оно как раз и взросло под ногами, чтобы исцелить тебя"). Как-то в порыве восхищения я назвал его старым словом садовник. — Садовник у нас Один. — А я разве что служитель сада. То есть, слуга. Возле него я и сам познал немало хитростей земледелия. Сеять надобно только по "женским дням" — в среду, пятницу, субботу. Ежели лягушки затянули свою песню — лучше не сеять. Больной тоже пускай не сеет. Если ты кому-то должен, хорошо бы в этот день рассчитаться. Перед цветеньем следует воздержаться от полива. Бурьян на грядках надо рубить, пока еще не зацвел. Черную смородину поливай щедро. Молодую малину не пускай расти выше, чем на метр. Следует удалять всю прикорневую поросль у деревьев. Пришли холода — надо прищипывать молодые побеги в саду. Чтобы чеснок не начал гнить в земле, следует в каждую лунку добавить по ложке песка. Выполотый бурьян надлежит сжечь. Удобрения под дерево добавлять не возле ствола, а там, где заканчиваются ветки, чтобы подживлять молодые корни… "Ленивое" дерево можно заставить плодоносить. Для этого следует удалить колечко узенькой полоски коры, а рану замазать садовым варом. Солнечный ожог, заячьи зубы и другое тоже ранят деревья. Светован лечил их щавелем. Мелко рубил траву вместе с корневищем и накладывал толстым слоем, обвязывал мешковиной. Вредителей растений можно извести самими растениями. Отвары и настои бархатцев очень помогают от тли, ноготков и луковой шелухи — от клещей, пижма и полыни — от гусениц, стручкового перца — от слизней, ромашки — от долгоносика, лопуха — от пылыциков. А табачная крошка, кипяченая полчаса, помогает почти ото всех садовых и огородных пожирателей. Хорошо, чтобы в саду был хоть небольшой водоем, потому что лягушки поедают слизней и улиток. А вокруг грядок с картошкой и клубникой сажают ноготки, которые отгоняют вредителей. Муравьи не любят запаха пижма, полыни, мяты, горчицы и петрушки. Если хотите отвадить от участка муравьев, закопайте возле их гнезд рыбьи кости. Потом полейте гнездо настоем чеснока. Капустных червей тоже можно извести. Насобирайте немного, пронесите над грядками и закопайте в ямку. После этого посыпьте капусту золой. И вообще, считал Светован, с огородными вредителями не бороться надо, а выдворять га за границы твоей посадки — к другой поживе, к лучшей судьбе. Если постараться их понять, то всегда можно с ними "договориться”. Он и договаривался. Бывало, что и вслух приговаривал: "Илья Пророк, я уже взмок. Лей гуще на огород, чтобы был богатый зарод". Или когда белил известью дерево: "Я твое тело известью белю, а ты мое накорми". Никогда не собирал урожай подчистую, оставлял хотя бы ягодку для "будущей завязи". Кое-чему разрешал и на землю упасть. А первый огурец, помню, прикопал. Так и первый гриб в лесу. Семена всегда отбирал только с лучших плодов. Как-то внимательно присмотрелся к зернышку на ладони: ".Это семя пришло к нам Бог весть с каких времен и из каких миров. Каждая жизнь не сама по себе, а есть продолжением того, что было до нее". И поднес к губам. Это было зернышко кориандра. Он говорил, что оно очищает и возвращает молодость. Достаточно употребить одно на день. Там, в Горовом гнезде, мы нашли и кое-что готовое, чудом сохранившееся с прошлого года. Та же морковь. Она чудесно сохранилась в земле, прикрытая толстым слоем листьев. Осенью он срезал ботву и укутал морковь на зиму. Говорил, что есть и другой способ, но с ним больше возни — обмазать каждый корнеплод мокрой глиной и высушить. В подвале лежали свекла и яблоки, переложенные лесным мхом. И кучка картошки, пересыпанной мятой и плотно укрыта папоротником. Но больше всего меня поразило, иное "консервирование". Бывало, больные приносили нам какие-то продукты — мясо, масло, мед. А нам надо было отлучаться в лес на несколько дней. — Что будет с нашими припасами? — беспокойно спрашивал я. — Их ведь не уберечь. — Сами себя сберегут, — спокойно отвечал он. Положил масло и мясо в баночки и залил медом. — Теперь можем и на полгода идти, с едой ничего не случится. Так оно и было. До этого я не мог даже в мыслях допустить, что можно прожить лето без магазина, без денег. Сад-огород исправно кормил нас. И был нашей желанной гаванью, в которую мы возвращались после своих путешествий. Завершали здесь свои дневные труды. Любил мой садовник в жару либо под вечер прилечь под разлогим ореховым деревом. Это было самое большое дерево в саду. Я садился рядом, и мы расслаблено блуждали взором по кроне, прислушиваясь, как тихо шевелятся где-то в глубине корни. И казалось, что деревья и взаправду растут с неба. Как он говорил: "Все сущее произрастает на земле из небесных семян. И мы тоже". Время сгущалось вместе с сумерками, и мы оттягивали подольше момент прощания с садом до завтра. В конце, обычно, он говорил что-то о грядущей погоде: "Мальва опустила голову, и жимолость густо пахнет — к дождю…" Потом мы укладывались, оставив деревья и камни в святом покое сторожить ночь. Мы спали, и под высоким небесным шатром спал наш сад.Рот не огород, его не огородишь
С долины собиратель черники принес очередное письмо от Оли."Благодетель ты мой! Твои ручейковые судна, полные жемчуга, до краев заполнили и мою тетрадь. Мою практику приняли досрочно. И то как! Была руководительница, кандидат филологии. Сказала, что это сокровища. И что для меня это уже основание дипломной работы. Впрочем, она и сама не прочь с этого поживиться. На готовый хлебок найдется едок! Она предполагает, что в памяти твоего (нашего) деда целые завалы архаичной лексики. А это ее докторская. Так она силой вырвала мое согласие, что я попрошу тебя собрать для нее такие слова. Понимаю: это наглость, да еще и двойная. Как дед говорит: было бы корыто, а свиньи найдутся. Нашлись и на его корыто… Если не будет у тебя желания — забудь. Скажу, что ручейковая почта больше не приходит, или что дед совсем забыл архаику. Хотя, если пастух захочет, то и с козла молока надоит… Грубо, но это не мое — народное. Не сердись. Куда сердце лежит, туда и глаз бежит. Правда, давно оно не видело тебя. Мое око. Зато сердце все помнит. (Это не фольклор)".
"Девица-красавица! Просьба твоя не дерзкая, а даже благородная. Да и я научен так, что лучше дать десяти, чем у одного попросить. Мы, простые и сирые, готовы прислужиться отечественной науке. Правда, для Светована это никакая не архаическая лексика, а отчая беседа. Она выходит из груди, как воздухи (не путать с воздухом). Рот — не огород, его не огородишь. Чем слово древнее, говорит он, тем сильнее. Оно насыщается энергией времени и духом людей. Это Сокровища Вечности. Через лень ума эти слова выветрились с языка либо осели где-то в самом низу памяти. Но когда они подымаются оттуда и звучат, кровь предков радо откликается и оживает в наших венах. Ибо это не просто слова, а наша сила рода, наша защита, наш духовный хребет. Не знаю, кого как, но меня уже одни только эти слова воодушевляют, словно просвечивают толщину времени загадочными огнями. Миллионы людей согревали их в груди, шлифовали устами. Они — словно отсвет прадавней и вечной души народа в тесноте и глухоте нашего мира. Слова-самоцветы, слова-перстни. Им уютно и хорошо на белых берегах листа. Я замолкаю перед их тихой речью и пускаю их по воде, как когда-то пускали хлеб, уповая на урожайный год. Урожайных дней тебе и трудов, родная!"
Итак — мир слов Светована
О бедном он говорит: "Его карман паутина затянула". О том, у которого нет аппетита: "Кушает, как свое ухо". О коварном: "Огонь потушил — пеплом играет". О злом: "Материнскую грудь кусал", "Злости полные кости", "Дышит адом". О нерешительном: "Ждет, пока тень перед ним побежит". О пожилом уважаемом человеке: "Шелк поизносится, но онучей не станет". Назойливому: "Иди, не дави на глаза". О балагуре: "Ради красного словца не пожалеет и отца". О равнодушном: "Холодноокий". О щедром: "Широкая душа". * О надоедливом: "Все кишки переел", "Пристал, словно ржа к железу". О малодушном: "Хропкотелый". О спорщике: "Поперечная душа". О печальном: "Преломленный в свое горе". О проворном: "Быстрый, как мотыль". Об осмотрительном: "Тихо ходит, густо месит". О любознательном: "Для него — все знак, все слово". О покорном, терпеливом: "Покорностью стену пробьет". О неуверенном: "Рыбья душа". О женщине-соблазнительнице: "Ведьмует глазами". О неуклюжем: "Словно кусок глины". О сердитом: "Словно цыгане ему приснились". О лживом: "Лживая губа". О непоседе: "Играющая кровь". О неугомонном: "Его мать в кипятке купала и крапивой хлестала". О скрытном: "Криводухий". О ловеласе: "Падок к женщинам". Об успешном: "Набрался, как май меда". О неумном: "Носит пустую голову", "У него тесный ум". Об умном: "У него два царя в голове живут". О несносном: "С живого человека воду варит". О транжире: "В голове шумит, а в кармане тихо". О жадном: "В обе пригоршни гребет”. О красноречивом: "Речистый словом", "Такой, что и змею заговорит". О беременной: "Зашла на дитя". О внимательном: "Глазастый". О легкомысленном: "Пустопляс". О трудолюбивом: "Трудится до синего пота". О нерадивом: "И печеного лука не стоит". О пьянице: "Пропейдух", "Неминай-корчма". О капризном: "Ищет жареный лед". О грязном: "Черный, как семь воронов". О неуклюжем: "Все делает на левую руку". О недовольном: "Словно и не посолили". О хитром: "Чует, где волк, а где лиса". О льстивом: "Говорит, словно в лист дует". О шустром: "И медведя за ухо удержит". Об упитанном: "Отпас толстую морду". О крепком: "Из одних только жил". О зануде: "Мухи мрут от тоски". О сообразительном: "Есть у него кукушка в голове". О бессердечном: "Холодный, словно пятки мертвеца". О хилом: "Худой, как неурожайный год". Об удачливом: "Для него и на камне урожай". О честном: "Хрустальная душа". О неумелом: "Сам пашет и сам топчет".
О хмуром: "Такой, словно молоко скисло дважды". О наивном: "Наелся детского ума". О хвастуне: "Хвост перед людьми ломает". Об одиноком: "Один, как нос на лице". О стремительном: "Легкий на ногу". Об увальне: "Ни рыба, ни мясо, ни гриб". О лентяе: "Не живет, только дни трет". Говорит он редко, но едко. Кстати, никогда я не слышал, чтобы он ругался. Разве что единственный раз, когда ударил молотком по пальцу: "А чтобы ты конскую матерь сосал!" Я отошел в сторонку и начал принудительно кашлять, чтобы он не догадался, что это смех из меня прет. Но он догадался, и смеялся вместе со мной. Этот человек умеет находить радость даже в мелких огорчениях.
Монах, который любил дождь
Сбежали годы, но я, возвращаясь памятью в то лето, понимаю, что были это дни светящие. Студии, как сказал бы он, под шатром небес. Дни, наполненные наукой благодарения. Благодарения всему и за все. Даже пню, на который ты присел. И наукой открытости. ("Природа обнимает меня, а я ее". Из синей тетради). И тихая услада простой жизни, когда "каждое твое утро мудрое и доброе". И жадное собирание впечатлений, стающих "ключами к этому миру". Один из походов привел нас к Обавскому камню. Об этом месте ходила плохая слава, окутанная флером предрассудков. Вокруг мрачного камня виднелись остатки факелов и буйно цвел мак. Только здесь, только в этом месте. Цветы взошли, объяснил старик, из семян, которые разбрасывают вокруг для ведьм и поветрулей, собирающихся в полночь на шабаш. Говорят, они не могут приняться за свои темные дела, пока не соберут все до последнего зернышка. А тогда уже и петухи пропоют о рассвете… — Люди испокон веков тянутся к каменным истуканам. Наверное, это ведут их закаменевшие от страха и суеверий души. Но я покажу тебе иной камень. Взаправду знаменитый — камень терпения. Мы нырнули в заросли и шагов через триста уткнулись в обваленную насыпь, заглушенную терновником. Холмик в терновом венце. Возле кустика раковой шейки присели на трухлявую колоду. Он, мой научитель, никогда не садился на голую землю и мне не велел. {"Земля этого не любит и может вытянуть за это всю твою силу. Не годится ее гневить — из земли все произрастает, в том числе и слово". Из синей тетради). — Раньше здесь была пещера Божьего человека Иллария. Покинул разрушенную обитель и здесь, во схиме, доживал свой земной век. Кормился из леса. Жил, наверное, медовой росой, как пчела. Не знаю, как от голода, но от холода он спасался странным способом — поднимал камень и носил его вокруг землянки молясь. Так и согревался. Целую поляну вытоптал. Да и камень ладонями вытер. Вот он, камень. В траве виднелась серая голова ноздреватого валуна, испещренная белилами птиц. Что-то и впрямь подсказывало, что это не простой обломок дикой скалы. Какая-то отметина человеческой руки отбилась на нем. — Можешь потрогать. Еще не выветрилось молитвенное тепло. И Кадочников это ощутил. — Кто? — Кадочников, мой побратим по Колыме. Очень ученый человек, геолог. Был у меня в гостях, я водил его по горам, привел и сюда, к монаху. Илларий сказал ему: "Люб ты Богу. Поэтому и открывает тебе добрые пути и добрых людей". Кадочников рассмеялся: "Я не верю в Бога". — "Это не беда, главное — Он верит в тебя". Тот еще пуще засмеялся. Присматривался к камню. А потом мне иговорит: "Это твердый зернистый гранит. Но не понимаю, почему он теплый? На сырой земле, в тени — и теплый! Может, вулканического происхождения? У вас здесь были вулканы?" — "О вулканах не знаю, но знаю, что камень носили возле горячего сердца, шептали над ним молитвы…" Кадочников умер от рака. Успел еще вызвать меня телеграммой на телефонные переговоры. "Я ухожу, брат, — сказал. — Боль уже съела сама себя. Тело не болит, но в душе холодно и темно, похлеще, чем в колымской шахте. Но знаешь, приснился мне старец. С тем теплым камнем, помнишь? Он опять повторил те слова, что Бог верит в меня… Как думаешь, что это значит?" — "Это значит, что Он и впрямь с тобой, брат". — "Спасибо тебе, что повел меня тогда на ту гору, — сказал Кадочников. — Сколько вершин я покорил за свою жизнь, но эта, кажется, была самой главной…" Я коснулся камня — он действительно казался теплым. И словно сам тянулся к ладони. Как доверчивое плечо родной женщины. В тот день мы много говорили о религии. Собственно, это слово употреблял я, потому что Светован его не очень любил. Заменял другим — "набожность". "Набожность, говорил, — это, прежде всего, доверие и надежда. То, на чем стоишь и чего придерживаешься всегда и во всем. ("Остов души, твердыня сердца"). Истинная набожность пронизывает всю жизнь, каждый день, каждое мгновение. Она не только в понимании смысла жизни, но и в настроении, которое излучает это понимание. Поэтому она несет радость и свет, в котором живешь, — это и есть причастность к Богу. И с Ним ты живешь в вечности уже сейчас. И всегда. И утверждаешься в этом, потому что есть образец — пример Иисуса". Спрашивал я и о других пророках — Будде, Конфуции, Лао-Цзы, очень модных по тем временам. Бледные копии их трактатов мы передавали из рук в руки. — Эти увлечения от культурной усталости и душевной лени. Потому что легче принять пассивную покорность, чем ежечасное сотворение любви, к которому ведет Иисус. Он говорил: "Будьте, как голубь и змея". То есть — не только покорные и кроткие, но и внимательные, и сообразительные, и беспощадные к злу. Любовь — это служение, труд и беспрестанная работа в Божьем саду. — Почему именно это учение истинно? — допрашивал я, вчерашний корреспондент отдела пропаганды и агитации. — Потому что у него запах живой правды. Оно всегда свежее и неисчерпаемое в своей глубине, родное для души, потому что несет наичистейшую человечность и' примирение. — Примирение с чем? — Иисус принес нам два больших примирения: он примирил нас с Богом и с самими собой. То есть, сделал грех откупным, победимым. И научил: прежде чем принять Господа и возлюбить ближнего, возлюби себя, дитя Божье. Любовь — это и освобождение, и мужество, и сила духа. — Почему же такие умные люди, как ваш Кадочников, так тяжело приходят к Богу? — Об этом знает только сам Бог. Все знают, что Он есть. Но принять Его некоторым мешает гордыня и страх. Что, впрочем, одно и то же… Был у меня друг-гимназист. Встретил как-то девушку, в которую сразу же влюбился. Однако боялся знакомиться с ней. Когда мы для него это устроили, он испугался, что не понравится ей. Она открыла ему свое сердце, но он боялся ее любить, потому что считал, что недостоин. Когда наконец сошлись, все время боялся ее потерять… Так и с Богом. Бог — это выбор, раз и навсегда! Выбор спасения. "Научитесь от меня, потому что я ласковый и смиренный сердцем, и найдете покой душам вашим". К Богу идут длинной дорогой. И в уединении… Разговаривали мы и о грехе, который он называл "большой несвободой", и о молитве. — В молитве открывается промысел Божий. Иисус очень переживал, чтобы люди молились. Чтобы не были похожи на того нищего, который считал, что все обязаны ему подавать, и за это не надобно благодарить… Только молитва открывает канал к Богу. Только она дает Ему знак, что мы просим о Его вмешательстве. О Его участи в нашей жизни. Припоминаю, с каким воодушевлением говорил он тогда об этом. — Жизнь — это путь, по которому ты идешь. Жизнь — это место, на котором стоишь. Жизнь — все, что тебя окружает и в чем ты живешь. Значит от того, что под тобой и как ты стоишь, зависит твоя жизнь. То есть, все зависит от основания. А основание — это Бог. Возвращались мы домой прозрачными осиновыми перелесьями, и моя ладонь еще долго чувствовала теплую шероховатость монашьего камня. Я попросил своего спутника рассказать немного об Илларие. — Что рассказать? Он мало говорил о себе. Больше молился. Помнится, я хотел принести ему что-то и спросил, что он любит. "Я люблю дождь", — ответил отец Илларий. Потом, уже дома, мы молча сидели в ранних сумерках и благодатный вечер укрывал наши плечи ласковым теплом бабьего лета. Казалось, что где-то рядом стоит на страже дух-хранитель — и нету в этом мире ни одной опасности.Беседы под ореховым деревом
Незаметно подкралась осень. Сотни звонких птичьих голосов внезапно приумолкли. Мир притих. Казалось, библейское величие небес словно поспело вместе с землей, замерев в ясном синем спокойствии. "Спелое небушко", — говорил мой старик. И словно сам созрел для новых откровений. Суетная пора аптечных заготовок подходила к концу. До обеда мы уже возвращались, хозяйничали возле дома, а светлые тихие вечера проводили в беседах под старым ореховым деревом. Ствол его возле самого корня разделялся на две части, поэтому каждый из нас имел свою опору для спины. Я тогда уже не прятался со своими записями. Наши разговоры постепенно приобретали подобие интервью — мой визави благосклонно махнул на это рукой.Тело — глина, душа — огонь
— Вспоминаете ли детство? — Довольно часто. Чем дальше, тем чаще. Жизнь — словно лук. Его конец смыкается с началом. И мы все возвращаемся туда, откуда пришли. Возвращаемся в детство с его свободой и искренностью. Ибо искренность и открытость — признаки целостности. — Что больше всего запомнилось вам из детства? — Мамины руки, пахнущие хлебом… Сверчок за печью… Высокие сосны, сквозь которые на тебя сеется солнечный дождь… Твердое, как камень, течение реки… Рыба, которая льнет к ногам… Конь, ласково дышащий в темя… Горячая пыль на дороге, обжигающая пятки… Острый запах дегтя, которым дед смазывает мои побитые коленки… Колокольный перезвон, даже душу поднимающий из постолов… Скрипение возов и мычание скота поутру… Горячее яйцо из-под курицы, облюбовавшей для этого крапиву… Вода из-под ясеня, такая студеная, что ломит зубы… Теплое, словно мамины руки, молоко… — А в чем счастье? Как его достичь? — Не знаю, ибо не понимаю этого слова — счастье. Зато знаю одну маленькую причту. Слепил Бог человека из глины, и остался у него еще небольшой кусочек. "Что еще тебе слепить?" — спросил Бог. "Слепи мне счастье", — попросил человек. Ничего не ответил Бог, только положил ему этот кусочек на ладонь… Этот мир — глина и огонь. Тело — глина, душа — огонь. Глину можно хорошо вымесить, слепить из нее что-то красивое, полезное, но она все равно остается сырцом до тех пор, пока огонь ее не выжжет, не закалит. Тогда она становится теплой, звонкой, крепкой. И ничто ее не страшит, ибо сплетены они воедино в силе и законе. Глина и огонь. Земное и небесное. Церево приносит нам сладкие плоды. Но из того же дерева и крест. И он есть плодом для души… Счастье, говоришь… Мы сидим под этим деревом при мирной беседе. Слышим друг друга и чуем жужжание уставшей пчелы. Это миг счастья… Послезавтра собирается на мелкий дождик. Мы будем сидеть со своими книгами и прислушиваться к его вкрадчивому шуршанью за стеклом. И в наш приют войдет тихое счастье… А потом будут и другие моменты тихого счастья. — Какой период самый лучший в жизни? — Тот, которым живешь. А день — сегодняшний. И время то, которое сейчас. Не тоскуй по вчерашнему, не ожидай счастья от будущего. Нынешний день очень скоро станет вчерашним, а завтрашний перейдет в вечность. Так пройдет молодость, так пройдет все. — Не представляю вас без морщин… — Мои морщины (смеялся) — часть моей кожи, меня самого. Как и рука, сердце, глаза. Это, наверное, письмо нашей жизни, отображенное на лице. У каждой морщины есть свое имя, и оно что-то значит. Для тех, кто умеет это читать. Я считываю лица одним мимолетным взглядом. — Что написано на вашем лице? — Быть может… зрелость мыслей и чувств. Зрелость сердца. Я живу долго, я пережил время, сотворившее меня и мой мир. — Стареет ли душа? — Все стареет, даже камень. Но душа стареет только та. которая поддалась этому. — Поддалась чему? — Поддалась умиранию. Душа стареет, но не умирает. Она вечна, как и Тот, что подарил нам ее. — А жизнь тленная? — Не бывает такой жизни, в которой хоть на минуту не присутствовало бы бессмертие. Продление жизни — в наших рукотворных и нерукотворных делах. Что успел сделать человек — того смерть забрать не может. — Чувствуете ли вы старение? — Живя — да. Но во сне я возвращаю молодость. — Сон так важен для человека? — Очень. Возможно, даже больше, чем дневное бдение. Но день следует прожить так, чтобы заслужить хороший сон. Мы с тобой "зарабатываем" его работами, а в свободное время — плаванием и прогулками. Особенный сон — "молодильный". Некоторые люди имеют две молодости: та, которая позади, и та, что впереди. Но это если научишься не поддаваться старению. — И все-таки, есть ли рецепт молодости? — Есть (смеялся). Радуйся каждой мелочи. И делай то, что тебе любо. Нету ничего милее, чем "сродное дело", которое любишь и знаешь, и нет ничего хуже, чем делать что-то, пересиливая себя.Счастье — это когда молятся за то, что ты есть
— Что больше всего мучает человека? — Страх. — Страх чего? — Страх самого страха. В этом и лежит природа страха как такового. Пугает нас не сама жестокость жизни, а ее таинственная недосказанность. Люди все время чего-то боятся: заболеть, умереть, что-то потерять, боятся, что их выгонят из привычного достойного места. А именно эту достойность и съедает страх. Того, кто все время под Небом, никуда из-под Неба не прогнать. Ибо Небо — всюду Вечная твердь духа. Без этого жизнь человеческая хрупкая, шаткая, суетливая и недолговечная. — И что же делать? — Жить. Страх идет от душевного одиночества. Но ведь это наша природа, божественная природа! Особенность, неповторимость существа, которое носит в себе весь Божий мир. Кто-то считает, что это наша юдоль — приходить в этот мир и покидать его в одиночестве. Но именно полнота одинокости и рождает понимание, что ничего не следует бояться. Конечно, когда тебе тяжело, ты можешь сдаться. Но разве от этого тебе станет легче? Плакать всегда проще, но нужно учиться смеяться. Только не очень громко (смеялся при этом и сам). Горевать и печалиться — не большой талант. Талант — уметь быть радостным. Желать радости, искать ее во всем. И она придет, словно бабочка, и тихо коснется твоего плеча, когда ты ее и не ждешь… — Йоги говорят: спи и жди… — А я говорю: делай вовремя то, что должен делать, и то, что должно случиться, — случится. — Что случится? — Ты станешь нужным — людям, миру, Богу, себе. Доброе дело шагает смело. Возможно, это и есть счастье? Когда кто-то молится за то, что ты есть. Человек должен действовать, карабкаться на гору, а не ждать, когда гора придет к нему. Человек — это вечный путь, а не пыль над дорогой. Человек — огонь, а не дым, который ветер развеет. — Чего человек не должен делать? — Много чего. Следует остерегаться делать такие поступки, о которых не сможешь рассказать детям. Пусть душа твоя всегда будет в "чистой рубахе" — А каким надобно быть? — Таким, как все (смеялся). Мне говорили когда-то: ты не такой, как все. Это было для меня нелегко. Но пришло время — и я перестал страшиться быть не таким, как другие. А затем и сам поднялся над собой и стал таким, как все. И, с тех пор многие говорят мне: "мы хотим быть такими, как ты. Ну, что же тут посоветуешь? Верь себе — и тебе поверит мир. Говори то, что думаешь, и делай то, что думаешь. Но думай ясно, чисто, животворно. Пусть душа твоя всегда будет в "чистой рубахе", как говорит народ. Еще полнее сказал, как мне кажется, один поэт: ".Будь простым, как ветер, неисчерпаемым, как море, и насыщен памятью, как земля". Это — словно камешки, на которые ставишь ногу в болоте жизни. — Камешки? — Да, я люблю камни. Даже те, которые бросают в меня. И они для чего-то сдадутся. — Это вы о врагах? — Я их себе не наживаю. В том, что у человека есть враги, не обязательно виноват только он. Часто они сами постают из духа несовершенства и зависти. Люди мечутся, они бывают глупыми, жадными, трусливыми, неспокойными, готовыми на все, чтобы достичь превосходства, казаться лучшими или просто для того, чтобы избежать бедности и страданий за счет других… Но в каждом есть проблеск света и потребность в свете. Значит, с низменностью своей природы человек может и должен бороться. — Силой воли? — Воля влияет на судьбу, дисциплина помогает нашей природе. Но воля должна быть доброй и гибкой. Давай ей передышку и свободу. Обманывай трудности. Не делай ничего через край, через силу. Все самое тяжелое и сложное подчиняется нам тогда, когда не бросаем на него все свои силы… Мы слабые, поэтому должны привлекать к себе силы мира, а особенно — невидимые светлые силы Неба. — У вас были хорошие учителя? — Наверное, самый лучший учитель ты себе сам. Есть четыре главные студии: изучать себя, изучать людей, изучать природу и книги. Сначала ты ищешь смысл, затем опираешься на корень, а дальше выбираешь точку опоры, от которой отталкиваешься. — Знаю, что природа — это то, чем "дышит и обогащается" ваша душа. — Никакие науки не открыли мне столько простой и мудрой правды, как трава своим шепотом и птицы своим пением. Это крылатые существа, которые, словно ангелы, связывают небо и землю. Звери учат нас быть людьми. Учат легкости жизни, ибо дикие звери не носят тяжестей, как человек. В повадках тех же насекомых я иногда вижу больше смысла и красоты, чем в поведении людей.Рыбы не боятся утонуть
— У кого из насекомых можно поучиться? — Прежде всего, у пчел. Пчела живет на земле несоизмеримо дольше, чем человек. Воистину, эта животинка — Божья искра. Учиться следует у пчел и муравьев. Только не у пауков, потому что людей-пауков и так предостаточно (смеялся). В каждом их движении я читаю знаки великого, мудрого и мотивированного порядка. И они, братья наши малые, ждут от нас того же… Знаешь ли ты, к примеру, что змею можно заворожить танцем? Медленным и плавным танцем. Бывало, не раз я так спасался, пока не научился отпугивать их голосом. Природа говоришь… Если ты ее о чем-то спрашиваешь, то даже огонь тебе ответит. Если ты зоркий, то даже искры тебе напишут ответ на ночном небе,у Присматривайся и прислушивайся, пока не услышишь и не увидишь. И в момент опасности какие-то волны, либо невидимые лучи, дадут тебе совет, как поступить. И дух зримости наполнит тебя даже в темноте. Это мне открыла природа. Рыбы не боятся утонуть. Почему же мы должны бояться плыть по реке жизни?! А еще дикий мир открыл мне вкус тишины, молчания, одиночества. В этом мире нет опасностей, если ты не заигрываешь с ними, если ты осудил зло и выгнал его из своего бытия, а добро принял всем сердцем. — Какие люди были вашими учителями? — Разные. В основном — простые. Они проворнее и точнее в своих действиях, мудрее в решениях, чем умники. Я всюду любил присматриваться к работе мастеров. Учился у них не столько искусности, сколько методичности и частоте движений. Мастерство в том, чтобы не делать лишнего и пустого. — А книги? — Книги — это вторая моя отчизна. — Красиво звучит, надо запомнить. А где вы родились? — Там, где впервые посмотрел на себя осмысленно. Это было в глухом лесу. Рождение — это не время и место в мире, а приход наш в этот мир, момент, когда ты себя нашел. — Место играет роль для человека? — Да. Мы люди места. Самочувствие зависит от того места, где ты живешь. Потому что ты частица этого простора, этой земли и неба над головой. Сроднение с местом дает тебе силу. Нельзя к этому относиться легкомысленно. Где бы ты ни был, уживайся с той стороной, становись ее живой частицей. — А как угадать, которое место "твое"? — Там, где для тебя подходящая вода. И где приходят хорошие сны. Там твое место, потому что там твое сердце. — А ваше сердце здесь, в Карпатах? — Я обошел весь мир и понял, что в каждой частичке пространства и в каждом отрезке времени есть своя красота и своя прелесть. Но здесь, видимо, всего этого для меня больше, чем где-либо. Тут такая красота, что наполниться ею можно на всю жизнь. Это место силы. Я возвратился сюда.Не думай о дороге, пускай она о тебе думает
— Вы много дорог прошли? — Дорога — как золотая жила жизни. Дорог много, но выбираем мы одну. Много не ведут никуда. Ведет одна. И Кто-то ведет, ежели ты все время в дороге. И если ты уже выбрал дорогу, не думай о ней. Пускай она думает о тебе. Тогда дорога становится путем. — Что такое путь? — Это — выбор. Каждый выбирает свой путь — то есть закон, по которому живет и умирает. — Куда ведет путь? — Путь ведет к двум самым важным на свете вещам: примирению и служению — В чем заключается примирение? — Во всем. Живи в согласии с миром зримым и внутренним. Принимай все, как надлежит, как твое. Тогда не будет работы ненавистной, беды непоправимой, судьбы горькой. Принимай открыто и благодарно, как подаренное только тебе, приготовленное только для тебя. И заметишь, что во всем можно найти смысл, пользу и радость надобности. Это и называется примирением. — А служение? — В этом холодном, равнодушном и распахнутом мире всегда есть те, кто протянет руку помощи. Так почему бы такими не быть нам?! Каждый может честно служить на своем месте, по возможности своих сил и умения. Высшим служением есть умение поддерживать в человеке божественную сущность, не жертвуя при этом человеческой. — Как к этому придти? — Ищи наитием. Служи ему. Заслужи его. Чин служения надобно заслужить. — В чем смысл вашей жизни? — Жить в согласии с духом. В суровой чистоте души. В душевном равновесии. Это обеспечивает солнцестояние моей жизни. — С чего это началось? — Со смерти. Чтобы ощутить полноту жизни, надобно в себе что-то умертвить. Я умертвил страх. Это было на Красном поле, когда мы, невооруженные и растерянные пацаны, обороняли Карпатскую Украину. Возле меня под насыпью лежал товарищ, и его настигла пуля. У меня закончились патроны, и я тоже вытянулся на земле рядом с убитым парнем. Еще минуту назад мы были совершенно одинаковыми, у нас были одни и те же стремления. Теперь его сердце стало холодным и спокойным, а мое — переполненное страхом и растерянностью. Я вдруг понял, что мне хуже, чем ему. И я шептал-просил, чтобы он поделился со мной тем холодным спокойствием. Но так, чтобы я не умер, а только чтобы умерло во мне то, что мешает достойно прожить отпущенные минуты, часы или дни… И я молился: "Да будет воля Твоя!" Потому что более длинной молитвы для таких минут нет. И я жил. Я поднялся со смертного ложа и начал с новым смакованием проживать то, что мне отпущено. Смертию смерть поправ… — Что такое смерть? — Об этом долго говорить. А ежели кратко, то за смертью стоит самая большая тайна мира. И совсем не печальная. На моих руках умер не один человек. Обычно умирающие жалеют об одном и том же: не хватило смелости жить на полную, заниматься тем, к чему лежала душа; чересчур много сил отдано скучной работе, добыванию хлеба насущного; не насмелились открыть свои сокровенные чувства; растеряли друзей; боялись перемен; слишком прислушивались к чужим оценкам и советам; мало позволяли себе свободы… — А сколько свободы нужно для человека? — Сколько и воды. То есть, сколько может употребить. Себе для укрепления, миру на пользу. Нельзя быть полностью свободным от мира, как хотел этого наш великий мудрец Сковорода. Потому что безграничная свобода есть разновидностью рабства. Рабства досуга, праздного духа. А это — оборотная сторона неволи. Точно также, как и полная победа над чем-то. Тогда победитель одиноко остается перед пустотой, перед кладбищем. Как Александр Великий… И чтобы ты знал: свобода заключается не в том, чтоб обязательно быть свободным от всего и всех. Высшая свобода в том, чтобы быть там, где все и как все, но оставаться при этом самим собой.Мир не изменится, если не изменишься ты
— Какая же воля, какое освобождение нам нужны? — Освобождение сердца. Освободи его от гнева и ненависти — прости всех, на кого ты тратишь свое сердце. Освободи его от переживаний — в большинстве они напрасны. При этом веди простую жизнь и цени то, что имеешь. Отдавай больше, ожидай меньше. Если служишь… Все, что надобно знать коню, — вес своего всадника. — А с чего начинать? — С намерения. С намерения стать другим, лучше. Мы, как и детеныши зверей, рождаемся животными. Но познавая мир и себя в нем, можем меняться, освящать себя Духом. Тогда только начинается воспитание внутреннего человека. Мир вокруг не изменится, если не изменишься ты. День играет красками не солнца и не тучи, а твоего настроения. И куда бы ты ни пошел, найдет тебя только то, что несешь с собой. — Чем есть каждый из нас? — На треть человек есть тем, что он делает. На треть тем, что думает. И на треть — что думают о нем другие. Три вещи определяют нас: труд, честность и достижения. Три вещи разрушают нас: гордыня, злость, пьянство-разврат. Три вещи, которыми не смеем пренебрегать: любовь, дружба и честь. И три вещи, ненадежные и временные: власть, удача, богатство. — За что нас любят? — Любят нас не за то, что имеем в себе самое лучшее, а за то, что лучшими возле нас чувствуют себя они сами. — А если нас не любят? — Тебя любит Господь, и ты должен себя полюбить, поверить в себя. Если нету в тебе стержня, то будешь его искать при ком-то. Если нет у тебя цели, будешь работать на того, у кого она есть. Но это не есть служение, это — прислуживание. — Кому можно доверять? — Доверяй тому, кто умеет увидеть в тебе три вещи: печаль, прячущуюся за улыбкой; любовь, скрытую за гневом, и причину твоего молчания. Но что здесь гадать? Тот, кому ты нужен, — рядом. — Что есть самое ценное в человеке? — Умение сочувствовать ближнему. Это высшая мера любви и признак здорового духа. — А что такое болезнь? — Не знаю. Никто не знает. Осмеливаюсь думать, что болезни вообще нет. Возможно, это нарушение телесной либо душевной природы под напором мира. Тогда страдает наше самочувствие. Но именно тогда наша природа ведет борьбу на свою защиту против преждевременного разрушения. Это почему-то называют болезнью. Тогда как это, скорее, течение оздоровления, которое нуждается разве что в легкой, мудрой помощи извне… Когда мы больны, ущербны, потеряли кого-то или ощутили дыхание смерти-мы остаемся наедине с собой. Тогда мы ближе всего к Богу. Поэтому я и не считаю болезнь, бедность, смерть несчастиями. — Получается, врачевание очень тонкая и загадочная вещь? — Врачевание это не счет на пальцах, оно не может быть точным, потому как это живое дело, вместе с живым телом и душей. И те, кто врачуют, должны находиться очень близко к природе. Быть врачом не просто. К сожалению, большинство становятся ими, чтобы удовлетворить свое любопытство к болезням, а не через любовь к людям. Я уже говорил: доктор помогает, лечит природа, а врачует Бог. — В чем наибольшая радость? — В помощи. Это то же сочувствие, только действенное. Не надо путать радость с ликованием, веру — с боязнью греха, любовь — с малодушием.Семь раз за день обними родную душу
— А радость общения? — Один мой знакомый монах, который любил слушать дождь, наущал меня: семь раз задень обними родную душу — и день наполнится живым духом. — Мы любим, когда нас хвалят, и не любим, когда критикуют. Сами же делаем как раз наоборот… — Ежели не знаешь меры, сколько хвалить, а сколько хулить, то не делай ни того, ни другого. Меньше верь словам, больше делам. Больше слушай, чем говори. Больше наблюдай, чем суди. Сильный и мудрый не обвиняет. Потому что он поднялся до этого и знает, как это тяжело. Сильный воюет, но не завоевывает… Александр Великий завоевал мир, только что из этого, если себя, молодого, погубил?! — Что надо делать, чтобы жить подольше? — Тот, кто хочет жить долго, должен жить умеренно и сдержанно. Чем больше тебе дано — тем больше ты должен себя ограничивать, потому что чрезмерность уничтожает все. И следует помнить поговорку давних паломников: кто дольше живет, у того меньше времени. Не больно мудрая штука — долго тянуть старость. Мудрено — дольше оставаться молодым… А еще долгожители много и охотно смеются. Серьезность старит. Настоящая мудрость веселая. Это как у цветов и птиц: они радуются и счастливы, что просто цветут и поют. — Не могу не спросить и о любви иной — между двумя? — Считаю, что это большой дар для нас за нашу физическую смертность. Любовь и смерть — два берега реки жизни. Правдивая большая любовь порождается ощущением краткости отпущенного нам времени. И это время она нам освещает и освящает. Любовь плоти открывает нам иную сущность, иной путь, но очень на короткое время — словно вспышка молнии. Поэтому любовь к плоти должна перерасти в благородную любовь к душе. Тогда этот человек становится дорогим, необходимым тебе больше, чем ты сам себе. Дух побеждает плоть. Иначе это будут лишь похотливые игры, ведущие только к пресыщению и томлению души.Любовь незримой нитью тянется сквозь время
— Какай женщина нам нужна? Та, которая может принести самый ценный из даров. И такую женщину муж получает за терпение и воздержание. Не дешеви, выбирая женщину, ибо самого себя удешевляешь. В этом не следует подбирать, как муравьи. И не зариться на чужое. Чужая женщина — только сестра. А та, которая должна принадлежать тебе, обязательно объявится. Жди. Когда уже не на что надеяться — все равно жди женщину. Ибо только через женщину мужчина узнает, кто он на самом деле. Настоящий мужчина — как волк: либо один, либо с одной волчицей. А бегать за овцами — удел баранов. И помни, что любовь — это вершина пребывания. Выбирая невесту, ближе познакомься с ее семьей — царит ли там любовь? Если в семье любят девочку, то когда она вырастет, ее будут любить и муж, и дети. И она их будет любить. Любовь незримой нитью тянется сквозь время. -
— Как воспитывать детей? — Тратить на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени. Но если рабски любим своих детей, превращаем их в своих мучителей. Если родители достойно любят себя, то дети молятся на них. — Вы больше молчите, нежели разговариваете… — Знаешь, в том, что мы не договорили, всегда больше правды. Говорят, рыба начинает тухнуть ото рта. И в закрытый рот муха не влетит (смеялся). Это приправлено шуткой. А ежели серьезно, так только через молчание можно приблизиться к Богу. Молчание открытой души. Тишина и молчание — разные вещи. Уши стремятся к тишине, сердце — к молчанию. Твои учителя, великие писатели, тоже умели молчать о важном. Но молчание должно быть легким. Не старайся казаться глубокомысленным и высоколобым. Иногда, чтобы привлечь людей и судьбу, надо быть легкомысленным. Чтобы в сердце были легкие мысли о всех тяготах жизни. И не подымай своей правоты над чужими головами. Часто тот, кто прав, тот и виноват. Не спеши исполнить все задуманное побыстрее. Жди своего часа. Не исчерпывай себя — черпай время. — Кто из книжных героев вам еще близок, кроме Дон Кихота? — Одиссей, великий путешественник, который носил по мирам в своем сердце отчизну. Я тоже странник. Светован. Ношу свою отчизну в душе. Ее мирную красоту, ее легкое, словно перышко, слово, ее высокий дух. У нас давно нету своего князя или царя, поэтому свой царь должен быть у каждого в голове и душе… Одиссей двадцать лет плавал по морям, много было у него в чужих краях приключений, почестей, большой любви, но все это время тосковал он по отчей земле. И когда вернулся, то опять утвердил себя царем Итаки, вернул себе жену Пенелопу. Потому что был человеком Дома. Все делятся на два вида: люди Дома и люди Ветра. — А вы к каким принадлежите? — Я (смеялся) тот, которого носит Ветер, но всегда приносит к Дому. Где бы я ни был. — Чего было больше в вашей жизни: достижений или поражений? — Поражения и достижения всегда идут рука об руку. Они замешены и запечены в тесте жизни. И большие решения рассыпаются на малые. Решать их следует так, как едят виноград — по ягодке, постепенно, с удовольствием, с ощущением поступи. — Когда-то вы сказали: одни что-то знают, другие знают "что-то". Получается, что вы знаете какую-то тайну вещей, хотя и говорите об этом очень просто, даже сухо. — Это не тайна. Это мысленное проникновение в середину вещей либо явлений. Так, положив яйцо на ладонь, я могу сказать, когда курица его снесла. На расстоянии я угадаю, заперта ли дверь или в доме кто-то есть, какая живность на дворе, какие дети в семье, сколько лет хозяевам, на какой глубине вода в колодце… Следы подковы и движения всадника говорят мне больше, чем он сам словами. А знаешь почему? Потому что когда он соскакивает с коня, я вместе с ним чувствую землю под ногами… Могу угадать, чем будет пахнуть срезанное дерево: перезрелым крыжовником, прелым грибом, лежалым табаком, мокрым пером… Это называется проникновением, внутренним сроднением. — Возможно ли угадать будущее? — Можно. Если хранишь в себе отпечатки всех вещей и событий, если угадываешь череду моментов нынешнего и вчерашнего и нанизываешь их, как разок мониста, тянущийся из сегодняшнего в будущее. — Можете что-то сказать о нашем будущем? — Могу, но не хочу (смеялся). Скажу лишь, что будет не хуже и не лучше, чем мы имеем сегодня. Сотрутся границы между народами, а между людьми, наоборот, — обострятся. Вещи начнут любить больше, чем людей. Будет много перекупщиков и мало производителей. Тот, кто производит, знает цену и меру. Тот, кто только продает, ненасытен и неустойчив. Все будет выставлено на продажу, как в том храме, из которого Господь изгонял торгашей. И не будет согласия и великодушия между людьми. Это ослабит единство нашего народа, хотя само государство укрепится и разбогатеет. Будем кормить полмира, а души наши, страждущие, будут жадно искать хоть какую-то поживу. Тогда еще острее станет нужда в служителях духа. Потому как научатся врачевать плоть, только не душу.
Пастуший пес скорее сдохнет, нежели бросит стадо
— Как же узнать свое служение? Например, мне. — Ты уже к нему пришел — к служению слову. От новинок (газет) со временем отойдешь, ибо это не служение, а прислуживание. Мир очень хитро сплетен. И все из-за избытка информации. Газеты, радио, телевидение… Ее станет еще больше. Она будет нарушать равновесие, рассеивать суть, уничтожать целостность внутреннего мира человека. Людям нужны не просто слова, а опора в слове. Было бы хорошо, чтобы ты выбрал этот путь. — Но ведь и в газете можно служить словом… — Ваши газеты — это не Слово, а слова, за которыми сокрыта правда. Людям совсем не обязательно знать, что, где и когда случилось. Намного важнее — почему и как?! Как не упасть, как подняться. Слово должно смягчать душу, зажигать в ней солнце, освещать даром Святого Духа, а не пробивать черную дыру. — Что самое главное в письме? — Все, что ты напишешь, должно быть проникнуто любовью ко всей земной простой жизни. Оно должно вызывать доверие. Тогда слово становится важнее даже солнца, которое то всходит, то заходит. Слово же греет и светит всегда. Потому что оно Свыше. Помни: со словами ты можешь делать все, что захочешь, но и они с тобой делают все, что хотят. Путь это сложный и долгий. Но служение и не может быть иным. Пастуший пес скорее сдохнет, нежели бросит стадо. — Вы находите в служении удовольствие? — Удовольствия я не ищу. Прошу спокойствия и забытья. И чтобы имя мое оставалось неизвестным и незапятнанным… Хотя теперь даже не знаю, как оно получится, когда рядом такой писарь (смеялся). — Можете не бояться — это никто не напечатает. — Ты наивный, написанное не пропадает… — Да если бы когда-нибудь это и напечатали, кто в это поверит? — Тогда в чем же они выиграют, если не поверят? (Смеялся). — Я постараюсь написать так, чтобы поверили. — Тогда пиши для себя. Прежде всего, ты сам должен верить в то, что хочешь донести другим.Нас оберегает вечное Отцовство
— И все-таки о будущем: неужели оно не будет лучшим? — Мы не можем знать, что есть добро, а что зло. И что когда побеждает. Не ожидай, что лучшее придет когда-то, потом. Стань достойным лучшего сегодня, сей час. — А как же страдания, которыми переполнен этот мир? — В мире действительно много страданий, но не надо относительно этого заблуждаться. Мы избранны, и мы освобождены великой жертвой. Зачем придумывать себе страдания, если нам дано физическое совершенство и духовный закон?! Даже когда кажется, что нету ничего, у тебя остается жизнь, в которой есть все. И когда предаст нас тело в немощи и ослабеет наш ум — тогда восстанет в силе вечный дух, и, подымаясь ввысь, найдет самого себя. Мы не сироты в этом мире. Нас оберегает вечное Отцовство. А какой отец желает своим детям страданий?! — Но говорят ведь: у каждого своя судьба. — Я не употребляю слово "судьба", как и слово "счастье". Но если тебе удобно ими пользоваться, то я не против: держи свою судьбу в руках крепко, так крепко, чтобы она и взаправду стала судьбой. Мало кто задумывается над тем, почему он находится именно там, занимается именно тем, именно так, а не иначе. Большинство предпочитают объяснять это волей обстоятельств или ошибкой судьбы. Но это не так. Судьбу выбирают, ее следует заслужить. Как и счастье… Даже сажей можно нарисовать счастье. Правда, слова эти — судьба, удача, счастье — опираются на мечтания, желания, стремления, а надобно действовать, работать! Развивать в себе дар восприятия мира. Добро всегда там, где ты. — Сколько нужно работать — двенадцать часов в сутки, как вы? — Не знаю. Я никогда не работал на должности часов (смеялся). Я работаю головой и руками. — Но вы работаете не ради денег! — Да, и поэтому они у меня всегда есть (смеялся). Сколько мне надо. — Тогда для чего эта работа? — Это не работа — служение. Мы никогда не сможем помочь всем людям. Но при желании можем помочь хотя бы одному и дать надежду всем остальным. — Успех зависит от того, сколько работать? — Чем больше работаешь, тем успешнее становишься. Правда, это правило не всегда распространяется на деньги. Обеспеченности можно достичь работой, — но богатыми, как правило, становятся в часы досуга. В часы свободного и радостного творчества. Творчество — это непрестанное шлифование души — Что такое творчество? — Творить — это оказывать сопротивление. — Сопротивление чему? — Серости, глупости, злобности. — Ваше служение — творчество? — Возможно. Я сею слово радости, слово здоровья. — Письмо — это тоже творчество? — Творчеством есть все, что является новыми дрожжами для поживы ума и духа. Молодое вино разрывает старые мешки. Старое вино мудро молчит. Только у того, кто молчит, есть что сказать. Все, что написано на бумаге, кроме Святого Письма, еще очень молодое и сырое. Есть книги и постарше, книги без букв — предания, письмо природы, шепот трав, густое молчанье камней, память крови рода… Прислушайся к голосу ребенка в себе. Ни одна книга не скажет тебе того, что скажет он… Когда занимаешься творчеством, будь словно зачавшая женщина: "в мыслях чистых, в беседах мирных, без пылких страстей, в святом спокойствии созерцая святыни". Так считал великий мудрец слова Сковорода. Творчество — это непрестанный труд шлифования души. В бытность свою, скитаясь по русским просторам, я работал некоторое время на заводике, где изготовляли хрусталь. Из обычного песка. Чтобы песок стал хрусталем, его нужно раскалить к 2300 градусам. А дальше — шлифовать и шлифовать… — Как бы вы назвали себя одной фразой, одним словом? — Светован. Родимец мира. Я человек, освободившийся от своего фальшивого "я". — Но живем мы ведь в конкретном государстве и в конкретную эпоху. — В железные времена… — Почему железные? — Потому что это времена заточения духа, угнетения общественной воли.Сколько у людей воли и духовной силы — столько и мощи у народа
— Если так, то может ли быть свободным человек, тогда как народ его не свободен? — Может и обязан, потому что душа человеческая — это целостность, полнота. И сколько воли и духовной силы соберет в себе человек, столько и мощи в его народе. Столько в нем жизнеспособности, воли к освобождению. — Но ведь наши народы — братья, фактически, один народ. — Никогда мы не были одним народом. От самого рождения и поныне. Народы порождает вода. — Что? — Подвижная вода — самая большая сила в мире. Это естественное творение уклада, жизни, ментальности. На Ниле образовались египтяне, на Эгейском море — греки, на Рейне — немцы, на Мертвом море — иудеи, на Датских островах — датчане, на Дунае — румыны и болгары, на Драве — хорваты, на Дрине — сербы, на Сене — французы, на Темзе — англичане, на Балтике и Северном море — латыши, эстонцы, шведы, норвеги, на Висле — поляки, на Вятке, Оке и Москве-реке — московиты, на Днепре, Десне, Донце, Днестре и Роси — русские племена, образовавшие великую державу — Киевскую Русь — Украину Дорог тогда не было, но зато по рекам, прежде всего по Днепру, легко можно было добраться до культурных земель — Греции, Болгарии, к Цареграду. Воинственные и предприимчивые руссы ездили во все четыре стороны света, торговали, закладывали на освоенных территориях укрепления, "города". Под них становились племена послабее, которые тоже начали называться "русскими людьми". То есть теми, которые принадлежат русским, платят им дань, подчиняются их князьям. В том числе были и вятичи, сидевшие на Волге и ее притоках — Оке и Москве. Они вели свой род от ляхов, а затем смешались с желтокожими финнами, чудами, мордвой, мерью да монголами. У них был другой язык, и были они полудикими. Пока киевские русичи не подобрали их под себя и один из сыновей Ярослава пошел туда княжить. С тех пор и пошло, что земли эти "русские", и народ "русский". Каждый народ в мире имеет свое имя — немец, поляк, венгр, швед, японец, китаец, грузин, украинец — лишь эти не имеют имени. Осталась только давняя принадлежность к руссам — "русские". Со временем они начали называть себя московитами, не имея к русичам никакого отношения. Наоборот — все время проявляли нелюбовь и враждебность. А со времен вынужденного слияния двух народов, по воле Хмельницкого, для руссов-украинцев настали времена тревоги и разрушения. Мышь проглотила гору и пошла дальше заглатывать просторы. История учит, что народы, как и люди, стареют и ослабевают. Но никто не волен нарушать Божий порядок, за которым каждое племя получило свою территорию, язык и свободу. Никаким железным заборолом нельзя обгородить это надолго. Ржа его съест. Так как съедает она и этот железный век. Со всех его щелей сыпется ржа и ложь. Что есть одним и тем же… — Вы говорите ржа. Но ведь такого сильного государства, как Союз, нету во всем мире. — И тюрьма сильна, но кто ей рад? Но давай вернемся еще раз к Одиссею. Те двадцать лет его скитаний стали не развлечением, а хорошей школой. Студиями над безбрежными водами и под небесным шатром. Школой познания зримого мира, себя в этом мире и мира в себе. Поэтому после того, как он возвратился на Итаку, стал еще лучшим царем — царем для своей земли, своего народа, царем для самого себя. Твердо врос он ногами и сердцем в свою землю, не желая чужой. Когда хотели его чем-то соблазнить, к чему-то подтолкнуть, он только добродушно усмехался: "Я уже там был". И эти слова были не только о географии. К сожалению, такого "царского отцовства" наш народ давно не знает. Живем, словно без головы и сердца… Я еще жил при австро-венгерской короне, помню настроения различных слоев. Миллионы людей ложились спать в безопасности, ибо знали, что цисарь их до полуночи сидит в ночном бдении, а встает в пять утра и продолжает работу при свечах. Он объединял и обычаи, и закон. И люди тоже придерживались и того, и другого. И были преданными подданными. Настоящая преданность намного глубже, чем законы… Власть — это ночной страж. Живешь и не видишь его. Но стоит только приключиться беде, как он сразу же защищает. Ночной страж, а не ночной разбойник и палач. Знавал я в свое время и такой ласки. Да и не только я… Власть должна совмещать в себе порядок мира и порядок вещей. Нести гуманность. Тогда она твердая, тогда ее готовы принять. Государь — это садовник мудрых законов. Ибо законы, которые часто преступают, — плохие законы. Неудобства делают людей жестокими, от несвободы черствеют сердца, а негуманное отношение портит их. Они становятся враждебными друг к другу, народ к народу, и, прежде всего, — к власти. Ржа точит кандалы железного государства. День ото дня.Грядет великое длительное возрождение погубленной Отчизны
— И что же дальше? — Настало время, и Атлант не захотел больше держать на себе небесный свод. Его бунт потряс землю. Если рабов не освободить, они освободятся сами. Нельзя силой присоединить разные частицы одна к другой. Мы народы разного слова, мысли, обычая. И это нельзя стереть, уничтожить. И нельзя отбирать у человека смысл хозяйствования, собирательности. И у пчелы это есть, и у белки, и сороки. А больше всего — у человека, украинца. Без этого он — вырванный с корнем росток. Какой же это уклад жизни —без корня и головы?! Что из того, что руки у нас золотые, если некому вывести нас из гнилого болота? Есть только "руководители", которые водят нас за руки. — Но ведь мы были когда-то великим народом, великим государством! Как же это все утратили?! — В корне слова "Украина" есть имя древнего бога Ра. Рай — кРай — кРаина — УкРаина… Это всегда была благодатная земля, поэтому со всех сторон ее охотно клевали и растягивали. Ни князья, ни затем гетьманы не могли надолго удержать ее в одном крепком кулаке. Землю терзали, уничтожали, обдирали, делили. Душа народа ослабевала в неволе, выветривалось чувство самоценности. Получается, что мы больше люди слова, чем дела, народ борьбы, но не победы. Но все же человек Божий должен быть свободным. И Божий народ тоже. Это основа Божьей справедливости и человеческой гуманности. — Что такое народ? — Народ — это вечно живой храм личности. Он всегда принимает то, что принимает какой-то один человек. Народ — это единая мистическая душа миллионов тел. Поэтому его нельзя уничтожить, переделать на чужой манер. Как трава никогда не вырастет под ореховым деревом, как не спрятать огонь в стоге сена, так не заточить дух народа. Он может подупасть, захиреть, но в нужный момент поднимется и породит предводителя. Такие люди словно избранные небом, словно это написано им на роду. Хотя мы и видим их недостатки, беспощадно судим, но не покидаем, идем за ними. Такие предводители были в нашем народе и еще будут. Ибо это и есть Божьим благословением — во времена наибольших разрушений и упадка порождать для нашего народа защиту и опору — запорожское казачество, Сковороду, Шевченко, Франко. Они сделали больше, чем десятки армий. В этом я вижу Божью волю — уберечь этот народ. — Почему же тогда после такой героической борьбы, стольких бунтов и революций мы не закрепили свою государственность? Главное здесь — моральный застой. Корень наших бед в том, что мы не учимся, как следует, не развиваем высокие традиции, оставленные нам предками. Не поднимаем их до высоты поступи передового человечества. Не знаем, чего хотим, куда и к чему идем. Когда-то, побывав среди запорожцев, чужаки удивлялись, что те, меньше из всех христианских народов, переживают о своем будущем. Беда идет и от неоднородности, распрей среди населения. Духовное единство общности — вот главный стержень. А он, надломлен. Возрождение народа начинается с души, со Слова. Но я не уверен, что национальное легко поднимется во весь рост, скорее все начнется с материального и морального. Это труд, сродни пчелиному, каждого просветителя, каждого соборника. Соты нации тоже следует наполнить медом и воском. Грядет великое длительное возрождение погубленной Отчизны. Возрождение вместе с духом, природой и землей. Болезненное возвращение отобранного Рая. — Вы в это верите? — И ты скоро поверишь, и другие тоже. Иначе для чего нам даны вера, надежда и любовь?!Камни в воде
И упала внезапно из побуревшего неба на землю осень, словно соскользнула с соленой скалы/За одну ночь пожелтело плетение хмеля. Прошлась осень и по низким кустам, по траве, сразу скукожившейся под ледяными росами. Богородичное прядево паутины цеплялось за ресницы, за брови. Голыми пятками нащупывал я в траве орехи и собирал их в корзину. Когда ноги уже сводила студеная судорога, брался за яблоки. Складывал их в погребе на солому, пересыпал золой, перекладывал ореховым листом. "Так они дождутся нас до весны", — говорил Светован. Сам он пошел в Заломы за золотым корнем, а я хозяйничал дома и ждал Штефана, который должен был отвести собранное и высушенное зелье к фельдшерскому пункту. А оттуда его уже переправят в Мукачево. Штефан приплелся со своей клячей под обед. Кобыла стоя дремала, склонив осунувшуюся морду. Теперь они с хозяином еще больше были похожи друг на друга. Я протянул приготовленную бутылку. Штефан тут же вытащил зубами затычку и отхлебнул. То ли от этого звука, то ли от острого сливовичного духа кобыла приоткрыла водянистый глаз. — Как выпьешь хорошо — козы в золоте, — сразу повеселел мужик. — Но и я не порожняком. У меня для тебя дринген-пакет от дочери Илька. Из рук в руки, в целости и сохранности, — протянул желтоватую бумажку, прихваченную скрепкой. Я засунул ее в карман, и мы начали завязывать мешки. Бумажку развернул я уже после того, как Штефан, глотнув еще раз сливовицы, нехотя разбудил кобылу. Это была телеграмма от Толи. "Конец изгнанию статьи попали цэка комсомола тебя восстановили работе направляют курсы Москву документы завтра обкоме издательство утвердило книгу новелл забрать аванс". Я перечитал еще раз вслух и оглянулся. Вокруг никого не было кроме меня и дятла, рьяно долбавшего корявое дерево. Словно достукивал пропущенные слова. Главные слова всегда теряются между строк — и телеграмм, и книг. Телеграмма была адресована мне, но слова "цэка", "обком", "курсы", "аванс" звучали столь дико, что я еле улавливал их связь с моей теперешней личностью. Затем я развернул листочек, прикрепленный к телеграфному бланку. Там было несколько строчек от нее."Тот, у кого есть крылья, улетает… Рада твоим успехам. Действительно, рада до слез. Хотя Москва слезам провинциалок и не верит. Я по наивности считала, что ты вечный студент либо свободный художник, бродячий поэт, а оказалось — птица высокого полета. Не то что твои кораблики недалекого плавания… Еще раз спасибо тебе за помощь, за поддержку отечественной филологической науки. И зато настроение, с которым я, наивная Пенелопа, ждала твои корабли. Меньше всего думая о курсовой. Но увы, наивность таки не лечится. Если когда-нибудь твоя книга попадет в нашу библиотеку, обещаю прочесть ее с большим интересом. А в остальном прислушаемся к народу, который всегда прав: не уродил мак — перезимуем и так. Оля".Глаза мои еще держались за письмо, а руки спешно собирали вещи. Пара белья, несколько книг, тетрадь, камень с дыркой-глазом, перо сойки, клык кабана, письма Оли. Хижина Илька вдруг стала для меня очень тесной, словно выталкивала из себя. И запах ее стал вдруг чужим. Осень обостряет запахи. Из Горового гнезда слетел я, как перо сойки. Часа за два добрался к Заломам-. Старик на коленях чистил корни. — Я иду, — сказал я за его спиной, пытаясь взбодрить свой голос. — Должен идти. Он обернулся, поднялся на ноги. В его взгляде не было ни удивления, ни вопроса. Как и тогда, когда я стоял перед калиткой на Поповой горе. — Никогда никому не объясняй, почему идешь. А мне тем более не надо объяснять. Мы ведь с тобой ученики Одиссея, не так ли? Тут другая морока. Ты помогал мне, собственно, работал на меня все лето. Я тебе должен… Я начал было возражать, но он остановил меня жестом руки. — Денег у меня нет. Отплачу тебе как-то иначе потом. Обязательно отплачу, — загадочно улыбнулся он в бороду. — Если пойдешь прямо за ручьем, то выиграешь по времени какой-то час. Правда, автобус уже уедет. — Не беда. Я научился доверять ногам. — Это хорошо. Теперь пускай доверие подымается выше — к сердцу и голове. Что же, иди, здоров, куда знаешь. Иди, и пускай руки твои будут сильными, ум ясным, а воля здоровой. Стелись, добрый путь! — благословил меня зажатыми в руке стебельками и повернулся к своей работе. И я пошел. Побежал сломя голову по кочковатому бережку, перелетая через валуны и мохнатые купины. Уже на самом дне дола, где ручей прятался в лесу, я обернулся. Старик стоял на гребне склона и смотрел мне вослед. Верховой ветер дергал, пузырил его рубаху, развевал седые космы, сливавшиеся цветом с небесами. — Го-го-го! — крикнул я на полную грудь. Он не двинулся с места, только поднял перед собой как-то беспомощно руки, словно вопрошая: "Что еще тебе сказать? Чем еще помочь?" Я помахал в ответ и задом вошел под влажный и темный шатер деревьев. Дни светящие я оставил за собой. И это понимание остро кольнуло мое сердце. Больше я его не видел, человека, которого люди называли Вечником, а сам он себя — Светованом. Человека, который благожелательно приоткрыл и для меня дверь в свой удивительный мир. Солнце пронзало редколесье, играло преломленными лучами на камнях под толщей воды. В этом водосветии камни переливались зеленоватым малахитом. Я вспомнил его слова, над которыми раньше не задумывался: "Учитель, как и камень, остается на дне потока, а ученики текут дальше". Теперь их сокровенный смысл открылся и мне и прорвался неожиданными слезами. (Пройдут годы — и появится острая нужда узнать о нем побольше. И рассказать об этом. И я зайду в библиотеку, где он когда-то присматривал за помещением и двором. Молодые библиотекарши не помнили его. Повели меня в книгохранилище. Там, среди темных полок, сидела старушка в костюмчике с облезлым лисьим воротником. И сама была, словно лисичка со старой книжки сказок. "Конечно, помню его, — пропела тоненьким голосом. — Таких не забудешь. Без таких, как говорил поэт, заглохла бы нива жизни… Он вылечил мою ногу, до этого я могла ходить только с палкой. Еще он здесь собирал камни. А мы, глупые, смеялись…" "Какие камни?" "О, это целая история. Над нашим главным корпусом, еще до реконструкции, возвышалась небольшая острая башенка. Очень симпатичная. Крошечные окна были сделаны из цветного стекла — синего, зеленого, желтого. И в какую-то ночь ребятня разбила почти все стекла. Камнями. Башня ослепла, чернела пустыми глазницами… Не знаю где. но Андрей-бачи (его так называли — "дядя" по-венгерски) достал откуда-то цветные стекла и восстановил витраж. Но в ту же ночь стекла снова разбили. Он еще раз их поменял. Но беда опять та же самая. Стражник никак не мог поймать, кто и когда это делал. И вот идем мы утром на работу, а наш Андрей-бачи собирает во дворе камни. Складывает их в заплечную корзину и относит на пустырь. Мы тихо посмеиваемся, а он собирает. За два дня собрал все камни во дворе. И застеклил окна по новой. Но их опять разбили. Не все, правда, может, камней не хватило. А старик, смотрим, уже на улице собирает. Люди идут по тротуару, а он извиняется и собирает. Спокойный такой, с ясными глазами, даже веселый. Улица длинная — работы ого-го… Смотрю как-то из окна — дети возле него. Он им что-то рассказывает, они рты пораскрывали. А дальше — помогают ему. Застеклил он башню уже четвертый раз, еще и розового стекла добавил. Стоял с пацанами во дворе, указывал им рукой на шпиль, что-то объяснял. Два дня прошли тихомирно… Слышу стук во дворе. Выглянула из окна — детвора: "Где Андрей-бачи?" — "А вам он зачем?" — "Когда камни будем еще собирать? На Малиновой улице их много". Вижу, старик выходит к ним. С корзиной. Начали мусор собирать. Сначала — во дворе, а затем и на улицу перешли. Правда, никто уже не смеялся… Почему-то мне это очень запомнилось. Заведующая наша еще спрашивала, как с ним рассчитаться. Отмахивался. Вы, говорит, ежели можно, отдайте мне списанные на макулатуру книги. И собрал целую тележку… А вы его знали?" — живо поинтересовалась старушка-лисичка. "Знал и не знал, — ответил я. — Настоящую цену подарков судьбы начинаешь ощущать, когда самому приходится собирать камни".) .. Это будет потом. А тогда я продирался сквозь чащу, которая становилась все гуще и мрачнее. Шел очертя голову. Ветки хлестали меня, терновник царапал руки и лицо. Слезы обжигали раны на щеках. Сбоку дрожала венка реки, вела меня напутней дорогой, "путем", как сказал бы Светован. И тихо звучали в содрогании переполненного сердца другие его слова: "Мы любим себя выгораживать, мол, время такое… Время подходящее всегда. Время для нас, а не мы для него. Время бежит одинаково. Это мы плывем когда за течением, а когда и против… Мы созданы для того, чтобы вечно тянуться к Небу, ибо оно открывается для нашего взгляда, как и все остальное. Все в нашей жизни имеет свой смысл. Все держится в берегах любви и течет, как река. Она просто течет по своему руслу. Пока ходит по небу луна". Март-ноябрь 2013. Мукачево — Косино — Анталия.
Все авторские права защищены. Перепечатка текста или фрагментов без согласия автора запрещена.
Эту и другие книги Мирослава Дочинца можна заказать по тел.: 050-6713717, 098-0286332 или по адресу: ул. Луки Демьяна, 5. г. Мукачево 89608. e-mail: mido.mukachevo@rambler.ru © М.И.Дочинец, 2014. © Издательство «Карпатська вежа», 2014.
Дочинец Мирослав — Многие лета. Благие лета Дочинец Мирослав — Горец. Воды Господних русел (украинский язык) Дочинец Мирослав — Вечник. Исповедь на перевале духа Дочинец Мирослав — Креничанин. Записки самого богатого человека Мукачевской доминии Дочинец Мирослав — Криничар (на украинском языке) Дочинець Мирослав — Многії літа. Благії літа. Заповiдi 104-рiчного Андрiя Ворона — як жити довго в щастi i радостi
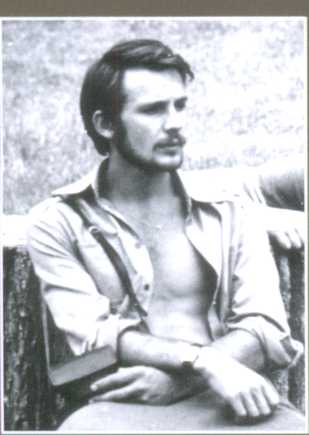
“…He надо думать о тяготах жизни, следует думать о том, как плыть. Рыбу не волнует надежность плавников и пузыря. Рыба плывет. Потому что ей надлежит плыть. А нам — проводить жизнь в трудах и радостях… Кто осознал вес жизни, цену радости, тот вкушает каждый миг, каждую мелочь. Когда сольешься с этим миром, то понимаешь, что ты всегда был и будешь, во веки веков. Как и этот мир. Ты научишься не спешить, радоваться каждой минуте, как проникновенной молитве, как любовным ласкам, как глотку хорошего вина, как сладким снам… И эти моменты будут тянуться все дольше, сгущаться, разливаться полнотой радости в сердце. И ты поймешь, что они нескончаемы. Они в тебе, а ты в них. В этом наша вечность, бессмертие нашей души… Доверяй тому, что случается с тобой, а не тому, что может случиться. Думай о том, что хочешь иметь, а не о том, чего не хочешь. Это сохраняет и умножает силы. Наша судьба у Бога на коленях. Нет у Него ничего лучшего, чем наша жизнь. Как бы каждый из нас не верстал ее бездарно. У Бога нету мертвых… ”
Последние комментарии
1 час 20 минут назад
3 часов 10 минут назад
8 часов 55 минут назад
9 часов 1 минута назад
9 часов 5 минут назад
9 часов 5 минут назад