Розовский Марк Григорьевич Папа, мама, я и Сталин Документальное повествование
Моему сыну Семену, дочерям Марии и Александре
«Известное известно немногим»Хочу написать пьесу. Для этого надо все бросить, сесть и написать… Бунин Чехову удивлялся: как ты можешь иметь дело с театром?.. Театр, мол, такое суетное место… не для писателя. Да, суетное. Но что бы с нами со всеми было, если бы Чехов послушался Ивана Алексеевича и не написал своих пьес. Не представляю мир без «Чайки» и «Дяди Вани». Не знаю, что это за Россия такая без «Вишневого сада»!.. Конечно, я не Чехов. Но вдруг и у меня получится?.. Хорошая пьеса (не халтура, не макулатура) требует ремесла в построении сюжета — надо суметь внятно и просто рассказать человеческую историю, в которой как живые возникнут образы и характеры, и отраженно, словно в чистой зеркальной воде, высветится само время с его чернотами и канувшими в бездну деталями и подробностями ушедшей жизни. Наверное, это и есть мастерство, которого мне недостает, — взять документ и осмыслить его, уверовав в мощь его подлинности, а «подлинность», заметьте, подразумевает и включает «длинность», то есть трещит и слезится от сокращений, ибо любое сокращение ведет к искажению, пусть и невольному. Это я к тому, что необходимо сначала собрать МАТЕРИАЛЫ к пьесе, если хочешь, чтоб она вспыхнула фантазией и притом была правдивой и честной. По-булгаковски, не «соврамши». И не потому, что автор весь из себя такой правдолюбец и мыслитель-осмыслитель, а, скорее, потому, что он, уподобясь самому Творцу, желает создать (или воссоздать) собственный мир, где в пространстве пустой сцены обретут новую жизнь сгинувшие в прорве времени персонажи. Сразу вопрос: какие? У моей ненаписанной пьесы есть пока одно название: «Папа, мама, я и Сталин». Оно мне нравится и не нравится одновременно. Нравится потому, что ясно показывает, ПРО КОГО будет рассказана эта история. Не нравится потому, что другого названия у меня нет. Свою пьесу я хочу посвятить детям — взрослым дочерям и маленькому сыну Семену. Впрочем, ему сейчас 13 лет, и он мужает на глазах. Но он не всё понимает, потому что многого не знает. А я хочу, чтобы он узнал… Я хочу, чтобы он узнал, что случилось с моим отцом, именем которого я его назвал. Мой Семен никогда не видел дедушку живым, только на фотографиях… Он не видел вживую и свою бабушку, мою маму. Но он часто спрашивает меня о них, задает вопросы, на которые кратко я не могу ответить, только подробно. А подробно не выходит, потому что после одних вопросов следуют другие, за ними третьи… Вот будущая пьеса (если будет написана) кое-что прояснит в нашей общей истории. Эта история, несомненно, носит трагический характер. И ее будет трудно по этой причине читать, не то что изложить. Семен уже спросил: — А при чем тут Сталин? — А при всем при том, — ответил я и, думаю, ответил хорошо. И спросил сына в свою очередь: — А что ты знаешь о Сталине? Он замялся и сказал: мол, «эффективный менеджер». То есть то, что какая-то сволочь написала в школьном учебнике. И тогда я вызвал своего сына на «полразговорца».Аристотель
Полразговорца
Люди в Советском Союзе делились на «правильных» и «неправильных». Хотелось написать на «праведных» и «неправедных», да не вышло. Как-то само написалось в первом варианте. Ну и пусть. Так даже лучше. Ведь что «праведно», что «неправедно» — это у нас всегда спорно, и тут ни к какому консенсусу мы не придем, а вот «правильность — неправильность» в нашей жизни давно установлена и сомнению не подлежит. Мой отец был «правильный». То есть такой, как все. Его арестовали 3 декабря 1937 года, и он провел в сталинских лагерях 18 лет (подробности ниже). Он верил в социализм и его светлое будущее. Он работал и жил во имя этого светлого будущего, живым олицетворением которого с 3 апреля 37-го года был я, пока лежащий в пеленках, но со временем, надо думать, поднявшийся в рост — разумеется, со страной. Лично товарищ Сталин, конечно, ничего не знал о моем рождении. И наверняка не был против. Но тут вопрос: он не был против, потому что не знал?.. Или — если бы знал, то был бы против?.. Ответа не дождемся. Сталин по этому вопросу не высказался, отмолчался, великий наш вождь. Но мы можем на сей счет предположить следующее: он вообще обо мне в тот момент не думал. У него другие дела в тот момент были в голове. Поважнее. Собственно, идея Большого террора не нова. Она восходит к древним установлениям фигуры вождя — сначала племени (при родовом строе), потом царя-короля, властвующего над своим народом (при светском характере классового общества). Этой пропозиции предшествует «борьба за престол», которая иногда затягивается на весь период личного правления. Так тема сохранения себя у власти заложена в психику абсолютного монарха изначально, то есть с момента его появления на общественной арене, — отсюда необходимость достижения той мифической сакральности, позволяющей народу поверить в своего вождя как в главного носителя и хранителя его счастья и благополучия. Опыт истории показал, что эта сакральность достигается прямым и самым легким способом — через кровь. При этом, если хочется больше власти, то в этом случае нужна большая кровь Жертвоприношение, сделанное публично, у костра, рождает страх — самое множимое чувство в коллективном стаде, лучше всего реагирующем на свист бича или обыкновенного кнута. Империя излучает магический свет тогда, когда император САМ участвует в злодеянии или злодеяние выполняют послушные палачи по мановению его руки. Однако опасность биологического одряхления вождя остается, и тогда откуда-то со стороны предательски подступает идея замены старого царя новым (молодым или другим), что приводит к треволнениям и самого держателя короны, и общества, им управляемого. Здесь спасает рабское поклонение царю, который превращает себя в царя-жреца, царя-бога: испуганная масса снова и снова должна проливать свою кровь, дабы поддерживать магию и торжество идола, — вождь приобретает новое величие благодаря новым жертвам и новой крови, нескончаемый поток которой прогоняет (хотя бы временно) идею замены. И все остается по-старому. Сталин — классический пример этого первобытного представления о способах сохранения себя на вершине. «Царь горы» — эта детская дворовая игра сигналит нам, что потеха отражает в веселой карнавальной форме жуть предстоящей трагедии. Шуточная борьба и шуточное убиение — пародийный обряд производства насилия в реальной жизни. Сталин обеспечил Большой террор несколькими идеологемами, главная из которых содержала мудрую мысль о том, что классовая борьба по мере строительства социализма возрастает. Следовательно, революция продолжается, насилие правомерно. Кстати, вопрос о правомерности — неправомерности насилия для настоящего революционера не стоит. Что для Стеньки, что для Пугачева, что для более благовоспитанных декабристов, разбудивших Герцена… Товарищ Нечаев (имеется в виду товарищ Бакунина, Кропоткина, Желябова, Перовской, Халтурина, Каляева, Савинкова, Каплан и иже с ними) в своем знаменитом катехизисе все честно объявил. Морали нет и быть не должно. Убийство ради великой цели переустройства общества на революционный лад — святое дело. Поэтому и Ленин, и Троцкий, и Сталин, и Мао, и Пол Пот, и Кастро, и Че Гевара — все одной кровью мазаны — человеческой. Правда, Сталин в этом деле преуспел лучше всех. Он был верный ученик Ленина, который и сам взбесился, и Россию взбесил. Он умер от сифилиса мозга. Сталин был параноик. Ученик от учителя недалеко ушел. Но между ними, как на грех, затесался еще один безумец — Троцкий. Этот все хотел мировой пожар раздуть, да спичек не хватило, и коробок из его рук Сталин вышиб. Ледорубом. «Я сам, — говорит, — не лезь поперед батьки в пекло». И создал пекло свое. Сталинское. Фирменное. «Вредители»… Их ПРОИСХОЖДЕНИЕ в пропагандном навороте, придуманном Сталиным, имело фундамент на песке так называемого «Шахтинского дела», по которому проходили бывшие шахтовладельцы, — это понятно, классовые враги! — и — внимание! — инженеры, старые спецы. «Довольно адвокатов у власти, власть должна принадлежать нам, инженерам» — это у Горького, в пьесе «Сомов и другие». Заговор! Был май 1928 года. Пятеро в июле получили расстрел, другие — сорок с лишним — разные сроки. Это был первый пробный шар. Через два года набирающий вес вождь заставляет свое Политбюро (сам вроде — до поры, до времени — в сторонке) учинить Постановление, по которому начинается процесс некоей Промпартии — новой вредительской организации, якобы специализирующейся на экономических преступлениях. Опять на скамье подсудимых — инженеры-технари, чистосердечно признавшиеся в готовящейся вредительской интервенции, — Сталин лично в приказном письме Менжинскому — главе тогдашнего НКВД — прямым текстом подначивал любой ценой «провести сквозь строй» обвиняемых. И хотя дело Промпартии было целиком сфабриковано благодаря главарю «заговорщиков» Н. К. Рамзину (он еще до процесса сотрудничал с ОГПУ), Сталин получил второй грандиозный опыт сыска и уничтожения вредителей в стране. Никто тогда не понимал, что от первого этапа, от разоблачения чисто ЭКОНОМИЧЕСКИХ псевдопреступлений в 1930 году, Сталин, благодаря убийству Кирова в 1934-м, — повод нашелся! — развернет репрессивную машину в сторону ПОЛИТИКИ, прибавив ее к ЭКОНОМИКЕ. В тот же момент ВРЕДИТЕЛИ становятся еще и «врагами народа». И Большой террор (1935–1939) можно запускать. Тут и ГУЛАГ подоспел со своим Беломорканалом и опытом концлагерей на Соловецких островах. Рожденная в мудрой голове вождя схема РАСШИРЕНИЯ войны со своим народом работала на полную катушку и во время схватки с немцами, и после нее — вплоть до самой смерти усатого негодяя. Только теперь «вредителями» могли становиться не только технари-инженеры, но и все, кто угодно, — врачи-вредители, учителя-вредители, кибернетики-вредители, вейсманисты-морганисты, историки, поэты, прозаики, композиторы, да и сами энкавэдэшники, как выяснилось… дальше больше: вредители — народы. А троцкисты… Их, по их же бесовскому концепту, надо было уничтожить, чтобы не мешали строить социализм в одной, отдельно взятой, как говорили тогдашние остряки, за жопу стране. Прекрасно сказал о Троцком Корней Иванович Чуковский, склонный к ненависти к Тараканищу и любви к Мойдодыру и Айболиту — в 33-м году он записал в дневнике: «Троцкисты для меня всегда были ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как характеры. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим: шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и присяжного поверенного». Последние слова вполне можно было адресовать и Ильичу, в простонародье — «Кузьмичу», но это отчество стало прозвищем много позже. Так вот, демон Троцкий, почти добровольно уступивший власть Сталину после смерти Ленина, сидя за границей, куда Сталин его выслал (и тотчас пожалел, что оставил в живых), кусал локти. Еще в 26-м году Троцкий публично, на заседании Политбюро называет Сталина «могильщиком революции» — вождь побледнел, вскочил, хлопнул дверью… Обиделся, в общем. А через 10 лет, в 36-м году, Троцкий пишет статью с гем же смыслом «Преданная революция» — и этим дает повод Сталину разозлиться на врага окончательно и выстрелить из стартового пистолета: Большой террор начался. — Кем преданная?.. Мной преданная? — видимо, поморщился вождь, держа в руках эмигрантский текст. — Нет, Троцкий, предатель ты… и вся твоя банда, имеющая целью свержение советской власти, убийство руководителей партии и правительства, разрушение Красной армии и т. д., и т. п. Теперь за Троцкого ответят троцкисты. Они — враги № 1. Три самых известных суда над «врагами народа» — в августе 36-го, в январе 37-го и марте 38-го — совпадают с моим, Марка Розовского, почти тютелька в тютельку приходом на этот свет. Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Пятаков, Радек, Крестинский и другие соратники Ленина признаются в Колонном зале на публичных процессах в своих антисталинских действиях и расстреляны (а я лежу в этот момент в люльке и пачкаю пеленки на Камчатке). Сразу вослед известным именам репрессиям подвергаются около 11 миллионов людей, из них 3 миллиона казнены (подсчет Роберта Конквеста). Мой отец — крупица в этой окровавленной массовке. Как ее вывести на сцену — всю, без единого пропущенного имени, как заглянуть каждому в лицо и спросить: что вы думаете о попытках нынешней реабилитации Сталина? А ведь сегодня и Ежова пытаются обелить, и Берию. Но как однажды (на вечере памяти Платонова в ЦДЛ) сказал Юрий Карякин: «Черного кобеля не отмоешь добела», — дьяволы останутся дьяволами. «Многочисленные акты нарушения социалистической законности» приоткрылись миру 25 февраля 1956 года, но те три года, когда я плавал в околоплодной жидкости во чреве матери моей, а потом мочил пеленки и питался манной кашкой, — были в параллель самыми жестокими, самыми вопиющими в мировой истории. И величие вождя по первобытному закону сразу подскочило к небесам. Масштаб репрессий словно подогревал культ личности. Впрочем, личность вождя в эту пору перестала нести остатки человеческого облика — вождь превращается в этакого тотема, который в глубокой древности являлся в мифологическом сознании образным ЗАМЕНИТЕЛЕМ настоящего царя. У славян, как известно из истории фольклора, это был медведь, вокруг которого племя начинало плясать и прыгать. Точно то же самое началось вокруг Сталина. Обрядовые игры в атмосфере, пронизанной запахом смерти, должны были идти с неистовым, поистине диким весельем. Улыбки 37-го года — ослепительные, жизнерадостные и, главное, жизнеутверждающие, — есть копии тотемистического обряда, когда первобытный коллектив проявлял несусветную рьяность в танцах и пении дифирамбов и од сакральному избраннику. Расстрелы и суды шли под аккомпанемент бодрящей музыки в праздничных оркестровках. Вся эта театральщина — ритмичная шагистика под развевающимися флагами на парадах физкультурников, осыпание листовками героев-полярников, лошадиные ржания на кинокомедиях, всеобщая подтянутость и абсолютное доверие идиотским лозунгам — не что иное, как знаковая дребедень всепобеждающего социализма, — имеет истоком логику первобытного сознания, чувствующего наступление апокалипсиса и пытающегося в порядке самозащиты любой иеной профанировать реальность с ее пытками и трупами. Убиение себе подобных возникает из патологии неслыханной веры в вождя племени, — теперь у нас начнется благоденствие и настоящее счастье! Вождь — само существование вождя В ОДНО ВРЕМЯ с нами — гарантия получения нами регулярной пищи и места для житухи в пещере. Убийца получает ранг божества, и темная масса успокаивается после кровавого шока, — его застит вера в «теперь-то уж заживем по-хорошему». Карнавал продолжается. Однако историческая сцена, знавшая множество трагедий и драм, намекает нам, что фольклорный мотив «увенчания» вождя, чьи руки по локоть в крови, имеет в любой обрядовой игре и вторую обязательную часть, называемую «развенчанием». Сталин очень хорошо это понимал. Он делал всё, чтобы не оставлять следов. Все его преступления он замазывал «необходимостью», «целесообразностью» и даже «вынужденной жестокостью». Вождю хотелось остаться в истории чистеньким и с ангельскими крылышками. Его рябое лицо на всех фото старательно загримировано. Он одевался в простые одежды и улыбался всегда доброжелательно. Нет ни одного взгляда, которым бы этот актер выдал, что играет самого страшного злодея в мировой истории. Медведь в виде симпатичного зайчика. Эта саморежиссура сталинщины удивляет и восторгает. По этой части наш артист превзошел даже Гитлера с его «триумфом воли» и факельными шествиями немецких роботов. Постановки Сталина были куда изощреннее — в них, как в чеховских пьесах, говорилось одно, а действия и поступки имели совсем другой смысл. Вранье усилиями сторонников вождя превращалось в акт художественного изъявления, и здесь особую роль играл пафос, возвышенная риторика срасталась с бытом, и тот, кто не участвовал в «венчании», крича с патетическими интонациями, объявлялся английским или японским, неважно, шпионом или вредителем. Народ имел дело не лично с диктатором («кремлевским затворником»), а с образом диктатора, имевшим всепроникающее качество. Поэтому так трогательны всякие обращения к вождю как к «отцу народов» — метафора тут ощутима, но в психологии масс это представление совершенно стиралось и метафорическое значение куда-то исчезало. Вылизывание сапога вождя принимало весьма реальную форму — именно так в кураже любви первобытные люди целовали следы своего начальника. Пародийного характера «венчания» никто не замечал. Ну разве что Булгаков видел всё, да и Платонов чувствовал реальность… Но их переплюнул Мандельштам великим, равным самоубийству стишком («Послушай стишок, — говорил сам автор Эренбургу, — как он? Ничего?»), написанным еще в 34-м году про «тараканьи усища» и «тонкошеих вождей». «Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь…» — эти предупреждающие слова Маркиша в адрес Осипа Эмильевича вспоминала потом Надежда Яковлевна. Да ведь эти слова можно было послать, по крайней мере, уже одиннадцати миллионам. Что делал Мандельштам?.. Он скоморошествовал перед вождем. Он юродствовал — в полном соответствии с обрядовой игрой, где волхвы, зная, предчувствуя, что им «на вешалке висеть», подвергали вождя племени традиционному для этого жанра осмеянию. «Что ни казнь у него, то малина!» — а теперь повы-ясняйте, дорогой Иосиф Виссарионович, у самого Бориса Леонидовича — «мастер» этот автор или «не мастер»?.. Вдумаемся, Сталин пообещал Пастернаку, что с Мандельштамом «будет все в порядке». Это значило, что после показательной ссылки в Воронеж поэту будет предоставлена возможность поучаствовать в «венчании», посчитав выходку 34-го года преждевременной, ибо она наступила в обгон истории и символизировала еще не объявленное официозом «развенчание». Гениальному поэту в 37-м пришлось исправляться, и он черным по белому написал:Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с ласкою.
Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.
Дорога к Сталину — не сказка…
…и ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь Сталинкою зваться
У самых будущих времен…
Но это ощущенье сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках…
…чтоб ладилась моя работа
И крепла — на борьбу с врагом.
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами «черных марусь».
А.А. Ахматова. Реквием.
Хлеб — вот это земная ось!
На ней вертеться и нам, и свободе! —
Я день и ночь Поволжье вижу,
солому жующее, лежа в соломе!
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь,
кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.
Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начали и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца.
Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное для сильных губ чтеца.
Его мы слышали, и мы его застали.
«О ЛЖИВОМ СООБЩЕНИИ АГЕНТСТВА ГАВАС. Редактор «Правды» обратился к тов. Сталину с вопросом: Как относится тов Сталин к сообщению агентства Гавас о «речи Сталина», якобы произнесенной им в «Политбюро» 19 августа, где проводилась якобы мысль о том, что «война должна продолжаться как можно дольше, чтобы истощить воюющие стороны». Тов. Сталин прислал следующий ответ: «Это сообщение агентства Гавас, как и многие другие его сообщения, представляет вранье, я, конечно, не могу знать, в каком именно кафе шантане сфабриковано это вранье. Но, как бы ни врали господа из агентства Гавас, они не могут отрицать того, что: а) не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну; б) после открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии, ибо он считал и продолжает считать, что скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положение всех стран и народов; в) правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны. Таковы факты. Что могут противопоставить этим фактам кафешантанные политики из агентства Гавас. И. Сталин».Замечательный документ!.. После таких заявлений на нюрнбергской скамье подсудимых вполне можно представить и Иосифа Виссарионовича. Большое спасибо товарищу Сталину от товарища Геббельса. Фашизм получил от коммунизма все права на вседозволенность. И с этой мерзостью Сталин играл в поддавки даже во время им самим провозглашенной Великой Отечественной. Сталин — изменник Родины? 15 апреля 2005 года я был приглашен к участию в программе «Времена» с ведущим Владимиром Владимировичем Познером. Речь шла о проблемах, связанных с пересмотром итогов Второй мировой войны, и, естественно, возник разговор о ранее скрываемых секретных документах, без которых правда выглядит неполной и, что еще печальней, искаженной. Напротив меня за круглым столом сидел А. Проханов, известный своими националистическими, а значит, псев-допатриотическими взглядами. В точном соответствии с ними он говорил о «русской победе», забывая, что в Великой Отечественной войне вместе с героическими русскими людьми, которых, конечно же, было большинство, плечом к плечу сражались и гибли за Родину не менее героические украинцы, белорусы, татары, грузины, евреи, чуваши и все другие народы Советского Союза. Проханова, к сожалению, никто из нас не поправил, точнее, не успел поправить. Ибо главная схватка с его воззрениями произошла лично у меня по поводу оценки документов, опубликованных в книге Владимира Карпова «Генералиссимус» (М., 2005, том 2). В условиях телепередачи невозможно было привести их полностью. Поэтому я счел нужным в качестве послесловия к «Временам» и в доказательство своей позиции предъявить потрясшие меня свидетельства, вынутые из секретных архивов. Мне кажется это чрезвычайно важным, ибо еще раз демонстрирует преступную деятельность Сталина против своего народа. Начнем с 1 января 1942 года — в этот день в Вашингтоне 26 стран создали антигитлеровскую коалицию, в которую вошла истекающая кровью Страна Советов. Мне тогда и пяти лет не было, но я помню сводки с фронтов и голос Левитана, рассказывающего о виселицах в Смоленске. И вот сегодня, по прошествии многих лет, читаю:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕРМАНСКОМУ КОМАНДОВАНИЮ 1) С 5 мая 1942 года, начиная с 6 часов, по всей линии фронта прекратить военные действия. Объявить перемирие до 1 августа 1942 года до 18 часов. 2) Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года германские войска должны отойти на рубежи, обозначенные на схеме номер 1. Предлагается установить границу между Германией и СССР по протяженности, обозначенной на схеме номер 1. 3) После передислокации армий вооруженные силы СССР к концу 1943 г. готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и США. 4) СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США, в течение последующих 1943–1944 годов вести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства (схема номер 2). Примечание: В случае отказа выполнить вышеизложенные требования в п.п. 1 и 2, германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое. Предупредить германское командование об ответственности. Верховный Главнокомандующий Союза ССР И. Сталин…»С этим обращением Сталина к Гитлеру, датированным 19 февраля, замнаркома НКВД Меркулов (впоследствии расстрелянный) тайно приехал в г. Мценск, что рядом с городом Орлом, на переговоры с генералом вермахта Карлом Вольфом. Переговоры шли целую неделю (!) — с 20-го по 27 февраля. Окончились ничем. Шакал с волком не договорились. Об этом свидетельствует рапорт Меркулова Сталину сразу по возвращении в Москву.
Первый заместитель Народного комиссара внутренних дел Номер ½428 27 февраля 1942 г. Товарищу Сталину РАПОРТ В ходе переговоров в Мценске 20–27 февраля 1942 года с представителями германского командования и начальником персонального штаба рейхсфюрера СС группенфюрером СС Вольфом германское командование не сочло возможным удовлетворить наши требования. Нашей стороне было предложено оставить границы до конца 1942 года по линии фронта как есть, прекратив боевые действия Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством. Для этого полагалось бы первоначально отселить всех евреев в район Дальнего Севера, изолировать, а затем полностью уничтожить. Притом власти будут осуществлять охрану внешнего периметра и жесткий комендантский режим на территории группы лагерей. Вопросами уничтожения (умерщвления) и утилизации трупов еврейского населения будут заниматься сами евреи. Германское командование не исключает, что мы можем создать единый фронт против Англии и США. После консультаций с Берлином Вольф заявил, что при переустройстве мира, если руководство СССР примет требование германской стороны, возможно, Германия потеснит свои границы на востоке в пользу СССР. Германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный. При обсуждении позиций по схеме номер 2 возникли следующие расхождения: 1) Латинская Америка. Должна принадлежать Германии. 2) Сложное отношение к пониманию «китайской цивилизации». По мнению германского командования, Китаи должен стать оккупированной территорией и протекторатом Японской империи. 3) Арабский мир должен быть германским протекторатом на севере Африки. — Таким образом, в результате переговоров следует отметить полное расхождение взглядов и позиций. Представитель германского командования Вольф категорически отрицает возможность разгрома германских вооруженных сил и поражения в воине. По его мнению, война с Россией затянется еще на несколько лет и окончится полной победой Германии Основной расчет делается на то, что, по их мнению, Россия, утратив силы и ресурсы в войне, вынуждена будет вернуться к переговорам о перемирии, но на более жестких условиях спустя 2–3 года. Первый заместитель НКВД СССР Меркулов.
Вот, собственно, и вся история. Та, которую не хочется признавать. Та, о которой Проханов и слышать не хочет. В ответ ему нечего было сказать. Поэтому он и орал, не давая правде прорваться. И все-таки мне хочется кое-что досказать из невысказанного на телепередаче, где нашу перепалку прервал своим веселым свистом Владимир Познер (я думаю, этот свист войдет в историю телевидения на 1-м канале!). Проханов объяснил действия Сталина «тактикой». Хороша тактика! Из первого документа видно, что Сталин в 1942 году предложил Гитлеру отнюдь не перемирие, а капитуляцию, единственным заманчивым условием которой было — повернуть объединенные с фашистами войска против демократических стран. Подчеркиваю, к тому моменту уже стран-союзников. Это ли не предательство своего народа и народов тех 26 государств, которые только что, буквально полтора месяца назад, решили воевать с нацистами?! На юридическом языке это и называется изменой Родине. Может быть, Проханов согласится все же с тем, что капитуляция как-то плохо согласуется с победой и, я бы даже сказал, ей противоречит. С виду ультимативные словеса Сталина о том, что «германские войска должны отойти», и предупреждение Гитлера о грядущем разгроме и ответственности за этот разгром в 1942 году, до Сталинграда и Курска, не что иное как запугивание своего противника, на тот момент явно более сильного. Точно так один блатной машет кулаками и матерится перед лицом другого урки, у которого в руках нож. Страшно, аж жуть!.. Поэтому давай спасем друг друга, накинувшись на третьего! Логика абсолютно бандитская. Сталин был трус и подлец. И это теперь неоспоримо. По законам военного времени СМЕРШ расстреливал предателей, но Сталин для того и придумал СМЕРШ, чтобы угрожать всем — и честным, и нечестным, но при этом сохранить себя и свою систему. Плевать ему было на народ, бившийся с фашизмом из последних сил. Сговор с дьяволом этот усатый безбожник совершал идо войны с помощью позорного «пакта Молотова — Риббентропа» и поздравительных тостов и телеграмм в адрес германского вождя: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» (из телеграммы Сталина в ответ на поздравление, посланное ему Риббентропом по случаю 60-летия вождя). В своей книге Герой Советского Союза В. Карпов, в отличие от Проханова, видит в преступных сепаратных сговорах с гитлеровскими головорезами сталинское «стратегическое мышление», а не «тактику». В свою очередь Проханов на передаче с обескураживающей наглостью винил в послевоенном раскрытии архивов проклятых «либералов», относя к их числу, видимо, и разведчика-писателя Карпова. Разберитесь меж собой, господа-товарищи! Невозможно понять «правоту» Сталина, обезглавившего Красную армию в канун войны арестами и расстрелами высшего командного состава — генералов, маршалов, составлявших профессиональную военную элиту страны. Этот разбой стоил нашему народу миллионов лишних жертв. Так что подлая измена Сталина, открывшаяся нам, имеет длинную историю падения этого абсолютно безнравственного коммуниста-ленинца, злодея из злодеев. «Скрепленная кровью» — во как! Несомненно, кровь имелась в виду еврейская. Тут бы антисемиту Гитлеру договориться с антисемитом Сталиным. Да вот только Гитлер в случае своей победы, слава богу, не состоявшейся благодаря подвигу антифашистов, должен был по плану уничтожить еще и 40 % славян, а остальных сделать рабами «арийцев». Об этом нелишне помнить псевдопатриоту Проханову — тем более что передача шла в День Холокоста. И Сталину, и Гитлеру нужны были не граждане, а верноподданные. Кроить по своему усмотрению карту мира, беря в заложники целые страны и даже континенты, являлось сверхзадачей коммунизма и фашизма. Сталин был до жути откровенен, когда сообщил в присутствии своей, тогда еще невзрослой, дочки: «…Какой дурак этот Гитлер! С его техникой и нашей армией мы с ним владели бы всем миром». Мы много говорили на передаче о необходимости покаяния. Однако забыли уточнить: для покаяния нужна высота духа, страшащегося высшего суда. От безбожников вроде А. Проханова покаяния, как серьезнейшего акта восстановления истины, мы никогда не дождемся. Бандиты не каются. А если каются, то в этот момент перестают быть бандитами. В природе сталинщины — всевечный бандитизм в теории и на практике. Проханов, столь востребованный в наши дни персонаж, потворствует неофашизму сегодняшнего дня — тем и опасен новой, свободной России, в которой, по его словам, он не хочет жить. Он хочет нас отташить назад, в «век-волкодав», оттого-то так рьяно защищает кровавую мерзость сталинской безнравственности. Некоторые историки считают карповскую публикацию «липой», провозглашая «фальсификацией» документы секретных переговоров Сталина с Гитлером. В стремлении любыми средствами обелить Сталина, вывести его из подозрения в измене Родине (вот скандал-то на весь мир!) сталинисты готовы сжечь архивы — раз; надумать бездоказательные аргументы по принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда» — два; и свалить всё (так же бездоказательно) на немецкую разведку Третьего рейха — три. Мол, это она сварганила подделку. А почему тогда не открыто до сих пор дело Меркулова, расстрелянного Сталиным?.. Может быть, именно потому, что в нем содержатся ошеломительные подтверждения «мценских мерзостей»?.. Зачем знать?.. Незачем! Борьба с «фальсификаторами» ведется по-сталински — фальсификаторами. Сегодня нас искусственно отодвигают от собственной истории, — мол, это дело «специалистов». Но тогда что делать с писателем Н. М. Карамзиным, написавшим «Историю государства Российского»? Ведь не специалист же!.. Или с Пушкиным, который перед «Капитанской дочкой» поведал нам «Историю пугачевского бунта»?.. Тоже дилетант по этой логике!.. Да и чеховская поездка на Сахалин неправомочна — он же не профессионал в вопросах тюрьмы и каторги. Врач какой-то, писака… Не из органов! А вот наши историки — те, кто прикормлен государством за обеспечение его безопасности, — конечно же, с ученым видом знатока будут и впредь называть черное белым. Вероятно, эти «историки» в прошлой жизни были фальшивомонетчиками. Им — доверие официоза, ибо служат они не истине, а выполняют заказ по принципу «чего изволите». Концы в воду — основополагающий прием самозащиты сталинской системы действует и сегодня. Но, как писал А. И. Солженицын, «умножатся честные книги о той войне — и никто не назовет правительство Сталина иначе как правительством безумия и измены» («Архипелаг ГУЛАГ», т. 1. «Та весна», стр. 232). Безумия? А как тогда объяснить, скажем, поголовную гибель тысяч патриотов-ополченцев, которых на вооруженных до зубов немцев наш Отец «бросил с берданками 1866 года, и то одна на пятерых» (там же). СМЕРШа на него не было!.. «И все-таки почему-то не он изменник» (там же). Силясь доказать недоказуемое, сталинисты визжат о «сфабрикованности» документов, где якобы есть лексическая неряшливость и соединенность скорее с немецким языком, чем с русским. Но этим способом можно отрицать любой советский «канцелярит», бюрократическое убожество которого проявлялось множество раз и на самом высоком уровне. Языковые ошибки и несоответствия — неотъемлемая часть аппаратных игр полуграмотных чиновников, нуждавшихся в постоянном редактировании. А редактирование исключает абсолютную секретность. Суть же в том, что находящиеся и сегодня под сталинским гипнозом люди ПРОДОЛЖАЮТ сталинское безумие и сталинскую измену. По окончании войны, сперва казалось, Сталин-триумфатор чуток ослабляет террор, временная передышка — не от хорошей жизни: надо что-то сделать, чтобы живущий впроголодь, по-прежнему получающий по карточкам жратву народ не отдал концы, как отдавали концы доходяги в лагерях. И Сталин придумывает, как добить нищенствующих — каждый год он проводит государственные займы у населения, я помню, как мама отдавала свою зарплату, получая взамен широкие шелестящие бумажные фикции, называемые «облигациями». Но чтобы стать благодетелем, Сталин регулярно «снижает цены» — об этой псевдорадости оболваненная чернь любит вспоминать до сих пор. Одновременно за кражу колосков с и без того пустых колхозных полей в ноябре — декабре 46-го года в лагеря попадают 53 300 человек. За воровство трех огурцов с общественной грядки приговаривали к 8 годам в трудовой колонии строгого режима. Сталин не унимался. Вроде бы меньшевиков и троцкистов после убийства Троцкого в 40-м году поубавилось, а где новых взять?.. Да тут еще еле выжившие бедолаги, имевшие срок 10 лет, в 47-м году настроились на свободу выйти — правда, «без ста городов», — что с ними делать? Новые процессы учинять?.. С новыми «тройками»?.. Да на кой черт возиться?! Тех, кого не шлепнули, давайте по новой засадим. Чтоб уже никогда не вышли. Это и называется «сгноить в тюрьме». Ну хорошо — не в тюрьме, так в ссылке. И вот по концу лагерного срока в районы уже обжитой бараками Колымы и на курорты Красноярского края и Новосибирской области поступают многие сотни тысяч заключенных, ранее оттрубивших свой срок по статье 58.8, 58.9 и 58.10. (Мой отец в их числе.) Освенцим закрыт, Бабий Яр в прошлом, но сталинский ГУЛАГ победно празднует новую волну террора. Победителей не судят. Судят победители. В начале 1953 года (жизнь вождя близка к бессмертию в Мавзолее) в ГУЛАГе примерно два с половиной миллиона зэков. Плюс около трех миллионов ссыльных поселенцев (мой отец в их числе). В послевоенные годы жизнь «на воле» не менее опасна, нежели скотское существование в заключении. Сталин в 47-м году демонстративно отменяет смертную казнь, но уже в 50-м ее восстанавливает. Почему, зачем такая непоследовательность?.. Вождь как бы играл на публику: смотрите, я попробовал быть добрым имилосердным, а что получилось?.. Так называемое «Ленинградское дело»: честные партийцы Кузнецов, Попков, Родионов вкупе с председателем Госплана Вознесенским были спешно расстреляны через час после вынесения приговора. За что?.. А за то же самое — за протаскивание идей тех же самых Троцкого, Зиновьева и Каменева. Вот они, «новые» обвиняемые по старым проверенным рецептам. Да, именно… Сталин не унимался. Стареющий «царь зверей» в кителе Генералиссимуса рвал и метал. Получив в карман подукраденную у раззяв-американцев атомную бомбу (помогли леваки-коммунисты, умиравшие от сочувствия Советскому Союзу в его святой борьбе с гитлеризмом), Сталин вконец распоясался. Ему понравилась холодная война, открытая умницей Черчиллем в его речи в Фултоне — избавившись, наконец, от ненавистных союзников, стало можно… о-о-о, теперь многое снова стало можно! Прежде всего — вернуться к былому тайному почитанию Гитлера. Пусть сожжен ковер с завернутым в него телом, пусть тлен фашистского главаря развеян и выброшен на помойку истории, я, словно вампир, не напившийся крови в достаточной мере, испытывающий жажду — еще! еще! еще! — начинаю новый виток злодеяний — в память о поверженном собрате и коллеге по черным делам. Общее сатанинство снова дает о себе знать — Сталин демонстративно выходит на гитлеровскую стезю зоологического антисемитизма. 13 января 1948 года по его личному приказанию в Минске убивают Михоэлса — не только великого «Короля Лира» еврейской сцены, но и актера-мыслителя, общественного деятеля — председателя Еврейского антифашистского комитета. Вослед этому Сталин развязывает гнусную кампанию по борьбе с космополитизмом, профанируя и великий русский патриотизм, и присущее нормальному интеллигентному человеку неприятие любой ксенофобии. Это было торжество национал-социализма на советской почве. Ягода, Ежов, Берия, Круглов, Серов, Абакумов, Кобулов, Рюмин все эти молодцы, расстреливавшие людей, сами впоследствии были расстреляны. Но над всеми их делами и злодеяниями всегда нависал один человек по имени Иосиф Сталин, самый бесчеловечный самодержец в мировой истории. В 46-м году он, Сталин, спускает с цепи своего цепного пса Жданова (гой же породы, что Геббельс при Гитлере), который, опираясь на Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», травит Зощенко, Ахматову и Хазина. 12 августа 1952 года Сталин расстреливает весь, в полном составе, Еврейский антифашистский комитет (13 чистейших, невиннейших людей), затем по этому сфабрикованному делу выносятся новые приговоры — всего 125, из них 25 смертных, и далее… Далее открывается «сионистский заговор» против врачей, так называемых «убийц в белых халатах». Снова серия арестов, снова пытки, допросы, допросы и пытки… И вдруг, когда, говорят, на столе вождя уже лежал план депортации всех евреев из Москвы в Сибирь, — гром среди ясного неба. Год 1953-й. 5 марта, в день самого шутливого, самого веселого, самого театрального еврейского праздника Пурим, с древних времен, со времен Ветхого Завета посвященного победе над антисемитизмом, Сталин умирает на своей даче в Кунцеве. И сразу же, в следующий миг (!) началось «развенчание» — по уже известному закону первобытной жизни. 27 марта (в будущем этот день будет Днем театра, а в моей биографии случайно окажется и днем рождения театра «У Никитских ворот») 1953 года, то есть всего через пару недель после ухода вождя в ад, ГУЛАГ переходит из МВД (ранее — НКВД и МГБ) под контроль Министерства юстиции и объявляется амнистия. Правда, она касается только уголовников, а не «политических», поскольку тотчас перекрасившийся в реформатора в борьбе за высшую власть Берия накануне, 24 марта, пишет в Президиум ЦК письмо, в котором неожиданно заявляет, что из двух с половиной миллионов сидящих только 221 тысяча являются на самом деле опасными для государства преступниками. «Врачей-убийц» 3 апреля (мой день рождения) реабилитируют и освобождают, признавая (впервые за годы советской власти) нарушения законности органами госбезопасности. Сталинщина слегка затрещала, поскольку Лубянка стала в который раз пожирать сама себя. 10 июля арестовали Берию, а через три дня по лагерям ГУЛАГа покатилась волна восстаний — в Норильске, Воркуте, в Кенгире (возле Караганды) эти бунты были жестоко подавлены войсками особого назначения, включая танки. Зачинщиков расстреляли по сталинскому обыкновению, но «тройки», пресловутые «тройки», месившие без суда и следствия, были вскоре отменены. Правда, Берию прикончили тоже без суда, с приговоркой «собаке — собачья смерть!». «Наследники Ста. in на», по меткому определению Евгения Евтушенко, продолжали драку меж собой — антипартийные группы, в которые они почковались, тут же разоблачались, но их судьба решалась уже погуманнее, чем при усатом вожде, — их отправляли на пенсию, хотя и не лишали пайков. Племя продолжало «игру с медведем», но теперь уже с мертвым. Скоморох в медвежьей шкуре ИЗОБРАЖАЛ зверя, но не был им самим. Тотем из разряда живого царя-хозяина переходил в знак воспоминания о царе. Былое почитание сменялось осмеянием. Этот новый обряд был непривычен. И по-своему жесток. На святках, к примеру, вместе с медвежьими играми бытовала игра в мертвеца или «умруна», как его на Руси называли. Игра в «умруна» была «игрой в царя» — очень популярной в древнее время. Ритуальные проводы на тот свет — и есть та самая игра в «умруна», в которой царя сначала убивали, потом хоронили, а потом под общий визг и песнопение обязательно воскрешали — театрализованно, костюмированно, с использованием крашеных масок и декораций. Так и со Сталиным поиграли. Сначала поклали его нашпигованный спиртами и бальзамами труп полежать в Мавзолее, рядом с таким же пустотелым Лениным, потом, после речи Хрущева на XX съезде, его оттуда вынули и закопали в 10 метрах, у Кремлевской стены. Однако умер ли наш «умрун» или воскрес, до сих пор неясно. Игры первобытного племени продолжаются. Хотя 5 марта 1953 года смерть тирана медицински зафиксирована. Нои тут есть над чем задуматься. Вообще-то инсультный удар хватает его раньше, 3 марта, — вождь одинок, к нему поначалу никто из близких, никто из охраны не подходит… боятся подходить… А он… по имеющимся достоверным свидетельствам… …Он больше суток лежит под столом в гостиной, в луже собственной мочи.
* * *
Итак, папа, мама, я и Сталин… Эти четверо — главные действующие лица пьесы, которую мне так хочется написать и поставить, да не получается. Что-то мешает. Во-первых, соавтор по имени История — она давит меня своей гениальностью и величием. Ей нет равных в умении строить ошеломительные сюжеты, проявлять характеры, сталкивать людей в неразрешимых конфликтах, громоздить события, путать карты, затем (в конечном счете) всё ставить на свои места и делать правильные выводы с гарантией новых ошибок и новых загадок бытия. История — дойная корова Литературы. Она — великий драматург, предлагающий пишущим бесконечное множество драм, комедий и трагедий, взятых из реальности, она — злой и добрый исследователь прошлой жизни в назидание будущим временам. Только и слышишь от нее: «Ничего не выдумывайте!.. Ничего не добавляйте!..» А в Театре так нельзя. Как Театру без добавлений?.. Театру нужна правда, да, но — театральная. То есть та, которая превращает жизнь в игру, подлинную, достоверную историю в факт искусства. Как это сделать? Как достичь?.. Ох, нелегкая это работа… Во-вторых, мне мешает то, что я сам вольно-невольно являюсь участником — соучастником рассказываемой истории. Тут и знаменитое театральное «отчуждение» не поможет: сделаться сценическим образом значит, пусть на время, перестать быть самим собой. Представление — оно и есть ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Какой актер сыграет моего отца?! Какая актриса — маму?! Да и я есть я, и никто на свете. Так же, как Сталин, хоть и были ранее всякие попытки его изображения, театрально явит себя на этих страницах-подмостках не столько лично, сколько в своем недосягаемом, внешне незримом виде — его присутствие пусть будет ощутимо, но не более, — пошел он к черту, короче!.. Не будет у этого персонажа никакого текста, никаких реплик, но роль его весьма значимая, поскольку зловещая. Впрочем, он сам ее, как известно, выбрал. И История ему за это воздала. Или воздаст. Начнем пьесу с пролога. Зритель войдет в полутемный зал, и что же он увидит, взглянув на сцену, пока действие еще не началось? Допустим, он увидит огромную белую стену, стоящую чуть косо от кулисы к кулисе. Почему косо? Потому что стена будет экраном, и на нем то и дело станут возникать старые фотографии из моего семейного архива и специально снятые страницы множества писем, без которых нашему документальному повествованию не обойтись. И вот, хочется, чтобы эти документы были заявлены «не в лоб», то есть иллюстративно, а чуть-чуть поэтично, будто из небытия, из чернот ушедшего времени, сегодня для нас во многом ирреального. Из стены, благодаря спецэффекту, появятся и два главных героя — папа и мама. Я как лицо реальное выйду на сцену из кулисы. А Сталин… Нет, Сталин вообще не появится в моей пьесе. Он в ней будет НЕЗРИМО присутствовать. Он будет нависать над каждым словом этой истории, над каждым движением на сцене, он будет разлит в самой атмосфере этого пространства — как злой дух, олицетворяющий божье отсутствие. Пора бы начать… А с чего?.. С тишины или с музыкального вступления?.. Лучше с тишины. Почему лучше — не знаю, не понимаю, но я так чувствую. Может быть, пьесе предпослать какой-нибудь эпиграф?.. Мама моя любила стихи и многое читала наизусть, особенно из Ахматовой…Мы ни единого удара
Не отклонили от себя…
Мне на плечи кидается век-волкодав…
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Известное известно немногим.
Часть первая Семен и Лидия
Пролог
Из полутьмы, из небытия, из далекого уже и отвратительно пыльного закулисья выплывает фигура Матери. Мама. Звал меня? (Пауза.) Что-то случилось? Я. Нет, мама. Просто хотел тебя увидеть. Я скучаю по тебе, мама.Простые слова — хорошие слова. Старайся говорить проще!
Мама. Врунишка!.. В папочку! Если бы ты действительно скучал, то… А ты не был на моей могиле… Я. Два года. Мама. Три. Я даже думаю, что ты не сразу найдешь меня на кладбище. Я. Прости. Мама. Никогда никого из вас не прощу. Кстати, а отца своего ты навещаешь? Когда с ним общался в последний раз? Я. Не ругай меня, мама. Вы по-прежнему оба со мной. Но по отдельности я не хочу к вам обращаться, а вместе… вместе как-то не происходит. Вот, может, сегодня… Мама. Что сегодня? Я. Произойдет. Мать заволновалась тенью своей, из закулисья дохнуло новым смрадом, стена зашевелилась, и на белом фоне ее отпечаталась, нет, проявилась первая фотография — они вдвоем, мать и отец, тридцать какой-то там год, она в тюбетейке, он с папиросой, молодые и счастливые молодожены всегда выглядят немножко как дураки… Я вынимаю из шкатулки (карельская береза, дорогостоящая во все времена мамина вещь) желтую бумажку, читаю официальным тоном:
«Народный комиссариат внутренних дел, СССР Отдел Актов гражданского состояния СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ № 1993 Гр. Шлиндман Семен Михайлович Гр-ка Котопулло Лидия Михайловна вступили в брак, о чем в Книге записей Актов гражданского состояния о браке 31-го мая 1931 года произведена соответствующая запись. Подписи: Он. Она. Зав. Бюро ЗАГС Делопроизводитель Печать».[1]
Мама. Я не могу… Не хочу… Я уйду. Я. (Властно.) Нет, мама! (Где-где, а в пустом пространстве я действительно имею какую-то власть.) Я хочу, чтобы сегодня вы встретились здесь. Мама. Это невозможно. Я. В театре нет ничего невозможного!
Я взмахнул рукой, и по этому мановению, может быть, из того же небытия, из той же темной бездны на свет, на всеобщее обозрение, выступает Отец мой — будто сошедший с фотографии, живой, всамделишный, ясный до умопомрачения…
Отец. Зачем тебе это?
Стена шарахнулась от него, уехала в сторону под звуки песни «Спой нам, ветер», шум и гомон физкультурного парада и чей-то жизнерадостный идиотский смех.
Я. У меня есть к вам вопросы. Отец. Сколько тебе лет, сыник? Я. За семьдесят уже. Отец. Наконец-то ты захотел что-то выяснить про себя. Я. И про вас тоже.
С этими словами я вываливаю на стол содержимое шкатулки — целую бумажную груду: десятки писем, документов, каких-то записок и записочек. Звук «падающей в колодец бадьи» (А. П. Чехов) сопроводил это действие, что-то громыхнуло там, в отдалении, в глубине шваркнуло, грюкнуло, стукнуло чем-то обо что-то, зачерпнуло со всасывающим чмоком — и бадья медленно, натужно и напряженно полезла наружу, со скрипом, с ленцой, но все-таки преодолевая собственную тяжесть, плеща излишки в разные стороны. В тот же миг все часы в мире перестали гикать, а стрелки тех, что на Спасской башне Кремля, сначала задергались, сумасшедшие, потом суетливо закрутились в обратную сторону. Я удовлетворенно крякнул и вытер пот со лба. Ведь это моим усилием время двинуло назад, и в пустом пространстве сделалось посветлей.
Отец. Что это? Мама. Мой архив. Я. Я нашел все это на другой день после маминых похорон, в августе 75-го. Я открыл эту шкатулку и ахнул: здесь лежала вся ваша переписка и — о Боже! — мои детские, 44-го — 45-го года письма отцу — якобы на фронт, но никогда никуда не отправленные! — с рисуночками пунктиром стреляющих «наших» ястребков-истребителей и объятых пламенем падающих «мессершмитов» с черной свастикой на хвостах. Надписи на рисунках прыгающими буковками призывали: «Папа, бей немца'», «Возвращайся с победой, папа!», и совсем уж по-пропагандистски — «Папочка, раздави фашистскую гадину!». Я писал, я рисовал, а мама… Мама, что ты делала, запечатав конверты?.. Отец. Мы с мамой договорились до поры до времени не говорить тебе, малолетке, что я сижу в лагере… Ты должен был верить, что твой отец — как все, воюет. Твой отец — герой. Он летчик. Он артиллерист. Он разведчик и зенитчик — всё вместе взятое. Мама. И я добросовестно складывала эти «письма на фронт», чтобы наш сыник не дай Бог подумал, не дай Бог узнал, что его папка — «враг народа». Никакой не герой. Я. Я плакал трое суток, перебирая эти и другие письма, лежавшие в открытой мною шкатулке. Я думал о родителях и о себе.
Массовый психоз имеет место там и тогда, где происходит сдвиг психологии, начиненной идеологией. Фанатики начинают произрастать как бы сами, на каждом миллиметре пространства, множась в геометрической прогрессии и в какой-то момент превращаясь в популяцию полуидиотов, стремящихся отбросить от себя приставку «полу». Общество составляют исключительно фантомные существа, забывшие, что у них природой даны мозги, чтобы мыслить, и немножко совести, чтобы отличаться от зверей. Это общество в 1937 году было приготовлено к самопожиранию. Экономика перешла в политику. Любое строительство, каждое производство стало местом БОРЬБЫ за социализм. Обработка сознания стала возможной благодаря опустошению души безбожием и имитацией культурных ценностей. Все, кто не соответствует этой имитации, из официальной культуры выбрасываются в мусоропровод истории. Теперь поиск врагов и их наказание объявляются патриотическим долгом каждого гражданина и каждой гражданки. Кремлевский хозяин начинает самую кровавую бойню в истории всех стран и народов. Это ж надо — мне выпадает такое счастье — родиться в 37-м году. Да, я родился в 37-м, том самом, 3 апреля, в городе Петропавловске-на-Камчатке, рядом с огнедышащей сопкой Ключевская. Как говорил один мой дружок: «Что можно ждать от человека, чья родина — страна вулканов и гейзеров!»
Мама. Марик родился преждевременно — 8-месячным слабым ребенком, восьмимесячные, как известно, реже выживают, чем даже семимесячные, — и это я была в том виновата: будучи в положении, я простудилась и заболела крупозным воспалением легких. Но мы с Семой были счастливы, как могут быть счастливы только молодожены, у которых всё впереди. Мальчик!.. Мальчик! 2 кило восемьсот!.. Отец — словно сам из кратера сейчас выпрыгнул — засиял, заблестел, заулыбался от собственного извержения. Отец. Вот она… Первая моя записка гебе в роддом… (Читает, продолжая сиять.) «Ликин, милая!» Я говорил с Сидорчуком насчет специальной няни. Он говорит, что это вовсе не нужно, и что это у них ни в коем случае не разрешается. Бояться малого веса не надо, так как он подгонит свой вес — так говорит Сидорчук. Нашего сына я видел, мне поднесли его к окну. Такая мурза, похож очень на меня, так, как ты хотела. Я хотел с ним поговорить, но он не слышал через закрытое окно. Лидуха, нужно дать имя нашему сыну. Я думаю назвать его Марком, Леонидом или Геннадием. Решение за тобой, нашей мамкой, которая его выносила и родила. Я жду твоего ответа. Хочу дать телеграммы нашим. Я сегодня буду здесь, еще несколько раз приду к тебе. Завтра уеду на стройку, буду 5-го утром обратно. Крепенько, крепенько целую тебя и сына. Сема — папа».
Мать слушала Семена благосклонно. На белой стене появилась ее фотография с младенцем на руках. Я. Странно, а ведь я мог быть не Марком, а Леонидом или Геннадием… Может, и жизнь у меня тогда бы вышла другая… Имя человека — что оно значит?.. Присвоенное по выбору родителей, оно становится неотделимым от тебя, с ним ты живешь не как с другом или соседом, а как с самим собой, то есть с тем сокровенным человеком, который скрыт в твоей плоти, прячется где-то внутри. И с этим, не другим по случайности приклеенным именем, — придет время — тебя положат в гроб, и сгинешь ты, и плоть твоя сгниет, а имя, может быть, имя только от тебя и останется. Мама. Сидорчук — это, догадайся, главврач роддома, что помещался в самом центре Петропавловска на улице Ленина. Когда город заваливало снегом, эта улица была единственная, по которой прорубали траншею. Вот по такой траншее я и шла тебя рожать, а уж когда домой тебя несли, было солнечно, уже гаять начало, полилось отовсюду. Я. Как вы оказались на Камчатке? — спрашиваю я, родившийся на улице Ленина. Бывает и не такое. Чехов, к примеру, родился на Полицейской улице. Мама. После окончания строительного института в Москве мы поехали туда по контракту. Надо было денег немного заработать. Отец. Да что деньги?.. Ерунда — деньги!.. Мы социализм поехали туда строить. Мама. Мы строили судоремонтный завод. Отец. Но нам казалось, что мы строим тем самым социализм. Что мы этой силы частица, от нас зависит всё — и гвоздь в сапоге, и мировая революция… Мы были на передовом фронте соцстроительства, на главном рубеже… Мы… Мама. А 3 декабря, когда нашему мальчику ровно 8 месяцев исполнилось — день в день, тютелька в тютельку, — в нашу дверь постучали… Я. Стоп! Здесь удар гонга. Здесь заканчивается Пролог. Пролог был коротким. Он и должен быть таким. Ничего лишнего. Станиславский учил определять главное событие любого отрезка драмы. Драма еще не началась, но «главное событие» в прологе уже есть — человек родился. И этот человек — я! Согласитесь, это важно. По крайней мере, для меня. Не меньше — для моих родителей. Они счастливы. Они в упоении. И это главное настроение пролога. Внешне оно совпадает с телячьим восторгом, в котором пребывала большая часть населения в 37-м году. Откуда-то издалека слышна песня Дунаевского из кинофильма «Цирк», и тотчас на белой стене маленький негритенок — символ интернационализма, — передаваемый по рядам из рук в руки. Вот его берет Михоэлс, впоследствии зверски убитый за свое еврейство. Тоже, согласитесь, символ. Мне почему-то кажется, что этот негритенок — я, а Михоэлс — символ моего папы. В подтверждение давайте используем в прологе парочку фотографий — им надлежит проявиться на белой стене. На первой из них — мой папа (слева во втором ряду) в групповом снимке среди таких же счастливых отцов, держащих на руках завернутыми в одеяльца своих деток. Все отцы — в кепи, типичном головном уборе тех лет, и рядом мамы — все трое в лихо закинутых по той же моде набекрень беретках. Моя мама у папиных ног слева, в первом ряду в светлом платьице, улыбается… Все сидят на траве, на камчатском пленэре, лето в разгаре, лето 37-го. А другая фотография — тех же дней, те же счастливые родители, но без меня. Сладкая парочка. Как на открыточке, глаза в глаза, пик любви, мама гладко причесана, с блестящей заколкой в волосах и уже в темном наряде с элегантным белым воротничком, и он, Семен, в гимнастерке, соответствующей суровому и скромному быту социалистической формации, и с пышной шевелюрой: прямо загляденье!.. Идиллия, можно восхититься и позавидовать крепости этой семьи. Но вот пролог завершен. Перемена света. Начинаем первое действие. С чего начинаем? Как и полагается, с завязки. Тотчас стена притворилась экраном, и на нем возник подлинник — несомненно от слова «подлость»… ДЕЛО № Р-3250 Я. (Читаю.)
ПРОТОКОЛ ОБЫСКА 1937 декабря 3 дня Я, ОПЕР УП 3 отд. 4 ГБ КОН НКВД Дуболазов на основании ордера выданного Камчатским обл. упр. НКВД за № 17 произвел обыск у гр. Шлиндмана Семена Михайловича, проживающего пос. Судоремонтного завода АКО по улице — дом 5 кв 2. При производстве обыска присутствовали гр. гр. Белешов Дмитрий Севостьянович Ячко Константин Дмитриевич. Согласно полученным указаниям задержаны гр. гр. Шлиндман Семен Михайлович. Изъято для представление в Камчатское обл. упр. НКВД следующее: ОПИСЬ Вещей, ценностей и документов


Жалобы на неправильности, допущенные при производстве обыска, на пропажу вещей ценностей и документов НЕ ЗАЯВЛЕНО В протокол все занесено правильно, таковой нам прочитан, в чем и расписываемся: Подпись. Представитель домоуправления: (в сельских местностях представ, сельского совета) Подпись. Производивший обыск Подпись. Дуболазов Копию протокола получил Подпись. С.Шлиндман Примечание: 1. Все претензии и заявления должны быть занесены в протокол до его подписания. После подписания никакие жалобы и заявления не принимаются 2 С запросами обращаться в Камчатское обл. упр. НКВД по адресу Красноармейская 9 Т. 1-96
Ну вот и кончилось так называемое счастье. 3 декабря 37-го. С этой отметки начинается летопись любви и разрыва, написанная в жанре этакого китча, ибо чем еще был этот социалистический реализм жизни под надзором и в страхе.
Мама. Когда Сему увели, я два часа смотрела на стену. И я сразу всё поняла. Я. Что «всё»? Мама. Что это конец. Что он оттуда не выйдет. Я. Ты с самого начала не имела надежды? Мама. Никакой. Я. Ты считала, что не удастся доказать его невиновность? Мама. Никогда. Я. Но почему?.. Ты так хорошо разбиралась в политике? Мама. Я не разбиралась. Я. Ты… Мама.
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
Мама. Сам узнай. Сам вычитай. Ты уже большой. Я. Говорила она и никогда не произносила: «Это Мандельштам» или «Это Ахматова»… Она их будто присваивала, произносила будто от себя, от своего имени. Мама.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить.
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
МВД РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОТДЕЛ СПЕЦФОНДОВ 660017, Красноярск, Ул. Дзержинского, 18 Т. 45-98-05 270606 № 1/3-2256 На № от АРХИВНАЯ СПРАВКА В материалах архивного личного дела ссыльного № Р-3250 имеются сведения о том, что ШЛИМАНД Семен Михайлович, 1905 года рождения, уроженец г. Харькова, был арестован 3.12.1937 г. в г. Петропавловске на Камчатке (так в документе) и осужден (дата не указана) по постановлению Особого Совещания при НКВД СССР по ст. 58 — 1а, 58–11 УК РСФСР к 8-ми годам лишения свободы. Освобожден из Краслага МВД Красноярского края 12. 08. 1946 г. 16. 12. 1948 г. арестован органами УМГБ по Тульской области и 16. 02 1949 г. осужден по постановлению Особого Совещания при МГБ СССР по ст. 58 — 7, 58–11 УК РСФСР за принадлежность к троцкистской организации к ссылке на поселение. Этапирован в г. Красноярск в распоряжение УМГБ по Красноярскому краю и направлен в ссылку на поселение в с. Абан Абанского района Красноярского края. В январе 1954 года переведен на поселение в г. Канск Красноярского края. Из ссылки освобожден 30.06.1954 г. за недоказанностью обвинения на основании Определения Военной коллегии Верховного Суда СССР от 26.05.1954 г. Основание: архивное личное дело № Р-3250 Заместитель начальника Т.Н. Килина Старший инспектор И.Е. ФилиппВот тут, собственно, весь сюжет. В паре абзацев. Правда, фамилия искажена, ну да кто ж на опечатки обижается… Тем более главный архивист так приветлив. — Значит, я мог не обращаться к своему другу-адвокату? — Конечно. Обратились бы напрямую к нам — результат был бы тот же. Вот оно как'.. Ты, значит, живешь, хлопаешь ушами, страдаешь, ничего не знаешь, но ищешь пути, а потом вдруг оказывается, все усилия — лишние, можно «напрямую», без всяких «ходов»… Мне даже стало жаль Бориса Кузнецова — он потратил столько времени на, выходит, бесполезную писанину, но ведь получается, что и он, такой дока в юридических вопросах, тоже не ведал о благородной яковлевской программе… Интересная все-таки у нас жизнь! Что запрещено — знаем, а что разрешено — не ведаем. Итак, личное дело № Р-3250. В первую секунду боюсь дотронуться до папок, хранящих горе и неимоверные страдания. Для начала решил просто полистать, чтобы уж потом углубиться во внимательное и, прямо скажем, ничего хорошего не сулящее чтение. Но что это?.. Многие страницы оказываются запечатанными. Помните, на почте, когда мы отправляли бандероли, их упаковывали такой плотной наждачной бумагой коричневого цвета, и еще в ней, будто в хлебной черняшке, оказывались какие-то зернышки и семечки?.. Тщательно завернутые в эту грубую плоть тайны следствия, для пущей важности пришлепленные сургучом, взывают к вопросу, и я в лоб спрашиваю главного архивиста: — Почему нельзя читать всё от корки до корки? Ответ был таков: — Это касается третьих лиц. И — точка. Ох, как интересно… Я понял сразу: там доносы. Ну, и, может быть, какие-то следы «физических воздействий» на отца. Даже сейчас, в XXI веке, нежелательно, чтобы «это» открылось. Сиди спокойно, мальчик. Смирись. Читай, что дают. И скажи спасибо, что дали. Могли б и вообще не дать. Если б не светлой памяти Александр Николаевич Яковлев.
ХАРАКТЕРИСТИКА Гр. Шлиндман Семен Михайлович в настоящее время работает в государственном строительномонтажном тресте «Камчатсгрой» в должности начальника группы планирования и организации труда. Социальное положение указывает служащий (по сообщению ею жены т. Котопулло сын торговца), образование незаконченное высшее беспартийный, в 192? г. состоял кандидатом ВКП(б), был исключен за склоку и как «переросток» из ВЛКСМ. На строительстве СРЗ имел выговор за непринятие мер по оплате премиально-прогрессивной зарплаты. В мае был отстранен от работы за развал работы, но по телеграмме Главстроя был восстановлен вновь. По личному листку Шлиндмана видно, что последний специального образования не имеет. С 1926 г по 1935 г. работал в 19 учреждениях. Анкетные данные со списком нач. состава РКАА имеют неточность, так, например: с 1924 г. по 1928 г. показано: находился во Владивостоке в Военно-технической школе, тогда как в листке указано, что работал с марта 1924 г. по февраль 1926 г. в НК РКП УССР. С 1925 г. — 1926 г. на ткацкой фабрике коммерческим агентом и только с ноября 1927 г. по октября 1928 г. был во Владивостоке в Военно-технической школе. К работе относится недобросовестно, формально, много болтает, ни одной работы в срок не выполнял, склонен к склоке, карьерист. Весьма активен в вопросах личных дел. Шлиндман требует тщательной проверки. 5/VI — 37 г. ВР.и.о. управляющего Трестом «Камчатстрой» (Кроткевич)Этот донос в виде «характеристики» был направлен главным инженером стройки Кроткевичем в органы НКВД. Облыжные слова: «склочник», «карьерист» и тот самый вывод, без которого донос не донос: «требует тщательной проверки». Надо реагировать. С 5 июня по 3 декабря уполномоченные Аглуздин и Дуболазов «тщательно проверяют» объект, затем арестовывают всех подряд — начиная с самого Крот-кевича и управляющего «Камчатстроем» Рябова, кончая прорабами и начальниками участков. Стройка обезглавлена. Стройка застопорена. «Дело» пошло. Но сначала, прежде чем дать старт марафону, необходимо было принять некое Постановление от лица НКВД, позволяющее перейти к допросам и пыткам. Уже в первой строчке этого Постановления — подлог: «рассмотрев следственное дело» — так написано черным по белому. Однако какое дело? 25 июля 1938 года, кроме ареста, протокола обыска и молниеносного приговора к «вышке» без суда и следствия (в архиве он отсутствует по уже названной причине), нет ничего. Сержант, ты там чего рассматривал?.. Папка пуста. И вот начинается ее наполнение. Пустота заполняется пустотой.
«УТВЕРЖДАЮ» вр. нач. коу нквд КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ Подпись. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1938 года июля «25» дня гор. Петропавловска на Камчатке. Я, Опер. Уполномоченный 3 Отд. УГБ КОУ НКВД Сержант Гос. безопасности___________рассмотрев следственное дело по обвинению ШЛИНДМАНА Семена Михайловича, 1905 года рождения, уроженца гор. Харькова, еврея, служащего, образование незаконченное высшее, б. кандидат ВКП(б), до ареста работавшего нач. планового отдела треста «Камчатстрой» — в преступлении предусмотренном ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР НАШЕЛ Что ШЛИНДМАН Семен Михайлович материалами следствия достаточно изобличается как участник право троцкистского заговора существовавшего на Камчатке по заданиям которого проводил к-p подрывную работу, т. е. совершил преступление предусмотренное ст. ст. 58-1 п «А», 58-7-8-11 УК РСФСР, а поэтому: ПОСТАНОВИЛ К ранее предъявленному ШЛИНДМАНУ обвинению по ст 58-7-11 УК предъявить дополнительное обвинение по ст. ст. 58-1 п «А», 58-8 УК РСФСР. Меру пресечения содержание под стражей при арестном помещении КОУ НКВД оставить в силе. Копии настоящего постановления направить Военному прокурору и 8 Отд. УГБ НКВД — для сведения. О/УПОЛ. 3 ОТД УГБ КОУ НКВД СЕРЖАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ Подпись. «СОГЛАСЕН» НАЧ. 3 ОТД угб коу НКВД СЕРЖАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ Подпись. Настоящее постановление мне объявлено ПодписьНу вот. Теперь приступаем. Начальник Планового отдела, инженер Шлиндман — отныне вы гражданин Шлиндман, — пожалуйте на допрос…
Управление Народного Комиссариата Внутренних дел по ДВК Управление Государственной Безопасности ПРОТОКОЛ ДОПРОСА К делу №____ 1938 г. июля мес. 27 дня Я, опер, уполн. 3 отд. КОУ НКВД ___________допросил в качестве обвиняемого 1. Фамилия Шлиндман 2. Имя и отчество Семен Михайлович 3. Дата рождения 1905 г. 4. Место рождения гор. Харьков 5. Местожительство поселок Судоремзавода 6. Нац. и гражд. (подданство) еврей гр-н СССР 7. Паспорт имеет 8. Род занятий начальник планового отдела треста «Камчатстрой» 9. Социальноепроисхождение из семьи торговца 10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение): а) до революции на иждивении родителей б) после революции служащий 11. Состав семьи жена Лидия Михайловна Котопулло 28 л. Живет поселок Судоремзавода, сын Марк Семенович 1 г. живет с матерью, отец Шлиндман Моисей Евсеевич на иждивении детей. 12. Образование (общее, специальное) не законченное высшее 13. Партийность (в прошлом и настоящем) в 1922 году был исключен из кандидатов КП(б)У 14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органом и за что) а) до революции не подвергался б) после революции не подвергался 15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти не имеет 16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете А-3 17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан, отрядах), когда и в качестве кого с ноября 1927 года по ноябрь 1928 года в качестве красноармейца-одногодичника. 18. Служба в белых и др к.-р. армиях (когда, в качестве кого) не служил 19. Участие 8 бандах, к.-р. организациях и восстаниях не участвовал 20. Сведения об общественно-политической деятельности член ревизионной комиссии ОСО организацииИтак, борьба началась с первого допроса. Обычно старт знаменует как бы равенство сил. Еще есть порох в пороховницах, и допрашиваемый должен с самого начала продемонстрировать свою мощь и непобедимость. Он полон желания доказать свою очевидную невиновность и горячо верит, что справедливость будет восстановлена. Вот сейчас его выслушают и — порядок. Сейчас он прямо и честно ответит на все вопросы — и дело тотчас рассыплется, обвинения окажутся клеветой, тьма исчезнет, и солнышко снова засияет. На старте дистанция не видна. Верней, она представляется короткой, ибо жертва верит в свою непогрешимость и считает арест и обыск простым недоразумением. Марафон исключен. Беговая дорожка кажется стометровкой — и если вдруг на ней обнаружатся какие-то барьеры, преодолеем всё и придем к счастливому финишу. Конечно, голод первых дней напугал. Но ведь выдержал!.. Ничего страшного! Конечно, августовская баржа с расстрелянными инженерами-ленинградцами стояла перед глазами… Но ведь действительно в стране после убийства Кирова подняли голову вредители и троцкисты, мешающие нам жить. Классовая борьба обостряется, но, как сказал товарищ Сталин, нет таких крепостей, которые мы, большевики, не могли бы взять. Да и товарищ Горький правильно недавно сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Передо мной протоколы (не стенограммы!) допросов отца за три с половиной года следствия. Написанные от руки корявыми малоразборчивыми почерками, они выдают поразительную безграмотность сержантов и лейтенантов, ведших записи. С русским языком у всех энкавэдэшников было плоховато, что поделаешь! С другой стороны, всё вроде бы по-военному четко: всегда проставлено число, время не всегда, но довольно часто отмечено, около каждого зафиксированного ответа роспись допрашиваемого. В конце каждой записи обязательна фраза: «Протокол записан с моих слов верно, лично мною прочитан, никаких замечаний нет». И — заключительное факсимиле. «Документ должон быть оформлен» — незыблемое правило бюрократии, думающей о вечном. Ибо сказано: «Социализм — это учет». Я, правда, добавил бы: «Учет того, чего нет». Но не будем подправлять классику. Тексты протоколов — злопамятные свидетельства ужасного времени, которое так хотело бы выглядеть голубым и зеленым, да не удалось. «Всё по закону» — это мечта. Когда по закону не всё или, точнее, ничего, бюрократический молох должен с особой тщательностью регистрировать «как следует», «как надо» и, наконец, «как положено». Не придерись!.. Что бы там на этих допросах ни происходило, какие бы вопли и стоны ни раздавались, это всё, как говорят евреи, «халоймес», то есть ничего не значит, важно одно — что зафиксировано в протоколе. Устная речь веса не имеет. Только то, что на бумаге и подписано. Отец это прекрасно понимал. Поэтому, наверное, так скрупулезно и дотошливо формулировал свои ответы, обычно полные, по возможности развернутые, не оставляющие сомнения в продуманности и честности. Прямо перед ним стояло с разинутой пастью чудовище, и надо было что-то постоянно «класть в пасть», сохраняя выдержку и твердость в главном — непризнании вины. Обратим внимание на числа. Арест — 3 декабря, а первый допрос аж 27 июля следующего за тридцать седьмым года. Промежуток, прямо скажем, чувствительный. Следующий протокол датирован 28 января года 39-го. Этот допрос происходил глубокой ночью. «Начат в 23 часа 40 мин.». «Закончен в 3 часа 25 минут». Долгожданная ночка!.. С июля по январь (концы месяца) Семен, видно, готовился к бою. Далее в деле — протокол допроса от 11 августа 1939 года, — как видим, следствие идет бешеными темпами. Этот документ зато самый длинный, на 14 страницах, испещренных мелким бисером. И снова перерыв до глубокой осени. Ждите! Ждем. Терпите! Терпим. И вдруг темпоритм следствия меняется. 15 октября один допрос, 16 октября другой, 17 октября третий и четвертый. Сначала с 11 утра до полтретьего, затем в тот же день с полдесятого (вечером) до 11. А далее — 19 октября (в честь, видно, светлого лицейского пушкинского дня) новый допрос — «начат в 22.30», закончен около часа ночи — «00 ч. 50 мин 20/Х 39 г.». Но и этого мало. В тот же день 20-го снова началась трогательная дружеская беседа со следователем — в 19. 35 мин. — и продлилась меньше часа — до 20 ч. 35 мин. Какое замечательное ускорение!.. Пришла пора заканчивать состряпанное дело. А чего волынить?.. Всё давным-давно ясно. Крышка! Однако с упорством, доходящим до смешного (ведь повторы без границ смешны), он, мой отец, в сущности, молодой человек 32 лет, попавший в долговременную беду, ни на йогу не сходил со своей позиции. Его били в одну точку. Он в одну точку и отвечал.
Подпись.
Вопрос: Вы изобличаетесь, как участник контрреволюционной право-троцкистской организации. Признаете себя виновным? Ответ: Нет, не признаю. Я никакого отношения к этой организации не имел. Вопрос: Вы признаете, что были исключены в 1922 году из кандидатов КП(б)У за участие в антипартийной группировке «Рабочей оппозиции»? Ответ: Нет, не признаю. Никогда в антипартийной группировке я не состоял, а в 1922 году был исключен из кандидатов КП(б)У за невыход на работу на производстве и как несовершеннолетний. Вопрос: Вы отрицаете, что ваши троцкистские взгляды сложились в 1922 году в период «рабочей оппозиции»? Ответ: Отрицаю полностью. Я троцкистских взглядов не разделял ни в 1922 году, ни позже. Вопрос: Следствию известно, что Вы имели вплоть до вашего ареста тесную связь с троцкистом Ста-невским бывшим редактором газеты «Красное знамя» в гор. Владивостоке, который возглавлял рабочую оппозицию в Харьковской комсомольской организации в 1922 году? Ответ: Станевского я знаю с 1920 года по Харьковской Комсомольской организации, где он в 1921-22 годах возглавлял группировку «Рабочей оппозиции». Имел с ним встречу в 1936 году при проезде гор. Владивостока, но связи с ним никогда не имел и о его контрреволюционной деятельности мне ничего не известно. Вопрос: Рябова Вы знаете? Ответ: Знаю Рябова с конца ноября 1935 года, как начальника строительства Судоремзавода и позже, как управляющего трестом «Камчатстрой». Вопрос: В чем выражалась ваша связь с Рябовым? Ответ: Исключительно служебная. Вопрос: Ответ: Только ли в этом выражалась ваша связь? Исключительно и только в этом. Вопрос: Следствию известно, что вы были связаны с Рябовым, как участники контрреволюционной правотроцкистской организации? Ответ: Этого никогда не было. Вопрос: Ответ: Вы Кроткевича знаете? Кроткевича знаю, как главного инженера строительства Судоремзавода и позже, как главного инженера треста «Камчатстрой». Вопрос: Вам зачитывается выдержка из показания обвиняемого Кроткевича о вашем участии в контрреволюционной право-троцкистской организации: «…Для проведения подрывной деятельности в финансово-плановой работе в организацию Рябовым был завербован бывший начальник планово-финансового отдела строительства Судо-ремзавода АКО Шлидман Семен Михайлович…». Подтверждаете показания Кроткевича? Ответ: Нет не подтверждаю ни в коей мере. Вопрос: Вам зачитывается показание обвиняемого Певзнера «…самым активным участником контрреволюционной право-троцкистской, диверсионновредительской организации был Шлиндман Семен Михайлович — начальник Планово-финансового отдела строительства Судоремзавода»… Будете ли теперь отрицать свою виновность? Ответ: Категорически отрицаю. Вопрос: Следствием установлено, что Вы будучи начальником планового отдела треста «Камчатстрой», как участник контрреволюционной право-троцкистской организации активно проводили подрывную работу, направленную на срыв строительства Судоремзавода. Прекратите Ваше запирательство и давайте правдивые показания? Ответ: Ни какой подрывной деятельности направленной на срыв строительства Судоремзавода я не проводил. Вопрос: Вам зачитывается выдержка из показания обвиняемого Кроткевича, что ваша «…контрреволюционная деятельность в основном сводилась к дезорганизации производства путем задержки и вредительского составления производственных планов, вредительского нормирования труда…». Эту часть показания Вы подтверждаете? Ответ: Нет полностью отрицаю. Вопрос: Вам зачитывается еще одна выдержка из показания Кроткевича о том, что Вы «…с контрреволюционной целью срывали премиально-прогрессивную оплату труда, тем самым саботировали стахановское движение и искусственно создавали у рабочих недовольство Советской властью и партией…». Будете ли теперь отрицать свою подрывную деятельность на строительстве Судоремзавода? Ответ: Да, отрицаю. Ни какой подрывной деятельности я в строительстве Судоремзавода не проводил. Вопрос Ваше отрицание неоспоримых фактов проведенной Вами подрывной деятельности необоснованны. Следствие требует прекратить запирательство и давать правдивые показания? Ответ: Подтверждаю, что ни какой подрывной деятельности я не вел и в контрреволюционной организации не состоял и о существовании таковой мне не известно. Протокол записан с моих слов верно мной лично прочитан в чем и расписываюсь Допросил: Опер. уполномочен 3 отд. УГБ КОУ НКВД Сержант Госбезопасности Подпись.
На допросе от 28 января: Вопрос: Материалами следствия Вы изобличаетесь как активный участник антисоветской правотроцкистской организации. Расскажите когда и кем Вы были вовлечены в эту организацию? Ответ: Участником антисоветской право-троцкистской организации я никогда не был и никто меня в эту организацию не вербовал. На допросе 11 августа 39-го года: Вопрос: Материалами следствия вы изобличаетесь в проведении вредительской работы в тресте «Камчат-строй» в частности в плановом отделе. Признаете себя виновным? Ответ: Никогда вредительством я не занимался, ни в плановом отделе, ни на какой-нибудь другой работе. Вопрос: Дайте показания следствию по существу предъявленного Вам обвинения по ст. ст. 58-1 п «а», 58-7-8 и 11 УК РСФСР? Ответ: По существу предъявленного мне обвинения по ст. ст. 58-1 п «а», 58-7-8 и 11 УК РСФСР я следствию показать ничего не могу, так как нигде, никогда и никаких преступлений предусмотренных данными статьями и пунктами я не совершал. 0 существовании право-троцкистской группировки на Судо-ремзаводе мне известно не было и участником право-троцкистской организации я никогда не был, а так же не проводил никакой вредительской деятельности. 17 октября 1939 года: Вопрос: Материалами следствия Вы изобличаетесь в том, что будучи нач. планового отдела «Камчатстрой» проводили вредительскую деятельность, направленную на срыв выполнения годового плана работ «Камчатстроя», планирования всех видов хозяйственных работ треста и стройфинплана, а так же развития стахановского движения, что подтверждается актом экспертной комиссии от октября 1939 года. Вы и теперь станете отрицать свою преступную деятельность перед следствием? Ответ: Вновь категорически повторю, что никогда никакой вредительской или иной преступной деятельностью я не занимался. Работал честно и добросовестно, в интересах стройки, для того, чтобы сделать ее рентабельной. Утверждаю, что никакая экспертиза, если она проходила компетентно и объективно правильно, по-советски, не могла установить с моей стороны какой либо вредительской или преступной деятельности, так как я таковую не проводил.Эта песенка про белого бычка продолжалась 19 октября в полуночное время с той же туповатой лексикой вопроса:
— Материалами экспертной комиссии Вы изобличаетесь в том, что будучи начальником планового отдела «Камчатстроя» умышленно проводили вредительскую работу в области нормирования, организации и оплаты рабочего труда. Вы себя в этом признаете виновным? Ответ: Нет, не признаю.И далее отец в который раз терпеливо разъясняет следователю облыжный характер обвинений на свой счет:
— Работа по нормированию вообще не входила в функцию Планового отдела. Согласно постановлению Декабрьского пленума ЦК ВКП(б) от 1935 года «О стахановском движении в промышленности и на транспорте», вопросами технологического нормирования на предприятиях должны заниматься и руководить непосредственно директор предприятия, главный инженер и руководители цехов — инженерно-технические работники Плановый отдел выполнял работу в области тех. нормирований лишь в нескольких случаях, когда на это имелись спец. распоряжения Гл. инженера. Таким образом ответственность за состояние технического нормирования «Камчатстроя» я нести никак не могу Прорабы участков и нормировщики в своей работе мне не были подотчетны. Со своей стороны, когда в 1936 году должны были вводиться новые нормы выработки и расценки, утвержденные СТО от 1 апреля 1936 года, я, видя, что никто на строительстве, в том числе и главный инженер ничего не делал для внедрения и разъяснения норм и расценок, я, в порядке личной инициативы, поместил по этому вопросу в июне-июле месяце 1936 года подробную статью в газетах «Камчатская правда» и «Стройка», сделал доклады на инженерно-техническом совещании, обще-построечно-производственном совещании, а так же разработал проект приказа и инструкции о введении новых норм и расценок, что было утверждено Нач. строительства Рябовым. Эта работа была проведена в полном соответствии с директивами вышестоящих органов по этому вопросу. За все время в 1936 году в плановом отделе были разработаны, насколько мне помнится, только нормы по распиловке леса — и, на основе единых Всесоюзных норм были составлены сводные справочные таблицы для транспорта и по монтажу металлоконструкций. Перечисленным ограничилась работа Планового отдела в области тех-нормирования в 1936 году, а в 1937-м вопросами технормирования Плановый отдел вовсе не занимался, а занимался этим производственно-технический отдел. В вопросах организации зарплаты рабочих моя работа сводилась к разработке приказов и инструкций по строительству и по введению различных, утвержденных правительством, систем оплаты труда. Так, мною немедленно по получении соответствующих приказов и инструкций из Наркомата, были составлены проекты приказов и инструкции о Порядке введения на стройке Прогрессивно-премиальной и аккордной систем оплаты труда, о порядке комплектования бригад и их работы и оплате бригадиров, так же мною было проведено ряд инструктивных совещаний с работниками участков по этим вопросам. Применение же на практике этих систем оплаты труда, так же как применение норм и прямых сдельных расценок и практический расчет заработной платы на производстве Планового отдела вовсе не касался и целиком зависел от руководителей участков и предприятий и руководителей стройки. По моей инициативе были введены в 1936 году на транспорте, лесопилке, монтаже металлоконструкций прогрессивно-премиапьная оплата труда рабочих и ряд других мероприятий… Но эта работа не входила в мои прямые обязанности, а была функцией самих прорабов.Уф!.. Похоже на обыкновенный отчет. Бедному следователю отец внушал чисто производственную проблематику, купаться в которой людям в погонах было просто неинтересно. У них ведь были совсем другие задачи. Однако хочешь не хочешь, а слушай. Записывай. Вникать необязательно, а вот ВЕСТИ ДЕЛО — твоя обязанность. А потому приходится «шуровать» во всех направлениях, прикидываться знатоком и даже выглядеть специалистом по вопросам, к государственной безопасности напрямую отношения не имеющим. И вот начинается так называемый «производственный роман» — особый литературный жанр, специфика которого в том, что служебные конфликты описываются здесь с такими подробностями и значением, что выдавливают и подчиняют личную жизнь человека, работу и только работу делают всепоглощающим смыслом существования. Если бы Хейли творил в те времена в Петропавловске, он написал бы не «Аэропорт», а «Судремзавод», представить себе сей фантазм невозможно. Гораздо реальнее в советском пространстве располагался какой-нибудь гладковский «Цемент», а рядом сигналила об энтузиазме тогдашней комсомольской стройки Вера Кетлинская своим азартным романом «Мужество»… Время 30-х — время вредителей и героев, которые с этими вредителями борются и обязательно должны их в конце концов победить. Народ делился на шпионов и население, которое этих шпионов ловит. Одни гады, другие молодцы. Хорошие против плохих. Положительные в непримиримой схватке с отрицательными. Сражение на крупной стройке или в маленьком колхозе изображалось символичной глобальной битвой — за хлеб, за металлургию, за кирпичи… В общем, за социализм. Кто не с нами, тот против нас. Индустриализация требовала запечатлеть себя в живых картинах и образах, чей монументальный вид должен был восторжествовать как великий триумф сталинской идеологемы. Всё, что противостояло великому созиданию, объявлялось вредным и вражеским. «Новаторы» косили «консерваторов», «передовики» уничтожали «отстающих», «прогресс» рвал на куски «регресс»!.. На этом историческом столкновении происходило рождение homo soveticus — нового существа эпохи сталинизма. «Лес рубят — щепки летят». Мой отец стал образцовой щепкой. Вся его безграничная искренняя преданность социализму только подливала масла в огонь, в гудении и треске которого эти самые люди-щепки быстро обугливались. Система пожирала своих сотрудников, считая их недостаточно преданными верноподданными. Малейшая ошибка или ущерб могли стать причиной неблагонадежности и привести к трагедии. Кличка «вредитель» становилась клеймом. От него ни отмыться, ни оттереться. «Вредителю» — каждому — уготованы лишь два варианта. Первый — из трех букв: ВМН. Что в переводе на русский — Высшая Мера Наказания. Второй тоже из трех букв: ЗЭК. Что означало — заключенный. И теперь остатком твоей жизни распоряжался ГУЛАГ. Однако всякое «дело» все же надо было состряпать. Каждый расстрел «усатый» требовал обосновать, чтобы мы, потомки, не могли ни к чему придраться. Чтобы и сейчас нам можно было бы впарить тогдашнюю ложь — представить голые обвинения, в которых логики и аргументации — кот наплакал, зато есть главное — «чистосердечное раскаяние» и признание каждого взятого под стражу. Если «сам признался» — значит, виновен и «суд» (приговор) над тобой будет считаться справедливым. Поэтому выбить признание и есть цель следствия — не поиск истины, не разбор «правоты — неправоты» доноса, а вот эта дорогостоящая — ценою в жизнь — строчка: «Признаю себя виновным». Достаточно!.. Теперь… — Распишись! И расписывались. Миллионы!.. И — к стенке. Всего-то вопрос «психологии». Вопрос, можно сказать, сугубо личный. А если точнее, даже интимный. Однако вопрос вопросов. Вся могучая система тоталитаризма держалась, в сущности, на двух взаимопроникающих огромных чувствах — страха и восторга, которые должны были заполнить дух и плоть каждого индивидуума, каждой человекообразной единички, превращенной в полнейшего нуля. Стоит задуматься над этим простым выбором: почему кто-то «признается», а кто-то нет. Почему один стоит насмерть, а другой ломается, предает себя и других. Конечно, пытки. Физическую боль, если она не шуточная, а дикая, беспредельная, — и это хорошо уяснили в ЧК и НКВД, — человеку не дано снести. Для этого надо быть сверхчеловеком. Выбить зубы… Выдавить глаз… Отрезать ухо… Отбить почки… Иголки под ноготь… Оторвать яйца… Обварить кипятком… Заставить съесть собственный кал… Повесить связанного за ноги вниз головой на сутки… Спустить в яму, где тебя встретит добрая сотня голодных крыс… Это всё цветочки. Ягодки другие. Например, обыкновенный голод — по-освенпимски, по-колымски. Когда зэка не кормят ничем никогда. Пока он не подохнет. Или пытки электротоком сперва слабым, затем с усилением, до состояния шока. Все эти «методы физического воздействия» призваны достичь одного — «Да, виноват, исправлюсь. Простите. Больше не буду». Последние три слова чаше всего приобретали буквальный смысл. Мой отец был, что называется, «еврейский дуб». Иначе не назовешь. Есть такая людская порода, которая наперекор любой невзгоде готова стоять и выстоять. Несомненно, такие особи встречаются в любом народе, у любой нации. И все же мне и по сей день кажется, что отцовская стойкость объясняется какой-то непознанной генетикой и химией, замешанными на тысячелетней мощи некоего древнееврейского рода. Силища ветхозаветного духа и брутальная витальность были его естеством. Это был человек со стержнем, точнее, со стволом, уходящим своей корневой системой глубоко в землю. Таких людей нелегко сдуть. Невозможно поколебать. Он и не сдался. Выстоял. И я горжусь поэтому своим отцом. Он — не признался. Несмотря ни на что. Об этом вопиет каждая страничка поганого четырехтомника. Все дело в том, что у отца моего всегда и во всем была этакая руководящая внутренним миром железобетонная установка — жить и выжить, чтобы жить. Он был полнейшей противоположностью всем хлюпикам и нытикам мира, и на этой стержневой опоре ему выпало бороться за свое существование. Конечно, его пытали и били, били и пытали по полной программе. Как и всех, кто попадал в когти сталинщины. Много позже, 16 апреля 1953 года, то есть через месяц с небольшим после смерти вождя, отец обращается с душераздирающим письмом на имя Маленкова Георгия Максимилиановича, председателя Совета Министров Союза СССР, чуя своей зэковской ноздрей, что пересмотр его дела не за горами. Там названы следующие фамилии следователей — Матвеева, Шипицына, Глотова и Григорьева — «глумившихся надо мною в течение 22-х суток непрерывного «допроса», с 31/V до 22/VI 1938 года, и продолжавших работать в 1939 г. в Камчатском ОблНКВД». Так что протоколы, хранящиеся в деле, — это лишь надводная часть айсберга. Главный массив никак не фигурирует, будучи спрятан в никому неведомой и уже, боюсь, недоступной глубине. Концы в воду! — нетленный принцип инквизиции. То, что отец называет литературным словом «глумление», надо понимать более просто — как пресловутый «метод физического воздействия» на арестованного. Если это не так, откройте дело полностью, отколупните сургучи и отделите бандерольную бумагу от страниц, где остались следы палачей и их жертв.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Обвиняемого Шлиндмана Семена Михайловича От 11 августа 1939 года Город Петропавловск Вопрос: Что входило в ваш круг обязанностей как начальника планового отдела «Камчатстрой»? Ответ: Прежде всего руководство работой отделом, участие в составлении с заказчиком проэктов титульных списков, составление стройфинпланов годовых и квартальных, составление производственных планов, составление штатных расписаний и смет административно-хозяйственных расходов, составление хозяйственной деятельности треста по балансу, разработка системы оплаты труда рабочих, — вот и все основные функции планового отдела. Вопрос: Как Вы выполняли эти обязанности за период вашей работы? Ответ: Выполнял добросовестно и честно так, как и требуется для советского работника. Вопрос: Стройфинплан у Вас был составлен или нет на 1936 год. Ответ. Стройфинплан годовой на 1936 год составлен не был. Вопрос: Почему не был составлен стройфинплан на 1936 год? Ответ: Основной причиной этого являлось отсутствие смет на строительстве, которые должна была составить проэктирующая организация, т. е. Гипроводтранс в Ленинграде, утвержденная Наркоматом Пищевой промышленности СССР. Те же сметы, которые имелись на некоторые объекты Судоремзавода, были составлены Гипроводтрансом еще в 1934 году, в нормах и ценах 1934 года. Кроме того эти сметы не учитывали всех последовавших изменений с 1934 года, в строительных и монтажных проэктах, так что они, эти сметы, не соответствовали чертежам в части объемов и состава работ, а так-же количества рабочей силы. Эти сметы составлялись в 1934 году на основе проэкта организации производства работ, Гипроводтрансом, который фактически на строительстве не осуществлялся, так как неучитывал, — как это мне известно от руководства стройки и инженерно-технических работников, в частности, Рябова, Кроткевича, Крутикова, Моисеева, Потеряхина и других, — действительных условий площадки, выявлявшихся в процессе производства работ. В силу указанных причин, имевшимися сметами нельзя было пользоваться для составления планов и этими сметами никто на строительстве не пользовался. Для составления стройфинплана нужна отчетная база, однако бухгалтерский учет на строительстве отставал на 6–8 месяцев. Титульный список строительства на 1936 год трижды изменялся: в феврале была получена телеграмма Наркома об увеличении титульного списка на 1936 год до 24 милионов рублей, развернутый же титульный список, почтой прибыл на стройку в апреле или в мае 1936 года. Окончательный титульный список на 1936 год был утвержден Наркомом пищевой промышленности СССР А.И. Микояном в декабре 1936 года, так, что и по этой причине также строифинплан не мог составляться Но программа работ на основе титульного списка была составлена и утверждена Наркомпищепромом СССР. Вопрос: Квартальный стройфинплан был составлен в 1936 году? Ответ: Квартальных стройфинпланов на 1936 год не было, посколько не было годового стройфинплана. Кроме того, стройка не получала от АКО, которому стройка до 1-го сентября 1936 года непосредственно подчинялась, квартальных контрольных цифр, на основе которых квартальный стройфинплан должен составлятся. Необходимо отметить, что АКО совершенно не руководило плановой работой на стройке Судоремзавода и я ни каких инструктивных материалов от АКО не получал за все время, хотя неоднократно и обращался туда за указаниями. Только в 1937 году, или, вернее, с ноября 1936 года, после того, как стройка перешла на подрядный способ производства работ и был организован трест «Камчатстрой», подчиненный Главстрою Нарком-пищепрома СССР, я стал получать от последнего указания и директивные материалы по плановой работе, в том числе и формы стройфинплана. Вопрос: Раз не составлялся годовой и квартальные планы, то как же Вы работали? Ответ: На участках производство работ должно было осуществляться на основе графиков, утвержденных впоследующем Наркоматом, а также развернутых производственных планов, составлявшихся плановым отделом на каждый квартал, в подекадном разрезе. Когда я приступил к работе на строительстве, т. е. с 20 ноября 1935 года, то выяснил отсутствие уточненной программы работ на 1935 год и отставания оперативно статистического учета, примерно, на 6 месяцев. Мне был выделен только один работник: техник-практик Склянский Петр Григорьевич, до этого плановой работой не занимавшийся. В первую очередь мы приступили к уточнению программы работ за 1935 год и к упорядочению оперативно статистического учета, для чего нужно было выявить выполненные за все время, от начала строительства, т. е. с 1934 года, объемы работ и оценить их в плановых ценах. Но, посколько, сметы, как указано выше в настоящем протоколе, отсутствовали, я обратился за указаниями к Главному инженеру и Начальнику строительства и было решено провести эту работу на основе укрупненных нормативов и калькуляций на отдельные конструктивные элементы и виды работ. Хотя составление таких калькуляций совершенно не являлось обязанностью плановиков, а являлось функцией Главного инженера и подчиненного ему производственно технического аппарата, мне было заявлено, что прорабы не будут заниматься этой работой и что ее должны проделать плановики. Таким образом, пришлось взять на себя проведение такой большой и сложной работы. На основе этих калькуляций и графиков работ составлялись квартальные производственные планы, на каждый объект по его конструктивным элементам и видам работ. Эти планы очень подробно составлены, — по существу заменяли для прорабов частично смету. На первый квартал 1936 года квартальные планы по всем участкам, с планами по труду и фондами заработной платы, были спущены в период с конца января до середины февраля 1936 года, исходя из титульного списка, полученного от Наркомата в январе 1936 года. В середине февраля 1936 года титульный список был вдвое увеличен, согласно решения Совета труда и обороны, и вследствии этого, пришлось заново составлять производственные планы первого квартала и эта работа была уже закончена в марте месяце 1936 года. Работа по составлению производственных планов на 2-ой квартал должна была занять еще больше времени, так как во втором квартале уже начинается полный разворот работ. Главный инженер строительства Кроткевич никакого руководства работой по составлению производственных планов не проводил, несмотря на то, что это была его обязанность. А инженерно-технических работников участков с большими трудностями удавалось привлекать хотя-бы к частичному участию в этой работе. Никогда я не получал от главного инженера строительства четких и прямых указаний для плана на предстоящий квартал, поэтому мне приходилось обращаться за этими данными уже к третьим лицам, уже к прорабам участков, что естественно задерживало и усложняло работу по составлению квартальных планов. Имелись неоднократные случаи, когда производственный план уже составлен, а в это время плановый отдел случайно узнает от третьих лиц о произшедших изменениях в объемах работ, и составе работ, из за чего приходилось вновь пересоставлять эти производственные планы, что конечно задерживало их спуск участкам на срок от 2-х недель до двух месяцев. Не было случая, чтобы главный инженер, или начальник строительства, сами по своей инициативе и своевременно, как это было их прямой обязанностью по отношению к плановому отделу, сообщали бы мне о полученых из Наркомата указаниях о порядке производства работ на тех или иных объектах, последовавших изменениях технических поэктов и рабочих чиртижей, а также об изменениях объемов работ. Об этих безобразных явлениях, безусловно тормозивших работу планового отдела, я много раз говорил начальнику строительства Рябову и главному инженеру Кроткевичу, писал им рапорта и докладные записки, имеющиеся в делах треста. Характерно, что на одной из докладных записок, касавшийся производственного плана на второй квартал по гидроучастку, в которой я резко ставил вопрос о недопустимости такого положения, когда плановый отдел не знает, что планировать, Рябов написал резолюцию: «Главному инженеру — на распоряжение», а главный инженер отписал резолюцию на имя всех прорабов о том, что необходимо информировать начальника планового отдела об указанных выше вопросах, т. е. формально-бюрократически отмахнулся от этого дела, и опять таки отослал меня к третьим лицам, вместо того, чтобы осуществлять непосредственное руководство планового отдела. Эта докладная записка хранилась у меня в папке среди других документов отобранных у меня при аресте 3 декабря 1937 года следователем Дуболазовым. Мною был выявлен разрыв в финансировании строительства на 1936 год и представлена соответствующая докладная записка начальнику строительства. Мною в начале 1936 года были разработаны инструкции и приказ о переводе на хозрасчет транспортной конторы стройки и проведенные мероприятия по ликвидации обезлички, ввидению сдельной и примеально прогрессивной оплаты труда, что дало уже в январе 1936 года резкое улучшение работы транспорта. Была разработана инструкция и приказ об упорядочении производства на лесопильном заводе стройки, введены новые нормы выработки и прогрессивно примеальная оплата труда на лесопилке, что также дало значительное улучшение работы лесопилки. На третий квартал 1936 года производственные планы были начаты разработкой еще в июне месяце 1936 года, что являлось некоторым достижением в работе планового отдела, и мы были намерены спустить планы на участки в самом начале квартала, т. е. в первой половине июля месяца. Однако эта работа затормозилась и пришлось вновь ее начинать, так как в середине июня м-ца, когда некоторые планы уже были готовы и прорабам участков были сообщены основные их показатели, от Наркомата было получено распоряжение о пересоставлении графиков работ и представлении их на утверждение в Москву. Плановый отдел переключился на участие в пересоставлении графиков и, после отправки их в Москву, в конце июля, приступил вновь к составлению производственных планов III квартала и закончил эту работу в середине августа м-ца 1936 года. На темпах производства работ, имевшее место некоторая задержка вспуска производственных планов участкам, не отражалось, так как прорабы имели графики работ, а вначале квартала, когда плановый отдел составил развернутые производственные планы, прорабы сами консунтировали плановиков в части того, какие объекты, и в каких объемах, нужно планировать. Невозможность составления стройфинплана на 1936 год подтверждена распоряжением по Главстрою Наркомпищепрома СССР изданным в декабре 1936 года об освобождении «Камчатстроя» от проставления плановых данных в балансе стройки за 1936 год. Это распоряжение Главстроя было издано на основе приказа НКПП СССР А.И Микояна, и постановления СНК СССР от декабря 1936 года о включении в новую Генеральную смету Судоремзавода, фактической стоимости строительства, сначала строительства до 1-го сентября 1936 года. Вопрос: Вы говорите, что прорабы участков не пользовались производственными планами, составляемые вами, — какие Вы принемали меры об этом, как начальник планового отдела? Ответ: Я выступал на технических и производственных совещаниях, многократно обращался к руководителям стройки Рябову и Кроткевичу, но мои резкие выступления встречали с их стороны враждебный отпор, с их стороны я чувствовал по отношению к себе недопустимый зажим. В газете «Камчатская правда» в июле м-це 1936 года мною была помещена подробная статья, под названием «новые нормы и расценки 1936 года на строительстве Судоремзавода», в которой я подробно анализировал положение на стройке и указал мероприятия, которые необходимо провести в разрезе директив партии и правительства. Такие же статьи в течении июня и июля месяцев 1936 года я поместил в газете-многотиражке нашей стройки «Стройка» и тут я подверг резкой критике недопустимое отношение инженерно-технического персонала к вопросам планирования и технического нормирования, приведя конкретный пример с заместителем Главного инженера по монтажу Коноваленко. По этому же вопросу я обращался с письменными же заявлениями и докладными записками к Рябову, а в результате, 13 июня 1936 года Рябов вызвал меня к себе в кабинет и в присутствии Кроткевича, Коноваленко, Крутикова и начальника спецчасти Голодца заявил мне, что если я посмею еще раз выступить в печате или писать докладные записки с дискредитацией руководителей стройки, то Рябов выгонит меня со стройки. Об этом безобразном факте я немедленно сообщил в партком Певзнеру и постройком Кирилову, а по прозьбе Голодца я написал об этом заявления для НКВД, которое отдал Голодцу, как начальнику спецчасти. Об этом же писал редактору газету «Стройка» Косыреву и заявлял уполномоченному НКВД Аглуздину, но ни где и не отково я реальных результатов я не получил. Не однократно просил, чтобы заслушали мой доклад на парткоме, но мне отвечали, что беспартийных партком не заслушивает, а постройком так же не ставил моего отчета. В мае месяце 1936 года я передал лично уполномоченному НКВД Аглуздину докладную записку о ненормальном положении с планированием и о бизобразиях в бухгалтерии стройки, но никаких результатов не было. Вопрос: Вы говорите обращались неоднократно к Рябову и Кроткевичу и получали от них враждебный отпор. Расскажите какой именно враждебный отпор? Ответ: Я уже указал в предыдущим ответе на один из выпадов со стороны Рябова 13 июля 1936 года. Кроме того, каждое мое выступление на собрании встречало не здоровое отношение с их стороны, причем они называли меня бузотером и сколочником. 5 марта 1937 года я был переведен Рябовым на должность руководителя плановой группы и тогда же я заявил ему, что расцениваю это как расправу со мной за мою критику и желание создать для меня условия, при которых я-бы сам отказался от работы на стройки. 9-го апреля 1937 года в газете «Камчатская правда» была помещена моя статья: «С самокритикой на Судоремонтном заводе не благополучно», в которой я указывал на тот нездоровый зажим, который был направлен против меня и, вообще, имел место на нашей стройки со стороны ее руководства, в лице Рябова. В результате, 20 апреля 1937 года я был снят с работы приказом, подписанным Кроткевичем, хотя Рябов в это время еще был управляющим трестом, для чего была использована кливитническая версия о том, что я якобы задержал регистрацию штатов на 1937 год и был назван в приказе бюрократом и саботажником. Я обратился с телеграммой к Наркому А.И. Микояну и 7 мая 1937 года была получена тилиграмма за подписью нач Главстроя Емельянова о немедленном восстановлении меня на работе. Кроме того, в день появления моей статьи в «Камчатской правде», т. е. 9 апреля 1937 года был пущен кливетнический и ложный слух о том, что я, якобы, исключался из партии и комсомола как «троцкист». По этому поводу 10 апреля 1937 года меня вызывал в редакцию «Камчатской правды» Паладимов-Пальмов и я тут-же обратился в обком партии к Орлову и в партком стройки к Певзнеру с требованием о привличении к партийной ответственности кливитников, расследование и реабилитации меня как честного Советского работника, но мне было заявлено, что они этим вопросом заниматься не будут и кливета не была опровергнута, а после моего ареста фигурировало как обвинение на следствии — Продолжайте свое показание. Ответ: В конце июля м-ца было получено постановление СНК СССР о переводе нашего строительства на подрядный способ производства работ и об организации на базе нашей стройки треста «Камчатстрой». Мне была поручена разработка всех приказов — положений, договоров и прочих документов и мероприятий по реорганизации и вся эта работа была мною закончена к первому сентября 1936 года, На ряду с этим я вновь катигорически поставил вопрос перед Рябовым, о необходимости приведения в порядок сметного дела на нашей стройки, так как от этого будет зависеть вся дальнейшая деятельность треста и в частности зависит и работа планового отдела. Я и раньше не однократно ставил вопрос о необходимости поездки в Москву с докладом о положении на строительстве. И только в августе 1936 года Рябов дал согласие на мою командировку. Была проведена полная инвентаризация всего строительства, по состоянию на 1-е сентября 1936 года, плановый отдел разработал подробную калькуляцию — ценник на все завозимые с материка стройматериалы, калькуляции на все местные материалы, а также были подвергнуты подробному анализу, имевшиеся на строительстве сметы 1934 года, и написано исчерпывающая докладная записка в НКПП СССР о положении со сметным делом, планированием и финансированием на строительстве. Исходя из титульного списка 1936 года и директивы правительства об окончании строительства Сой очереди Судоремзавода к 1-му ноября 1936 года была составлена программа работ на сентябрь-декабрь 1936 года, план потребности в стройматериалах, план финансирования на этот период времени, т. е. были составлены документы, являющиеся основной частью стройфинплана. В остальной части стройфинплан не мог быть составлен по указанным выше в настоящим протоколе причинам, к которым следует добавить и отсутствие в то время у нас на стройке самих форм стройфинплана, и инструкции НКПП СССР по его составлению Допросил опер Уп. С-т Подпись.…Обвинение зиждется на доносах. И на перекрестных «изобличениях» в процессе давления на арестованного. Они-то в условиях тоталитаризма и являются главным юридическим обоснованием для выводов следствия. Никакой адвокатуры. Сам барахтайся, сам себя защищай. Если сможешь, конечно. Отсюда приоритет лжи и клеветы как основного орудия сооружения Дела, — страна погрязла в этом месиве взаимообразных осквернений и очернений. Управляющим трестом «Камчатстрой» был Рябов, а главным инженером — Кроткевич. Эти двое явились первыми, кто нанес непоправимые удары отцу, сделав его «членом правотроцкистской организации», которую, оказывается, они сами вскормили, сами создали в Петропавловске. Несомненно, это была полнейшая чушь, озвучить которую можно было только под пытками. Так или иначе, они признали себя «вредителями» и потащили за собой многих других работников, — скоро вся стройка, как вдруг оказалось, закишела правотроцкистами и прочими врагами народа всех мастей. Любой непрофессионализм, любая накладка (а на советской отдаленной стройке их, естественно, было пруд пруди) оборачивались ПОЛИТИЧЕСКИМ преступлением, — страна с жизнерадостным лицом вступила в эпоху Большого террора, да только участники строительства конкретного судоремонтного завода даже в дурном сне не могли предполагать, что чья-нибудь лень,пьянство или просто какая-нибудь элементарная ошибка по неопытности или бесхозяйственности обернутся вселенской трагедией жизни, крушением судьбы. Вот три характерных, приобщенных к делу документа, из которых видна энергетическая напористость моего отца, сделавшая его сперва неудобным для начальства сослуживцем, а затем ненавистным коллегой. «Бузотер» и «склочник», «карьерист» и еще бог знает кто — это мой отец, чистейший идеалист и романтик!.. «Ему больше всех нужно!» — говорят о таких, как он. А он — знай себе пишет, жалуется, добивается или хочет добиться. — Не сносить тебе головы, Семен! — улыбалась мама. — Ничего, — говорил он. — У меня другая вырастет. Он ошибался. Не выросла. Однако в великих борениях может быть славен и маленький человек.
Начальнику Строительства Судоремзавода ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В палатке, в которой помещается ПФО, совершенно невозможно работать: нет пола, сама палатка пришла уже в негодное состояние, снизу подгнила, за время своей службы вся пропиталась копотью, пылью, которой приходится дышать сотрудникам. Устройство одного лишь пола (которое, кстати, тянется уже несколько месяцев), не создаст необходимых условий для работы. Я договорился с прорабом гидротехнического участка тов. [нрзб.] о том, что он выделит рабочих на вечернее время и выходной день для того, чтобы поставить и оборудовать новую палатку. Прошу Вашего разрешения на производство этих работ и распоряжения о выделении новой палатки. Нач. План. Фин. Отд. Шлиндман 21/IV-36 г.
Нач. Строительства Тов. Рябову Объявленный мне выговор в сегодняшнем приказе считаю совершенно неправильным. О непредставлении Транспортом расчета по прогрессивке на май и апрель м-цы, также как и о предыдущих задержках за январь и февраль м-цы я Вам лично докладывал неоднократно, и письменно, и устно. Лично я много раз вызывал Нач. транспорта т. Кусенко и диспетчера т. Филина, разъясняя, как составить, требовал представления и т. д. Какие еще меры я мог принять для выплаты прогрессивки, если Вы, зная об этом, сами этих мер не принимали Я же лишен права абминистративного воздействия на нач. транспорта, который мне не подчинен. Имея лишь одного квалифицированного работника, я не мог также и сам сделать за транспортников работу, да это и не входило и не может входить в мои обязанности, — каждый должен отвечать за свою работу. Я не могу согласиться с этим взысканием, которое я получаю впервые за [нрзб.] и которое на меня наложили даже без вызова меня и явилось неожиданным. Прошу снять с меня выговор. Подпись. 28/V — 36 г
Начальнику Строительства Судоремзавода Тов. Рябову В И. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Основной установкой составления плана работ по гидроучастку на ll-й квартал является Ваше указание о включении в план соответствующего объема работ по годовому графику с учетом недовыполнения плана в 1-м квартале. Однако, из проектных данных планово-производственному отделу были предоставлены прорабом гидроучастка только схематичные наброски временных эстакад по берегоукреплению и набережной (неполные). Так как план составляется по нашим элементам, то ясно, что для этого необходимы более детализированные проектные данные, тем более что смет также не имеется. Все размеры каждого элемента приходится согласовывать на месте с прорабами участков или их помощниками, причем и они нередко затрудняются дать точные ответы, объясняя это тем, что нет окончательных подсчетов, или же тем, что предполагается какое-либо изменение. Кроме того, те крупные изменения, которые проводятся по основным объектам, планово-производственному отделу не сообщаются, в результате чего приходится вторично переделывать проделанную ранее работу, как пример, привожу следующие факты: По графику было намечено — железобетонная набережная — 220 п/м, сейчас оказывается решено делать 360 п/м, а соответственно меняется и деревянная набережная. По берегоукреплению — было намечено свайного берегоукрепления — 130 п/м, теперь решено делать только 78 п/м, а соответственно изменяется и временная эстакада. По временной эстакаде для набережной было указано — 483,5 пог. метра, фактически же, для обеспечения забивки последних свай набережной, а также для соединения с косой, нужно было делать 500 п/м. Все эти изменения выявляются в результате ряда бесед с прорабом, чаще всего становятся известными планово-производственному отделу уже после составления плана. Такое положение чрезвычайно усложняет работу по составлению плана, а также отражается на сроках выполнения и качествах самого плана. Прошу Вас в дальнейшем о всяких изменениях проектно-сметных данных, а также и о других вопросах, касающихся строительства объектов по титулу, ставить в известность планово-производственный отдел, дабы иметь возможность своевременно их отражать в плане и в учете. 21/VI -36 г. Нач. План. Производ. Отд. (Шлиндман)Все было бы хорошо, если бы эти мелковатые документы светили нам из другого времени. Да. Это были будни. Но «в буднях великих строек» уже мигал зловещим своим глазом 37-й год.
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть! —
Перемена света.
Вопрос: Вы говорите неправду. На очной ставке с обвиняемым Кроткевичем 10 октября 1938 года Кроткевич изобличил Вас в принадлежности к троцкистской организации. Предлагаем Вам не запираться, а правдиво рассказать о своей антисоветской работе? Ответ Антисоветской деятельностью я никогда не занимался Кроткевич дал на меня ложные показания.И далее отец, подробно говоря о безобразиях, творимых на стройке, характеризует свои служебные отношения с главным инженером как «исключительно плохие». Однако тут же следует…
Вопрос: Вы напрасно стараетесь свою вину прикрыть плохими взаимоотношениями с Кроткевичем. Вы так же, как и Кроткевич проводили подрывную работу… вам предъявляется показание обвиняемого Кроткевича от 7 июня 1938 года, где сказано: «Шлиндман на строительстве судоремонтного завода являлся активным участником заговора. Его контрреволюционная деятельность сводилась к дезорганизации производства путем задержки и вредительского составления производственных планов, вредительского нормирования труда. С контрреволюционной целью срывал премиальнопрогрессивную оплату труда, тем самым саботировал стахановское движение и искусственно создавал у рабочих недовольство к Советской власти и к партии»… А теперь что Вы скажете? Ответ. Ни в каком заговоре не участвовал и о его существовании я не знал и контрреволюционной деятельностью не занимался… показания Кроткевича о том, что я срывал премиально-прогрессивную оплату труда являются ложными Лично мною впервые премиально-прогрессивная оплата труда была по моей инициативе введена с января 1936 года на транспорте стройки, а затем, когда было получено решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 года и приказ Наркомпище-прома от июня 1936 года, то я разработал проект приказа и положение о введении премиально-прогрессивной оплаты труда передал управ-ляющему Рябову, главному инженеру Кроткевичу. Приказ подписан, положение было утверждено и ответственность за его выполнение лежала непосредственно на прорабах участков и главном инженере, а проверка правильности расчетов по начислению премиально-прогрессивной оплаты труда, которое (начисление) проводилось на участках лежало на главной бухгалтерии стройки.Может показаться, что в этом месте протокола от 28 января 1939 года Иван, как говорится, кивает на Петра, но примем во внимание, что отказывающийся от признания своей вины отец к этому времени уже получил НА ОЧНОЙ СТАВКЕ (стенограмма ее в деле отсутствует или запечатана) с Кроткевичем «изобличения», от которых, естественно, ему, моему отцу, надо было как-то отбиться. Кроткевич же, как, кстати, и арестованный тоже Рябов, свои позиции сдал. У отца не было другого выхода — его валили, и он валил, но он, заметьте, валил в ответ, после того, как получал от коллег «показания», — такова страшная правда и логика в некрополе 37-го года. Тем более что удары от Рябова и Кроткевича были не единственными… На том же допросе возникли фамилии еще трех папиных сослуживцев: заместителя главного инженера — Коноваленко, начальника производственного отдела Крутикова и главного бухгалтера Митенева… В общем, повязали всех, всю верхушку. И теперь шили дело ОРГАНИЗАЦИИ. Ну правильно. А кем же еще они были, эти ставшие камчадалами люди, приехавшие сюда, на Дальний Восток, работать да и подзаработать чуток.
Вопрос: Вам предъявляется показание обвиняемого Крутикова от 22 августа 1937 года, где сказано: «Шлинд-ман в 1935–1936 гг. во время всей своей работы ни одного плана, ни по одному участку не дал, планы спускались на участки после окончания планируемого квартала или месяца. Строительство велось с самого начала без стройфинплана. Вредительская деятельность Шлиндмана лишила возможности правильно учитывать ход строительства и срывала ход строительства. Наркомату систематически давались Шлиндманом неточные сведения о ходе строительства…» Эти факты имели место в Вашей работе? Ответ Никогда вредительством я не занимался. Задержки спуска оформленных планов имели место, такие задержки были до месяца, а иногда и до полутора месяца в течение планируемого квартала, а не после его окончания, но это производство работ на строительстве не тормозило, так как участки имели утвержденные графики работ по каждому объекту. Задержка планов происходила, в первую очередь, из-за отсутствия смет на строительство, что от меня не зависело, и вследствие того, что управляющий трестом Рябов и главный инженер Кроткевич своевременно не давали Плановому отделу производственных заданий, а дав такие задания, меняли их в процессе составления плана, не сообщая мне об этом, не было учетной базы, так как бухгалтерия отставала на 7–8 месяцев. Все это тормозило составление планов. В отношении представления отчетности в Наркомат показания Крутикова ложные. Отчетность в Наркомат, представляемая мною была исключительно правильной и честно отображала состояние строительства. Отчетность показывала громадное удорожание строительства и значительное недовыполнение программы работ на стройке.Этот отрывок свидетельствует, что дела на стройке велись, действительно, не лучшим образом. Рябов и Кроткевич, видимо, не справлялись со всеми проблемами в должной мере, но мы-то знаем, что любая стройка в нашей стране и по сей день нередко является средоточием бесхозяйственности под названием «бардак». Советский «бардак» царил везде и всюду и в сталинские, и в после-сталинские времена. Навести порядок в «бардаке» можно было, лишь отказавшись от губительных для любого живого дела принципов социалистического строительства, как то: отсутствие личной заинтересованности и плановое хозяйство. Все планы срывались из-за недополучения вовремя сырья, материалов, чертежей, приказов и прочих необходимостей, зато воровство, прогулы и неумение забить гвоздь были явлением повсеместным. Поэтому спасти дело могли лишь казарменные методы создания трудовых армий на трудовом фронте. Великая понтяра — «стахановское движение» — в сочетании с палочной дисциплиной — вот где, казалось, спасение. Все большие стройки осуществлялись рабским трудом заключенных, которым не давали в руки знамя социализма, но которых сделали опорой в нашем общем развитии и стремлении к царству свободы и счастья. Стройки поменьше — вроде судоремзавода — осуществлялись примерно по тем же лекалам без пяти минут заключенными, но по сути такими же рабами. Обесценить личность, свести ее жизнедеятельность к выполнению заданий, приказов и инструкций, сделать всех нулями — вот цель государства как аппарата насилия. Товарищ Сталин продумал этот экономичный способ достижения успехов и побед. Поздний лозунг Брежнева «Экономика должна быть экономной» вождь в свое время понимал буквально. Однако отмеченное обвиняемым Шлиндманом «удорожание» как раз типичный результат этой буквальности — нельзя делать что-то одновременно дешево и хорошо. И тут выясняется, что «что-то» не получается. Поначалу паника — срыв пятилетки, снижение темпов индустриализации, отставание от мировых уровней… Это все чревато… Поиск выхода тотчас заменяется поиском «вредителей». Озлобленному, беспомощному в труде государству-бюрократу из-за каждой кочки мерещатся те, из-за которых надвигается катастрофа. Назовем их «троцкистами» и призовем к ответу. Но не поодиночке, а скопом. В преступную «организацию» вступили миллионы. И мы их выведем на чистую воду!.. Инструментарий — в полной боевой готовности с октября 1917-го. Ягоду сменяет Ежов, Ежова Берия — какой прогресс!.. Большой террор, таким образом, становился во главу угла политики и экономики, узловым моментом самосохранения вождя у неограниченной власти, пронизывающим все сферы жизни бесовским средством глобальной энтропии. Система на всех парах несла обществу смерть.
Из разных допросов отца: Вопрос Станевского Вы знаете? Ответ: Да, знаю. Вопрос: Что Вы о нем знаете? Ответ: О Станевском я знаю следующее: в 1920-м году Станевский работал в г. Харькове на комсомольской работе секретарем горрайкома и был членом горкома и Харьковского губкома комсомола, примыкал к «рабочей оппозиции», бывшей в 1921-22 годах в комсомольской организации гор. Харькова, был одним из ее вожаков. Вопрос. Кто такой Шефтель? Ответ: Шефтель мне известен как заместитель начальника Главстроя Наркомпищепрома СССР. Вопрос: Когда Вы с Шефтелем познакомились впервые? Ответ: Впервые я с Шефтелем познакомился в ноябре месяце 1936 года в Москве в Главстрое Наркомпищепрома СССР, куда я приезжал с Камчатки в командировку по делам строительства. Вопрос: Со Станевским Вы поддерживали связь? Ответ: Нет. Вопрос: Где сейчас находится Станевский? Ответ: До моего ареста Станевский работал ответственным редактором газеты «Красное знамя» в гор. Владивостоке, впоследствии, в августе 1937 года я слышал, что Станевский арестован Вопрос: Как часто Вы встречались с Шефтелем и где эти встречи происходили9 Вопрос: Моисеева Ивана и Дворцова Алексея Вы знаете? Ответ: Шефтеля я видел неоднократно в г. Москве во время пребывания моего в командировке, то есть с 9 ноября 1936 года до 15 января 1937 года исключительно в стенах Главстроя Наркомпищепрома СССР в кабинете нач. Главстроя Емельянова Аркадия Григорьевича, где работал Шефтель… Моисеева Ивана и Дворцова Алексея я знаю по совместной работе в тресте «Камчатстрой». Вопрос: А Горбей Василия и Федосеева Александра Вы знаете? Ответ: Да. А с Шефтелем я встретился во Владивостоке в августе 1937 года, куда выезжал по телеграфному распоряжению Емельянова из Москвы и приказу тогдашнего Управляющего треста «Камчатстрой» Быкова Н.Н для доклада Шефтелю о положении в тресте «Камчатстрой» с отчетными и плановыми документами. Вопрос: Со Станевским На Дальнем востоке Вы встречались со Станевским? Ответ- Да, Горбея и Федосеева я знаю по совместной с ними работе в тресте «Камчатстрой». Вопрос: Находились ли Вы с вышестоящими лицами в неприязненных отношениях? Ответ: Письмо на имя б. Управляющего трестом Быкова было продиктовано лично Шефтелем стенографистке, которая затем представила Шефтелю расшифровку стенограммы письма, написанную ею от руки, так как эта стенографистка не умела сама печатать на пишущей машинке Вопрос: Продолжайте свое показание. Станевский. Ответ: Да, встречался. Вопрос: Когда? Ответ: В октябре 1936 года я ехал в командировку в г. Москву и будучи в г. Владивостоке… Вопрос: Горбей Василий… Федосеев Александр… Моисеев Иван… Дворцов Алексей… Ответ: Из всех перечисленных 4-х лиц я с ними ни с кем в неприязненных взаимоотношениях не находился. Находился с ними в хороших деловых и служебных отношениях. Вопрос: Шефтель. Станевский. Ответ: Будучи во Владивостоке зашел к Станевскому в редакцию, побыл у него около получаса, повспоминали Харьков, я ушел и больше к Станевскому я не заходил и с ним никогда не встречался. Вопрос: Свидетели Моисеев, Дворцов, Федосеев и Горбей в своих показаниях утверждают о том, что Вы будучи нач. планового отдела «Камчатстрой» проводили преступную работу, направленную на развал… Ответ: Шефтель после того, как он окончательно исправил и отредактировал письмо, передал мне черновик и предложил переписать его начисто для Быкова, что мной и было сделано. После чего Шефтель подписал письмо, эта переписка мною письма Шефтеля была вызвана только тем, что негде было его перепечатать на машинке, а я должен был выехать 17 августа 37 г. на пароходе «Ильич» обратно в Петропавловск и вручить письмо Быкову. Вопрос: Рябову. Ответ: Быкову, Вопрос: Рябову Ответ: Ну, Рябову. Уже Рябову, да. Быкова уже арестовали. Изложение может подтвердить зам нач. планового отдела Главстроя НК Пищепрома СССР Шереметьев Давид Касьянович. Вопрос: Шереметьев. А почему Давид? Вопрос: А почему Касьянович? Ответ:…который в то время находился вместе с Шефтелем в командировке во Владивостоке. Вопрос:…направленную на развал планового хозяйства треста, социалистической организации труда. Одновременно Вы проводили преступную деятельность в области премиально-прогрессивной оплаты труда рабочих. Подтверждаете ли Вы показания свидетелей? Ответ: Показания свидетелей Моисеева, Дворцова, и Горбей я не подтверждаю, потому что ни в одной из указанных областей работы мною ничего вредительского или преступного вообще не было. Не совершал. Действовал исключительно в рамках установленных Сов. законодательством и директив органов. Пауза. Вопрос: А кто Ваши родители?
А у меня другие вопросы: как он спал?., что он ел?., о чем думал, сидя на нарах, как король на именинах? Конечно, о Лиде, о Марике — в первую очередь. Как они?.. Что с ними?.. И даже — где они? Испить чашу горя до дна еще предстоит, он разве только пригубил… Мама. Марика я отослала в Москву, от греха подальше… Хотя что я говорю?.. Какого греха? Ходить на работу и иметь грудного ребенка не было возможности, отпуск по беременности кончился, и я вызвала на помощь в Петропавловск маму из Москвы.
На белой стене — фотография моей героической бабушки.
Я. Бабушка тотчас приехала. Правда, какой, к черту, «тотчас»?! Она — чух-чух-чух — добралась на поезде до Владивостока, потом на курсирующем пароходе «Ильич» до Петропавловска — всего две недели радостного путешествия к сидящей на бобах дочке, забрала внучека в охапку и двинулась в обратный путь. Мама. После чего я вышла на работу, продлив контракт. Я. Зачем ты продлила контракт? Мама. Из-за Семы. Я. Ты же не верила, что он скоро выйдет. Мама. Пусть не скоро, — думала я. — Но я все равно должна буду его встретить. Я. Вот такая у меня мама. Пенелопа советской эпохи. Мама.
Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай,
Над нами — сумрак неминучий
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
И вдруг стало светло на сцене. Но — ненадолго. Допросы, допросы, допросы… Их похожесть друг на друга обманчива. Следователи с занудством, достойным лучшего применения, задают одни и те же вопросы с целью расколоть обвиняемого, который, в свою очередь, твердит свое. Взять измором означает полнейшую тавтологию давления, когда из раза в раз повторяемые обвинения призваны для того, чтобы усыпить бдительность допрашиваемого, поймав его на какой-то мелочи, якобы привносящей новшество в следствие. Вас надо убаюкать многократно прозвучавшими формулировками, с тем чтобы вы перестали реагировать на них, а это первый шаг к дальнейшему вашему кивку. Признание как бы подкрадывается к вам, делается логичным результатом со всеми вытекающими… Так что похожесть вопросов и ответов есть игра в кошки-мышки. Ваша слабина откроется в тот самый момент, когда кружение слов прервется рано или поздно чем-то возникшим по ходу злополучных бесед, и это случайно вырвавшееся или просто непродуманное станет вдруг новым аргументом против вас… А вы и не заметили, как подставили себя!.. Вы, проявив маленькую слабохарактерность, уже заступили за черту своей невиновности, и вот вы уже в ловушке. Вы в когтях зверя. И тут открывается, что у вас есть… сообщники. Кто?.. Да, это ваши бывшие сослуживцы, с которыми только что вы дружески общались, ходили друг к другу в гости, пили чай, иногда водочку, а на праздники выходили общей колонной демонстрантов… Первое чувство — не может этого быть!.. Невозможно поверить!.. Дорогие коллеги вдруг оказываются вместе с вами в одной тонущей лодке. И самое жуткое и удивительное это то, что вместо общего усилия по спасению судна все начинают драку, стараясь потопить друг друга — безжалостно и злобно. Всем кажется, что они спасутся. Только так!.. Другого выхода нет!.. Топи товарища, и выйдешь на берег сухим — это заблуждение находит своих носителей очень быстро. И тогда слова «Вы изобличаетесь» становятся самым смертоносным штампом, на который вам надо как-то реагировать.
Вопрос: Вы достаточно изобличаетесь в принадлежности к антисоветской правотроцкистской организации показаниями обвиняемых — участников этой же организации Крутикова Виталия, Кириллова Анатолия, Чайковского Исера, Коноваленко Михаила, Кроткевича Георгия и Митенева Петра. Что Вы скажете на это? Ответ: Показания данных лиц о моей причастности к антисоветской право-троцкистской организации являются от начала и до конца ложными и клеветническими. Еще раз повторяю следствию, что членом право-троцкистской организации я никогда не был и о ее существовании мне известно не было, а также не было мне известно и о принадлежности вышеупомянутых яиц к право-троцкистской организации. Вопрос: В своих показаниях обвиняемые Крутиков, Кириллов, Чайковский, Коноваленко, Кроткевич и Митенев на только признали свое участие в правотроцкистской организации, но они изобличают в этом и Вас. Утверждают, что Вы, будучи участником право-троцкистской организации проводили в интересах последней вредительскую деятельность в системе планового отдела треста «Камчатстрой». Будете ли Вы отрицать и теперь свою преступную деятельность? Ответ: Как я уже показал выше, что показания обвиняемых Крутикова, Кириллова, Чайковского, Коноваленко, Кроткевича и Митенева являются ложными от начала и до конца и я их отрицаю категорически. Еще раз заявляю следствию, что в право-троцкистской деятельности я себя виновным не признаю, не признаю также себя виновным и во вредительстве, лишь потому, что я ею не занимался. Работа планового отдела треста «Камчатстрой» базировалась исключительно на директивах вышестоящих органов об осуществлении капитального строительства вообще и в частности касавшихся непосредственно проводимых Камчатстроем строек.Кто кого?.. К изнурительной, а точнее, к изнуряющей тупости вопросов еще как-то удалось привыкнуть, но как прибрать свою энергетику жалоб и так называемых «дополнительных показаний» — из отца хлещет едва скрываемое негодование на своих доносителей и клеветников, но нигде не видно в их адрес каких-либо оскорблений и брани. Поэтому поведение на допросах при всех их однообразиях и кажущейся волоките есть высший пик напряжения — духовного и физического для людей, попавших в клетку и пытающихся во что бы то ни стало из нее выкарабкаться. Как в шахматной игре, вы обязаны молниеносно просчитывать варианты, дающие вам выигрыш или проигрыш, и делать комбинации, ведущие к победе, с железной последовательностью гнуть свою линию, несмотря ни на что. Отец выстроил свою самооборону сам, без чьей-либо помощи. Все арестованные были в одинаковом положении — на границе с гибелью. Но выстояли не все. Обычно говорят: нельзя никого осуждать. «Они столько пережили». Мы, мол, не можем упрекать жертву, поскольку она — жертва. Это правильно. Этика для всех одна, и горе равновелико. И все же следует отметить особо — несдавшихся. Ваш подвиг в одном — в непризнании вины, которая обрушилась на вашу голову. Даже в полуобморочном состоянии, в «бессознанке» и в предсмертном бреду — вы говорили одно и то же, одно и то же, одно и то же: — Нет… Не признаю… Не виновен…
Я. Тебя били там? Отец. Бывало. Я. Ты терпел?.. Больно было? Отец. Случалось. Я. Ты немногословен. Расскажи поподробней. Отец. А чего рассказывать?.. Это неинтересно. Я. Мне все интересно. Подробности. Отец. Подробности?., вот они, подробности… (Показывает вставные зубы.) Я. Еще? Отец. Что еще? Я. Куда били. Чем били. Ногами?.. Предметами? Отец. И ногами, и предметами. Я. По почкам? По печени? Отец. И по селезенке. Селезенку мне отбили хорошо. Я. Кто?.. Кто именно? Кто бил конкретно? Отец. Да все. Я. Кто все? Отец. Да все, кто допрашивал. Я. И Дуболазов? Отец. Дуболазов первым делом. Он же меня захомутал, он же потом меня и вел. Я. Вел — значит, бил? Отец. Всех били. А что я — лучше всех? Я. Так-то так. И все же… Дуболазов. Эй! Дуболазов!
Тотчас из белой стены к нам выступил еще один потерянный во времени человек — следователь с выразительной фамилией Дуболазов. Ну-ка, представим себе, на кого он похож… Почему-то он видится один к одному с героями фильмов Леши Германа — скуластые мордатые мужики, от одного взгляда которых можно было похолодеть.
Отец. Не, не. Дуболазов был хороший человек. Я. Как хороший? Чем хороший? Отец. Ну, во-первых, он не дал мне из окна выброситься. На подоконнике нокаутом меня перехватил. Во время допроса я вспрыгнул, хотел с четвертого этажа сигануть. Пан или пропал. Они окно открытым держали. Я. По неразумению? Отец. Почему?.. По разумению как раз. Они провоцировали открытым окном прыжки. Некоторые пользовались якобы потерей бдительности и… туда, вниз головой. А им что?.. Их пожурят, зато работы меньше. А Дуболазов меня спас. Хотя и бил. Хорошо бил. Хотя и спас. Он вообще честный был. Застрелился потом. Я. Когда потом? Отец. Когда Берия на место Ежова пришел. В тот момент некоторые честные из них застрелились. А других застрелили. Не повезло которым.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Обвиняемого ШЛИНДМАНА Семена Михайловича От 20 октября 1939 года г. Петропавловск. Допрос начат в 19 ч. 35 м. Вопрос: Вы Андреева Александра Николаевича знаете? Ответ: Да, Андреева Александра Николаевича я знаю, примерно с ноября месяца 1935 года, как секретаря парткома строительства, до мая месяца 1936 года Вопрос: Что Вы можете показать о преступной деятельности Андреева? Ответ: Преступная деятельность Андреева мне неизвестна. Вопрос: Вам Андреев известен как член право-троцкистской организации? Ответ: Нет, не известен, так же, как не известна и вся право-троцкистская организация. Вопрос: В своих показаниях обвиняемый Андреев утверждает о том, что Вы являетесь участником правотроцкистской организации, в интересах которой проводили вредительскую работу в области планирования строительства. Виновным себя в этом признаете? Ответ: Нет, не признаю. Показания Андреева являются ложными. Вопрос: Вам приводится выписка из показаний обвиняемого Андреева от 4 сентября 1937 года, который говорит: «Шлиндман, как участник правотроцкистской организации проводил подрывную вредительскую работу в планировании строительства, путем систематической задержки производственных планов участков строительства, создавая этим невозможность строить графики работ на участках, невозможность правильно использовать рабочую силу, следить за выполнением плановых норм ростом производительности труда, невозможность развития стахановского движения». Достаточно Вам приведенных фактов для того, чтобы Вы признали в этом свою преступную деятельность? Ответ: Своей преступной деятельности я признать не могу и никогда не признаю, потому что я таковой деятельностью не занимался Вновь категорически повторю, что я в право-троцкистской организации никогда не состоял и о ее существовании абсолютно ничего не знал. Относительно моей работы по планированию в тот период времени, когда Андреев работал на стройке обстояло так: производственный план на первый квартал был составлен мною и работником планового отдела Склянским и спущен участкам в январе 1936 года, раньше нельзя было его составить, так как не было еще титульного списка на 1936 год. 11 февраля 1936 года была получена телеграмма от Наркома А.И Микояна об увеличении программы работ на 1936 год вдвое и нарком требовал немедленно составить годовые графики работ по объектам и выслать их в Москву на утверждение. Эти графики были составлены и отосланы в Москву. Был получен новый развернутый титульный список, утвержденный Наркомом и в связи с этим пришлось пересоставлять план первого квартала и эту работу можно было закончить лишь в марте месяце. Этот план первого квартала значительно был производственниками недовыполнен и на второй квартал перешли работы, предусмотренные планом первого квартала, который на участках имелся. А в это время уже составлялся план второго квартала, который был спущен на участки, как мне помнится в течение апреля или в начале мая месяца 1936 года. Таким образом не было такого положения, чтобы они не знали, что строить. Допрос окончен в 20 ч. 30 м. Записано в протоколе допроса с моих слов все верно и мной прочитан. Подпись. Вставлен, слову «план» — верить. Подпись.Мама. Господи, когда ж это кончится?! Я. А ведь еще ничего не началось.
Борения отца к концу 39-го года сделались до отвращения однообразными. Следователи талдычили одно и то же. Приходилось отвечать теми же словами. Следствие явно уткнулось в стену. Подследственный без устали пытался ее пробить с другой стороны. Три года заточения, в котором каждодневно непрерывно бьется дух человечий с чертовщиной, с музыкой на одной ноте… Если белое называть черным, то на пятый раз возникнут сомнения, на пятнадцатый покажется, что так оно и есть, а на сороковой придет убеждение, что черное было черным всегда. Как не поддаться… Ведь на тебя катится девятый вал… Как не согласиться с тем, что тебе навязывают со всех сторон, как не устать от препирательств с нечистой силой, которая жмет и дожимает всех вокруг. Приходилось бороться не только с режимом, но и с самим собой. Тебе НЕ НАДОЕЛО?.. Тебе не стало СКУЧНО себя защищать?.. Посоветоваться не с кем. Поделиться не с кем. Поплакаться некому — переписка с женой и близкими запрещена. Один.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ обв. ШЛИНДМАН Семена Михайловича От 26-го октября 1939 г. Ознакомившись с материалами дела в порядке ст. 206 УПК РСФСР, в дополнение к ранее данным мною показаниям показываю следующее: Обвиняемый Андреев А.Н., в своих показаниях от 4/IX. 1937 г., на вопрос следствия, откуда ему известно о членах контр-революционной организации, отвечает: «Кроткевич, Макаров, Крутиков, Митенев, Шлиндман известны мне как близкие, давно вместе с Рябовым работающие люди, соответствующим образом им обработанные и расставленные по решающим участкам строительства, на которых они полностью проводили к.-р. вредительские задания Рябова». Эти показания Андреева являются в отношении меня ложными, так как Рябова, как и всех других перечисленных лиц, я впервые увидел только по проезде на Камчатку, т. е. в средине ноября м-ца 1935 года. Андреев работал при мне на строительстве только до апреля или мая м-ца 1936 г., т. е. четыре-пять месяцев. На работу принимал меня не Рябов, а Финогенов Н И, работавший тогда в качестве зам. Главного инженера стр-ва СРЗ по представительству в Москве, и Емельянов А.Г. — нач. план. — финанс. отдела строительства. Это могут подтвердить: Финогенов Н.И. — главный инженер треста «Камчатстрой», Склянский П.Г. — зам. нач планового отдела «Камчатстроя» и Ьужко Виктор, техник-нормировщик «Камчатстроя», с которым я вместе приехал на стройку. Кроме тогб| прошу приложить справку отдела кадров «Камчатстроя» о дате приступа моего к работе на стр-ве и справку Парткома «Кам-чатстооя» о том, до какого времени Андреев работал на стройке, а также письмо Емельянова А.Г. от 4, 5 или 7-го октября 1935 г., которое должно храниться в делах Управления или Спецчасти «Камчатстроя». В протоколе допроса Кроткевича Г.Л. от 1/11. 1937 г (л.д. 57а) на вопрос следствия: «Назовите известных Вам членов контр-революционной право-троцкистской вредительской организации», записан ответ: «Шлинд-ман Исер Иосифович — бывший начальник отдела технического снабжения строительства СРЗ». О ком здесь идет речь неясно, все перепутано, фамилия указана моя, а имя и отчество и должность Чайковского. На вопрос: «Откуда Вам это известно?» записан ответ: «О Рябове мне известно потому, что он сам вовлек меня в к.-р. право-троцкистскую вредительскую организацию. О других названных мною лицах мне известно по подрывной к.-р. вредительской работе на стр-ве Судоремонтного завода, проводимой под руководством Рябова и моим, о котором я дам развернутое показание, а сейчас допрос прошу прервать до следующего дня». — Следующий протокол допроса Кроткевича имеется в деле от 7-го июня 1938 г. (л.д. 57), но в нем не говорится ничего о том, где, когда и кем я был, якобы, вовлечен в к.-р. организацию Выдержка из показаний Кроткевича, приведенная мне в протоколе допроса от 27/VII. 1938 года о том, что меня в контр-революционную организацию, якобы, завербовал Рябов, не подтверждается предыдущими протоколами показаний Кроткевича от 1/11. 1938 г., имеющимися в деле. В протоколе очной ставки с Кроткевичем от 10/Х 1938 г. указано, что ему стало известно о моем участии в к.-р. организации в начале 1936 года со слов Рябова и Крутикова. Получается, что я, приехав на стройку в конце 1935 года, уже в начале 1936 г., т. е. через один-два месяца был завербован, совершенно неизвестными мне до этого людьми, в контрреволюционную вредительскую организацию, хотя до этого в Москве, на работе в Главстрое НКПП СССР, я всегда считался честным и преданным Советской власти и партии работником, общественностью Наркомата оценивался как ударник и активист. О моей работе в Наркомпищепроме СССР может подтвердить Финогенов Н.И., которого прошу вызвать свидетелем на судебное заседание. В подлиннике протокола очной ставки от 10/Х. 38 г., который в деле отсутствует, записаны показания Кроткевича о том, что якобы, во время пребывания моего и Кроткевича в командировке в Москве, в конце 1936 года в московскую контору АКО зашли какие-то неизвестные два члена партии и заявили, что «Шлиндман был в 1922 году исключен из КП(б)У и комсомола за участие в «рабочей оппозиции». Кроткевич, якобы, узнав об этом, не считал возможным держать на работе в тресте бывшего оппозиционера, скрывшего это, и хотел меня уволить. Эти показания почему-то не приведены в копии протокола очной ставки от 10/Х. 1938 г., вложенной в дело (л.д. 73), но они показывают явное противоречие и лживость показаний Кроткевича: с одной стороны, он еще в начале 1936 г. узнал, якобы, о моем участии в к.-р. право-троцкистской организации и даже имел со мною «организационную связь» по совместной вредительской деятельности, а с другой стороны, он в конце 1936 г. узнает, что я был, якобы, троцкистом и, естественно, хочет меня уволить. Подлинник протокола очной ставки от 10/Х. 38 г. прошу приложить к делу. Отсутствие в материалах дела каких-либо указаний о том, где, когда, при каких обстоятельствах происходила, якобы, вербовка меня в к.-р. организацию, лишает меня возможности опровергнуть с чисто-формальной стороны такой «факт», установить, так сказать, свое «алиби», но и отсутствие таких указаний, само по себе, говорит о выдуманности и ложности показаний о вовлечении меня в к.-р. организацию. Кроткевич ссылается на слова Рябова, но показаний последнего в деле не имеется. Откуда же известно Крутикову, Кириллову, Коноваленко, Чайковскому и Митеневу о моем участии в контр-революционной организации, они в своих показаниях не отвечают. В показаниях Крутикова и Кириллова, в подтверждение моего участия в к.-р. организации, приводятся ложные и клеветнические данные о проводившейся, якобы, мною вредительской подрывной работе, но эти их показания полностью опровергаются документами, имеющимися в деле и теми, что я прошу в протоколе об окончании следствия приобщить к делу В показаниях же Коноваленко, Чайковского и Митенева даже таких ложных «данных», которые бы «подтверждали» участие мое в к.-р. организации, нет, а есть только голословное ложное заявление о том, что «Шлиндман состоял членом к.-р. правотроцкистской организации». Я вновь подтверждаю следствию, что никогда и нигде я не состоял в контр-революционных организациях, никто меня туда не вербовал, о существовании такой организации и о ее участниках на строительстве Судоремзавода я ничего не знал. До выезда на Камчатку я работал в течение 16-ти лет, с 1920 года, т. е. с 14-тилетнего возраста на советской работе, вырос при Советской власти и воспитан Советской властью, как преданный и честный гражданин, об этом говорят все документы о моей предыдущей работе, уничтоженные, к сожалению, следователями Ноздрачевым и Степановым (л.д. 12). Но эти документы можно восстановить и есть люди, знающие меня по моей жизни и работе (я не виноват ведь в том, что эти люди не находятся на Камчатке), это — Вебер Л.Г. — член ВКП(б) с 1919 г., работал в конце 1937 года в Москве зам. Наркома здравоохранения РСФСР, Голенкина В А. — в конце 1937 года назначенная ЦК ВКП(б) на должность ответ. редактора «Учительской газеты» в Москве, Аншельс С.М. — член ВКП(б) — бывш Зам. Начальника [нрзб.] ГУКСа Нар-компищепрома СССР, Ясиновский — б. зам. зав. бюро жалоб МГКК-РКИ, Краковский А.Б. — старший инженер Главстроя НКПП СССР и многие другие. Неужели же я, приехав на Камчатку, стал контрреволюционером, врагом Советской власти и Родины? Это гнусная ложь и клевета, никогда этого не было и не будет! С первых же дней моей работы на строительстве Судоремзавода я столкнулся с большой запутанностью, неорганизованностью и плохой, не отвечающей директивам партии и правительства, работой руководящих лиц на строительстве, в частности: Рябова, Кроткевича, Митенева, Коноваленко и других. Благодаря отсутствию в 1935 г., до меня, какой-либо плановой работы на стр-ве, непониманию (или нежеланию понять) значение плановой работы и ее существа со стороны этих лиц, отсутствию на производстве какой бы то ни было плановой дисциплины, мне было чрезвычайно трудно организовать плановый отдел и наладить четкую работу Был один только работник техник Склянский П.Г. и лишь с июля м-ца 1936 г. мне начали добавлять работников, оказавшихся, однако, малоквалифицированными и не подготовленными к самостоятельной работе по производственному планированию строительства (кроме Коваленко и Шильдяева, которые помогали Склянскому). Не было смет — основных документов для планирования и производства работ, а руководство стройкой не принимало никаких мер к упорядочению этого дела. Для того, чтобы не сорвать совсем планирование, нам пришлось заняться несвойственной плановикам работой по составлению производственно-технических калькуляций. В августе м-це 1936 г. работники планового отдела проделали большую работу по анализу состояния сметного хозяйства стройки и подготовке материалов, расчетов, необходимых для составления новых смет к техническому проекту. Эта работа вовсе не относилась ко мне, но я принял ее на себя и сотрудников отдела только потому, что никто на стр-ве не хотел и не умел ее провести, а упорядочение сметного хозяйства решало вопрос организации четкого и правильного планирования. Для получения инструкций и материалов по плановой работе и организации работы по составлению смет я в октябре 1936 г. выехал вместе с работником планового отдела Склянским в Москву. Я в конце февраля 1937 г. вернулся, на стройку, а Склянский остался в Москве до июня м-ца 1937 г. для увязки вопросов по составлению смет в проектирующих организациях, так как никто из работников стр-ва, кроме техника-плановика Склянского, не мог этой работы сделать Это доказывает, что я принимал все меры к упорядочению плановой работы, чтоможет быть подтверждено документами, которые я прошу приобщить к делу, и свидетелями Склянским и Финогеновым. На почве изложенного, а также в связи с непорядками в организации производства, нормирования, зарплате, бухгалтерском учете, отстававшем на 6–8 месяцев и не дававшем, вследствие этого, возможности оперативно пользоваться планами и сравнивать результаты хозяйственной деятельности с плановыми данными если бы они даже и своевременно составлялись, — у меня возникли с руководящими лицами на стр-ве трения и совершенно ненормальные отношения. Мои резкие выступления на собраниях, в печати, в служебных документах по поводу безобразной работы этих людей, возбудили в них по отношению ко мне враждебную злобу и желание какими угодно путями дискредитировать меня и изжить со стройки. Об этом говорит и факт, имевший место 13/VI.36 г., изложенный мною в протоколе от 11/VIII.39 г., и понижение меня в должности с 1/III. 1937 г., и вопиюще неправильное снятие меня с работы 20/IV. 37 г. с ложной клеветнической формулировкой, и, от начала до конца ложная, извращающая факты «характеристика», данная на меня в Военкомат Кроткевичем от 5/VI. 1937 г. После опубликования в газете «Камчатская правда» от 9/IV. 1937 г. моей статьи «С самокритикой на Судоремонтном неблагополучно», бывш. Пред. По-стройкома Кириллов А.А. устроил в столярной мастерской строительства собрание, на котором заведомо клеветнически заявлял рабочим, что я, якобы, бывший троцкист и хочу подорвать доверие к Рябову. Этот факт могут подтвердить старые рабочие — столяры, в частности, б. мастер столярной мастерской, которого я прошу вызвать свидетелем на судебное заседание. А когда эти люди были арестованы органами НКВД, то дали на меня ложные и клеветнические показания, будто я вместе с ними участвовал в контр-революционной организации и занимался вредительством. Экспертная комиссия, в акте от 17/IX-15/IX. 1939 г., ссылается на выступления отдельных лиц на хозакти-ве в мае м-це 1937 г., но это же не есть мнение всей общественности, а только личное мнение этих ораторов, созданное у них той обстановкой лжи, клеветы и травли, в которой я тогда находился. В решениях хозактива, где дается оценка работы рядя лиц, обо мне ничего не говорится. Организованная общественность мне доверяла. Об этом говорит факт избрания моего в июле 1937 г. председателем общепостоечного производственно-товарищеского суда, а в августе м-це 1937 г. председателем Ревизионной комиссии Осоавиахим. Кроме того, партком стройки доверил мне с июня 1937 г. читку газет с рабочими столярной мастерской, а в октябре и ноябре м-цах 1937 г. руководство кружком по изучению сталинской конституции и Избирательного закона с рабочими, проживавшими в бараке № 3. В показаниях обвиняемых, а также в заключении экспертной комиссии, я обвиняюсь во вредительском планировании, очковтирательстве в отчетности о ходе выполнения программ. Но нигде не указывается никаких конкретных фактов, а Экспертная комиссия вовсе не осветила вопрос о качестве планов и отчетности, составлявшейся в Плановом отделе в 1936 г Экспертная комиссия подошла некомпетентно и тенденциозно, не разобравшись в документах, совершенно исказив факты и документы, обошла молчанием ряд документов, имеющихся в тресте и реабилитирующих меня. На все то, что написано в акте экспертной комиссии, просто невозможно ответить (для этого тоже нужно написать 35 страниц), но все ее выводы полностью могут быть опровергнуты теми документами, которые я прошу приложить к делу и свидетелями, которых я прошу вызвать на судебное заседание. ПодписьМожно подивиться моментальной реакции чудовища, которое то на длительный период пребывает в спячке (по причине «других дел невпроворот»), то вдруг просыпается и шлепает лапой, демонстрируя, что жертва вовсе не ушла из поля зрения, что, мол, «никуда ты от меня не денешься». Буквально на следующий день отец был вызван на новый допрос. К чему такие спешки?
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Обвиняемого ШЛИНДМАНА Семена Михайловича От 27 октября 1939 года г Петропавловск н/К. Допрос начат 11 ч. 25 м. Вопрос: В своем собственноручном показании от 26 октября 1939 года, Вы следствию заявили, «что в подлиннике протокола очной ставки от 10 октября 1938 года между Кроткевичем и Вами записаны показания Кроткевича о том, «что во время пребывания Вас и Кроткевича в командировке в Москве, в конце 1936 года, в московскую контору АКО зашли какие-то неизвестные два члена партии и заявили, Шлиндман был в 1922 году исключен из КП(б)У и комсомола за участие в «Рабочей оппозиции». Скажите, Шлиндман, Вы твердо будите утверждать, что в протоколе очной ставки от 10/Х.38 г. такия показания Кроткевича были записаны? Ответ: Я твердо настаиваю на том, что обвиняемый Кроткевич на очной ставке от 10 октября 1938 года говорил, что во время пребывания его и Шлиндмана в командировке в Москве, в начале 1936 года, в московскую контору АКО зашли какие-то два неизвестные два члена партии, которые заявили, что Шлиндман был в 1922 году исключен из КП(б)У и комсомола за участие в «Рабочей оппозиции». Я хорошо помню, что эти показания Кроткевича были в подлиннике протокола очной ставки записаны. Вопрос: Вы еще раз будите настаивать на том, что такие показания Кроткевича были записаны в протоколе очной ставки от 10/Х 38 г.? Ответ: Я помню, что такие показания были записаны в протоколе очной ставки от 10/Х. 38 г. Вопрос: Вам предъявляются подлинники протокола очной ставки от 10/Х. 38 года между Кроткевичем и вами, где нет записи [нрзб.] показаний Кроткевича о том, что во время пребывания его и Шлиндмана в командировке в Москве, в начале 1936 года, в московскую контору АКО зашли какие-то два неизвестные члена партии и заявили, что Шлиндман был в 1922 году исключен из КП(б)У и комсомола за участие в «Рабочей оппозиции». Что Вы скажите теперь на это? Ответ: На том, что Кроткевич об этом на очной ставке говорил, я еще раз настаиваю Именно в связи с этим записан якобы состоявшийся разговор между Кроткевичем и Адамовичем о разоблачении Шлиндмана, как троцкиста, я полагал, что эта история с якобы зашедшими в контору АКО двумя неизвестными членами партии, также записана была в протоколе очной ставки от 10/Х. 38 г. Однако я ошибся. Оказывается, что разговор, якобы состоявшийся между Кроткевичем и Адамовичем, был записан в протокол очной ставки, а перед этим рассказанное Кроткевичем о двух членах партии не записано. Вопрос: Вы читали подлинник протокола очной ставки от 10/Х. 38 г. перед тем, как подписывали его? Ответ: Да, протокол очной ставки от 10/Х. 38 перед тем, как подписать его я читал полностью. Вопрос: Вложенная в Ваше дело копия с подлинника протокола очной ставки от 10/Х. 38, между Кроткевичем и Вами является правильной? Ответ: После ознакомления с подлинником подтверждаю, что вложенная в мое дело копия протокола очной ставки между Кроткевичем и мной является абсолютно правильной. Вопрос: Какую Вы преследовали цель своими клеветническими заявлениями о том, что копия протокола очной ставки от 10/Х. 38 года следствием скопирована неверно? Ответ: Мое заявление о том, что копия с протокола очной ставки была снята не верно, вовсе не исходило из каких-либо клеветнических побуждений и никакой [нрзб.] цели я в том не преследовал. Уверенное заявление о том, что в подлиннике протокола очной ставки были слова Кроткевича о двух членах партии и т. д. исходило из того, что такие слова Кроткевичем действительно были сказаны, а то, что в подлиннике это оказалось незаписанным я просто запамятовал. Допрос окончен в 13.00. Подпись. Записано в протоколе с моих слов верно и мною прочитано. Подпись. Допросил оперупол. [нрзб.] Сержант госбез. Подпись.Ему мерещился Харьков и комсомолячья молодость, от которой сегодня тошнило. Но он не признавался себе в этом, гнал воспоминания в сторону, при этом на допросах извивался как уж, — впервые ему стало противно бороться за себя, да и сам себе он стал противен. Его посетило сомнение. До этого мига он верил, что несправедливость можно победить. — Я же им всё объяснил. Кажется, логично. Кажется, точно. Они же должны были вникнуть… в конце-то концов!.. Не вникли. Не захотели вникать. — Выпустите меня отсюда!.. Я вольный. Я честный. Я трудолюбивый. Не слышат. Не слушают. — Я еще много могу сделать хорошего в этой жизни. Я верю, и вы мне поверьте. Не верят. Что делать в этой ситуации? Придумал. Нужно потребовать, чтоб была экспертная комиссия. Экспертную комиссию создали. И что? Экспертная комиссия сплясала под дудку НКВД. Семен получил в дополнение к доносам и обвинительным показаниям коллег сильнейшие подтверждения вины. — Ты этого хотел, Жорж Данден! — с горечью процитировал я ходячую фразу из Мольера. Новые допросы показали, что обвинение не будет пересмотрено. Отец понял, что ничего не доказал. — Два года псу под хвост. Я им всё честно, как об стенку горох. Как в вату. Может, мне покончить с собой? Мама ответила стихами Пастернака:
Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Живой курсивный шрифт.
Затем-то мы и тянем,
Что до скончанья дней
Идем вторым изданьем,
Душой и телом в ней.
Но тут нас не оставят
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит наветвь,
Найдут и воскресят.
Побег не обезлиствел,
Зарубка зарастет…
Так вот — в самоубийстве ль
Спасенье и исход?
Дополнительные показания от 2-го ноября 1939 года Шлиндман Семена Михайловича Экспертная комиссия, производившая проверку моей работы за период времени с 20/XI-1935 г. по 2/XI-1937 года показала свою некомпетентность и недопустимую тенденциозность. В силу этого акт Экспертной комиссии от 17/IX-1939 г. от начала и до конца страдает неверными положениями и выводами. Основные из них сводятся к следующему. На вопрос следствия о том, имело-ли место очковтирательство в отчетности перед вышестоящими органами в ходе выполнения программы (см. постановление следователя гр. Агальцева от 31/VIII-1939 г.), Экспертная комиссия, в соответствующем разделе акта, вовсе не дала ответа по существу. Вместо того, чтобы проанализировав оперативно-статистическую отчетность, дать квалифицированное заключение о ее качестве, Экспертная комиссия голословно заявляет в акте о том, что квартальные производственные планы составлялись в Плановом отделе только для того, чтобы Шлиндман мог козырнуть перед Гпавстроем подробными таблицами и тем самым «втереть очки», что, мол, с планированием все в порядке, и получить за это лишнюю похвалу от Главстроя. Это не соответствует истине. Полообные квартальные производственные планы, составленные по конструктивным элементам и видам работ, нужны были для того, чтобы, хотя частично. заменить прорабам отсутствующие сметы. Если бы на строительстве имелись сметы, то не надо было-бы составлять такие подробные производственные планы, ибо «основным и единственным документом для производства работ на стройплощадке является смета к техническому проекту» (см. постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об улучшении строительного дела и удешевлении строительства» от 11/11-1936 г.), хотя эти планы и спускались участкам зачастую со значительным опозданием, прорабы имели возможность и должны были пользоваться ими всегда, так как вследствие большого недовыполнения планов систематически, из квартала в квартал, на каждом участке имелись переходящие из планов предыдущих кварталов работы. Сопоставив квартальные планы с оперативно-статистической отчетностью, это легко можно подтвердить. Только в единственном случае прораб не имел развернутого производственного плана, это когда в самом начале квартала начинались работы на новом объекте, непредусмотренном планом предшествовавшего квартала. Но, и в этом случае, отсутствие, вернее, запоздание развернутого производственного плана не могло задержать хоть сколько-нибудь производства работ, к тому-же в своем начале, обычно несложных и неразнообразных в конструктивном отношении, так как прораб имел у себя технический проект, рабочие чертежи, по которым можно было подсчитать объемы работ, и графики производства работ, в которых были указаны календарные сроки и потребность в рабочей силе, по существу, представлявшие собою графически изображенный, сокращенный по количеству своих качественных показателей, производственный план. Таким образом, квартальные производственные планы составлялись не для «очковтирательства» с моей стороны. Но Экспертная комиссия, не разобравшись в существе вопроса извратила и формапь-ную его сторону Когда планы подписывались мною и утверждались Главным инженером и Нач. стр-ва, то на таблицах ставилась соответствующая дата В Главстрой представлялись копии этих таблиц, заверенные плановиком, и было видно по датам, когда планы эти подписаны и спущены участкам, — Главстрой, следовательно, ни в какое заблуждение в этом вопросе никем не вводился Все изложенное мною могут подтвердить Склянский П.Г. — зам. нач. план. Отдела, Финогенов Н.И. — Главный инженер и Горлин М П. — нач. произв. — технического отдела «Камчатстроя» (двое последних, как компетентные специалисты) Ни какой «похвалы» за эти производственные планы я не получал от Главстроя. На основе каких документов Экспертная комиссия свидетельствует об этом? В действительности-же, в методологическом и качественном отношении эти планы были составлены хорошо и полностью отвечали заданиям Правительства и приказам Наркома А.И.Микояна об объемах строительства и сроках его окончания. В выступлениях Шильдяева и Кириллова на хозактиве, которые Экспертная комиссия цитирует в качестве «обвинительного материала», говорится, что планы, составлявшиеся Плановым отделом, были нереальными, материально не обеспечивались, и не выполнялись никогда. Но ведь это-же, по меньшей мере, оппортунистические заявления, а Экспертная комиссия, не разобравшись, штампует их. Повторяю, планы полностью соответствовали заданиям Правительства и Наркома, обеспечивались соответствующими ассигнованиями и фондами, и являлись вполне реальными и выполнимыми. И если эти планы не выполнялись на деле, то в этом никак не повинен Плановый отдел и я — его начальник. Обязанностью плановика является составление правильного, отвечающего заданиям и директивам вышестоящих органов, плана, а обеспечение его реального выполнения зависит уже не от плановика, а от руководителей стройки, прорабов и оперативно-производственного аппарата. Некоторые прорабы, в частности Крутиков В.Н. и теперешний член Экспертной комиссии Моисеев И.М., Главный инженер Кроткевич ГЛ. и Нач. Стр-ва Рябов В.М., так же, как и Пред. Постройкома Кириллов А.А., часто выражали свое недовольство составляемыми планами и предлагали исходить из фактических ресурсов стройматериалов, рабсилы и т. п., т.-е., иначе говоря, планировать с равнением на т. н. «узкие места». Но если бы я послушался их и составлял бы такие планы, то этим бы я нарушил государственную дисциплину и действительно совершил бы преступление. И в том, что я так не делал, а выступал с резкой критикой этой нездоровой тенденции, кроется, по моему мнению, одна из серьезных причин недоброжелательного отношения некоторых работников стройки ко мне Изложенное мною может подтвердить Склян-ский П.Г., а о качестве и содержании производственных планов могут дать заключение Финогенов Н.И., Гэрлин М.Л. Экспертная комиссия ставит мне в вину задержки в спуске планов участкам. О причинах таких запозданий я уже давал показания в протоколе моего допроса от 14/VIII-1939 г. и в последующих протоколах. Кратко повторяю, что основной причиной этого являлось отсутствие смет на строительстве. В качестве единственного выхода из положения было признано необходимым составление квартальных производственных планов на основе производственных калькуляций (это подтверждено приказом Наркома А И. Микояна и по становлением СНК СССР от X/1-1936 г. — 1-1937 г.) Но составление производственных калькуляций не является функцией плановиков, их должны составлять инженеры и техники под руководством Гпавного инженера Так как на стройке никто эту работу не проводил, то для того, чтобы окончательно не сорвать планирования на стр-ве, пришлось Плановому отделу принять ее на себя. Это оказалось возможным лишь потому, что в Плановом отделе работал Склянский П Г., по своей специальности техник-сметчик. Но Склянский в то же время являлся, до июля м-ца 1936 г., единственным работником в Плановом отделе. (Я лично не умею составлять производственные калькуляции, так как я не техник) Лишь в июле и в августе 1936 г. я получил еще несколько работников, но они все были новичками в работе по производственному планированию капитального строительства (за исключением одного Коваленко), были малоквалифицированными плановиками, не умели самостоятельно составить план, не говоря уже о составлении калькуляций. Поэтому я мог использовать Шильдяева В.М. и Коваленко И.Д в качестве лишь помощников Склянского, Цимакову Л.М. — на составлении оперативно-статистической отчетности, а Шалыта И.Э. и Нерисову Н. — на работе по составлению ценника-калькуляций стоимости стройматералов, [нрзб.] стройплощадки, необходимой для планирования и составления новых смет. Работа по составлению производственных калькуляций являлась весьма сложной и занимала во всей работе по составлению производственных планов не меньше 70 % времени. Естественно, что это, и отсутствие работников, также было серьезной причиной запозданий в спуске планов, чего совершенно не учла Экспертная комиссия. Кроме того немаловажной причиной задержки планов являлось отсутствие надлежащего руководства и помощи Плановому отделу со стороны Главинжа Кроткевича и Нач. стр-ва Рябова. Об этом говорит ряд моих докладных записок, которые я прошу приложить к делу. До ноября м-ца 1936 г. Плановый отдел работал в старой потрепанной палатке, до июня м-ца 1936 г. даже не имевшей пола, — это также не могло не отразиться на продуктивности работы сотрудников Отдела (см. мои докладные записки от III, IV, V м-цев 1936 г.). Изложенное мною может подтвердить Склян-ский П.Г., другие бывшие работники Планового отдела, если они и сейчас находятся в г. Петропавловске. Положение со сметным хозяйством на стр-ве видно из докладной записки «Камчатстроя» Главстрою НКПП СССР от X. 1936 г., составленной Плановым отделом, из приказа по НКПП СССР от XI или XII. 1936 г., решения СНК СССР от XII. 1936 г. или I. 1937 г., акта приема и сдачи дел произв. — технич. Отдела «Камчатстроя», составленного инженерами Михайловым Ф.М. и Горлиным М.Г1. от 17/Х. 1937 года (имеется в деле), в котором говорится, что смет нет ни на один объект стр-ва Это может быть подтверждено Финогеновым, Склянским и Гэрлиным. Экспертная комиссия, излагая функции Планового отдела, включила в них организацию и проведение работ по составлению оперативно-статистической отчетности. Экспертная комиссия заявляет в своем акте, что нигде она не нашла отражения этой работы в делах Планового отдела. Это совершенно понятно, так как приказом по Наркомпищепрому СССР и распоряжением по Главстрою от VIII. 1936 г. оперативностатистическую отчетность подлежала передаче в ведение Глвных бухгалтеров предприятий и строек. Этот приказ был получен во время моего отсутствия на стр-ве и не был исполнен, но, когда я вернулся в конце февраля м-ца 1937 г. из Москвы, то я добился выполнения приказа Наркома и ведение отчетности было передано с марта 1937 г. в Главную Бухгалтерию. Вместо того, чтобы изложить функции Планового отдела в 1936 г. и Плановой группы в 1937 г., согласно структуре треста, утвержденной Главстроем в январе м-це 1937 г., Экспертная комиссия сочла возможным воспользоваться «Положением о Плановом отделе», утвержденным нынешним Управляющим «Камчатстроя» Котельниковым в июле 1939 г., т. е. документом, не существовавшим в 1936–1937 г.г. и противоречащим действовавшим в то время директивам. Экспертная комиссия утверждает, что производственный план на III квартал 1937 г. совсем не был спущен, а на IV квартал и октябрь м-ц 1937 г. отсутствовал во время сдачи мною дел Планового отдела, т. е. к 10/XI. 1937 г. Это утверждение Экспертной комиссии опровергается актом сдачи мною и приема Шалытом дел Планового отдела от 10/XI. 1937 г., в котором зафиксировано, когда эти планы были спущены, каким участкам, и что осталось доделать по плану IV-ro квартала. Экспертная комиссия, приложившая этот акт к своему акту, обошла, однако, по непонятным причинам, изложенное в нем, а сослалась на акт приема и сдачи дел Произв. — технич. Отдела, в составлении которого (акта) ни я, и никто другой из работников Планового отдела, участия не принимал, и я, вообще, таким образом, не знаю о каких планах там идет речь. Экспертная комиссия считает, что стройфинплан не был составлен в 1936 г., а в 1937 г. составлен с опозданием, благодаря моей, якобы, вредительской деятельности. Подробно о положении со стройфинпла-ном я уже изложил в своих предыдущих показаниях. Повторяю, что стройфинплан в 1936 г. не мог быть составлен по следующим причинам: 1. Отсутствовали сметы, а только на их основе мы имели право составлять стройфинплан (см. инструкцию Главстроя к формам стройфинплана); 2 Полного комплекта производственных калькуляций на всю годовую программу работ 1936 г. также не было, с трудом составлялись калькуляции на квартальные программы: 3 Но, так или иначе, мы не имели права в 1936 г. пользоваться для составления стройфинплана такими калькуляциями, ибо разрешение СНК СССР на это дано только с 1/Х. 1936 г. (см. постан. СНК СССР и приказ по НКПП СССР от XII. 1936 г.) 4 Мы не имели даже самих форм стройфинплана, так как ни одна из вышестоящих организаций (АКО, Главрыба) не прислала их на стройку. (Изложенное может подтвердить Склянский П.Г.). Все это было учтено Главстроем, который своим распоряжением от XII. 1936 г. освободил «Камчатстрой» от проставления плановых данных к годовому отчету за 1936 г., исходя из постановления СНК СССР о принятии фактической стоимости работ, произведенных с начала стр-ва до IX. 1936 года. Из этого всего видно, что стройфинплан 1936 г. не был составлен не по моей вине и я ответственности за это нести не должен. В 1937 г. составление стройфинплана задерживалось отсутствием достаточного комплекта калькуляций, которые составлялись прорабами участков и произв. — технич. Отделом (см. мое выступление на производственном совещании работников Планового отдела в апреле 1937 г., мою докладн. Записку Нач-ку стр-ва от 14/IV. 1937 г., мою докладн. Записку на имя Нач. политуправления НКПП СССР Корнюшина Ф.Д., письмо зам. Нач. Главстроя Шефтеля от 17/VIII. 1937 г., акт по произв. — технич. Отделу от 17/Х. 1937 г., в котором зафиксировано отсутствие оформленных калькуляций). По поводу указания Шефтеля о составлении стройфинплана по укрупненным нормативам я дал обьяснение в заявлении от 16/Х. 1939 г., приобщенном к делу. В аперле м-це 1937 г. была получена телеграмма от Главстроя о составлении стройфинплана только по калькуляциям. Ко всему этому следует добавить, что, согласно структуре, утвержденной Главстроем в январе 1937 г., Плановый отдел должен составлять сводный стройфинплан. Ввиду того, что ни один из участков и ни одно из предприятий треста не представило своего стройфинплана, Плановый отдел имел формальные основания к тому, чтобы не составлять сводного стройфинплана. И штат Планового отдела был утвержден весьма малочисленный (см. акт от 10/ XI. 1937 г.), исходя именно из того, что отдел занимается только сводным планированием. Естественно, что составление стройфинплана целиком силами работников Планового отдела, причем безо всякой помощи со стороны Главинжа, как обязывает его к этому инструкция Гпавстроя, не могло быть закончено достаточно быстро. Экспертная комиссия ставит мне в вину отсылку стройфинплана без сметы производства, планового баланса и финплана. Смета производства не могла быть закончена к тому времени составлением, так как не хватало нескольких эксплоатационных смет, указанных в акте от 10/XI. 1937 г. (электростанция, пож. — сторож. Охрана и др.), но почему она не была составлена после моего увольнения я не знаю и за это отвечать не могу. Составление же планового баланса и финплана является обязанностью Главбуха (см. постан, СНК СССР от 1932 г. «О правах и обязанностях Главн. Бухгалтеров»). Экспертная комиссия, не учитывая всех изложенных обстоятельств и обходя молчанием существующие факты и документы, все относит на меня, хотя я, как это видно из документов, принимал зависящие меры к ускорению составления стройфинплана. Комиссия пишет, что «отсутствие стройфинплана не дало возможности сопоставлять результаты хозяйственной деятельности Треста…» и т. д., но умалчивает при этом, что отставание бухгалтерского учета на 4–6 месяцев, имевшее место в тресте, лишало стройфинплан его оперативного значения в процессе производства работ. Экспертная комиссия обвиняет меня в том, что приказ о введении прогрессивно-премиальной системы оплаты труда рабочих оказался невыполненным, называя это «утонченным вредительством» с моей стороны. Но Экспертная комиссия просто вводит в заблуждение следственные органы, обходя молчанием, что, согласно этому же приказу и постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 11/11-1936 г., эта система оплаты труда «вводится на отдельных работах, в зависимости от хозяйственной целесообразности, по представлению производителей работ и с утверждения, в каждом отдельном случае, Наччальником стр-ва». При чем же тут я — Нач. Плановою отдела, а в 1937 г. — руководитель Плановой группы? Вообще, все то, что приписывает мне Экспертная комиссия в области организации труда, нормирования и зарплаты никакого отношения ко мне не имеет, так как это функция прораба, Главинжа и Нач. стр-ва — Управляющего трестом, но никак не плановика. Об этом есть решение Декабрьского Пленума (в 1935 г.) ЦК ВКП(б) «О стахановском движении в промышленности и на транспорте», говорится в Постан. СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11/11-1936 г., в приказах и инструкциях по НКПП СССР и в ряде других документов, которые я прошу приложить к делу — в протоколе от 23/Х. 1939 г. И еспи я проработал ряд материалов, касающихся этих вопросов, то это по моему добровольному желанию и инициативе. Экспертная комиссия путает и пытается переложить на меня ответственность за практическое осуществление этих вопросов. Подпись.Можно представить себе злость энкавэдэшников, получивших сей документ. Упирается этот «еврейчик», и ничто его не ломает. Пишет и пишет. А нам это всё читать… Ну, дали ему по сусалам, а вот раком не поставили. Ну, да еще не вечер, наша все равно возьмет. Не таких обламывали. А это что принесли такое?.. Опяя-яяять?.. Клади на стол. Ну, ясно. Еще понаписал что-то, бумагомарака!.. Ну, пиши, пиши… А мы все равно твои сочинения и читать не будем. Нам твои словеса по херу. Извините за слово «словеса».
Дополнительные показания Арестованного Шлиндмана Семена Михайловича от 3-го Декабря 1939 года г. Петропавловск на Камчатке В соответствии с моим заявлением на имя Нач. Следственной части КОУ НКВД от 14/XI-1939 г., излагаю следующие дополнительные показания в отношении материалов дела, предъявленного мне для ознакомления 22–26 октября 1939 г.: Экспертная комиссия, в своем акте от 17/IX-15/X. 1939 г., ставит мне в вину задержку в регистрации штатов, ссылаясь при этом на выступление Кириллова А.А. на хозактиве в мае м-це 1937 г. (он говорил, что это повлекло за собою задержку выплаты зарплаты рабочим и служащим строительства) и на приказ по «Камчатстрою» от 20/IV. 1937 г., за подписью Кроткевича Г.Л; об увольнении меня. Такое заключение экспертизы является неправильным, так как дело с регистрацией штатов обстояло фактически так: В январе м-це 1937 г., в бытность мою в командировке в г. Москве, Главстрой НКПП СССР утвердил смету адм. — управленческих расходов и штатные расписания центрального аппарата «Камчатстроя» на 1937 г., сметы же и штаты линейного аппарата (т. е. участков и предприятии) треста было поручено составить и утвердить Управляющему трестом на месте (см. соответствующее письмо Главстроя НКПП СССР от января 1937 г.). По возвращении моем из командировки (22/II. 1937 г.) в начале марта 1937 г., Плановая группа приступила к составлению смет адм. — хозяйственных расходов линейного аппарата, согласовывая эти сметы и штатные расписания с руководителями соответствующих участков, отделов и предприятий. Вся эта работа была закончена, насколько мне помнится, 20/III. 1937 г., и представленные плановой группой сметы адм. — хозяйственных расходов и штатные расписания были 22/111. 1937 г. утверждены врио. Управляющего трестом Кроткевичем Г.П (изложенное подтверждается: черновиками смет адм — хозяйственных расходов и штатных расписаний линейного аппарата; актом сдачи мною и приема Шалытом И Э. дел Плановой группы от 19 или 20 апреля 1937 г., имеющимися в делах Планового отдела «Камчатстроя»), Таким образом, со стороны Плановой группы, и моей как ее руководителя никаких задержек в составлении и представлении на утверждение указанных материалов не было, — работа была выполнена в точном соответствии с функциями Плановой группы, изложенными в структуре «Камчатстроя», утвержденной на 1939 г. Главстроем НКПП СССР (см раздел: «Планово-производственный отдел»). Из инструкции «О порядке регистрации штатов» Наркомфина СССР явствует, что регистрация проводится путем личной явки в финорган руководителя предприятия (или его заместителя) и Главного Бухгалтера. Бланки регистрации штатов должны заполняться Гпавным Бухгалтером и подписываются двумя лицами: руководителем и Главбухом предприятия (учреждения). Исходя из этих правил, как только сметы и штаты были утверждены, я отправил все документы Гпавбуху треста для оформления регистрации в Гор-ФО (см. мою служебную записку Главбуху от марта м-ца 1937 г.). На этом обязанности и ответственность Плановой группы в отношении дальнейшего оформления смет адм. — управленческих расходов и штатных расписаний кончались Хотя это и не входило в уже в мои обязанности, но я, по просьбе Главбуха, заполнил в регистрационных бланках графу: «по плану (утверждено)». Однако Петропавловский ГэрФО отказал в регистрации штатов «Камчатстроя», ввиду выявленных нарушений сметно-штатной дисциплины, выразившихся в целом ряде расхождений между фактическими штатами (должности, ставки, структура и т. п.) и утвержденными. ГэрФО, отказав в регистрации, сообщил «Камчат-строю» о закрытии кредита на адм — управленческие расходы последнего, впредь до устранения нарушений и оформления регистрации штатов 5/IV 1937 г. я получил распоряжение от б. Нач Производственно-планового отдела треста Крутикова В.Н. о том, чтобы я лично выяснил причины нереги-страции штатов и оформил бы регистрацию. Я тогда же указал Крутикову В.Н и Кроткевичу Г.Л на то, что такое поручение выходит за пределы моих функций, но, получив повторное распоряжение, отправился, вместе с б. Главбухом Митеневым П.С., в ГорФО, где, после разговоров с зав ГэрФО Камчатовым, инспектором ГэрФО Владимировым, зав. Региш рационным бюро ОблФО Охапкиным П Г. и ревизором этого же бюро Громовым К.А (прошу допросить этих лиц для подтверждения изложенного мною), я убедился, что ГэрФО действует совершенно законно, и, что регистрация штатов не будет произведена до тех пор, пока Управляющий трестом не приведет наличные штаты в полное соответствие с тем, что было утверждено Главстроем НКПП СССР (для центрапьного аппарата) и им же самим (для линейного аппарата). Мне все же удалось договориться с зав. ГэрФО Камчатовым, и он предоставил «Камчатстрою» отсрочку на 2 недели, до 20/IV. 1937 г., возобновив на это время кредиты на адм. — управленческие расходе (справку об этом прошу получить в Гэрфо или в Промбанке). Докладной запиской, кажется m 7/IV. 1937 г. я сообщил Управл-му трестом об имеющихся расхождениях и о необходимости их устранения (прошу приложить эту докладную записку; упоминание о ней имеется в акте от 19/IV. 1937 г., подписанном мною и Шалы-том И.Э.). Но руководство треста никаких мер со своей стороны не приняло. Наоборот, в день опубликования в газете «Камчатская правда» моей статьи-письма «С самокритикой на Судоремонтном неблагополучно» (см газету от 9/IV. 1937 г.). Нач. отдела Крутиков В.Н. обращается к б. Управляющему трестом Рябову В.И. с рапортом, в котором, между прочим, совершенно необоснованно пишет, что я задерживаю регистрацию штатов. Получив 11/IV. 1937 г. этот рапорт Крутикова с резолюцией Рябова о представлении мною письменных объяснений, я 14/IV. 1937 г. представил докладную записку Рябову (в копии сдал ее в Партком и в Постройком треста), в которой дал объяснения и по вопросу регистрации штатов, вновь указав, что не от меня зависит приведение фактических структуры и штатов треста в соответствие с утвержденными, а от самого Управляющего (эту записку прошу приложить). 16/IV. 1937 г. я получил распоряжение Крутикова В.Н. составить проект телеграммы в Главстрой с просьбой об утверждении наличных штатов центрального аппарата треста, в изменение утвержденных Главстроем в январе м-це 1937 г. Я это распоряжение выполнил, добросовестно перечислив в проекте телеграммы все имевшиеся расхождения. Хотя многие из этих расхождений являлись несущественными (например-переименование Спецотдела — в Спецчасть, курьеров и уборщицу — в курьеров-уборщиц с некоторым сокращением их количества и т. п.), и могли быть легко устранены на месте приказом Управляющего трестом, я вынужден был включить их в проект телеграммы, так как они все же устранены не были. Упомянутая докладная записка от 14/IV. 1937 г. и проект телеграммы, составленный мною (о них говорится в приказе Кроткевича о моем увольнении) послужили для Кроткевича «основанием» для увольнения, как «бюрократа и саботажника». Возмутительней всего в этой истории являлись справки, даваемые б. постройкома Кирилловым А.А., Кроткевичем и Митеневым (см. выступление Кириллова на хозактиве), обращавшимся к ним рабочим и служащим, о том, что «зарплата, мол, не выплачивается из-за задержки Шлиндманом регистрации штатов». Вздорность этой фальсифицированной версии определяется следующим: Нерегистрация штатов в финоргане влечет за собою закрытие кредитов на адм. — управленческие расходы, в том числе и на зарплату адм. — управленческого персонала, но отнюдь не на зарплату рабочих и производственного персонала (см. инструкцию Наркомфина СССР «О порядке регистрации штатов») б) Что же касается невыплаты в апреле м-це 1937 г. зарплаты служащим, то таковая, как и зарплата рабочим, не выплачивалась не потому, что штаты не были зарегистрированы (как я указывал выше, 5/IV. 1937 г. ГзрФО дал отсрочку на 2 недели), а лишь только потому, что денег не было на счете «Камчатстроя» в Промбанке, и задолженность по зарплате рабочим и служащим в апреле месяце 37 г., как мне помнится, достигал размеров 1½ — 2-хмесячного фонда, т. е 1 — 17, миллионов рубпей. На 5/IV. 1937 г «Камчатстрой» имел на счете в Банке всего около одной тысячи рублей, а в течение последующих 2-х недель, т. е до моего увольнения, поступившие суммы, около 500 тысяч рублей, не давали возможности ликвидировать задолженность по зарплате и обращались, как мне помнится, главным образом, на оплату бюллетеней и зарплату рабочим, в первую очередь, низкооплачиваемым (прошу приложить справку Главбуха «Кам-чатстроя» о состоянии задолженности по зарплате рабочим и справку Промбанка о движении сумм на счете «Камчатстроя» за тот же период, — сопоставление этих справок подтвердит изложенное мною). После моего увольнения, 22/IV 1937 г. был издан приказ по тресту о приведении наличных штатов линейного аппарата в соответствие с утвержденными и о некоторых изменениях в штатах центрального аппарата. На основании этого приказа была, в мое отсутствие, произведена регистрация штатов треста. Но, фактически, этот приказ не был реализован в тресте, нарушения не устранены, что и было выявлено ревизией со стороны Регистрационного бюро ОблФО. произведенной в мае м-це 1937 г., в связи с моим обращением в это бюро к Охапкину и моей заметкой в газете-многотиражке «Стройка» за май м-ц 1937 г. (акт ревизии, имеющийся в ОблФО, прошу приобщить к делу, а также допросить по этому вопросу Охапкина и Гоомова). Неправильное увольнение меня в апреле м-це 1937 г. было отменено телеграфным распоряжением Нач. Главстроя НКПП СССР Емельянова Аркадия Григорьевича от 7/V. 1937 г.; я был восстановлен на работе и с 13/V. 1937 г. приступил к исполнению обязанностей руководителя Плановой группы. Исходя из этого, Экспертная комиссия не имела основания, по моему мнению, оперировать приказом Кроткевича о моем увольнении и, тем более, строить на нем свои выводы. Начальник Главстроя в своей телеграмме предлагал: «материалы о проступках Шлиндмана, с приложением его личных объяснений, направить в Москву». Однако, несмотря на многократные мои обращения к Кроткевичу, а впоследствии, с 13/VII. 1937 г. к Быкову, о предъявлении мне таких материалов для дачи личных объяснений, этого сделано не было, что, естественно, доказывает неправомерность моего увольнения. Однако, Экспертная комиссия, исходя, очевидно, из выступления на хозактиве в мае м-це 1937 г. б. юрисконсульта Треста Степаненко (выдержка из его выступления приложена к акту комиссии), — человека, морально разложившегося, вследствие резкого алкоголизма, и недовольного мною из-за моих замечаний ему по поводу его длительных отлучек и прогулов, имевших место в августе-сентябре 1936 г. (это может подтвердить бывш. руководитель хозрасчетнодоговорной группы «Камчатстроя» Зайцев Дмитрий Петрович), — в своем акте заявляет, что я, якобы, был восстановлен на работе, благодаря личным связям с Нач. Главстроя НКПП СССР Емельяновым А.Г. и его заместителем Шефтелем Е.Б., у которых я пользовался доверием, поддержкой и авторитетом. Заявляю, что никаких «личных связей» с Емельяновым и Шефтелем у меня не было, кроме чисто-служебных отношений, а то, что я пользовался у руководителей вышестоящего органа «доверием, поддержкой и авторитетом» вряд ли может явиться криминалом. По вопросу моего неправильного увольнения обращался 29/IV. 1937 г. телеграфно лично к Наркому А.И. Микояну, и почему ответ был получен не за подписью Наркома, а Емельянова — мне неизвестно, как неизвестно это и членам Экспертной комиссии, необоснованно ставящим под сомнение правильность моего восстановления на работе (телеграмму мою от 29/IV. 1937 г. прошу истребовать из секретариата Наркомпищепрома СССР). Экспертная комиссия заявляет в своем акте, что я вовсе не занимался работой по составлению плана собственных капиталовложений треста «Кам-чатстрой». Это не соответствует действительности: еще перед моей поездкой в Москву, в сентябре м-це 1936 г., Плановым отделом был соствлен план собственных капиталовложений «Камчатстроя» на сумму 8. 600 тыс. рублей. При рассмотрении этою плана на совещании у Нач-ка Главстроя (в ноябре или декабре 1936 г.), он (этот план) был урезан до 4. 750 т. рубл., а 3/1. 1937 г. я обращался к зам. Нач. Главстроя Цукерману С.О. с докладной запиской о выделении этих средств и соответствующих фондов. Однако ввиду значительного сокращения лимита на собственные капиталовложения подрядных строительных организаций системы НКПП СССР, со стороны Госплана СССР и Правительства, Главстрой, своим письмом от 10/1. 1937 г. сообщил «Камчатстрою», что ему утверждено на 1937 год всего — 100 тыс. рублей, (переименованные документы имеются в делах Планового отдела и я прошу их приложить к делу). Из этого видно, что работа была мною полностью выполнена. Экспертная комиссия отметила, что я, якобы, безобразно, «по-вредительски» относился к важнейшим директивным документам вышестоящих органов, иллюстрируя это рядом примеров: «Шлиндман, якобы, продержал у себя приказ Наркома А.И. Микояна от 16/VI. 1936 г. за № 145 «Об укреплении хозрасчета на стройках системы Наркомпищепрома СССР» и через год с лишним, 2/ XI. 1937 г., наложил резолюцию: «Всем сотрудникам отдела — ознакомиться, и в дело» (цитирую по памяти). К такому выводу эксперты пришли лишь потому, что забыли, а, при проведении экспертизы, не проверили, наличие в делах треста приказа № 3 от 16/IX. 1936 г. «Об организации хозрасчетного отдела Подсобных Предприятий Треста», в котором есть ссылка на упомянутый приказ по НКПП СССР от 16/VI. 1936 г. во исполнение коего и был издан приказ № 3 от 16/ IX. 1936 г, по Тресту (составлен был мною), а также наличия приказа по Управлению Строительством Судоремзавода от 27/VII. 1936 г. за № 82 о переводе на хозрасчет транспорта стройки, составленного мною, и подписанного Нач-м стр-ва, еще до получения приказа по НКПП СССР за № 1457 от 16/VI. 1936 г., но в полном соответствии с ним, так как исходил из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об улучшении строительного дела и удешевлении строительства» от 11/11-1936 г. Таким образом, с моей стороны приказ Наркома был выполнен своевременно. Приказ этот, когдаон был получен в конце июля м-ца 1936 г. был разослан, в копиях, всем участкам и предприятиям, а также отделам Треста (что может подтвердить Зайцев Д.П.), так что обнаруженный экспертизой в делах Планового отдела экземпляр приказа за № 1457 не был единственным. Запоздалая же моя резолюция была мною учинена при следующих обстоятельствах: как это видно из акта сдачи мною и приема Шалытом И.Э. дел Планового отдела от 9-10/XI. 1937 г., делопроизводство Производственно-технического Отдела делилось между им и выделенным с 1/Х. 1937 г. из его состава Плановым отделом. В числе прочих архивных бумаг, делопроизводитель Отдела представила мне и этот экземпляр приказа № 1457. считаясь с тем, что в Отделе работали и новые сотрудники, не знавшие об этом приказе, я, воспользовавшись случаем, перед тем, как дать указание делопроизводителю о принадлежности этого документа к Плановому или к Произв. — технич. Отделу, передал его для ознакомления сотрудникам. Это же я делал и в отношении других важных документов, хотя и исполненных ранее, но аналогично попадавшихся мне при разделении делопроизводства (Перечисленные приказы по тресту и Строительству прошу приложить) б) Приводя выдержки из акта сдачи и приемки дел Планового отдела от 9/10 ноября 1937 г., подписанного мною и Шалытом И.Э., где перечислены документы, которые я считал нужным как особо важные, и находившиеся у меня в работе, специально упомянуть в акте (титульные списки, материалы к ним, договора и проч.), — Экспертная комиссия делает неправильное заключение о том, что я, якобы, незаконно держал эти документы у себя «скрывая их от других отделов Треста». Согласно действовавшей инструкции о порядке хранения «не подлежащих оглашению документов», последние хранились в делах соответствующего отдепа, в особых папках, и я имел полное право как начальник отдела держать эту папку у себя в ящике стола, запиравшемся на ключ. С другой стороны, как я уже указывал, эти документы постоянно находились у меня в работе, я ими пользовался сам, и выдавал, по мере надобности сотрудникам отдела, чем обеспечивал сохранность этих документов. Кроме того, не все из этих перечисленных документов «не подлежали оглашению», например: договор на стр-во жест. — баночной фабрики, записка Наркома о порядке расчетов за лес и т. д., а экспертиза, почему-то подвела их всех под категорию «секретных» и «не подлежащих оглашению». Но, помимо всего этого, как можно заявлять, что я «скрыл» эти документы, когда подлинники всех титульных списков находились в спецчасти треста, стройфинплан и квартальные производственные планы составлялись на основе титульных списков, копии их имелись у заказчика (Дирекции Судоремзавода и в АКО), а также в Промбанке, у Главного Бухгалтера Треста, (это же относится и к договорам на производство подрядных работ), т. е. у всех тех, у кого эти документы должны быть? Откуда видно, что я «скрывал» эти документы, когда я их в официальном акте сдал моему преемнику Шалыту И.О.? (Все перечисленные в акте экспертизы, как «скрытые» мною, документы, прошу приобщить к делу). в) Не рассмотрев самого документа и, очевидно, не сопоставив его с другими материалами, имевшимися в Плановом Отделе «Камчатстроя», Экспертная Комиссия, так же голословно, как и в предыдущих случаях, заявляет в нескольких местах своего акта о том, что я, якобы, «скрыл» «важнейший» документ — распоряжение по Главстрою НКПП СССР от января 1937 г. «О программе строительно-монтажных трестов НКПП СССР на 1937 г.». Однако, если бы эксперты рассмотрели это распоряжение по Главстрою, то увидели бы. что оно представляет собой перечень итоговых данных из утвержденных титульных списков строительства Судоремзавода и Баночной фабрики, по разделам: «чистое строительство», «монтажные работы», «оборудование». Этим распоряжением по Главстрою Плановый отдел руководствовался (учитывая изменения, происходящие из нового титульного списка, утвержденного Главрыбой от 12/VI. 1937 г.) при составлении стройфинплана на 1937 г., что видно из акта от 9-10/ XI. 1937 г., составленного мною и Шалытом И.Э., но, который, очевидно, не достаточно внимательно изучили эксперты, в результате этого пришедшие к неправильному выводу — обвинению меня в «сокрытии» этого документа. ('Упомянутое распоряжение по Гпавстрою, с приложениями к нему, прошу приложить к делу). Не приводя никаких доказательств, Экспертная комиссия в своем акте берет под сомнение замечание, записанное в акте от 9-10/XI. 1937 г. о сдаче-приемке дел Планового отдела, о том, что «вопрос с годовой программой работ Треста на 1937 год окончательно еще не выяснен». Но, по моему мнению, в самом этом акте от 9-10/XI. 1937 г. достаточно приводится состояние вопроса с годовой программой (титульными списками Судоремзавода), и, при соответствующем ознакомлении с упоминаемыми при этом в акте документами, такого бы ложного сомнения у экспертов не возникло бы. Дело же с годовой программой обстояло так: Утвержденный 28/1. 1937 г НКПП СССР первоначальный вариант титульного списка стр-ва Судоремзавода (из которого исходила и упомянутая выше программа работ «Камчатстроя»), в силу отсутствия, в то время, производственных калькуляций, был составлен на основе приблизительных расчетов стоимости работ по отдельным объектам. Кроме того, для завершения работ по стр-ву первой очереди СРЗ, а также для выполнения определенного цикла работ по вновь начинаемым объектам (цех № 10, медницкий, электросварочный и др., спецсклады), утвержденного лимита в 12 млн. рубл., даже исходя из примерных расчетов, не хватало. Нач. Главстроя Емельянов А.Г. указал тогда еще, когда в начале января м-ца 1937 г. подготавливался в Главстрое проект этого титульного списка, что «сейчас больше, чем 12 млн. рубя, на стр-во СРЗ, выделить нельзя, ввиду урезки плана по НКПП СССР, но разворачивать работы нужно с учетом того, что к средине года, когда выявятся неиспользованные другими стройками лимиты, будет добавлено еще, примерно, 5 млн. рубл.». И действительно, в конце апреля, или в начале мая м-ца 1937 г., в «Камчатстрой» поступила телеграмма Емельянова А.Г. о том, что НКПП может выделить еще 5 млн. рубл., и, чтобы, в связи с этим, срочно был представлен в Наркомат проект нового увеличенного титульного списка, рассчитанного по калькуляциям. Плановую группу, и меня в том числе, к этой работе не привлекли. Для составления проекта нового титула была образована специальная комиссия с участием инженеров Крутикова, Михайлова, Занегина и представителей заказчика Эта комиссия, не учитывая почти полного невыполнения программы за истекшие пять месяцев 1937 года (см. отчетные данные по ф. № 13 ЦУНХУ), под нажимом заказчика (Дирекция завода), и боясь взять на себя ответственность в атмосфере имевших место разговоров о вредительстве, — пошла по «линии наименьшего сопротивления», составив проект титульного списка чуть ли не на 40 с пишним млн. рублей. Урезать его не хватило, очевидно, «Смелости» ни у врио. Управляющего «Камчатстроем» Кроткевича, ни у Директора завода Слободенюка В.М, а отправлять титульный список в таком виде в Наркомат нельзя было Повторяю, — меня к этому делу не привлекли, о работе комиссии я знаю из бесед с Михайловым и Занегиным. В начале июля м-ца 1937 г. я получил распоряжение от Кроткевича и представителя Главстроя инж. Бальчевского В.К о составлении проекта титульного списка в соответствии с телеграммой Главстроя. Я высказал им свое личное мнение, сводящееся к тому, что, исходя из учета итогов работы треста за прошедшее 1-е полугодие, не следует увеличивать лимита, а нужно перераспределить ассигнования по объектам в пределах утвержденного лимита в 12 млн. рубл. с тем, чтобы обеспечить в оставшееся 2-е полугодие выполнение работ по важнейшим объектам. Ни Кроткевич и Бальчевский, ни Слободенюк, и ни Быков НН., назначенный с 13/VII 1937 г Управляющим трестом, до этого находившийся на стройке в качестве члена бригады политуправления НКПП СССР, со мной не согласились, Быков предложил составлять титульный список на 19 млн. рубл., заявляя, что «раз Наркомат предлагает увеличить программу, то мы обязаны это принять к исполнению», и, что «делом чести его, как нового Управляющего, «в порядке ликвидации последствий вредительства» выполнить эту увеличенную программу». Исходя из этого распоряжения, был составлен к 15/VII. 1937 г проект титула на 18. 955 тыс. рубл., увезенный с собою в Москву инж. Бальчевским. Но этот проект титула утвержден в Москве не был. Зам. Нач. Главстроя Шефтель, в своем письме от 17/VIII. 1937 г., указал Быкову, что «надо честно сказать Наркому, что из плана будет выполнено, а что перейдет на следующий год», трезво оценив реальные возможности Треста (см. письмо Шефтеля). Поэтому, когда я вернулся из командировки 25/VIII. 1937 г. я сейчас же приступил к составлению проекта титульного списка, который был окончательно согласован с Быковым и Слободенюком, в сумме 13. 600 т.р. (привожу на память), но был Быковым и б. Нач. АКО Корнюшиным Ф.Д. всячески задержан «в порядке согласования» и поэтому не отправлен в Москву. В конце концов Корнюшин, перед своим отъездом, в конце октября м-ца 1937 г. поручил рассмотрение проекта титула своему преемнику Притыко. Таким образом, ни проект на 18. 955 тыс. рубл., и ни проект на 13 600 тыс. рубл., не были утверждены, а действовал новый титульный список, поступивший в «Камчатстрой» в августе м-це (или в июле) 1937 г., и утвержденный, с незначительными отклонениями от первоначальною титула, зам. Начальника Главстроя Исаевым 12/VI. 1937 г., в сумме 12 млн. рубл В силу этого, видя, какую «проволочку» испытывает вопрос с титульным списком, т. е. с уточненной программой Треста, со стороны Быкова и Корнюшина, стройфинплан на 1937 г. составлялся, и был составлен, исходя из действующего титула от 12/VI. 1937 г. Однако, уже в начале ноября м-ца 1937 г., в Управление трестом поступила телеграмма за подписями Нач. Главрыбы Андрианова и Зам. Нач. Главстроя Цукермана, о выделении дополнительного лимита в 5 млн. рубл. на стр-во Судоремзавода, без указания разверстки этого лимита по объектам (телеграмма в Плановый отдел тогда еще не была передана и я знал о ней со слов Быкова). Таким образом, явственно следует, что замечание в акте от 9-10/XI. 1937 г. о невыясненности годовой программы было записано мною и Шалытом И.Э. вполне обоснованно, и происходила эта неясность отнюдь не по моей вине. (Упомянутые документы прошу приобщить к делу). О положении с титульным списком я составлял докладную записку в КОУ НКВД, переданную мною в средине сентября м-ца 1937 г. уполномоченному Дуболазову, которую (записку) прошу приложить. В специальном разделе акта Экспертная комиссия говорит о моей «роли в Тресте, помимо выполнения обязанностей по должности». Опять-таки ссылаясь на авторитет и доверие, которыми я, по мнению Комиссии, пользовался в Главстрое, Комиссия упоминает о «влиянии», которое я, якобы, пытался распространить на другие части аппарата Треста. В качестве аргумента, Комиссия приводит письмо Шефтеля от 17/VIII. 1937 г., составленное им во Владивостоке по моему докладу о положении в Тресте, и касавшееся вопросов организационных, финансовых, хозяйственных, учета, снабжения и проч. Но, что плохого было в том, что я докладывал Шефтелю, по поручению Управляющего трестом, о положении дел в Тресте? Я никогда не относился к работе, как «чиновник», ограничивающий себя рамками «от» и «до», и, если мне поручалась работа, хотя и выходящая за пределы моих обязанностей, но я чувствовал себя способным выполнить ее, то я от такой работы не отказывался. В этом, по-моему, нет никакого преступления В приложении к акту Экспертной комиссии имеется заявление экономиста Коваленко И.Д. на имя Быкова от 1/XI. 1937 г., которое я, кстати, увидел впервые. В этом заявлении Коваленко явно клевещет на меня, заявляя, что я «не руководил работой отдела», «что производственные планы на II и III кварталы 1937 г. составлялись по инициативе самого Коваленко», что я, якобы, «преследовал Коваленко за критику меня, доведя его до сердечных припадков, которыми он не страдал в течение последних 10-ти лет», и, как «апофеоз» издевательства «поставил ему прогул по неуважительной причине за 19/Х. 1937 г., не считаясь с тем, что он был в городской поликлинике». Последнее с достаточной ясностью вскрывает истинную подоплеку «жалобы» Коваленко. Все работники Отдела (Склянский, Шалыт и др.) могут подтвердить, что Коваленко неоднократно с июня 1936 г. «бюллетенил» по поводу сердечных припадков, так что его припадок, если только он действительно имел место, 19/Х. 1937 г., был не «первым за последние 10 лет». Я утверждаю, что у Коваленко 19/Х. 1937 г. бюллетеня не было, поехал он в город, не согласовав этого со мною, и, в обстановке исключительного развала труддисциплины, имевшего место в 1937 г. в «Камчатстрое», я считаю, что вполне правильно поставил Коваленко прогул по неуважительной причине. Я просил Быкова наложить на Коваленко взыскания, но Быков, как оказывается, предпочел использовать Коваленко для клеветы на меня, в надежде, очевидно, использовать впоследствии этот «документ» в оправдание моего незаконного увольнения. Я прошу затребовать и приобщить справку Главбуха «Камчатстроя» о том, сколько было выплачено Коваленко за период его работы до 19/Х. 1937 г. по бюллетеням, и за сколько дней болезни, и имел ли Коваленко бюллетень за 19/Х. 1937 г., а также допросить по этому вопросу старых работников отдела. По поводу выговора, объявленного мне Рябовым в мае 1936 г., прошу приобщить к делу мое заявление от 28/V. 1936 г., имеющееся в делах Управления Треста. По поводу безобразных условий работы Планового Отдела в 1936 г., прошу приобщить к к делу ряд моих докладных записок на имя Нан. стр-ва Рябова В., в частности, записку от 4/V. 1936 г. Подпись. Вписанному: на 1-й странице слову «моем-», на 8-й странице слову: «моей», на 9-й стр. слову: «наличия», на 10-й стр. слову: «нужным», на 13-й стр. зачеркнутому слову «работ» и вписанному: «СРЗ», на 14-й стр зачеркнутому слову: «увеличить» и вписанному слову: «увеличить», — верить. Подпись.Эти показания о чем говорят? Только о том, что отца было нереально срубить.
Отец. Я потребовал вторую экспертную комиссию. Из непредубежденных специалистов.
И что? И — о, чудо!.. Вторая комиссия экспертов пришла к выводам о правоте отца. Семен возликовал. Есть!.. Есть все-таки правда на свете!.. Еще не победа, но полпобеды — точно. Сейчас, вот сейчас следствие остановится в своей нескончаемой опоре на брехунов и… его выпустят!.. Освободят из-под новеньких наручников!.. Он выйдет на полюбившуюся ему камчатскую землю и восстанет из пепла гейзером, плесканет им в морды горячим фонтаном, он еще покажет, что его вулкан не потух!.. Его извержение впереди! Он снова ЗАРАБОТАЕТ и будет неимоверно счастлив со своей Лидукой и маленьким. Не тут-то было. Выводами второй экспертной комиссии следствие пренебрегло, будто их и не было. Новые допросы показали незыблемость и громаду старых обвинений. Семена изметелили, и это был сигнал к тому, что ничего не изменилось, конец его близок. Как так? А вот так. Мало тебя мутузили, собака, если не понимаешь. А на посошок вот тебе два постановления в зубы, ознакомься… Семен похолодел… На дворе стоял март 1940 года.
ВРИО НАЧ. УНКВД по КО «21» марта 1940 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ. (Об отказе в ходатайстве обвиняемому.) 1940 года, марта 21 дня гор. Петропавловск на Камчатке. Я, Опер. Уполномоченный ЭКО УНКВД по КО, Сержант Госбезопасности (фамилия зачеркнута) рассмотрев сего числа ходатайство обвиняемого ШЛИНДМАНА Семена Михайловича, в совершении им преступления предусмотренного ст. ст. 58-1 п «А», 58-8-7-11 УК РСФСР НАШЕЛ: 17 марта 1940 года при подписании протокола предъявления материалов об окончании следствия обвиняемый ШЛИНДМАН в порядке ст. 206 УПК РСФСР выдвинул к следствию ходатайство в производстве очных ставок с лицами, давшими на него показания о контрреволюционной деятельности: КИРИЛОВЫМ, КРУТИКОВЫМ, АНДРЕЕВЫМ, КОНОВАЛЕНКО, ЧАЙКОВСКИМ, МЕТЕНЕВЫМ И КРОТКЕВИЧ. Учитывая, что очные ставки ШЛИНДМАНУ с упомянутыми лицами следствием выполнены быть не могут лишь по тем основаниям, что указанные лица: КРУТИКОВ, КИРИЛОВ, АНДРЕЕВ, КОНОВАЛЕНКО, ЧАЙКОВСКИЙ, МЕТЕНЕВ в 1938 году осуждены и не известно где находятся в настоящее время Ходатайство ШЛИНДМАНА в производстве очной ставки с обвиняемыми КРОТКЕВИЧ следствием так же выполнении быть не может по той причине, что очная ставка КРОТКЕВИЧ со ШЛИНДМАН была, а в данное время КРОТКЕВИЧ от данных им следствию показаний в контрреволюционной деятельности отказался, о чем имеется в деле выписка из протокола допроса обвиняемого КРОТКЕВИЧ По этому на основании изложенного и руководствуясь ст 114 УПК РСФСР — ПОСТАНОВИЛ: В ходатайстве ШЛИНДМАНУ о производстве очных ставок с обвиняемыми. КИРИЛОВЫМ, КРУТИКОВЬ!М, АНДРЕЕВЫМ, КОНОВАЛЕНКО, ЧАЙКОВСКИМ, МЕТЕ-НЕВЫМ и КРОТКЕВИЧ — ОТКАЗАТЬ. Копию настоящего постановления направить Военному Прокурору, для сведения. И в угруппу 1-го С/ Отделения КОУ НКВД для исполнения. ОПЕР. УПОЛН ЭКО УНКВД по КО СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись «СОГЛАСЕН» НАЧ. СЛЕД. ЧАСТИ УНКВД по КО ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись. Настоящее постановление мне объявлено 21 марта 1940 года. Подпись.
«УТВЕРЖДАЮ» ВРИО НАЧ УНКВД ПО КО МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ «21» марта 1940 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ. (о направлении уголовного дела № 656 на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР). 1940 года, марта 21 дня гор. Петропавловск на Камчатке. Я, Опер. Уполномоченный ЭКО КОУ НКВД, Сержант Госбезопасности (фамилия зачеркнута) рассмотрев сего числа уголовное дело № 656 по обвинению ШЛИНДМАНА Семена Михайловича, 1905 года рождения, уроженца г. Харькова, еврея гр-на СССР, по происхождению сына торговца, служащего, беспартийного, образование незаконченное высшее, до ареста работавшего н-ком планового отдела треста «Камчатстрой». НАШЕЛ: ШЛИНДМАН арестован был КОУ НКВД 3 го декабря 1937 года, как участник антисоветской правотроцкистской организации существовавшей на Камчатке. (л.д. 48, 49–51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 74–77). По существу предъявленного обвинения по ст. ст. 58-1 п «А», 58-8-7-11 УК РСФСР ШЛИНДМАН до-поошен более 8-ми раз, виновным себя ни в чем не признал (л.д. 15–18, 19, 25, 26–32, 33–42), но однако ШЛИНДМАН в принадлежности к право-троцкистской организации достаточно изобличается показаниями обвиняемых, как участников этой же организации КРУТИКОВА, КИРИЛЛОВА, ЧАЙКОВСКОГО, КОНОВАЛЕНКО, АНДРЕЕВА, КРОТКЕВИЧА и МЕТЕНЕВА — осужденных Военной Коллегией Версуда Союза ССР в разное время к ВМН, за исключением обвиняемого КРОТКЕВИЧА, дело которого направлено на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР (пакет № 1). Принимая во внимание, что обвиняемый КРУТИКОВ, КИРИЛЛОВ, ЧАЙКОВСКИЙ, КОНОВАЛЕНКО, АНДРЕЕВ, КРОТКЕВИЧ и МЕТЕНЕВ изобличающие ШЛИНДМАНА в принадлежности к антисоветской право-троцкистской организации не могут быть вызваны в суд в силу вышеизложенных обстоятельств, кроме этого обвиняемый ШЛИНДМАН в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал, поэтому на основании вышеизложенного и руководствуясь приказом НКВД СССР за № 00762 — ПОСТАНОВИЛ: Уголовное дело № 656 по обвинению ШЛИНДМА-НА Семена Михайловича направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. ОПЕР. УПОЛН. ЭКО УНКВД по КО СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись «СОГЛАСЕН» НАЧ. СЛЕД. ЧАСТИ УНКВД по КО ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись.Эти две бумажки венчали процесс следствия. В них интересные несовпадения формулировок поражают своим цинизмом и жутью смысла. Второй абзац первого постановления при всей безграмотности гласил: «…осуждены и не известно где находятся в настоящее время».
Во втором постановлении, принятом на следующий день, второй абзац О ТЕХ ЖЕ ЛЮДЯХ («за исключением обвиняемого Кроткевича») информирует иначе — оказывается, они были осуждены в разное время Военной коллегией Версуда Союза ССР к Высшей Мере Наказания (ВМН). Другими словами, находятся не «не известно где», а на том свете. И далее совсем уж до смеха простодушно: «Принимая во внимание, что обвиняемый» (!) — далее единственное число переходит во множественное перечисление — «не могут быть вызваны в суд в силу вышеизложенных обстоятельств», — это уже Гоголь какой-то. Действительно, покойника в суд не вызовешь. С него уж взять нечего, кроме «свидетельских» показаний, а они к делу пришиты. Однако отцу не было настроения смеяться. Он наверняка с удовлетворением отметил, что главный его противник на стройке Кроткевич «от данных им следствию показаний о контрреволюционной деятельности — отказался»… Все-таки взыграло в нем человеческое!.. Да что толку — новую очную ставку с ним уже, видимо, не так, как раньше, себя ведущим, все равно не дали. «Отказать» означало, что следствию до фени: «признался — не признался», — они закрывают дело. Поздно! Игры кончились. Наступает час расплаты за несодеянное. А куда делся Рябов?.. Расстрелян уже давно, иначе бы фигурировал в постановлениях.
Я. Отец, ты обратил внимание на словечко «пакет»? Отец. Обратил. Я. Значит, они в буквальном смысле расстреливали «пачками»? Отец. Кроткевича они тоже расстреляли. Я узнал об этом скоро, на этапе. Я. И ему не помогло, значит, то, что он перед смертью отказался от всего, что наговорил на следствии? Отец. Не помогло. Я. Жаль. Отец. Да что «жаль»! Многие шли этим путем: следователю одно, перед пулей — другое… Простить их надо, а не жалеть. Я. Ты — простил? Отец (мрачно). Я — другое дело. (Отвернулся.) Я. И все же одно словечко — важное! — промелькнуло во втором постановлении — «суд». Значит, есть надежда на рассмотрение в суде?.. Отец (усмехнувшись). Никакой, смотри внимательно: дела шли в два адреса — или в Военную коллегию Версуда или в Особое совещание. Оба органа давали «вышку». Я. А в чем различие? От е ц. А в том, что одних закапывали, а других сразу на небо отправляли. Отец лукаво посмотрел на меня исподлобья и сплюнул. Сквозь зубы. Смачно так. По-блатному. Далее серия документов — без комментариев, говорящих сами за себя.
«УТВЕРЖДАЮ» ВРИО НАЧ. УНКВД по ко МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ «22» марта 1940 года ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По следственному делу № 656 по обвинению ШЛИНДМАНА Семена Михайловича в преступлении предусмотренном ст. ст. 58-1 п «А», 58-8-7-11 УК РСФСР В 1937 году органами НКВД на Камчатке была вскрыта контрреволюционная право-троцкистская организация ставившая своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв экономической и военной мощи СССР, поражение СССР и реставрацию капитализма. Для осуществления своих преступных замыслов, право-троцкистская организация имела связи с иностранными государствами и в целях получения с их стороны вооруженной помощи — систематически занималась в пользу их шпионажем, осуществляла вредительские и диверсионные акты во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства Камчатки. Одновременно занималась подготовкой террористических актов против руководителей партии и Советского правительства. Произведенным по делу расследованием установлено: Что одним из участников антисоветской правотроцкистской организации, существовавшей на Камчатке, являлся обвиняемый ШЛИНДМАН Семен Михайлович, который в состав названной организации был завербован бывш. н-ком треста «Камчатстрой» — РЯБОВЫМ. Практическая преступная деятельность ШЛИНД-МАНА заключалась в том, что он, будучи участником право-гроцкистской организации по заданию РЯБОВА, в интересах названной организации, на протяжении ряда лет, проводил подрывную вредительскую работу в области производственного планирования строительства Судоремзавода, которая выразилась главным образом в том, что ШЛИНДМАН в контрреволюционных целях занимался дезорганизацией производства, путем задержки на только составления производственно-квартальных планов, но и их спуска на участки более чем на 2 месяца. Кроме этого ШЛИНДМАН затянул составление стройфинплана на 1937 год. Он же сознательно проведение в жизнь премиально-прогрессивную оплату труда, саботировал стахановское движение и искусственно создавал у рабочих недовольство к советской власти и партии. Допрошенный в качестве обвиняемого ШЛИНДМАН в предъявленном обвинении по ст. ст. 58-1 п «А», 58-8-7-11 УК РСФСР виновным себя не признал, но тем не менее, ШЛИНДМАН в принадлежности к правотроцкистской организации и в проведении им подрывной деятельности достаточно изобличается прямыми показаниями обвиняемого КРОТКЕВИЧА, даденных им следствию на очной ставке со ШЛИНДМАНОМ 10/Х. 1938 года (л.д. 74). И семью косвенными показаниями осужденных В.К. к ВМН: КИРИЛОВА, КРУТИКОВА, АНДРЕЕВА, ЧАЙКОВСКОГО, КОНОВАЛЕНКО, МЕТЕЛЕВА и КРОТКЕВИЧА, дело которого направлено на Особое Совещание при НКВД СССР. На ряду с изложенным преступная деятельность ШЛИНДМАНА в плановом отделе треста «Камчатстрой» подтверждается актом экспертной комиссии и особым мнением чл. Экспертной комиссии ЗОЛОТУХИНА, а также показаниями свидетелей ФЕДОСЕЕВА, ДВОРЦОВА. На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ: ШЛИНДМАН Семен Михайлович, 1905 года рождения, уроженец гор. Харькова, по национальности еврей, гр-н СССР, по происхождению сын крупного торговца, служащий, беспартийный, образование незаконченное высшее, до ареста работал нач-ком планового отдела треста «Камчатстрой», В том, что. Является участником контрреволюционной правотроцкистской организации существовавшей на Камчатке, в интересах которой проводил подрывную деятельность в области производственного планирования строительства Судоремзавода. Будучи начальником планового отдела треста «Камчатстрой» занимался дезорганизацией производства путем задержки, не только составления производственных квартальных планов, но и их спуск на участки более чем на 2 месяца. Кроме этого сознательно срывал проведение в жизнь премиально-прогрессивную оплату труда, а так же саботировал стахановское движение, тем самым создавая у рабочих недовольство к Советской власти и ВКП(б), то есть совершил преступление предусмотренное ст. ст. 58-1 п «А», 58-8-7-11 УК РСФСР, поэтому на основании изложенного и руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР. ПОЛАГАЛ БЫ: Настоящее дело № 656 по обвинению ШЛИНДМАНА Семена Михайловича направить на рассмотрение Особого Совещания НКВД СССР. ОПЕР. УПОЛН. ЭКО УНКВД по КО СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись «СОГЛАСЕН» НАЧ. СЛЕД. ЧАСТИ УНКВД по КО ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись.
СПРАВКА Обвиняемый ШЛИНДМАН CM. содержится под стражей при Петропавловской Следственной тюрьме НКВД с 3-го декабря 1937 года. Вещественных доказательств по делу нет. Все справки по настоящему делу приобщены. Обвинительное заключение составлено в гор. Петропавловске на Камчатке «21» марта 1940 года. ОПЕР УПОЛН. ЭКО УНКВД по КО СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1940 года апреля 1 дня гор. Петропавловск-Камчатский ВРИД Военного прокурора Войск НКВД по Камчатской области Ст. Лейтенант (фамилия замазана) сего числа, рассмотрев уголовное дело по обвинению ШЛИДМАН Семена Михайловича по ст. ст. 58-1 п «А», 58-8-7-11 УК РСФСР НАШЕЛ: ШЛИДМАН С.М рождения 1905 года, урожениц города Харькова, сын крупного торговца-лишенца, образование незаконченное высшее, по национальности еврей, до ареста работал начальником планового отдела треста «Камчатстрой». Материалами следствия обвиняемый ШЛИДМАН в достаточной степени изобличается, как член и участник антисоветской право-троцкистской организации существовавшей на Камчатке, в которую был завербован быв. Нач-ком треста «Камчатстрой» РЯБОВЫМ. Практическая преступная деятельность ШЛИДМА-НА заключается в том, что в интересах к/p организации на протяжении ряда лет проводил подрывную вредительскую работу в области планирования строительства судоремзавода, занимался дезорганизацией производства, задерживал составление производственноквартальных планов, спуск на участки этих планов запаздывал на два и более месяцев. Сознательно срывал проведение в жизнь премиально-прогрессивную оплату труда, саботировал стахановское движение, искусственно создавал недовольство рабочих к советской власти, что подтверждается актами экспертных комиссий от 17 сентября 15 октября 1939 года и от 25 янваоя по 1 февраля 1940 года. Допрошенный в качестве обвиняемого ШЛИДМАН в предъявленном обвинении по ст. ст. 58-1 п «А», 58-8-7-11 УК РСФСР виновным себя не признал, но принадлежность к право-троцкистской организации и подрывная деятельность ШЛИДМАНА доказана очной ставкой обвиняемого КРИТКЕВИЧА со ШЛИДМАНОМ и семью косвенными показаниями осужденных: КИРИЛОВА, КРУТИКОВА, АНДРЕЕВА, ЧАЙКОВСКОГО, КОНОВАЛЕНКО и МЕТЕЛЕВА. Преступная деятельность ШЛИДМАНА по ст. ст. 58-1 п «А», 58-8-7-11 УК РСФСР материалами следствия доказана и принимая во внимание, что направление дела в суд в отсутствии свидетелей осужденных к ВМН Крутикова, Андреева, Кирилова, Чайковского, Коноваленко и Метелева не предоставляется возможным, а поэтому дело подлежит направлению на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. В силу изложенного и руководствуясь ст. 221 УПК — ПОСТАНОВИЛ: Обвинительное заключение по делу ШЛИДМАН Семена Михайловича утвердить. Дело направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. ВРИД Военного Прокурора Войск НКВД Камчатской области Старший Лейтенант — Подпись.
Наркому Внутренних Дел Союза С.С.Р. т. Берия Прокурору Союза С.С.Р. От з/к Шлиндман Семена Михайловича 1905 г. рожд., б. Нач. Планового отдела Треста «Камчатстрой» НКПищепрома СССР, арестованного 3/XII. 1937 г. в г. Петропавловске на Камчатке, заключенного в ИТЛ, сроком на 8 лет, по постановлению Особого Совещания НКВД СССР от 23/VII. 1940 г. № 73 Канский ОЛП Краслага НКВД, строительство Гидролизного Завода. ЖАЛОБА «За участие в антисоветской право-троцкистской организации», — гласит постановление Особого Совещания о заключении меня в лагеря. Но это совершенно неслыханное дело: взять честного советского человека, продержать его почти 3 года под следствием по обвинению в совершении чудовищных государственных преступлений, которых он никогда в жизни не совершал и не мог совершать, а потом, на основании вымышленных, клеветнических и провокационных «материалов», заключить его на 8 лет за участие в к.-р. организации, о которой никогда не имел никакого понятия. Наложить такое ужасное, позорнейшее клеймо на человека, лишить его свободы, оторвать от общества, от семьи, — это ведь что-то да значит, на это надо иметь какие-то основания! Таких оснований нет и быть не может, ибо я нисколько не виновен в предъявленных обвинениях, построенных на лжи, клевете и гнуснейших инсинуациях. О моей, якобы, принадлежности к антисоветской право-троцкистской организации имеются в деле выписки из протоколов показаний бывш. работников треста «Камчатстрой» (стр-во Камчатского Судоремзавода), арестованных в 1937 году: Коноваленко М.И, Митенева, Чайковского И.И., Крутикова В.Н., Андреева НА., Кириллова А., Кроткевича Г.Л и Певзнера З.С. В показаниях, подписанных Коноваленко, Ми-теневым и Чайковским на стереотипный вопрос следствия: — «Кто Вам известен, как член к.-р. правотроцкистской организации, действовавшей на стр-ве Судоремзавода?», записан стандартный у всех троих ответ: «Шлиндман Семен Михайлович — Нач. Планового Отдела» и больше ничего… Чем же это подтверждается, какими фактами, документами, доказательствами, уликами, прямыми или хотя бы косвенными? Когда, от кого, в связи с чем, по какому поводу, когда эта чушь стала им «известна»? кто, когда, где, как и для чего «завербовал» меня в эту организацию, что я в ней делал или намеревался делать, с кем и как я был связан в этой организации, о которой я впервые услышал на следствии? Ничего этого нет, — показания абсолютно голословны и никак не могут быть доказаны. Показания, подписанные Крутиковым, Андреевым, Кирилловым, Кроткевичем и Певзнером, отличаются от предыдущих тем, что в них как бы в «подтверждение» голословной клеветы об участии в к.-р. организации приводятся «факты» моей, якобы, вредительской подрывной работы. Все эти «факты», от первого до последнего, — не стану поэтому их здесь перечислять и останавливаться на них, — целиком и полностью опровергнуты мною в показаниях, данных на следствии, моими собственноручными дополнительными показаниями, написанными в порядке ст 206 УПК РСФСР, от 26/X, 2/XI, 3/XII и от 19–20 марта 1940 года. Они, эти вымышленные, абсурднейшие до идиотизма, «факты» опровергнуты имеющимися в деле документами и, главное, Экспертной комиссией от 25/1— 1/11. 1940 г., четко констатировавшей отсутствие в моей работе каких-либо элементов вредительской или какой-либо иной преступной деятельности (см. выводы комиссии). До указанной Экспертной комиссии от 25/1 — 1/ II. 1940 г., в подкрепления клеветнических выдумок, записанных в показаниях поименованных выше пиц, была создана т. н. тоже «экспертная» комиссия от 19/ IX — 15/Х. 1939 г. Но выполнить задачу можно только путем опять-таки клеветы, лжи, подтасовок. Так оно и случилось — акт от 19/IX — 15/Х. 1939 г. явился, в своем роде, шедевром этих омерзительных приемов, жестоко осуждаемых партией, Советским правительством, всей советской общественностью. Весь этот акт «экспертизы», со всеми ее выводами, тоже оказался опровергнутым полностью заключением квалифицированной экспертной комиссии от 25/1 — 1/ II. 1940 г., кроме того, признан юридически неправомерным, т. к. «экспертиза» от 19/IX — 15/Х. 1939 г. была проведена в нарушение ст. ст. 169 и 171 УПК РСФСР (см. в деле указание от 17/XI. 1939 г. Воен. Прокурора Луценко). Значит, все показания Крутикова, Андреева, Кириллова, Кроткевича и Певзнера — отпадают. «Факты» вредительства, на которых строились клеветнические, провокационные показания о моем, якобы, участии в антисоветской право-троцкистской организации, — разбиты вдребезги. Иначе и быть не могло! Но показания Певзнера и Кроткевича отпадают еще по другим причинам: Показания Певзнера являлись наиболее распространенными, так сказать, развернутыми. Впервые я их увидел, как и другие показания лишь 22/Х. 1939 г. при ознакомлении с делом [нрзб.] вовсе не его показаниями, а сочинено и написано следователем Ноздра^евым, заставившим Певзнером физическими методами воздействия, подписать этот [нрзб.] своих показаний. Это ясно записано в протоколе допроса Певзнера от 20/Х. 1939 г. (см. в моем деле), где он категорически отказался от этих ложных «показаний». Вот какими нечестными, антисоветскими методами собирался ложный, клеветнический материал о моем «участии» в антисоветской право-троцкистской организации! Певзнер в ноябре м-це 1939 г. — освобожден. Освобождены также Бушев М.М. — прораб промстрои-тельства — в январе 1940 г. и Борзов В.П. — инженер механик — в июне 1940 г. А ведь они, как и я были арестованы в 1937 году (Певзнер и Борзов в один день со мною) по тем же показаниям тех же лиц, были обвинены в том же, что и я, вместе со мною, в августе 1938 г., выдвинулись этапом в г. Хабаровск, а в 1939 г. возвращены на Камчатку для переследствия. Но почему же они освобождены, а я оказался заключенным в лагерь? Если все эти «показания» признаны недействительными в отношении их, почему в отношении меня те же клеветнические «показания» оставлены в силе, а гнуснейшая ложь принята за правду? Кроткевич тоже отказался от своих показаний, и также подписанных под физическо-моральными методами воздействия. Об этом имеется в моем деле выписка из протокола его допроса от 4/XII. 1939 г. На основании этого мне было отказано в очной ставке с Кроткевичем, как не нужной. Значит и следствие само признало показания Кроткевича недействительными и приняло его отказ от них! В чем же дело? Что же, в таком случае, остается даже от вымышленных, клеветнических материалов дела по обвинению меня в совершении тяжких преступлений против Родины, Партии и Советской власти? Ничего не остается, а других материалов, хоть сколько-нибудь правдоподобных, нет, не было, не будет и быть не может, их не существует в природе, ибо я никогда, повторяю еще и еще раз, никогда не состоял ни в каких антисоветских право-троцкистских организациях и никогда не занимался какой-либо к.-р. деятельностью. Следствие с самого начала и до конца, велось с вопиющими нарушениями норм УПК РСФСР [нрзб.]. Расскажу только об одном: 31/V. 1938 г., вечером, начался мой «допрос», продолжавшийся до 5-ти часов утра 22/VI. 1938 г. Два дня из них, 12 и 13 июня меня продержали в карцере, остальное же время, с 9-ти часов вечера 31/V до 5-ти часов утра 12/VI и с 5-ти час. утра 14/VI до 5-ти час. утра 22/VI. 1938 г., без всякого перерыва, проводился этот «допрос». За все эти 22 суток только 16 часов мне дали спать, когда был в карцере — по 8 часов в ночи на 13-е и 14-е июня. Когда я, мучительно одолеваемый сном, начинал дремать, немедленно мне давался удар линейкой, пинок ногой или кулаком, или в ухо дикий окрик следователя, или же, что всего ужаснее, тонкая струя холодной воды за шиворот, на позвоночник. Сотни раз, теряя равновесие, я падал столбом, ушибая голову и тело о косяк двери, об угол следовательского стола, об пол. Зверское избиение руками, ногами, пощечины, «прощупывание» ребер и селезенки. Гэлова и тело были покрыты ссадинами и кровоподтеками, [нрзб.] суток, в общей сложности, продержали меня в наручниках, вгрызавшихся в кости, у самых локтей, в закрученные назад руки. Это была совершенно неимоверная, нечеловеческая боль, парализовывав-шая и тело, и мысль. Сутками заставляли сидеть на уголке табурета, на «кобчике», вытянув руки вперед, или же выстаивать не шелохнувшись, на ногах. Все 22 суток держали меня на карцерном режиме питания: 300 грамм хлеба и 3 стакана воды в день. Изощреннейшая площадная брань, угрозы расстрела, ареста жены с ребенком, прямые антисоветские выпады следователей Матвеева, Шипицына, Глотова и Ноздра-чева, как-то: «Вся их нация такая — раньше торговали галантереей, а сейчас торгуют Россией», «Все из их нации — троцкисты». Когда я потребовал убрать этих черносотенцев, пробравшихся под видом советских следователей в органы НКВД, то, по распоряжению Евлахова (б. нач. 3-го отделения КОУ НКВД), меня жестоко избили, еще крепче закрутили наручники и писали рапорт о том, что я-де «провоцирую следствие»… От меня требовали только одного: «признать себя членом к.-р. право-троцкистской организации, указать ее участников (при этом, помимо фамилий уже арестованных лиц, назывались мне сотрудники планового отдела Шалыт, Склянский) [нрзб.] требовали «признаться» во вредительстве, диверсиях и даже в таком чудовищном деле, как покушение на Наркома А.И.Микояна, которое я, якобы, подготавливал во время пребывания в командировке в Москве. Несмотря на все эти жуткие пытки и издевательства я остался честным человеком, — ни одного слова лжи, клеветы от меня не услышали, не добились. Я был готов скорее умереть, но не стать клеветником, не опозорить честного советского имени, не делать такими же несчастными как я и моя семья, людей и их семьи, о которых я ничего плохого не знал. Моя совесть перед самим собою, перед своей семьей, перед Партией и Правительством, перед всем Советским народом — чиста. Я жил честной, трудовой жизнью советского специалиста на воле, я остался честным человеком и в тюрьме. Все мои показания, имеющиеся в деле, правдивы, мне нечего от них отказываться, — они подтверждаются документами, экспертами, действительными фактами. На каком же основании меня осудили? Может быть потому, что в показаниях Кроткевича и Певзнера было записано, что я, якобы, в 1922 году, когда мне было 16 лет, исключался из партии и комсомола за принадлежность к «рабочей оппозиции»? Но это ведь чушь. Никогда этого не было. То, что никогда я не участвовал в оппозициях можно же установить путем запроса соответствующих организаций Харькова, допроса живых людей, знающих меня с детства, на которых я ссылался в своих дополнительных показаниях. Это могут подтвердить работники харьковского комсомола того времени (я помню такие фамилии: Шохин, Игнат, Леонтьев, Сазонов, Бурмистров, [нрзб.], — хотя я с ними и не встречался с 1923 года, может быть они помнят меня). Я был исключен из комсомола в мае-июне 1922 года в Харькове, за отказ от работы на заводе и из кандидатов КП(б)У, как несовершеннолетний. И это можно установить, запросив харьковские партийную и комсомольскую организации. Повторяю, никогда, ни в какой «рабочей» или другой оппозиции не был. Я ставлю перед Вами, гр-н Прокурор Союза вопрос так: Если НКВД СССР и Вы считаете меня право-троцкистом, то нечего заключать меня в лагеря, а лучше расстреляйте, как того заслуживает всякая право-троцкистская собака. Я выдержал все примененные ко мне методы допросов и все время отрицаю предъявленные мне обвинения Значит, перед вами или действительно честный советский человек, для которого честное советское имя непартийного большевика дороже всего на свете или же перед вами прожженный политический бандит, готовый лучше умереть, но не сознаться в совершенных им преступлениях. Прошу Вас, гр-н Прокурор Союза, по-настоящему ознакомиться с моим делом и сделать соответствующие правильные выводы. Перед Вами живой человек, преданный своей Родине, Партии и Правительству, для кого самым близким и дорогим именем было и осталось имя И.В Сталина. Прошу Вас подойти к решению моей участи так, как учит этому Сталин: всесторонне и [нрзб] если перед Вами враг — уничтожить его беспощадно, если честный человек — прекратите издевательства над ним, освободите, верните в общество, в семью. Прошу сообщить мне о Ваших решениях. 15/1. 1941 г. Подпись.Он клялся в верности Сталину, зная, что письма проходят перлюстрацию, и обращался к нему…
Я. Обращался? Отец. Конечно, обращался. Трижды. Я. И что? Отец. И ничего. Товарищ Сталин лично мне не ответил. Он вообще никому не отвечал. У него других дел было много. (Отвернулся.)
О да!.. «Дел» у него было действительно невпроворот!.. Сегодня несомненно, что истинным «троцкистом» был сам Сталин, взявший на вооружение левацкий принцип: цель оправдывает средства. Вождь имел цель отнюдь не общественную, а личную. Всем казалось, что он хотел построить социализм, а ему надо было сохранить себя у власти. И всё. Для этого ему следовало прежде всего ликвидировать интеллектуальную эпиту, обозвав ее «мелкой буржуазией», «злопыхателями» и прочими «недобитками». Далее — уничтожить крестьянство как класс, видя в нем главную угрозу большевизму собственники-кулаки в крестьянской стране должны были наткнуться на свинец, посланный властью в виде всеобщей коллективизации. И, наконец, провести «индустриализацию» — чтобы нарастить военную мощь. Полицейскому государству был необходим надежный щит, поэтому все граждане должны были научиться бросать гранату, орудовать штыком, стрелять без промаха, летать на истребителях, маршировать на парадах, смотреть в танковую прорезь, скакать на лошади с саблей в руках, натягивать противогаз на морду лица… Будь, в общем, готов к труду и обороне!.. (Это не помешало вождю полностью просрать начало войны.) Все должны были быть заняты чем-то общественнополезным, благоговейно работать на благо страны, жить ради высокой идеи, провозглашенной великим кормчим. Количество пропаганды на душу населения превосходило производство материальных ценностей. Зомбированное лозунгами общество превратилось в управляемое стадо «железных рыцарей революции». Старые большевики, кстати, делавшие эту самую революцию, были Сталиным отринуты, их утопический идеализм не совпадал с цинизмом новой власти, отягощал правящий класс своей застрявшей в 17-м году психологией разрушения, неприятия, самой позицией антимонархизма, клонил всерьез к идеалам народного восстания, воспевающим свободу, равенство и братство. Никакой оппозиции. Вождь решительно пресекал вольномыслие во всех сферах. Всё, что регламентировано сверху, является безоговорочным руководством к действию. Без всяких там дискуссий и споров. Подчинение — основа основ. Подчинение — ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Никакой юриспруденции. Закон — что дышло… Большую часть арестованных не судили, а приговаривали. Те же, кто не был расстрелян сразу, получали тягомотину псевдоразбирательства (в их числе был мой отец), а следом «вышку» или максимальный срок. Лютость репрессий не знала границ. «Гражданская война» власти со своим народом ширилась и казалась неостановимой. 37-й год — год катастрофы гуманизма, год утраты человечеством тех ценностей, к которым пришел 19-й век в России, — зашига униженных и оскорбленных, служение высшему, истинный патриотизм — все это Сталин сделал посмешищем, он надругался над русской культурой и миросознанием ее знаковых фигур — Толстого и Чехова, презрев человека в человеке, приставив дуло к его виску. Отсюда взаимопредательство, ставка на раскрытие чернот души в обстоятельствах приближающейся ликвидации. Продолжив революцию, понимаемую своеобразно — как средство достижения абсолютной личной власти, вождь вверг руководимый им народ в немыслимые несчастья и страдания, в исторический шок. Судьба отца — крупинка в грандиозном объеме сталинских злодеяний.
Я. Папа, а твоих писем на имя Сталина в деле нет. Почему? Отец (грубо). По кочану!
В разговор вступила мама:
Мама. Он на Берию больше рассчитывал. У них там в тюрьме было много иллюзий. Одна из них — что вот после товарища Ежова пришел товарищ Берия, и он всё исправит. Сталин ведь убрал Ежова как «врага народа»… Сколько он накуролесил!.. Значит, товарищ Сталин, который всё видит и всё знает, хочет, чтобы ошибки Николая Ивановича Лаврентий Палыч не повторил. Они там все приободрились… Берия!.. Дорогой!.. Золотой ты наш товарищ Берия!. Спаситель ты наш, благодетель! Отец. Перестань! Мама. А я-то понимала, что Сталин поменял одного палача на другого. Уже тогда понимала!.. Ягоду он убрал, чтобы замести следы, потом Ежова, чтоб замести новые следы… теперь — очередь Берии… А они там сидели и ничего не понимали… Нигде в мире нет больше иллюзий, чем в тюрьме. А в Следственной тюрьме Петропавловска их было в сто раз больше, чем нигде, — там же Сема сидел!.. Сидел и мечтал!.. Мечтатель! Строитель новой эпохи!.. Отец. Перестань, я сказал. Мама. А я и перестала. «Из года сорокового, как с башни, на всё гляжу». Я тоже мучилась, и мне тоже хотелось писать жалобы. Но я, в отличие от своего мужа, знала, что все бесполезно. Я. Почему, мама? Мама. Потому что… кролик удаву ничего не докажет. А удав с кроликом в дуэте петь не будет.
Скажу честно, мне не понравилось сравнение отца с кроликом. В моих глазах он был титаном, отнюдь не беззащитным существом… И его последняя «Жалоба» говорила как раз о том, что он не поднял лапки, не смирился с судьбой, что он и дальше будет… а что он, собственно, будет?.. С другой стороны, он, тем не менее, кое-чего достиг. Ну подумайте… Он не взошел на эшафот. Он уклонился от уже летевшей в него пули. Он выжил, потому что не признался. А другие не выжили, потому что признались. Огрубляю, конечно. Но факт есть факт: в первой части трагедии герой не сломлен, не лижет сапог, хотя и вынужден на словах выдавить из себя риторику преданности (и Мандельштам «Оду» написал, и Пастернака заносило под те же своды тех же богаделен, что и Маяковского, и Ахматову — верно, мама? — а что уж с рядового бойца взять!). Он выжил. В апокалипсисе. Теперь предстояло выжить в аду.
Перемена декораций, или Забудь про Соловки
В письмах отца, конечно, нет никаких описаний и рассказов о том, как он жил под арестом. Чтобы восполнить этот пробел, давайте, пока на сцене меняют декорации, посмотрим на картины трагедии, развернувшейся с начала двадцатых годов по большевистскому плану системы наказаний. Это еще не Большой террор, а то, что предшествовало Большому террору. Это генеральная репетиция Большого террора, здесь приемы убийства и насилия отрабатывались и шлифовались, чтобы во время Большого террора, с середины тридцатых годов, явить миру настоящее мастерство. Конечно, отец не знал, что до него были, скажем, вот эти Соловки, где погибло или оставило часть жизни свыше миллиона граждан СССР. Для сравнения не менее горестная цифра: в Майданеке чуть больше. Но по тому, что творилось в Соловках, мы можем представить, КАК жил отец в «своих» лагерях чуть позже. Соловки, попади в них Данте, стали бы гораздо более убедительной картиной реального ада, нежели тот, вымышленный гением всемирно известного итальянского поэта. Здесь, в Соловках, не девять кругов можно было бы сосчитать, а все девятьсот. Однако вместо Данте на Соловки приехал пролетарский писатель Максим Горький (со своими родственниками и группой коллег — мастеров слова, среди которых, между прочим, был замечен благородный человек — Михаил Зощенко). Почетным гостям продемонстрировали «перековку», и писатели поверили «потемкинской деревне», умело устроенной чекистами для их глазастых впечатлений, результатом которых явилась одна из самых подлых на свете книг, написанных методом социалистического реализма.Максим Горький (после посещения Секирной горы, окая). Отлично. Отлично.
Шел 29-й год. На Секирной горе в Соловках как раз был устроен штрафизолятор (карцер), где гэпэушники творили свой беспредел: заключенного сажали на так называемую «жердочку» — его ноги свисали и не должны были касаться пола. Пытка продолжалась восемнадцать часов, пищу давали через два дня на третий. (Карцер длился четыре-пять дней самое малое. Но больше 20 дней никто не выдерживал.) Сотрудник ОГПУ. Не хотите ли посетить наш Соловецкий лагерный театр? Максим Горький (продолжая окать). С большой охотой. Сотрудник ОГПУ. Специально к Вашему приезду, дорогой Алексей Максимович, наши талантливые артисты подготовили спектакль «На дне». Максим Горький (перестает окать, начинает охать). Ох, до чего приятный подарок вы мне сделали! (Плачет от умиления.) Чекисты и Горький фотографируются на Секирной горе, вблизи места массовых расстрелов соловецких зэков.
СПРАВКА По протоколу Тройки от 14 февраля с г мною приведен в исполнение приговор на 198 (сто девяносто восемь)человек Зам. Начальника 10 отдела ГУГБ НКВД майор ГБ Антонов 20 февраля 1938 года.
Ну да, эта справка датирована по прошествии девяти лет после визита Буревестника Революции в образцово-показательный сталинский лагерь уничтожения, но разве не Алексею Максимовичу принадлежат вдохновившие НКВД слова, которые в нашей стране знал каждый пионер.
Максим Горький(и окая, и охая). Если враг не сдается, его уничтожают.
Белая стена краснеет. То ли от стыда, то ли от пролитой здесь крови. «Как описать ужас происходящего, — пишет Юлия Николаевна Данзас, одна из соловецких зэков, правнучка секунданта Пушкина, доктор Сорбонны, — когда в церквушке заперли несколько сот человек, заболевших дизентерией, полуголых, лежащих на ледяном полу? Их оставили умирать, и каждое утро люди, вооруженные длинными морскими баграми, приоткрывали врата, чтобы вытащить трупы, а в это время живые пытались удержать мертвые тела, которые служили им вместо матрацев». Эта «церквушка» — Воскресенская церковь стояла у подножия горы с выразительным названием «Голгофа» — сюда в морозные февральские дни (вспомним про Крайний Север!) гнали ГОЛЫХ людей и расстреливали.
Сотрудник ОГПУ. Не хотите ли посетить наш крольчатник, Алексей Максимович? Максим Горький (окая, охая, а теперь и ахая). Ах, у вас и кролики даже есть? Сотрудник ОГПУ. Дау нас тут все кролики, Алексей Максимович! (Сам смеется своей шутке.) Фотографируются в крольчатнике Фото появляется на белой стене.
«Картинка, которую я застал по прибытии своем на командировку Голгофа, была ужасна, название Голгофы вполне оправдывалось. В темных помещениях, битком набитых людьми, стоял такой спертый воздух, что само пребывание в нем продолжительное время казалось смертельным. Большая часть людей, несмотря на мороз, была совершенно раздета, голые, в полном смысле этого слова. На остальных жалкие лохмотья. Истощенные люди, лишенные подкожного жирового слоя, скелеты, обтянутые кожей, голыми выбегали, шатаясь, из часовни к проруби, чтобы зачерпнуть воды в банку из-под консервов. Были случаи, когда, наклонившись, они умирали». (Из показаний лекпома стационара Голгофы Рахта С. П.) «Порядок зарывания тел» на Соловках отсутствовал. Вернее, присутствовал, но такой: зимой мертвые зэки лежали в снегу и лишь иногда прикрывались ветками. Долбить и копать промерзшую землю никому из охраны не хотелось, да начальство и не требовало. Это приводило к тому, что жившие в лесу голодные песцы (те самые, которые потом становились шубками и накидками жен партийного актива страны) занимались раздиранием трупов на куски. «Между прочим, около тел для окарауливания от песцов был выставлен сторожевой пост. Однако стопроцентного обеспечения не было. Например, мною во время обхода был обнаружен труп с отгрызенными половыми органами». (Из показаний старшего надзирателя Голгофы Бакко М. А.)
Максим Горький (смотрит и не видит ничего). Человек — это звучит гордо! (Садится в автомобиль чекистов.) Сотрудник ОГПУ. Это вы правильно сказали, Алексей Максимович…
«Моя фамилия Крылов… Я заведующий карцером… Вот заключенный Юлис Исаак в зимнее время был посажен раздетым на колокольню, где пробыл 48 часов. За это время мы его 6 раз спускали в топленую комнату и избивали… Заключенные Мастюгин и Харитонов были избиты до потери сознания, после чего, по приказанию Белова, командира роты, и Бакко, я брал веревку и, раздев до нижнего белья, связывал руки за спину, выше локтя, а к рукам привязывал одну ногу, отогнув ее к спине. Такое положение вызывало сильную боль, и когда я развязывал заключенного, то он не мог долгое время двигать руками. Связанные таким образом заключенные сажались на колокольню, где лежал снег и со всех сторон дул ветер. Бакко говорил, что сажает туда для охлаждения». (Рассказ взят дословно из следственного дела № 885 «О контрреволюционной деятельности надзорсостава». — М. Р.) Максим Горький (не слышит, но пишет в журнал «Наши достижения», им же основанный): «Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют вместе с этим быть замечательно смелыми творцами культуры» (очерк «Соловки»). Насчет «творцов культуры» Алексей Максимович не преувеличил. Это он своими впечатлениями от просмотра «На дне» поделился. Жаль, другую постановку самодеятельного соловецкого театра ему посмотреть не удалось — оперетту «Тайны гарема» с оркестром, хором и балетом… Очень жизнерадостная, эротичная постановка, сейчас бы сказали — «шоу-бизнес»! Впрочем, почему «самодеятельного»?.. Б. А. Глубоков-ский — главный режиссер, работал у Таирова в Камерном, Павел Энгельфельд (по делу «фокстротистов» — знаковая фигура деградирующей буржуазии, ведь фокстрот — «кровный брат кокаина и рулетки») — замечательный профессиональный танцор, блиставший в… танце диких бедуинов, певица Наталия Бурова (возвращенка из Италии), бывший артист МХАТа Федор Ванглер, Д. К. Калугин из Александринки. Наконец, здесь работал режиссером гений украинского национального театра — Лесь Курбас, которого сравнивали с Мейерхольдом. Артисты — каторжники. Подконвойное искусство. Лес рубят — щепки летят, а тут один топор заслушался, как здорово соловей поет.
Максим Горький (плача от умиления). С кем вы, мастера культуры?
По сцене проходят трупоносы. Кто такие? Алексей Максимович их не видит. Или делает вид, что не видит.
Объясняю. На Соловках похоронную команду называли «трупоносами». Позднейшее образование «членовозы», адресованное в народном фольклоре членам ЦК, ездившим на спецавтомобилях с мигалками, видимо, придумано по аналогии с соловецким словечком.
Сотрудник ОГПУ. А ведь наши Соловки Ленин еще одобрил, Алексей Максимович. Мы с 20-го года трудимся. Максим Горький (задумчиво). М-да… Ильич… Какой матерый человечище! (Плачет от умиления.) Трупоносы (снова проходя со своим грузом мимо носа Максима Горького, поют хором). Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! Сотрудник ОГПУ. Дышит. Еще дышит (стреляет). Не дышит. (Хвастается, но скромно.) А ведь у нас в Соловках тоже свой Кремль есть. И там свой Сталин. Максим Горький (оживившись). Ну, это вы бросьте. Товарищ Сталин не в вашем соловецком кремле, а в московском.
Он знал, что говорил. Ведь собирался писать художественную биографию усатого вождя, и, можно сказать, по замыслу Сталина, за этим сюда и приехал из своей Европы. Но что-то в конце концов помешало… Вождь обиделся и, будучи незлопамятным, впоследствии — по слухам или по правде, неясно до сих пор — отравил пролетарского писателя, доказав ему, что есть человечище еще «матерее».
Сотрудник ОГПУ (строго и убежденно). Сталин — он везде. И правда… Трупоносы с той же песней, но с новым грузом проходят мимо МАКСИМА ГОРЬКОГО. Максим Горький (цитирует сам себя). Собр. соч. в тридцати томах. Том 27, М., 1953, стр. 29. У нас в Союзе Советов светоносный разум Владимира Ленина 30 лет открывал глаза честных интеллигентов и наиболее энергичных рабочих… Преемник Ленина — Иосиф Сталин, мощный вождь, чья энергия все возрастает, — и верные ученики Ленина успешно продолжают его великую революционную работу.
Тут вопрос: как продолжают? А вот как:
Совершенно секретно Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК В КП (б) Утвердить проект представленного НКВД оперативного приказа о репрессировании бывших кулаков, уголовников и антисоветских элементов… …5. Отпустить из резервного фонда СНК на оперативные расходы, связанные с проведением операции, 75 миллионов рублей. Секретарь ЦК И.В. Сталин 31 июля 1937 года.Ну надо же… Ведь я честно хотел, чтобы Сталин как действующее лицо в моей будущей пьесе лично не возникал. А он, хоть тресни, все равно вылезает. Действительно, черт какой-то. Его гонишь, а он все равно тут как туг. Ну ладно, О НЕМ можно другим персонажам говорить — это не возбраняется, потому как НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ, — он опять в мое документальное повествование просовывается.
У Лукоморья дуб срубили,
Златую цепь в Торгсин снесли,
Кота в котлеты изрубили,
Русалку пачпорта лишили,
А Лешего сослали в Соловки.
Там люди в клетке днем и ночью,
Над клеткой той звезда горит,
И об успехах пятилетки
Народу Сталин говорит.
Неизвестный автор 30-х годов.
«Шифром ЦК ВКП(б) Секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартий, наркомам внутренних дел, Начальникам УНКВД ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б) в виде исключения…»Стоп. Всего-то начало предложения, а уже три вранья. Вранье № 1: это не ЦК «разъясняет», а товарищ Сталин лично (см. его подпись в конце документа) пишет. Вранье № 2: не с 37-го года пытки, а с первых лет революции. И Соловки тому первое неоспоримое доказательство. Вранье № 3: «С разрешения ЦК… в виде исключения» — это Сталин лично от себя отводит вину, возлагая ее на своих сподвижников — это раз. А во-вторых, о каком таком «исключении» речь идет в 1939 (!) году, когда Большой террор со своим макромартирологом перевалил все мыслимые цифры… Продолжаем читать и вчитываться: «…в виде исключения в отношении явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдавать заговорщиков… Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа». Стоп опять. Потому что неясно, как «явные враги народа» использовали «гуманный метод допроса» — ведь не они же сами себя допрашивали!.. Что касается «опыта», вождь прав — «результат» был получен, и он еще ждет обнародования на будущем советском Нюрнберге (имею в виду суд над Сталиным и сталинщиной). Желая, в свое время, во что бы то ни стало избежать такого суда, Сталин хитрит и делает следующую оговорку: «Правда, впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами: Заковским, Литвиным, Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило…» Товарищ Сталин объявляет о перегибах. Какой же вы хороший, товарищ Сталин!.. Вот только «метод физического воздействия» (изящный синоним слова «пытки) был не «загажен», как вы верно заметили, некими «мерзавцами», а применен по указанию какого-то неведомого никому Главного мерзавца, который, если бы посмотрел на себя в зеркало, увидел бы вас. «…в правило и стали применять его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли должную кару». Вот такой выверт. С больной головы на… нет, у руководимых вами и подчиненных вам чекистов здоровой головы не отмечено. Интересно другое: Сталин признает (!), что были «случайно арестованные люди». Так отвечай за это в первую очередь. Ведь ВЕСЬ террор — по твоему желанию, по твоей отмашке и с твоим участием!.. — Сталин не знал! Эту чепуху и сегодня повторяют (уже не искренне, а потому преступно) оголтелые сталинисты. Однако сталинский хитроумный план заключался вовсе не в поиске справедливости, а в том, чтобы найти виновных и переложить НА НИХ свою ответственность за Большой террор. Чего теперь боятся следователи? Они боятся «наследить». В замечательной, потрясшей меня книге Юрия Бродского «Соловки. Двадцать лет особого назначения», откуда я взял материалы по Соловкам, автор пишет: «Исторические этапы деятельности «исправительных лагерей» на Соловках закончились массовой гибелью «исправляемых», однако и большинство деятелей, приложивших руку к созданию концлагерей на островах, тоже стали жертвами построенной ими системы. Чекист, поднявший над Соловецким монастырем красный флаг, через три года вернулся в Соловки — уже как заключенный. Архангельский чиновник, первым предложивший превратить беломорский архипелаг в большой концлагерь, расстрелян. Заместитель председателя ВЧК, подготовивший Постановление ВЦП К СССР об особых лагерях на Соловках, расстрелян. Глава правительства СССР и его управляющий делами, подписавшие документ о создании Соловецких лагерей Особого Назначения, расстреляны. Жизненные пути многих и многих руководителей Соловецкого концлагеря были тоже принудительно оборваны. Оказалось, что все в проигрыше. Нет победителей. Система никому не принесла счастья». Ю. Бродский правильно не называет палачей и причастных к злодеяниям. Зато он поминает тех, кто в первую очередь достоин Памяти. Отец Павел Флоренский, будущий академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, экзарх Русской Католической церкви Леонид Федоров, многие другие — профессора, художники, дворяне, крестьяне, рабочие, служащие — казненные и выжившие, — цвет самых разных наций, — все они смотрят сегодня на нас, своих потомков, и ждут, будет ли отмщение за их трагедию. Но вернемся к сталинскому «разъяснению». В нем вождь предстает не только как просто сторонник пыток в практике следствия, но еще и как большой ТЕОРЕТИК ЗВЕРСТВ. Он пишет (внимание!): «Но этим нисколько не опорачивается сам метод, когда он правильно применяется на практике». И далее с чисто макиавеллиевским агрессивным лицемерием Сталин заканчивает грозный программный вердикт:
«ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения (! — М. Р.), в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК ВКП(б) требует от секретарей обкомов, крайкомов, ЦК нацпартий, чтобы они при проверке работников НКВД руководствовались настоящим разъяснением. Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин 10 января 1939 года».Согласно «разъяснению» трупоносы проносят по сцене трупоносов. Песню Дунаевского поет другой хор. Старый расстрелян. Сотрудник ОГПУ. Ну, как вам «наше Сорренто», Алексей Максимович? Максим Горький (смеется). Отлично. (Плачет.) Сотрудник ОГПУ. Тогда напишите свой отзыв о Секирной горе в нашей Книге отзывов. Максим Горький (пишет). «Отлично». (Смеется.) Стена — бела, как мел.
«Совершенно секретно Начальнику УНКВД Ленинградской области Комиссару ГБ т. ЗаковскомуЭто тому самому, которого упоминал вождь в «разъяснении» 39-го года. Расстрелян 29 августа 1938 г.
В соответствии с моим приказом № 00447 ПРИКАЗЫВАЮ с 25 августа начать и в 2-месячный срок закончить операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов, содержащихся в тюрьмах ГУГБ, осужденных за шпионскую, диверсионную, террористическую, повстанческую и бандитскую деятельность, а также осужденных членов антисоветских партий (троцкистов, эсэров, грузмеков, дашнаков, иттихатистов, мусаватистов и т. д.) и прочих контрреволюционеров, ведущих в тюрьмах активную антисоветскую работу… все перечисленные контингенты, после рассмотрения их дел на Тройках при УНКВД, подлежат расстрелу. вам для Соловецкой тюрьмы утверждается для репрессирования 1 200 человек. Нарком внутренних дел Союза СССР Генеральный комиссар ГБ Ежов».Все понятно в этом приказе. Кроме «грузмеков» и «иттихатистов» — кто это?.. Про «дашнаков» слышал, про «мусаватистов» знаю, но про этих?.. Один из зэков-соловчан называл происходящее «жатвой Ежова». Но кого в этом случае назвать «сеятелем»? Исполнители — тоже люди. Среди карателей попадаются законченные гуманисты. Типа Сталина. И типа Горького, которого Сталин посадил в золотую клетку в особняке Рябушинского. Премудрый Бенедикт Сарнов в своей уникальной книге «Сталин и писатели» приводит, ссылаясь на Шкловского, рассказ Горького о том, как он в своей квартире пытался примирить Сталина с Бухариным. Инсценирую этот выразительный диалог. Максим Горький (окая). Такие люди, как вы, не должны ссориться. Помиритесь. Сталин неохотно протягивает Бухарину руку. Максим Гор ь кий. Нет-нет, обнимитесь. (Сталин и Бухарин обнимаются.) А теперь поцелуйтесь. Сталин (подставляя губы для поцелуя, с легким грузинским акцентом). Нэ укусишь? Бухарин. Тебя, Коба, укусишь — зубы обломаешь. У тебя ведь губа-то железная. Максим Горький (плачет от умиления). Какой диалог! Шекспир! Но давайте из высокого мира вождей — продолжателей Ленина спустимся на ту же соловецкую землю.
Из показаний на допросе (Архив УФСБ РФ по Республике Карелия. Дело № 17/51, арх. № 11602, Т. 4, стр. 346–348) «Я был привлечен осенью 1937 года в качестве рабочей силы в опербригаду, возглавляемую начальником Пятого Отделения Третьего Отдела ББК НКВД А. Шодышем, по приведению в исполнение приговоров над осужденными к ВМН. Дорога, по которой возили осужденных к месту исполнения приговоров, протяжением в 16 км, была очень оживленной, так как по ней ходили люди, автобусы, автомашины, поэтому с целью сугубой конспирации проводимой нами операции приходилось прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы предотвратить возможные крики со стороны осужденных… Для подготовки осужденных к погрузке на машину… их заводили в комнату, где снимали одежду и связывали по рукам и ногам, затем их выносили в другую комнату, где находился я со своими подчиненными: Телегиным, Купцовым, Андриенко и другими лицами, участвовавшими в операции. В нашем распоряжении находились деревянные колотушки в форме пивных бутылок, оставленные нам ленинградской расстрельной бригадой под командованием М. Матвеева. По приказанию А. Шондыша на каждую машину-трехтонку грузили по 28–30 человек осужденных и садилось до 4-х человек конвоя. В пути следования старший конвоя тоже был вооружен «колотушкой» и железной тростью с одним заостренным концом, а на втором в конце был приделан молоток, приспособленный И. Бондаренко для усмирения заключенных. Командир оперативного Дивизиона ВОХР ББК НКВД Миронов Николай Николаевич
Сотрудник ОГПУ. Дорогой Алексей Максимович, давайте еще сфотографируемся на память. Макс им Горький (окая, хотя буквы «о» в слове нет). Давайте. (Фотографируется с чекистами.) Сотрудник ОГПУ. А давайте еще и еще. Максим Горький. Дайте прикурить. (Ему дают огонька. Он фотографируется еще и еще.) Сотрудник ОГПУ. Плохие папироски курите, Алексей Максимович. Ну, ничего, через три годика построим Беломорканал, я вас на праздничное открытие приглашу и одноименными папиросами угощу. Вся страна будет «Беломор» вдыхать.
Из выступления пролетарского писателя Максима Горького на слете каналоармейцев, посвященном окончанию строительства Беломорско-Балтийского канала «Я счастлив и потрясен! С 1928 года я присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей, — все это не может не волновать. Великое дело сделано вами, огромнейшее дело!» Я. Разрешите ворваться в этот замечательный текст строчками из Маяковского:
Алексей Максимыч,
Из-за ваших стекол
Виден
Вам
Еще
Парящий сокол?
Или с Вами
Начали дружить
По саду
Ползущие ужи?
Город Дмитров 25 августа 1933 года. Все плачут. Сотрудник ОГПУ. Угощайтесь, Алексей Максимович! (Угощает из пачки «Беломорканала».) Тут много наших соловчан работает. Все помнят, как вы к нам тогда на острова приезжали. Максим Горький. Над седой равниной моря что-то там такое реет… Сотрудник ОГПУ. Смотрите! Смотрите! Максим Горький вглядывается и видит то, что произошло здесь уже после его смерти. Осень 37-го года. Зима 37-го. И вот пришла весна. «…по первым весенним разводьям пришло судно, которое должно было забрать перезимовавших на острове Анзер лагерников: кого в Кремль — на тюремный режим, а кого — в мир иной. Корабль медленно пробирался к прибрежным торосам, за которыми выстроили нашу бригаду, и остановился в нескольких метрах от причала, не сумев до конца преодолеть плотной шуги. Его качало и трясло, но дальше он не двигался. Тогда охранники использовали длинную доску, соединив ею борт и причал. Первой взошла на этот «мостик» пожилая Ольга Николаевна Римская-Корсакова — родственница известного композитора. Она соскользнула и мгновенно пропала, затертая льдинами. За ней шла ее подруга Ольга Крамерова, знавшая восемь языков, но и той не удалось удержаться на обледеневшей доске, предсмертный крик смешался с шумом прибоя. Потом исчезла в воде Ольга Петровна Горохова. Охранники, по внешнему виду люди, весело обсуждали между собой гибель заключенных. Они смеялись. Для них это было зрелище! Строй заключенных замер. Нас парализовала смерть людей и неуместный смех. Защелкали затворы: «Кто не пойдет — расстреляем! К трапу — марш!» И тогда я поползла по доске на коленях… Соловки в моей памяти — это девятое апреля 1938 года и черная вода у мыса Кеньга». (Из воспоминаний О. Мане.) Сотрудник ОГПУ. Прав Алексей Максимович: если враг не сдается, его уничтожают. Макс им Горький (отчаливая на том же корабле с островов). Буря! Скоро грянет буря! (Плачет от восторга.) Сотрудник ОГПУ (тихо, но чтоб слышали все). Не грянет. (Перезаряжает наган.) Все заключенные — живые и мертвые, стоя на берегу, машут пролетарскому писателю рукой. Прощаемся с Соловками и мы. Забудем про Соловки. Так легче жить. Книгу Юрия Бродского не все читали, и те фотографии, которые возникали на нашей белой стене в антракте, не все видели. Ну и хорошо. Было и прошло. Не надо нам портить хорошее настроение. Антракт все-таки. Тем более буфет работает, чего ж еще надо?!. Пожуем что-нибудь вкусненькое, выпьем… Надо отдохнуть. От всего ЭТОГО надо отвлечься. Вот только с Горьким следует дополнительно разобраться. Его образ в нашей сатирической интерпретации несколько оглуплен. Я бы сказал, даже окарикатурен. Правда, цитаты всех его реплик и речей — документальны. И в контексте правды о Соловках выглядят не очень умно. Иногда даже безнравственно. Позорно. Но все равно пролетарский писатель был в реальной жизни, конечно же, не таким плачущим и одновременно восторженным идиотом. И нравственность его до конца жизни не покидала. Он, еще живя в Сорренто, хотел из русского подданства выходить. Потому что узнал, как Крупская мировую и русскую классику гнобит. Она это делала из своих ленинских убеждений. Антирелигиозных и атеистических. Но из подданства не вышел, потому как лечился за границей на деньги партии. И эта двойственность всю жизнь мешала Горькому определиться, с кем же он, мастер культуры, — с Ходасевичем или со Сталиным, со своими блестящими «Несвоевременными мыслями» или с Лениным, с «босяками» или с гэпэушниками Беломорканала. Была ли трагическая смерть сына Максима делом рук Ягоды, с которым дружил Алексей Максимович, — неизвестно, но от нее можно было вздрогнуть и почувствовать реальную опасность для себя. Он несколько раз просился обратно, за границу, но визы так и не получил. Жил, можно сказать, под домашним арестом. Личное общение со Сталиным закончилось — вождь, видно, понимал, что уже выжал из Горького всё, что можно было выжать. Максим Горький. Устал я очень… Сколько раз хотелось побывать в деревне, даже пожить, как в былые времена… Не удается. Словно забором окружили — не перешагнуть!.. Окружили… обложили… ни взад, ни вперед! Непривычно сие! Доподлинные слова, которые в том же смысле, но с некоторыми жесткими добавлениями мог бы сказать и узник Соловков! Теперь Горький Сталину только мешал. Он — дружок Каменева и «Бухарки», сочувственно относившийся к Кирову как возможному новому генсеку, — в канун Большого террора для Сталина уже представлял опасность своей дореволюционной природой и ретивостью в защите русской интеллигенции. За три месяца до своей загадочной кончины Горький пишет Сталину протестное письмо против начавшейся травли Шостаковича, инициированной самим вождем в статье «Сумбур вместо музыки». Эта антисоветская выходка наверняка рассердила вождя, а вождя сердить не стоит. Тем более в 36-м году. Понимал ли Горький, с кем он связался? Конечно, понимал. Бенедикт Сарнов со снайперской точностью выдающегося литературоведа отмечает, что если Горький и восхвалял Сталина, то только за его «железную волю», больше ни за что!.. Могло ли это нравиться вождю, любившему РАЗНООБРАЗНУЮ лесть? Да и в тех же Соловках произошел выразительнейший эпизод, о котором вспомнил академик Д. С. Лихачев: «Когда он приехал на Секирную гору в карцер, где творили самый ужас, где на «жердочках» сидели люди, то на это время «жердочки» там убрали, на их место был поставлен стол, а на столе разложены газеты. И было предложено заключенным делать вид, что читают газеты — вот как в карцере перевоспитывают! Заключенные же нарочно стали держать газеты наоборот, вверх ногами. Горький это увидел. Одному из них он повернул газету правильно и ушел. То есть дал понять, что разобрался, в чем дело». Так что не надо Горького оглуплять и окарикатуривать. В связи с этим весь эпизод с Горьким на Соловках я решил в пьесу не вставлять. Он, будем считать, лишний и только отяготит и без того тяжелый вес документов по делу моего отца. Перемена декораций произошла. Снова свет — на сцену. «Производственный роман» кончился. Начался роман любовный, «роман в письмах». В пустом пространстве снова замаячили фигуры моих родителей…
Первое действие
Дальше — первое действие. Хочешь не хочешь, оно будет длинным, лет на восемь… В реальности получится десять, но об этом позже. Первое действие — это картина довоенного времени. Вплоть до начала войны. Приговор вынесен. Дальше что? Начинается эпоха переписки. Жажда общения гасится взаимообменом посланий — это единственная веточка, на которой можно обоим удержать груз одиночества по причине вынужденной разлуки. Бравурность нот составляет трагизм мелодии. Возвышенность речи в этом навале писем лишь шифрует кошмар, параллельный каждому слову, не подкрашивает мерзость, а есть мерзость сама по себе, ибо, не являясь никакой литературой, являет собой собственно жизнь. Эту переписку вполне можно было бы бросить на помойку, но вся беда в том, что авторы этих писем — реальные люди — уже давно там находятся, на помойке истории! — забытые и никому не нужные. Это вам не переписка Цветаевой с Пастернаком или, скажем, Сталина с Черчиллем… Это не беседы Гете с Эккерманом и не полемика Вольтера с Екатериной… Попав в мясорубку эпохи, эти двое были растерты в пыль, да они и были пылью изначально, еще когда поженились, еще когда вкусили первый рабфаковский поцелуй… Уже тогда они были приговорены, но, конечно, совсем не предчувствовали того, что с ними вскорости будет… Их наивность, молодость, романтизм были столь лучезарны и искренни, что не достойны нашей иронии. Пожалеем же родителей наших, как жалеют жертв землетрясений и наводнений. О гец. Мы все — крошки, застрявшие в усах вождя. Нас НАДО было смахнуть, мы мешали… Я. Чему? Отец. Процессу поедания основной пищи. Но переписка — только надводная часть айсберга. Сворованная государством жизнь обратилась в призрачное шаламовское нечто, состоящее из животного предсмертного существования, в котором сам собой возникал тяжелейший из самых тяжелых выбор — остаться ли человеком или превратиться в дерьмо. «В лагере убивает работа, поэтому всякий, кто хвалит лагерный труд, — подлец или дурак».[2] Отец, не бывший подлецом и тем более не производивший впечатление дурака, уклонился в своих письмах от рассказа о подробностях трудовой деятельности в лагере — и это был он, принимавший близко к сердцу любой конфликт на службе. Конечно, он знал, что письма перлюстрировались. На них — не своим — сталинским — глазом смотрели бдительные проверяющие. Малейшее отклонение от норм, «что можно, что нельзя», оборачивалось карой, самой слабой разновидностью которой мог быть карцер. Это называлось «сохранением классовой сущности» заключенного: надо было не только страдать в неволе, но и льстить палачу, благодарить палача, славить палача. Собственно, то же самое делали подневольные люди, находившиеся на так называемой свободе. Но те, кто сидел, чтобы выжить, должны были каждую секунду ПОДТВЕРЖДАТЬ свою искреннюю преданность охране и ее идеологии. Этот садомазохизм входил в обязаловку и здесь, и там. Присяга на верность. Иначе… В российской тюремной традиции обмануть, обойти дуру-цензуру значило проявить превосходство узника над охраной. «Твоего брата отправили в санаторий», — писал невольник, а на воле все понимали, что санаторий — это концлагерь. «Поехал в гости к Дзержинскому» — в переводе на общепонятный — «расстрелян». «Сестра заболела и лежит в больнице» — считайте, арестована. «Отправились на луну» — убили. «Доктор признал здешний климат для твоего папы вредным» — читай «перевели в другое тюремное заведение». «Эзопов язык» в старых тюрьмах России знали все. Советский тюремный «новояз» был гораздо более хитрым, изощренным. Надо было прежде всего подчеркивать ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ верность режиму и «лично товарищу Сталину». Даже находясь в карцере, зэк должен был показывать, что счастлив находиться в советской тюрьме. Главное, что он исправляется. Что он верит в лучшее будущее. Иначе ты — плохой зэк. Письмо по сути своей интимно, секретно, лично, но именно личная жизнь должна быть поставлена под контроль. Увеличение срока — вот что светило со страницы каждого письма. Сдерживать, следить за собой, чтоб не вырвалось лишнее словечко, такому романтику, каким был от природы отец, — задачка хуже некуда. «Не проколоться» — ведь «слово не воробей, поймают — вылетишь» (народный парафраз известной поговорки, неслучайный). Однажды, году в 65-м, я спросил отца с обезоруживающей его прямотой: — Папа, а скажи, почему ТАМ, где столько людей погибло, ты остался живым?.. Он ответил горькой шуткой: — Когда все умерли, меня попросили остаться. Но я-то знал, почему он выдюжил. В письмах прямо, не между строк, содержится объяснение: потому что верил в свою непогрешимость. Это был многократно повторяемый сигнал «перлю-страторам» — донесите, мол, в своих отчетах: не признает он своей вины, покажите, мол, начальству — даже в письмах твердит о своей чистоте. «Невиновен». Это была истина, благодаря отстаиванью которой он спас свою душу и тело. Это удел святых людей, и я на полном серьезе считаю отца таковым. Ну хорошо, если это преувеличение, тогда пусть он будет хотя бы из тех, кто победил смерть, а значит, заслужил «немножко бессмертия». Итак, два человека стоят в лучах по краям сцены. Они читают письма и документы по очереди. Собственно, эта переписка и станет основой моей будущей пьесы. Популярный жанр — пьеса на двоих. Но нет, иногда понадобятся другие персонажи… Иногда в их разговор вступаю я. Но лишь иногда, по мере надобности. Все будет понятно и без моих рассуждений. Теперь, когда приговор объявлен и отсчет дней в неволе пошел, нет нужды комментировать каждое письмо. Но будут моменты, когда я не выдержу и вмешаюсь. Итак… Отец вынул из вороха синюю, исписанную мельчайшими чернильными строчками бумажку и прочел:г. Петропавловск на Камчатке, 12/IX-1940 г. Здравствуй, дорогая Лика! Наконец-то получил возможность писать письма. Правда, слишком дорогая цена этой возможности, но не я ее назначал. Главное в жизни — не терять чувства юмора, не впадать в уныние. Вся беда только в том, что на нашу долю выпадает горький юмор — что ж поделаешь? Это письмо не принесет тебе радости, я должен огорчить тебя — не вини меня в этом… С первой минуты моего ареста я все надеялся на справедливый исход, но судьбе он оказался неугодным. Решением Особого Совещания при НКВД СССР от 23/VII т.г., по обвинению в принадлежности к антисоветской право-троцкистской организации, я осужден на 8лет лагерей, считая с 3/XII— 37 г. Скоро меня этапируют в назначенный мне Нориллагерь, в Норильск, Красноярского края. Решение это я получил 10-го числа, позавчера. Буду писать прокурору Союза, в Президиум Верх. Совета СССР, надеюсь, что пересмотрят. Обратись к адвокатам, хорошо бы к Браудэ, Комодову, поручи им ведение моего дела. Перспективы для меня еще не ясны, думаю, однако, что около года может еще продлиться разбор моего дела и окончательного решения. Я остался оптимистом, но оптимистом особого рода: надеюсь на лучшее, но ожидаю самого худшего… Поэтому что ни случается со мной за эти три года, не сбивает меня с ног. Теперь самым худшим может быть то, что еще 5 лет меня не будет дома, — надо к этому приготовиться, но и не терять надежды, — ведь она все ж таки зиждется на правде. Дорогая Лика! Ты знаешь меня с 1929 года, и ты знаешь, что когда родился наш Марик, я искренно, от глубины всегомоего сердца, писал тебе о желании воспитать его крепким, настоящим сталинцем-коммунистом, честным человеком. Именно так и воспитывай его, постарайся взрастить в нем все лучшие качества советского человека. Увижу ли я вас еще? За это время я много перенес, здоровье уж не то… Требуется ремонт, но… Кто знает, что будет со мной еще? Даю слово, что буду держаться изо всех сил, крепить себя, чтобы пожить на воле. Ведь я еще молод и должен жить! По отношению к себе я не налагаю на тебя никаких обязательств — ты должна быть свободной в своих поступках и в устройстве своей жизни. Марика ты будешь любить не меньше, чем, конечно, я вас обоих, — ты будешь для него всегда хорошей матерью и расскажешь ему только настоящую правду об его несчастливом отце. Я же буду стараться выжить, чтобы снять с себя незаслуженное позорное клеймо. Не все еще потеряно — положимся на чуткость, разум и справедливость наших высших органов. Человек, не совершавший никогда и никаких преступлений, не может в нашей стране погибнуть — правда возьмет свое! Ну, довольно о себе. Я полон бодрости, желания жить, веры в счастливое будущее и уверенности в близости этого будущего. Меня, как ты сама понимаешь, горячо интересует все, абсолютно все, что относится к тебе, к сыну, всем родным. Вопросов задавать не стану — их всех не перечтешь. Не знаю, сколько времени пробуду в этапе, пока доеду до места, когда выеду отсюда. Думаю, что смогу тебе протелеграфировать о прибытии на место, тогда сразу же шли мне наиподробное письмо. Может, еще с дороги я буду тебе телеграфировать, а писать во всяком случае буду. Я подал здесь заявление, чтобы твою сберкнижку и облигации переслали тебе ценным пакетом. Если этого не сделают, обратись к Прокурору Союза, затребуй через него. Этих средств будет довольно тебе и сыну пока что. Как сейчас твои дела, работаешь ли, как устроилась с сыном? Прошу тебя помогать материально и моим старикам. Живы ли они, здоровы? В декабре м-це прошл. года я получил от них перевод 500рубл. И телеграмму, но не смог ответить. Когда получишь свои деньги, то отдай, пожалуйста, эти 500рубл. И, вообще, поддержи их во всех отношениях. Не знаю, получила ли ты обратно довъездовский пай в РЖСКТ «Пищевая Индустрия», посылаю тебе сейчас доверенность, вытребуй деньги обратно. РЖСКТ уже, наверное, ликвидировано, а невостребованные паи сданы в Наркомфин, узнай всё, и деньги должны возвратить, т. к. не по моей вине я не требовал их раньше. У меня есть 680 рубл., пока что достаточно, — в месяц разрешаются расходовать 75 рубл. Когда прибуду на место, попрошу перевести мне еще немного денег. Приготовь, пожал., мне посылку с теплыми вещами; всё, что я имел, пропало — у меня есть только то, что ты передала мне в мае 1938 г., в чемодане, — кожан, куртка и плащ, — я получил их в июле 1939 г., когда привезли меня обратно из Хабаровска. Ну, я кончаю пока. Обнимаю тебя и сына, горячо целую вас. Ваш Сема. Мои горячие приветы всем родным. Как живет мама — Александра Даниловна, Сашуня, Нюня, дети — Люся и Нюша, они уж теперь совсем взрослые. Как все Тиматковы, Губановы, Морозы, Нинза? Я не пишу им отдельно, не могу, попрошу всех писать мне. Крепко целую Ал. Даниловну и моего старого, любимого дядьку Самуила. Пусть не горюет, мы еще повидаемся и поживем! Старикам и сестрам пишу отдельно. Пиши мне, дорогая Лика, обо всем и только правду, обо всем и обо всех, что с ними ни случилось. Еще раз целую и обнимаю, твой Сема.Мама. Это письмо — мокрое от моих слез. Еще бы! Первая весточка после трех лет разлуки!.. Господи, как же я страдала тогда, не могу передать… Муж сидит, друзья на Камчатке откололись, никого нету рядом, абсолютно никого… Я. Как никого? А я? Куда делся я? Мама. Врач посоветовал увезти грудного ребенка на материк. Я вызвала из Москвы твою бабушку специально для этого дела, ведь мой контракт с Камчатстроем еще не кончился. Мама моя тут же приехала и потащила тебя обратно в Москву — тебе исполнился годик на пароходе, по пути во Владивосток… А осенью 1939-го смогла вернуться в Москву и я. Я Мы жили в полуподвале, в сырой коммунальной квартире — дом длинный, двор проходной между Петровкой и Неглинной, это в самом центре Москвы. Тут прошло мое счастливое (хоть и в безотцовщине) детство. Мама. Марик все время болел — все заработанные на Камчатке деньги быстро улетучивались — на питание и врачей, — надо было срочно укрепить его организм. Мы с мамой, как две курицы-наседки, с утра до ночи квохчили над ним. И вот, в такой обстановке, это первое по счету письмо… Я прочитала его сорок раз и сорок раз плакала. Надо было что-то делать, но что?.. Я многого не понимала. Во-первых, что значит «правотроцкистская организация» и в чем ее отличие, скажем, от левотроцкистской. Звучало гадко. Хотя бы потому, что связано было с именем Троцкого — главного недруга товарища Сталина. Но Сема тут при чем?! Он Троцкого в глаза не видел, никогда с ним нигде не встречался и ни одной его строки не читал!.. Не помню даже, чтобы он хоть раз при мне упомянул его имя!.. Троцкий!.. Какой еще к черту Троцкий — у Семы на уме была всегда одна я с грудным сыном на руках да как достать нам колясочку, пеленочки да ботиночки… Я. Но ты сама сказала: он много пел! Мама. Вот именно. Слишком много. Конечно, ни о каких московских адвокатах и речи быть не могло: Сема всегда был очень наивным, а тут… какие адвокаты? Уже полстраны сидело в лагерях, уже миллионы были расстреляны… Брауде, адвокат, был в их числе, а Сема, тюремный житель, этого не знал. Я. Ты понимала тогда, что в стране творится большое зло? Мама. Зло — нет. Не то слово. Но что большая несправедливость — понимала. Я понимала, что слова про сына, из которого надо сделать «настоящего сталинца-коммуниста», были написаны не для меня, а для этого… Дуболазова!.. Ведь все письма перлюстрировались — я это понимала!.. Ему надо было доказать, что он правоверный, вот он и доказывал, чтобы выжить! Я. Ты думаешь, он не верил в Сталина, атолько доказывал? Мама. Не знаю. Страх был такой, что уже невозможно было понять, где человек лжет, а где говорит правду. Врали все подряд, и так много, что очень скоро привыкали к своему вранью как к правде, и тогда пойди разберись, что там на самом деле?.. Отец. Кстати, о Дуболазове. Он оказался честным человеком. Застрелился в 39-м году. Я. Он бил тебя? Отец. В каком смысле? Я. Ну… пытал? Отец. Ну, пытками это не назовешь. Пару раз на допросах он мне, конечно, дал по зубам, но я ему ответил. Я. Как ответил? Отец. Тоже дал по зубам. Я. И что? Отец. И ничего. Перестал меня после этого трогать. Я же говорю, честный был парень. Хотя из НКВД. Я. О чем же он тебя спрашивал на допросах? Отец. Да обо всем. О жене, о Марике… Как зовут сына? Какой вес?.. Почему родился восьмимесячный… Но это все в дело не вписывалось. Попутно — и тут он брал ручку — про строительство, накладные смотрел, договора… Я же инженер-экономист по образованию, а он в строительстве ничего не петрил, вот я ему всю нашу экономику и объяснял. Он пыхтел, но слушал. Ему неинтересно было. Он понимал, что мое дело липовое. Я. И что? Отец. И ничего. А что он мог сделать?.. Однажды он бдительность потерял, во время допроса оставил открытым окно. Я взлетел на подоконник, кричу: «Товарищу Сталину — слава!» и всем своим видом показываю, что сейчас готов броситься с четвертого этажа. Он мне: «Назад! — кричит. — Стрелять буду!» — и выхватил наган. А я знал, что он незаряженный, кричу: «Сука, стреляй». Ну, тут они меня схватили, мы друг другу и врезали… Потом он жаловался: «Ну и напугал ты меня!» — он правду говорил: каждый следователь отвечал за жизнь своего допрашиваемого. Если допрашиваемый умирал во время допроса — были такие случаи, — не обязательно от пыток, но и от инфаркта там или от инсульта, — у следователя тогда бывали неприятности. Вплоть до отстранения. А если следователя отстраняют, ему в НКВД уже ничего не светит. И оттуда тоже нельзя уйти, слишком много на тебе висит, так что кранты, по-своему несчастные это были люди, следователи. Да и платили им не так уж и много до войны. Мама. Не слушай отца. Он не только наивный, но и глупый еще был. Я. Почему глупый? Мама. Этот Дуболазов его посадил, а он про него «честный человек» говорит. Отец. То, что думаю, то и говорю. Мама. Вот в этом и была его беда. Надо было сначала думать, а потом не говорить. Лучше не говорить. Такое время. Отец. А посадил меня вовсе не Дуболазов, а другие совсем люди. Я. Кто? Отец. Но и не в них дело. Они тоже не виноваты. Я. Кто ж тогда виноват? Отец. А я над этим вопросом тогда и не задумывался. Меня другое волновало: как Лида там — выдержит без мужика или изменит? Мама. Дурак! Вот дурак. Отец. Почему «дурак»?.. Я знаю тысячи случаев, когда жены изменяли своим сидевшим мужьям. Мама. Вот поэтому он в своем первом же письме дал мне карт-бланш: «по отношению к себе я не налагаю на тебя никаких обязательств, — ты должна быть свободной…» — это мне написал кто? Сам несвободный человек! Ну дурак, разве не дурак? Отец. Я хотел… Мама. Я знаю, что ты хотел. Ты хотел этими словами раз и навсегда приковать меня к себе. А приковывать и не нужно было, я и так к нему была прикована по гроб. «Надеюсь на лучшее, но ожидаю самого худшего» — вот ты весь в этом. Отец. И не я один. Так думал каждый зэк. Мама. «За это время я много перенес» — я сорок раз вчитывалась в эту строку и гадала, что с ним, как там он?! Я сорок раз рыдала над этими словами и ведать не ведала, что это только самое начало, что то, что еще нам ПРЕДСТОИТ, будет в сто крат чудовищней и страшней… Вот еще письма, которые дают нам возможность любоваться прелестями психологии лагерника, еще не потерявшего надежду на избавление, еще не профессионального зэка, с незадушенной душой и с непропавшей волей к жизни.
Дорогая Лидуха! 24/XI прибыл, наконец, наместо. Нахожусь в г. Канске, Красноярского края, в Канском ОЛП (отдельный Лагпункт) Краслага. Почтовый и телеграфный адрес: г. Канск, Красноярского края, почтовый ящик № 235/8 — заключенному — мне. Очень прошу тебя сейчас же выслать мне подробнейшее письмо о себе, о Марике, о родных, обо всех делах и твоей жизни. Всё, абсолютно всё меня интересует, и ты должна обо всем написать мне. Обо мне ты знаешь из моих писем и из рассказов товарищей, освободившихся и бывших у тебя. Кто был? Обещали многие — кто из них исполнил обещание? Я послал тебе первое письмо из Петропавловска — 12/IX, — из тюрьмы, после того, как мне объявили о решении Особ. Совещания. Попало ли это письмо к тебе?[3] Второе письмо, вместе с моей жалобой на имя Прокурора Союза, я отправил тебе с п/х «Анадырь» с одним человеком, обещавшим лично передать тебе. Получила ли ты?[4] Это больше всего интересует меня сейчас. Если не получила, буду стараться отправить тебе второй экземпляр. Если же получила, то напиши мне подробно, что ты уже сделала, кому и когда передала мою жалобу, с кем говорила, наняла ли адвоката, есть ли какие-нибудь надежды на пересмотр? Я еще сам никуда ничего не посылал, т. к. помешали этапы, и хочу знать, что вы, родные, делаете и можете сделать для меня. Теперь, конечно, все зависит от вашей настойчивости. Нужно писать и обращаться ко всем, кто только может вмешаться и изменит ь неправильное решение Особ. Совещания. На мои заявления я вряд ли получу ответ, а на ваши — вы получите обязательно. Когда я буду иметь твое письмо, я сумею ориентироваться и начну тоже писать свои заявления и жалобы. Здесь разрешают посылать письма только 1 раз в 3 месяца, получать же могу без ограничения. Поэтому прошу тебя, моя женушка, пиши, чем чаще и подробнее, тем лучше. Каждое письмо твое доставит мне единственную и большую радость. Вышли мне все свои и Марика фотографии, хочу вас видеть и смотреть на вас. Обо мне не беспокойся. Здоровье мое, правда, не ахти какое, но держусь бодро и крепко. Начал работать. С 1/1—41 г. лагерь начинает стр-во большого Гидролизного завода в Канске. Я взят на учет и закреплен за строительством — с 1/1, очевидно, буду использован по специальности. Пока же работаю в произв. — технич. части лагеря — пом. бухгалтера. Необычно, после 3-х лет сидки, было сесть за стол, но ничего — привыкаю вновь. Не знаю, буду ли я отправлен в Норильск, куда имел назначение. Думаю, что останусь здесь, во— 1-х из-за здоровья, во—2-х — вдруг закрепят на работе в Канском лагере. Это будет видно потом, пока что я здесь буду, наверное, до весны. Плохо совсем с табаком — курить нечего, да и питания не хватает. Прошу тебя, моя Лика, вышли мне посылку. Главное — табак, сахар и жиры. Говорят, что из Москвы нельзя посылать — не принимают, но может быть, удастся? Посылки, что ты выслала на Камчатку, я не получил — уехал. Подай заявление на почтамт, чтобы тебе вернули их обратно, пусть запросят по телеграфу, а то пропадут. Из вещей мне нужно только: 2 пары теплого и 2 пары простого белья, 3 пары носков простых и 2 пары теплых. Больше ничего пока что из вещей не нужно. Я одет хорошо. Петя перед отъездом дал мне полушубок, ватный костюм, резиновые сапоги, пару белья, был я у него дома (с конвоиром), видел Виктора Бужко, Финогенова. Николай Иванович обещал мне быть в декабре м-це у А. И. Микояна и говорить обо мне. Емельянов тоже должен быть в Москве. Обратись к нему за помощью. Дорогая Лидуха, я написал с дороги, 7/XI, письмо родным. Я категорически просил установить с тобой нормальные родственные отношения, поругал их за всё. Ты не держи обиды на них — все вы болеете за меня, всем тяжело, надо друг другу помогать. Сберкнижку я сдал 28/Х в Петропавловскую горсберкассу, получил квитанцию, как только там получат твое письменное заявление о переводе вклада в Москву, это будет сразу же сделано. Получила ли ты его уже? Денег пока что мне не нужно, купить нечего, об этом я напишу потом. Сейчас я тороплюсь отправить тебе это письмо. Извини, что коротко и сухо. Милая моя, родная женушка! Мой дорогой сынка! Все мои мысли и чувства только и только с вами. Всегда и постоянно. Жду от тебя, моя Лидуха, письма подробнейшего, фотографии и посылку (да, еще нужны мне валенки) с табаком и вкусными, сытными вещами, которых я не пробовал 3 года. Целую вас крепко, крепко. 10/XII—40 г. Ваш муж и отец Сема. Привет всем, всем родным. Особый — маме Александре Даниловне. Проси всех писать мне. Привет моим родным. Еще раз целую крепко. Твой Сема.У этого письма, как и у первого, мощная витальность — как теперь бы сказали. Человек борется, это видно и это заслуживает восхищения. Он опять не так мудр, чтобы понимать, что у него нет никаких шансов. Ему, видите ли, «помешали этапы». Он еще не созрел «после трех лет сидки», чтобы горестно махнуть на себя рукой — «бесполезно» просить, «бесполезно» унижаться, всё, в сущности, «бесполезно». Это — не его надежда умирает последней. Нет, последним умирает сам человек. А покуда я жив, буду лететь в пропасть с верой, что воспарю, не разобьюсь, не подохну. Но уже появляется чисто зэковский скепсис: «я вряд ли получу ответ», уже чуть-чуть проглянул темный тюремный опыт: очень осторожно спрашивает о «товарищах», не уверен… И был прав: насколько я знаю — никто к маме не пришел. Люди боялись. А чего? НКВД? Берии? Иосифа Виссарионовича?.. Нет, прежде всего боялись друг друга. Боялись ОБЩЕНИЯ. Конечно, не все. Вот упомянутый «Петя» — это, знамо дело, Петя Склянский — от мамы не раз потом я слышал это сочетание, — кажется, один-единственный подал сигнал — то ли позвонил, то ли все же тайно встретился с мамой… Но домой к нам никто ни ногой, и это понятно: кому хотелось еще раз загреметь, вдруг донесут, вдруг усмотрят в таком визите «организацию»?! И еще. Отец знает, чувствует нелады между женой и сестрами — Пашей и Розой, а также со своей престарелой больной матерью. «Я категорически просил установить с тобой нормальные родственные отношения» — как бы не так! Мы увидим еще, как конфликт будет расти, этот снежный ком, затем покатится со своего нагромождения и придавит всех участников… Отец чуток к этой опасности и недаром называет бабушку мою — Александру Даниловну — «мамой», — находясь в отдалении, он знает, откуда ветер дует, и стремится загасить огонек вражды, — тонкий психологический ход: «вторая мама», теща то есть, должна клюнуть на эту деликатно проявленную «родноту», ей деваться некуда будет, она перестанет поносить моих сестер и маму… Ах, если бы оно так и вышло!..
Канск, 12/XII — 1940 г. Здравствуй, моя любимая женушка! Вот уже и 4-й год пошел… Сколько, сколько пережито! Да что еще впереди? Нужно ли мне говорить тебе о моей полной невиновности? Ведь ты, моя дорогая, знаешь меня и мою жизнь. Ты знаешь, как безоговорочно всегда я был предан партии, Советской власти, как больше всех на свете я уважал и любил нашего Сталина. Ты знаешь, как я презирал, ненавидел любое, малейшее отклонение от линии партии, от указаний вождя, как я болезненно воспринимал всякое нарушение государственной дисциплины, коммунистической этики, морали. Все то, что касалось жизни нашего Советского народа, социалистического строительства, нашего государства и той небольшой работы, которую я выполнял, где бы я ни находился, — все это было больше чем личным моим делом. Честно я могу сказать, что был непартийным большевиком и дороже всего была для меня мечта о вступлении в партию. [5] Помнишь, моя Лидука, что я писал тебе в больницу, когда родился наш Марик? Вместе с тобой я хотел воспитать его хорошим, настоящим коммунистом, ленинцем-сталинцем, обладающим всеми качествами нового Человека. Хотел ли я, и мог ли я хотеть другой какой-то жизни? Конечно, нет. И больше, чем кто бы то ни было, ты знаешь об этом. Все то, что случилось со мною: арест, обвинения, заключение в лагерь «За участие в антисоветской право-троцкистской организации», — настолько дико, бессмысленно, что просто и не знаю, что говорить, как говорить, кому говорить? До последнего момента, на протяжении почти 3-х лет следствия, я держался стойко, был уверен, что разберутся, все выяснится, буду освобожден, реабилитирован. С гордостью могу сказать, что я — один из тех единиц, что пройдя все ужасные «методы» и проч., остались честными людьми, не лгали, не клеветали ни на себя, ни на других. Моя совесть чиста и перед людьми, и перед советским Государством, и перед тобой, и перед моим сыном, — я не лгал, я говорил только правду, нашу правду, меня били, калечили за нее, не верили, или, вернее, прикидывались неверящими. Я стоял на своем твердо, уверенно, ибо единственная правда — это правда о моей невиновности. В конце 39 года, наконец, было проведено нечто более похожее на настоящее следствие. И с первых же шагов все обвинения, ложные показания о моем «вредительстве» и др. гадости, полетели тормашками, оказались опровергнутыми, разбитыми. Тогда создали «экспертизу»: пьяница и бездельник Моисеев, пропойца и хулиган Кондратьев, карьерист Тигранян, трусливый и шкурный Потеряхин, — безграмотные, никчемные людишки! Как нравятся тебе эти «эксперты» — «высоко-квалифицированные специалисты»? Ну и галиматья же получилась у них, такое собрание всяческих небылиц, сплетен, вымыслов, грубейшего вранья, что просто диву даешься, — наверное, все они пьяные были, когда сочиняли и подписывали свой акт! Была создана новая комиссия: Павлов — Пред. Облплана, Решетников — зам. Нач. план, отдела и инж. Горлин — с Судоремзавода. Вызывали меня на заседание комиссии, я бал объяснения, приложили документы, опровергли предыдущую «экспертизу», записали, что не находят в моей работе «каких-либо элементов вредительской или иной преступной деятельности». Значит, все хорошо! Так нет же. Посылают на Особое Совещание и я получаю по совершенно дикой, неправдоподобной формулировке, — 8 лет лагерей. Так сделали меня «участником» право-троцкистской организации, о которой я не имел никакого понятия… Это ведь жуткий, нелепый парадокс: я и «антисоветская право-троцкистская организация»… Мыслимо ли это? Это ведь такое чудовищное издевательство, надругательство над честным советским человеком, что я просто и не знаю, что же теперь делать? К кому обращаться, кому жаловаться? Все мои заявления попадают, конечно, не к прямым адресатам, а в аппарат, где их не читают и кладут под сукно. Еще до получения решения Особого Совещания я из тюрьмы послал заявления и жалобы: А. И. Микояну — отправлено из Петропавловс. тюрьмы № 2 За № 1195—388 от 25/IV-1940 г. ВЦКВКП(б) — наимяИ.В. Сталина — за № 1195-421от 7/V, За № 1195-479 от 23/V и за № 521 от 4/VI-40 г. Прокурору СССР — № 590 от 26/VI, № 666 от 10VII и № 726 от 20/VI1-40 г. НКВД СССР — Л. Берия — № 1195 — 309 от 15/IV, № 770 от 25/VII и № 840 от 8/VIII-40 г. Военному Прокурору 11 ОКА (в Хабаровск) № 1195-311 От 15/IV и № 552 от 16/VI-40 г. Военному прокурору 101 горно-стрелковой Дивизии Колосову (в Петропавловске на Камчатке) — N9 1195-240 от 1/IV, № 1195-310 от 15/IV, № 624 от 6/VII, № 707 от 18/ VII, № 774 от 26/ VII, № 813 от 22/ VIII, N9 785 от 29/ VI1-40 г. В Камчатский Обком ВКП(б) — N9 886 от 12/VIII и N9 880 от 6/IX Камчатскому облпрокурору — N9 873 от 3/IX и N9 894 от 11/IX—40 г. Беда в том, что большинство этих заявлений было написано и попало на место уже после 23/VII, т. е. после решения Особго Совещания. Ответов я не получал. Только Колосов сообщил мне, что жалоба от 18/VII послана им в Москву в Особое Совещание, а врид. Облпрокурора Левшин прислал в октябре м-це сообщение, что «решение тройки» я могу обжаловать в Камчатскую Облпрокуратуру в порядке надзора. 10/IX мне объявили решение Особого Совещания, a 17/IX переели в лагерь. Там я пробыл до 28/Х. Условия были плохие: походные палатки, теснота, без света; с 7-ми утра до 6-ти вечера на работу: добывали камень, песок, разгружал несколько дней грузы в порту (там увидел впервые Петю). Все свободное время (а его было очень мало) посвящал составлению жалобы. Так отправить ее и не пришлось. 28/Х взяли на этап. Переписку начисто я закончил уже на пароходе и отправил эту жалобу тебе. Лидука, сразу же подтверди мне получение ее и напиши, кому и когда ты ее передала, что тебе сказали, с кем ты говорила. Писала ли ты и обращалась ли вообще, к кому-либо за это время и что из этого получалось? Какова судьба моего заявления А. И. Микояну от июля 1938 года? Заявление это и жалобу используйте как материал для обращений ваших, твоих и сестер, в различные инстанции. Лидуха, ты же знаешь обстановку и условия, какие были на Камчатке, — опиши их, расскажи обо мне, о моей жизни, работе, взаимоотношениях с людьми (Рябов, Кроткевич, Митенев, Коноваленко, Крутиков, Кириллов), с которыми меня сейчас обвиняют в связи… Очевидно, тебе или сестрам нужно съездить в Харьков и Киев. Справки надо получить, поднять архивы Петинского и Городского районов комсомола, Харьковской Губкомиссии по чистке партии, конфликтной комиссии при Губкоме КП(б) У и в УКК КП(б)У. В 1921 г. или в начале 1922 г., я прошел чистку в парт, ячейке Ин-та Нар. хозяйства без всяких замечаний, — было бы полезно эту справку достать. Нужно найти товарищей — б. харьковских комсомольцев того периода, — 1920–1922 г., — чтобы они подтвердили, что я никогда не был в оппозиции… Я помню фамилии: Шохин Андрей, Игнат Леонтьев, Сазонов, Беспрозванный, Бурмистров, Черняк, Привис Семен, — Лева и Роза должны помнить и знать еще и других комсомольцев. Достань в архиве библиотеки им. Ленина, или в другом месте, газету «Коммунист» орган ЦК КП(б)У, в которой имеется передовица моя, посвященная вопросу единства в комсомоле против «рабочей оппозиции». Я не помню ее названия, помню хорошо, что в средине текста имеются лозунги о единстве комсомола, против оппозиции. Узнай точно дату III Всеукраинского съезда комсомола. Эта передовица была незадолго до съезда. Может, удастся из архивов газеты достать подлинный автограф этой моей статьи, — было бы очень хорошо. Ты знаешь, что моей кличкой в комсомоле был — Кирсанов Семен. Надо, чтоб товарищи засвидетельствовали, что Кирсанов Семен и Шлиндман Семен — одно и то же лицо. Подозрение о моем участии в «рабочей оппозиции» в 1920—22 гг., которое следствие не проверило, а доверилось ложным показаниям об этом Кроткевича и Певзнера, по-моему, явилось основной причиной моего осуждения. Надо во что бы то ни стало опровергнуть эту чепуху. Кроткевич говорил, про мою, якобы, принадлежность к оппозиции он узнал от Реске или Авербаха из Моск. Конторы АКО, когда мы были в командировке в Москве, а тем, в свою очередь, об этом сделали устное заявление какие-то два неизвестных члена партии. Я уверен, что это выдумка Кроткевича. Во всяком случае, надо найти Реске и Авербаха, выяснить этот вопрос, если они подтвердят, что такие «два члена партии» действительно у них были, то установить, что это за люди, откуда стала «известна» им эта ложь, почему они оклеветали меня и т. д., т. е. докопаться до истины. Лучше всего поручить это адвокату. Нужно подтвердить справками и документами, что когда я родился и вплоть до 1915 или 1916 года, мой отец был приказчиком-служащим, что с 1920 до апреля 1923 г. он служил, торговал до 1926 г. на рынке, потом опять стал трудящимся; справку о том, когда он был лишен избирательных прав и когда восстановлен, что я жил самостоятельно от него, с 1920 года служил все время и от него не зависел. Нужно достать, если можно, отзывы знающих меня тт. по работе и по жизни. Обратись к Самуилу Аншельсу, Саше Краковскому, Науму Дардину (всем им привет от меня, — как они живут?), — пусть они помогут в этом. Хорошо, если Паша получит подтверждение о помощи, которую оказывал папа в 1919 г., во время деникинщины, подпольной большевистской организации.[6] Надо найти стенограмму моего выступления на чистке партии в НКСнабе СССР, в августе-сентябре 1933 г., по поводу Лугового. Ты помнишь этот случай, когда я первым выступил с разоблачением его как двурушника и обманщика партии, как мое выступление было поставлено в пример всей парторганизации НКСнаба пред-лем Комиссии по чистке Васильевым. Надо достать в Ленинском Райкоме или в МГК ВКП(б) мое письмо от июня-июля 1934 г. по поводу доклада члена коллегии НКСнаба СССР Шатхана на открытом партсобрании «О международном положении СССР», где он допустил грубые извращения, против которых я выступил, не поддержанный собранием. Мое письмо, адресованное в «Правду», разбиралось в МГК, у Зав. Отделом Культуры и Пропаганды Ленинизма Рарнер, а в райкоме вызывали меня на заседание Парткома Наркомснаба и объявили, что я был полностью прав и что вынесены соответствующие решения. Эти случаи должны ведь характеризовать мое политическое лицо.[7]
Правда, со всем этим не хотят считаться, заявляют, что я «маскировался», — как тебе это нравится? Но ведь должны же, чорт возьми, разобраться и установить действительную мою невиновность. Не может же так остаться! Все сейчас будет зависеть от вас — тебя и родных — Паши, Левы, Розы. Нужно писать и писать, добиваться личных свиданий с руководителями партии и Правительства, с Прокурором Союза, с А. И. Микояном, Л. Берия. Надо рассказать им, что получилось со мной, какому жуткому надругательству я подвергаюсь вот уже 4-ый год, оклеветанный мерзавцами. Просите, чтобы вмешались, лично разобрались в моем деле. Наймите адвокатов, хороших, энергичных и умных адвокатов — одного, двух, трех — сколько нужно — они должны добиться пересмотра моего дела и освобождения меня. Дорогая Лидуна. Я думаю, что ты не пожалеешь средств для меня, я выйду, вернусь к тебе, к моей семье, что еще нам нужно? Нужно потратить деньги на необходимые поездки, получение справки, оплату адвокатов и проч. Моя милая, любимая женушка! Вся надежда на тебя и сестер. Кто еще поможет мне сейчас? Я прошу и тебя и их не ссориться друг с другом, бросить все обиды, и действовать вместе, общими усилиями и общим советом. Слушай советов папы, пойди вместе с ним к адвокату. В некоторых случаях то, что не сможете сделать вы — ты и сестры, — сможет старик-отец (скажи ему об этом и передай, что таково мое мнение). Я очень огорчен вашими плохими взаимоотношениями, улучшились ли они после моих писем от 7/ХГ? Я думаю, что да. На всякий случай даю тебе их адрес: Шмидтовский проезд, 12, корпус 6, квартира 138. Не ожидай, в крайнем случае, пока придут к тебе, пойди сама, отбрось обиды, — сейчас им не место. Вы должны простить друг другу, если любите меня и хотите конца нашему несчастью. Извини, моя Ликонька, за требования, предъявляемые мною к тебе, не посчитай их для себя обидными! Я все понимаю, благодарен тебе за все, что ты сделала для меня и перенесла за меня — я все знаю, но ведь ты понимаешь мое положение. Единственная надежда на вас, а вы не встречаетесь даже и не разговариваете друг с другом! Помимо того, что это недопустимо вообще среди родных, это вдвое нехорошо сейчас, когда мне нужна ваша дружба, взаимная помощь и доверие. Тебя, моя Лика, я вовсе не виню ни в чем, только я, сам перенесший много, могу понять, что пришлось перенести тебе. Я уважаю, ценю и люблю тебя больше, чем когда бы то ни было, и я мечтаю день и ночь о том времени, когда я зайду в наш дом, к тебе, моей любимой женушке, обниму тебя крепко, крепко, буду целовать и ласкать тебя, мою милую, дорогую! Как хорошо нам будет тогда с нашим Мариком, нашим сыном, моим мальчиком. Я его совсем ведь не знаю, какой он сейчас, большой уж парень — говорит, бегает, балуется, поет, читает? Как здоровье, рост, как он развивается? Как ты, моя девочка, здорова ли, все ли хорошо у тебя? Как легкие, сердце, не болеешь ли? Главная моя просьба — береги себя и сына, не отказывай себе в необходимом. Напиши все подробности о себе, о сыне, о маме, о родных, обо всем, обо всех за это время… И обязательно фотографии, чем больше, сколько только есть, и старые и новые, — они будут мне великой радостью. Не сразу присылай их все, а в каждом письме по 2–3—4 карточки. Пиши чаще, не реже раза в 10 дней, не дожидайся моих писем, которые будут конечно, реже. Нам разрешается посылать одно письмо в три месяца, а получать — без ограничения. Может будет удаваться посылать еще как-нибудь, как вот это письмо, но и это случается не часто. Получила ли ты свой вклад? 26/Х— 40 г. я сдал в Горсберкассу № 611 твою сберкнижку под квитанцию № 254898, серия В, для ожидания твоего письменного заявления. Время уже достаточное, чтобы ты получила свой вклад. Почему ты получила только 2/3 пая из РЖСКТ? Что нужно, чтобы получить остальное? Я добиваюсь, чтобы выслать тебе облигации на 4995 руб., они в Хабаровске. Как только получишь письмо, сразу телеграфируй мне о здоровье и получении моего письма с жалобой от 27/Х. Получила ли ты письма, что посылал тебе на этих днях, в том же порядке, что и это? Это письмо с 12/IX — пятое по счету — буду нумеровать в дальнейшем, и ты делай это же. Ликин! Вышли мне, пожалуйста, посылку: махорки побольше, табаку, папирос, сахар, конфет, жиров, — ну, ты сама знаешь, что нужно. Да не всё, кажется, можно достать сейчас? Хороши разные брикетированные продукты: супы, каши и проч. Мне нужно сейчас подкрепиться малость, хоть короткий срок. Теперь о деньгах. Остаток моих денег — 680 рубл. — остался на Камчатке, его не скоро переведут сюда. Но, все равно, будут выдавать по 20–25 р. в месяц. Вот адрес, по которому можешь послать деньги, а их передадут мне. Не знаю, верно ли это, но попробовать первый раз надо. Адрес: г. Канск, Красноярского края, до востребования, Егоровой Анастасии Алексеевне. В телеграмме мне сообщи: «Деньги выслала». Вышли 250 рубл., если не пропадут, то можно будет в следующий раз еще перевести. Деньги нужны, особенно в первое время. Ну, Лидука, моя женка, кончаю это письмо, жду с огромным нетерпением твоих писем, карточек, хочу посмотреть на тебя, на сына. Я работаю бухгалтером в производственно-технической части с января, возможно, перейду на плановую работу (если не погонят на общие). Работы очень много, не меньше 13–14 часов в сутки, а бывает и больше. Обо мне не беспокойся. Хочу жить и жить обязательно. Хочу быть с тобой, с сыном, в своей семье. Надеюсь, что это будет, рано или поздно, но будет. Мой адрес: г. Канск, Красноярского края, почтовый ящик № 235/8. Целую тебя и сынку крепко, крепко, обнимаю и желаю здоровья и благополучия. Ваш Сема. Привет всем родным. Писать больше сейчас не могу. 15/XI 1—40 г.Это письмо — замечательный, по-своему, документ. Как видим, Отец писал его три дня (ночами, естественно). Это — вопль. Нервы начали сдавать. Несомненно, письмо написано в два адреса. Маме и палачам. У Пушкина был свой «ценсор», у нашего автора несколько иной проверяющий. Прежде всего его глазам надо было представить клятву верности — само слово «клятва» в те времена было очень популярным, ибо тоталитаризм всегда держался и держится там, где люди «повязаны» друг с другом, где все общество по горизонтали, вертикали и любой диагонали (как его ни кромсай) едино в своем клятвенном сжатии с ИДЕЕЙ. И чем отштампованней будут слова, заверяющие верность, тем более ты будешь походить на винтик системы, тем меньше на тебя будут обращать внимание. Будь как все — это значило «верь, как все», «поклянись, как все». Даже находясь в лагере, то есть живя жизнью раба, жизнью собаки, — все равно: ври, как все! Лижи задницу советской власти, как все!.. Конечно, можно было этого и не делать. Но тогда — оставь надежду, зэк!.. Смирись со своей судьбой. Молчи. Затаись. Терпи и не проси ничего у своего палача. Выживешь — хорошо. А подохнешь — что ж, зато человеком, не рабом, ушел в иной мир. Но до этой нехитрой позиции надо было еще дойти. Зэк, угрюмо простившийся с надеждой, вовсе не сдавшийся судьбе, а выживающий, опершись только лишь на свой дух, на свое достоинство — этот зэк для Отца, отсидевшего в общей сложности в сталинских душегубках 18 лет, еще впереди. А пока… Пока он клянется в верности Сталину, а это значит одно: «проверяющий» не будет считать его троцкистом, вдруг, может быть, и усомнится в своей политической фантазии на счет «врага народа»?.. Иллюзии?.. А вы посидите ТАМ вместо моего Отца!.. Поборитесь-ка сами за свою жизнь!.. Посмотрим, что у вас выйдет и вообще — выйдете ли вы?! Конечно, кролик (зайчик) выглядит смешно перед Удавом (Волком). Ну, так смейтесь. А Отцу надо было выиграть битву за свою жизнь, а битва — это и отступления, и компромиссы… Да, демагогия, да, вранье, но ведь сразу же по окончании клятвенных заверений в верности товарищу Сталину идут такие из сердца выплеснутые слова: «просто и не знаю, что говорить, как говорить, кому говорить». Значит, рабское уже уступало трезвости, зэк шел к своей мудрости, спотыкаясь, в бреду, но не теряя сознания. В письме мелькают фамилии. В том числе тех, кто оболгал Отца. Я не знаю, что за человек был этот Кроткевич, и вовек не узнаю. Вполне возможно, что и он пал жертвой от чьего-то доноса. Но ведь и спасибо сегодня хочется кое-кому сказать. Кто эти люди — Павлов, Решетников, инженер Горлин?.. Ведь не настучали же!.. Ведь не согласились с другими «экспертами»!.. А некто Анастасия Егорова — кто она, что я могу знать о женщине, вольной жительнице Канска, которая согласилась передать деньги заключенному?.. Ничего?.. Нет, знаю и через десятки лет пытаюсь ей поклониться: дурак-Сталин и дурак-Берия не понимали, что человеческое все равно сильнее бесчеловечного, хоть всю страну, весь народ посади в яму, а найдется какая-нибудь Анастасия Егорова, и поможет человеку, и выживет он, и страна, и народ. Следующие письма только подтверждают отцовскую жизнестойкость. Сестры — Паша и Роза — хотели приехать к нему в Канск, но…
Канск, 13/1-1941 г. Здравствуй, дорогая моя Лидука! 7-го числа получил твое первое письмо, а вчера — телеграмму твою и письмо от Паши и Розы. Не знаю, успеет ли это мое письмо, до их отъезда, это было бы очень печально. Дело в том, что в свидании мне отказано, объявили об этом сегодня. Причина, очевидно, в том, что я недавно в лагере, а нужно выдержать 6-ти месячный стаж. Добивайтесь разрешения в ГУЛАГе НКВД, в Москве. Такие случаи были, что родственники приезжали с разрешением из Москвы. Хлопочите о продолжительном свидании, т. к. здесь дают лишь — по 2 часа. Паша пишет, что вместе со мной будет доказывать мою невиновность. Это меня обнадеживает. Хорошо, конечно, если вы сумеете добиться разрешения и приедете ко мне, — мне нужно рассказать о многом. Ликин, ты с Мариком приедешь ко мне весной, сейчас здесь крепкие холода, куда ты с малышкой поедешь? Сейчас меня только и занимает мысль о предстоящей встрече, — она все-таки будет. Бывали здесь случаи, когда приезжали без разрешения и здесь добивались на месте, но это только случаи и надеяться на это нельзя. Передай об этом Паше с Розой, пусть отложат поездку и добиваются разрешения в Москве. Милая моя, любимая женушка! Много радости и еще больше горя принесло мне твое письмо. Много раз принимался я его читать, но сразу до конца не мог. Нервы мои ни к чорту не годятся… Пойми только, моя дорогая, что все мои мысли и чувства всегда, всегда только с тобой и с моим сыником. Мы будем вместе и залечим все раны, — я в это крепко верю. Я не могу ответить тебе сейчас по существу твоих отношений с родными, для этого нужно некоторое время и более пространно написать, а я тороплюсь отдать письмо, чтобы оно завтра ушло (есть возможность…). Поэтому прости меня за краткость и не пойми превратно. Прошу тебя только об одном: подумай еще и еще раз — можно ли так жестоко и ультимативно ставить вопрос, как делаешь это ты, нельзя ли найти точку примирения, но, во всяком случае, не полного разрыва. Ведь речь идет о матери, об отце, о сестрах. И не заставляй меня сейчас отрекаться вовсе от них. Сообщенное тобою поразило меня так глубоко, что я не могу собраться с мыслями об этом. Напиши мне еще и еще, рассказывай только правду, но правду объективную. Я жду твоих писем и за каждым из них я буду тебе благодарен до гроба моего, может быть, не так уж далекого… Дорогая моя Ликонька! Как хочу я видеть тебя с сынкой! Берегите себя, будьте здоровыми, старайтесь быть здоровыми. Ты настоящая мать, меня это крепко радует. Но береги себя, твое здоровье нужно нам всем и, в первую очередь, нашему Маронику. Ведь правда, моя милая? Очень прошу прислать мне фотокарточки, все, какие только есть, в каждом письме чтоб была карточка. Ладно? Пришли мне бандеролью по почте бумаги хорошей для жалоб и заявлений и конверты. Прошу тебя связаться с женой инженера Дударенко Николая Александровича, под руководством которого я до сегодняшнего дня работал здесь в лагере, — я ему многим обязан. Адрес его жены: 1-я Мытищинская ул., д. № 13/Б, кв. 1, Анна Евстафьевна Зиновьева, а служебный ее адрес: Б.Переяславка, Типография НКПС, местный комитет. Еще зайди к жене его брата по той же Мытищинской ул. д. № 13/А, кв. Лр 6, Дударенко Зинаида Васильевна. Когда Паша с Розой и ты с Маруником поедете ко мне, возьмите у них для И.А. Дударенко посылки и нужные поручения. Передайте от него привет, он здоров, много работает. Дорогая Лидука! С завтрашнего дня я выхожу на другую работу: плановиком в Плановом Отделе Управления строительства Гидролизного Завода, — получил уже назначение. 16/1 переедем в новый лагпункт — строительный (по соседству с этим). Стройка идет вовсю, сроки очень жесткие, а объем большой. Строим, конечно, мы. Здесь же Г.Л. — работает десятником, я с ним мало разговариваю, уж больно он мне противен и напакостил мне, — чорт с ним. Ликин, прошу тебя, как-нибудь через знакомых или родных снабдить меня посылкой из другого города, если нельзя из Москвы. Главное — табак, бумага, спички, сахар, чай и немного каких-нибудь жиров и витаминов. Адрес мой тот же (почт, ящ. 235/8). Денег я еще не получил, боюсь, что пропадут, вышли рублей 100 150 на мой счет в лагерь. Ликин, запроси телеграфом Камчатскую Облсберкассу о своем вкладе, почему не переводят, когда перевели. Ведь книжку твою я им сдал по квитанции № 254898, серия В, от 26/Х—1940 г. с тем, что получив твое заявление, вклад будет немедленно в сберкассу в Москву по твоему указанию. Сообщи, как получить остаток пая из РЖСКТ, что нужно от меня для этого? Я жду облигации из Хабаровска, когда прибудут, добьюсь, чтобы переслать их тебе. Ну, вот, моя дорогая, меня торопят, чтобы я кончал и отдал письмо, а я никак не могу оторваться и кончить. Обо мне не беспокойся. Постараюсь быть здоровым. Как только получу бумагу, отправлю свою жалобу Прокурору Союза. Как-нибудь надо все-же найти Нор., может он уже в Ленинграде? У него ведь наиподробнейшая жалоба, из которой все видно. Подавай от себя заявление Прокурору и в НКВД, не дожидаясь моей жалобы. Там, где бунтуют родные — получается результат, скажи об этом и Паше. Ну, всего хорошего. Большущий привет маме — Александре Даниловне, пожури ее за то, что хворает. Пусть бодрится, будет все хорошо, мы еще погуляем и моя «хромая лошадка» побежит быстро-быстро и докатит до самого дому. Крепонько целую тебя и Марульку. Ваш Сема. Жду писем и фотографий. Еще раз целукаю моих любимых мордиков — Сема. Привет всем родным. (Насчет свиданий передай Паше с Розой).Мама. Я передала. Я. Мама, скажи, мама, а что все-таки случилось у тебя с его родными? Какая кошка между вами пробежала? Мама. Не хочу об этом говорить. (Плачет.) На белой стене речки и реки, потоки и водопады… Стемнело. Действие переносится в Приемную НКВД. Там очередь к окошечку. Мама и сестры Паша и Роза, временно помирившись, стоят, притулившись к непробиваемой стене…
Наркому Внутренних Дел СССР Т. Берия Мы советские люди, врач, учительница, инженер, воспитанные в советских ВУЗах, впитавшие в себя великое учение Сталина об отношении к человеку, не можем больше молчать и поэтому решились переслать Вам жалобу нашего брата и мужа. Большой человеческой просьбой, просим Вас помочь нам в нашем безысходном горе. Три года и два месяца мы не можем добиться, чтобы расследовали по-большевистски с глубоким вниманием дело нашего брата и мужа Шлиндмана Семена Михайловича, 1905 г. рождения, арестованного 3-его декабря 1937 г. в Петропавловске на Камчатке. Он экономист, молодой способный специалист, всегда энергично и искренне работавший, он в своей жизни не знал кривых путей, это абсолютный советский специалист, всей своей жизнью преданный Советской Родине. За его прямоту и честность, враги с ним рассчитались по-своему,подло оклеветали его, опутали его гнуснейшей ложью В его обвинении нет ни слова правды, все там чудовищно по своей сути, как может быть оклеветан честный мужественный советский человек. Три года и два месяца каждый свободный день у нас уходит на стояние в бесконечных очередях к прокурорам, но никто не внемлет. За ворохом бумаг забыли о живом человеке. Мы понимаем, что очень ответственно обращаться к вам за помощью, твердая уверенность в невиновности брата и мужа дала нам решимость обратиться к Вам с великой просьбой. Поручите пересмотреть его дело. Мы уверены, что разобравшись в деле, его вернут к жизни, к обществу, к семье. Он еще молод и сумеет отлично работать на пользу Советского Государства. 31/1-1941 г. П. Леонова — учительница — Москва, 2-ой Самотечный пер., 7, кв. 19 тел. КЗ-96 Р. Шлиндман — врач, Шмидтовский проезд № 12 корп 6 кв. 138 Москва Л. Котопулло — инженер — Москва Петровка д. 26 кв. 50
Вернемся в пустое пространство. Оказывается, свою «Жалобу» отец сам Берии не отправил. Он схитрил, вернее, ему казалось, будто он схитрил. Он вполне разумно посчитал, что обыкновенной почтой его письмо не дойдет. Обустроившись на новом месте после этапа — из Петропавловска-на-Камчатке прямехонько в Канск, что под Красноярском, отец, как это видно из его переписки, вместо строительства Судоремонтного завода (на воле) получил строительство Гидролизного завода (в неволе). Разница заметная, но понятная. Так вот, не откладывая дело в долгий ящик, он тут же соорудил жалобу на имя Берии (не только прокурору) и отправил ее маме и сестрам, чтобы они, объединившись, написали Берии СВОЕ письмо, от себя, и тогда, может, жалоба и скорее дойдет до высокого адресата, и шансов будет больше на то, что прочтут, потому как есть сопливая гарантия, что возьмут в приемной под расписку. Экая наивность!.. Ответом (надо признать, скорым, от 4 февраля) была выдана официальная справка, отпечатанная в типографии — только фамилия заключенного вписывалась, — значит, ТАКУЮ справку получали тысячи тысяч жалобщиков. Иными словами, жалобы — не рассматривались. Ответ шел многотиражный, один для всех. Система работала профессионально. Она ПРИНИМАЛА жалобу и ОТВЕЧАЛА шаблоном по башке.
СПРАВКА К ДЕЛУ № 843981 Дело по обвинению Шлиндман С.М. Рассматривалось в порядке надзора Главной военной прокуратурой По жалобе Шлиндман С.М. Оснований к внесению протеста на приговор (постановление) Особ. Совещания не найдено. Заключение по делу хранится в справочной папке ГВП за № 58286-8 Военный прокурор ГВП — Военный юрист 4/11-41 г. Подпись.…Горе сплачивает. Но не всегда. Бывает и по-другому. Усугубляет разрыв. На что мама так обиделась? Мама. Всему причиной был Лева. Муж Паши. Я. Нет, мама. Будем честны: причиной была ты. Твоя болезненная ранимость. Ты во всем видела подвох. Это твоя черта. Мама. Неправда. Я зря никогда ни на кого… У меня этого нету. А вот они Сему клевали… Я. За что? Мама. За то, что он в меня влюбился. Они считали, что мы не пара. Я Семе не подхожу. Я. Папа, было такое? Отец. Ну, было. Когда мы еще поженились. Но потом… Мама. Потом мне всегда показывали, что Сема совершил ошибку. Отец. Да не показывали! Обычная ревность сестер. Любимый братик теперь не с ними. Ерунда, в общем. Мама. А для меня это была не ерунда. Я всегда чувствовала их презрение. Отец. Презрение?.. Скажешь тоже! Мама. И скажу. Они ненавидели меня. Только прямо об этом не говорили. Но я чувствовала, понимаешь?.. Они мне давали понять… Я. И дядя Лева? Мама. Лева был замминистра. Большой человек. Он кончил Институт красной профессуры и был прекрасным организатором здравоохранения. Его знали и уважали в Кремле. Профессор Вебер!.. Лев Григорьевич Вебер! В медицинском мире он был величина. И человек хороший. Добрый. Интеллигентный. Лично к нему у меня не было претензий. Никаких! Я. Почему же ты считаешь, что причиной ваших раздоров был он? Мама. Это все Паша. Она с него пылинки сдувала. Боялась за его карьеру. А он был смелый, принципиальный… Когда убили Кирова, врачи предложили вынуть его мозг и заскипидарить, как Ленина в Мавзолее. Уже вопрос был почти решен. Но тут встал Лева и сказал: «Не сходите с ума. Это не нужно». Дошло до Сталина. Он тоже сказал: «Это не нужно». И Лева пошел по лестнице вверх. Он стал замминистра здравоохранения Российской Федерации. Раньше он был шишка, а теперь большая шишка. Я. Ну, а при чем тут ты и папа? Мама. При том, что когда Сему посадили, Паша сделала всё, чтобы об этом не дай бог кто-нибудь узнал. Лева должен быть чистым. А Сема — это грязь, которая к нему не должна прилипнуть. Мне прямо намекнули, что я не должна ходить в их дом. Отец. Чушь!.. Бред сивой кобылы! Мама. Вот и я так считала. Но я смолчала, спросила только: «А как же Марик?» — «Мы будем к вам ходить. А вы к нам не ходите». Я. Хорошенький намек!.. Мама права! Отец. Я в это не верю. Но даже если Паша тебе так сказала — что такого?.. Она же правильно — берегла Леву. А что, он должен был из-за меня погореть? Мама. Не знаю. Но я сказала: «Ноги моей у вас больше не будет». «А Марик? Марик? — закричали они. — Ты не имеешь права!.. Сема — наш брат, а Марик — его сын»… Я сказала: «Я на всё имею право, потому что я — мать, понятно?.. Но Марика я вам разрешаю забирать — раз в месяц!., если вы такие родственники!..» Я. Я помню… после войны они меня забирали. Помню их отдельную квартиру и кабинет дяди Левы — весь в книгах. Мама. Да, а до войны они ни разу к нам не приехали. Вот так мы разошлись.
г. Канск, 3/11-1941 г. Дорогая моя Лидука! Посылку из Одессы я получил. Большое тебе спасибо. Пришлась она как раз кстати: я сейчас больше, чем когда-либо нуждаюсь в дополнительном питании. Одна операция уже сделана благополучно, — от геморроя и выпадения прямой кишки я уже избавлен. Оперировали проф. Бельц Адам Адамович и д-р Бобровников В.П., под местной анестезией. От этой операции я уже почти оправился. Звтра будет вторая — по поводу левостороннего гайморита (воспаление гайморовой полости). Оперировать будет д-р Бухгольц Э.Л. Хотя предстоит операция неприятная и болезненная (будут продалбливать от челюсти к носу), но она меня избавит от постоянных головных болей и хронического насморка, восстановится память, обоняние и пр. Пусть уж режут, но зато будет восстановлено здоровье, а это — главное. В больнице пробуду еще дней 10–12, дадут, наверное, после этого отдыха пару дней, а потом опять за работу. Ты, милая, не беспокойся ~ все будет хорошо. Почему ты ничего не пишешь? За все время получил от тебя только 1 письмо и 1 тел-му. Месяц уже ничего не получаю, — это меня сильно волнует. Почему так? Еще раз прошу тебя писать мне часто, не реже, во всяком случае, одного раза в декаду. Хоть короткое письмо, открытку, но писать должна. А где твои и Марика фотографии? Я их жду с таким нетерпением, а ты их не шлешь! Только не вкладывай их в посылки, так как письма из посылок не выдаются, их нужно посылать отдельно. Ликин! Вещей никаких больше мне не посылай, за исключением 1 пары брюк и гимнастерки плотной (или пиджака какого-нибудь). Все остальное у меня есть. Вообще, здесь нужно иметь самый минимум самых необходимых вещей, т. к. их очень трудно уберечь, а в случае этапа каждая лишняя вещь — обуза, от которой, если сам не избавишься, то другие «избавят». А переброски в другое место могут быть… Как доехала Паша? Эх, Лидука, что пришлось пережить!., но все ж таки не даром, — вы теперь уж знаете про меня всё: где, что да как… Нет, Лидука, родные мои от нас не отвернулись; они любят нас и принимают горячее участие в моей судьбе. Приезд Паши это полностью доказал. И Марика и тебя они любят, не могут не любить, и много огорчений доставляют сложившиеся отношения. Здесь какая-то недоговоренность, в чем-то кто-то кого-то из вас не понял, и пошла неприязнь, нехорошая, обидная, недопустимая среди родных. Надо с этим покончить, моя дорогая! Нужно найти какие-то точки сближения и восстановить добрые отношения. Так-то будет легче и радостнее всем: и тебе, и мне, и сестрам, и старушке-матери, проливающей горькие материнские слезы над участью своего сына. Поезжай, моя Лидука, к ним, возьми с собой Марика — ты увидишь, что будете у мамы и сестер самыми дорогими гостями. Не просто гостями, а своими, близкими, родными! Что вам делить-то между собой? Только одно горе и одни заботы обо мне… Я себе просто не представляю, чтобы мои родные могли так ужасно отнестись к моему сыну. Здесь что-то не так… Ведь в июле 1938 г. ты мне писала, что они часто бывают на Сходне, посещают Марика, — я это хорошо помню. Но что-то случилось у вас, что именно? Не могу допытываться, — каждому человеку свойственны ошибки, непродуманные поступки, обусловленные случаем, моментом, тем или иным временным настроением и т. п. Такого рода ошибочный шаг по отношению друг к другу могли допустить и все вы: и мама, и отец, и твоя мама, и сестры, и ты сама, — не так ли, Лидука? Если бы все это сразу продумать и оценить в духе благожелательства, а не вражды, спокойно и объективно, а не в эгоистическом волнении, то все само собой уляжется, станет понятным, простится и забудется. Всем вам этого не хватило, и пошло, и пошло… И это мне понятно, потому что случилось в обстановке нервозности, больших огорчений и забот. Не надо, Ликин, обвинять. Обвинить проще и легче, чем понять и оправдать. Разберись, пожалуйста, со случившимся, поговори, если это надо, по душам, чистосердечно, с Пашей, с мамой, и кончай неприязнь. Так будет лучше! Но я тебя не неволю, тебе виднее, поступай, как считаешь правильнее. Я говорю так много об этом потому, что много огорчения испытываю, а хотелось бы, чтоб жили в дружбе, друг другу помогали, поддерживали бы в беде, не замыкались бы друг от друга… Ну, вот, Ликин, сегодня 4/П. Продолжаю: Операцию гайморита отложили, решили дать мне отдохнуть и поправиться после той операции. Поэтому сегодня я выписался из больницы, дней на 10. Буду освобожден от работы. А там видно будет. Не знаю, делать ли сейчас эту операцию. Как ты считаешь? Ликин, я было уже начал работать экономистом на стр-ве Гидролизного завода, но, в связи с операцией, остался на прежнем месте. Завтра выяснится мое дальнейшее местопребывание: или меня переведут на это стр-во (другой лагпункт, здесь же в Канске) или же по спецнаряду отправят в один из лагпунктов Краслага работать по специальности — экономистом. Ты пиши и посылай все по старому адресу: если я перееду в другое — будет дослано мне, а я сразу же постараюсь сообщить тебе. Ликин, пришли мне мундштук и кисет для табака, галстук к рубахам. Мой дорогой любимый мординька! Как я тоскую по тебе и сынке… к лету добьюсь свидания — приедете. Ладно? Как с вкладом, пришел ли он уже? Если нет — обратись в Главн. Управление Сберкасс с жалобой. Как здоровье твое, Марикино и мамы? Целую вас крепко, крепко. Твой Сема. Пиши, пиши и пиши.Мама. Я писала, писала, писала, но он почему-то ничего не получал. Я. Ты сделала то, что он просил? Молчание. Я. Ты поехала к ним?.. Нет, ты не вняла его просьбе, не поехала. Почему?.. Объясни, наконец, почему, мама? Мама. Они ненавидели меня. Даже не встретили меня с Камчатки, не позвали к себе. Ты болел постоянно, они врачи, притом со связями врачи, профессура, но не помогали, не хотели меня знать Я была им чужая. Они евреи, а я гречанка с русской матерью. Вслух об этом никогда… Но — поверь — я чувствовала, что я им не своя. А у меня была гордость. «Пусть Марик у нас поживет»… Они хотели отнять тебя у меня. Не верили, что я смогу. У них были пайки. Понимаешь?.. У них были такие возможности!.. Мы не имели то, что имели они! Я отказывала себе во всем, чтоб послать тебе посылку, а они… они могли это делать легко и просто. Просто и легко. Я. Не понимаю. Твой муж отматывает срок в зоне, а ты… а тебе… Ты же не станешь отрицать: тетя Паша все-таки поехала к нему. Сестра поехала к брату в заключение. Разве это ни о чем не говорит?.. Мама. Она поехала, чтобы меня унизить, чтобы мне показать: вот какая я хорошая сестра, а ты плохая жена, не поехала… А я не могла поехать… У меня не было таких возможностей… Не было! Нам жрать было нечего. У Марика зимнего пальто не было, и у меня тоже. На два пальто не хватало. Как в Сибирь зимой без пальто? А в Москве я в платке отходила всю зиму. В одном платке.
г. Канск, 8/111-1941 г. Мои любимые мордики, Ликин и Марик! Не могу и передать моей радости по поводу получения ваших фотографий. Гляжу и не могу наглядеться на близкие мне лица, на ваши мордульки. Во сне вижу вас, просыпаюсь и вновь гляжу… Дорогая, прекрасная моя женушка! Твои письма от 20/1 и 6/II, что ты отослала вместе, я получил 1/Ш. Все не мог засесть за письмо — работаю много, совсем не высыпаюсь, — да каждую свободную минутку заполнял перечитыванием снова твоих писем (в особенности, конечно, большого), и не мог никак собраться с мыслями, чтоб сразу ответить. А сегодня вечером получил я еще одно твое письмо от 16/ II. Все открытки дошли в целости, я бесконечно рад им и благодарен тебе за них. Наконец-то я в кругу своей семьи, я вижу тебя, сына и воображаю себя стоящим рядом с вами. Ты спрашиваешь, Лидука, которая из карточек понравилась мне больше остальных. Да бог ты мой, разве можно ответить на такой вопрос? Все они мне нравятся (если только можно этим шаблонным словом выразить чувство, испытываемое мною при виде их), ибо на них — ты, любимая женка моя, моя радость, мое единственное счастье, и наш сынка, наш родной мальчик! А на большой карточке, где тыс Мариком в нашей комнате, ведь мы снялись все нашей семьей: и я попал с карточки на карточку. Эх-ма, где те былые дни? И возвратятся ли они к нам еще? Плохо вам было в 38-м году, и 39-й был не лучше. С болью в сердце я гляжу на ваши снимки того периода; печальны, худы и бледны ваши лица — Марик там совсем маленький, крохотка, болезненный, а ты задумчива, грустна, изнурена. Много вы испытали горя, мои бедняжки! Но Марка наш растет, твои и бабушкины заботы, твоя материнская любовь ставит понемногу нашего сынку на ноги, он крепнет, а с ним и ты — его мать, для которой он — единственная радость, и печаль и забота. Все это я читаю на ваших карточках, и снова, вместе с вами, переживаю прошедшие роковые годы. На одной из карточек, где ты лежишь с Мариком на диване у Самуила в комнате, вы получились совсем, совсем плохо. У тебя черты лица как-то резко очернены, глаза — ввалившиеся черные точки, в губах ни кровинки. Недаром ты надписала: «Вышли мы не совсем удачно, но и жизнь наша была тогда далеко не отрадной». Много грусти и тяжелых переживаний отражено на твоем лице в карточках, сделанных Нюмой[8] зимой 1939года. Особенно там, где ты в черном платье. Думала ли ты обо мне в тот момент? Ведь ты еще не знала тогда, где я, что со мной, жив ли я… На маленькой карточке от февраля 1938 года в руках у Марика я узнал цветастого попугая, что я привез из Москвы. Сохранился ли он и сейчас? Чудесные снимки Марика, что делались в фотографии. Там, где Марик плачет, я так и слышу его голос, плаксушка-ревушка мой милый! Он такой нарядный, мордик мой! У елки (молодец, что ты устроила ее) вы оба — мои детки: дочка и сын. Чудные, хорошие, ласковые! Крепко, крепко обнимаю вас и расцеловываю у этой самой елки. (Папа — это в воображении, но будет, будет и наяву). Ну, а последние снимки не могут меня и порадовать. Ты не бойся, — я не плачу, я смеюсь и радуюсь вашим мордикам. Так вот он какой, сын-mo у меня. Спасибо, что растишь его таким хорошим. Все товарищи мои здесь восхищены и сыном и тобой, а я с гордостью показываю вас. Эти последние снимки для меня — настоящий большой праздник. Уморил меня Марка в колпаке бумажном. Ну, как тут не нахохотаться вдоволь? Этакий хулиганишко в длинных штанах, в мужской пижаме! Наконец-то я вижу улыбку и на твоем лице. Я рад ей и очень доволен, что ты сейчас в лучшем настроении, чем прежде. Но ты и проказница: губки стала подкрашивать, а еще что? Смотри, мордуля, — будет тебе от твоего Семы на орехи! Марик выглядит хорошо. Надо его развивать физически, чтоб он был крепким, здоровым парнем. Ежедневные утренние физзарядки, игры всякие. Посоветуйся прежде со специалистами, пусть установят программу и режим физической закалки. Не надо, чтоб он был толстым, нужно, чтоб был крепким, физически развитым и выносливым. Ты спрашиваешь, Ликин, отдать ли Марика в детскую дошкольную группу? Я думаю, что надо это сделать, ведь ему необходимо общество друзей-ровесников, а то он один в доме, — это плохо. Отсюда его излишняя, не по возрасту серьезность и, в то же время, избалованность. В детской группе, если только она хорошая, и в отношении педагогов-воспитателей, и в отношении подбора детей, он дисциплинируется, будет лучше есть, и, вообще, там ему будет интересно и полезно! Так что, смотри, Лидука, сама: если такая хорошая группа есть, то отдай туда Маруньку, пусть посещает ее, но только с пользой. Если увидишь, что ему там плохо, или перенимает дурные привычки, как это случается в скверно поставленных детсадах, то забери его немедля оттуда. Как это случилось, что Марик заболел ветрянкой? Вот чем плохи детсады! Но если найти такую небольшую группу, в которой будут следить за детьми, по-настоящему ухаживать за ними и беречь их, то опасаться не нужно. Напиши мне, как здоровье Марка сейчас, не болеет ли он чем? Мне кажется, судя по фотографиям, что он нормального роста, а ты пишешь, что он маленький, — почему? В первом же письме ты должна мне написать: какой он имеет рост, вес и дать полное описание его здоровья, его развития. Для этого, прошу тебя, чтоб его осмотрел хороший врач и написал бы тебе все это, а я здесь покажу нашим врачам (здесь есть прекрасные специалисты!), они мне расскажут и посоветуют, как да что надо делать. Вообще, Ликин, рекомендую, если ты или Марик чем-нибудь заболеваете, не ограничиваться приглашением врача из районной амбулатории или консультации, а обращаться к хорошим специалистам. Ты сама рассказала мне о случае с Мариком: что было бы, если его отвезли бы в больницу? Молодчина мама, большое ей спасибо, она правильно поступила, что не отдала Марульку. Воспитывай Марика сама, уделяй ему как можно больше времени, ибо ты сможешь передать ему хорошие качества. Когда я вернусь домой, вместе будем его растить. Марик должен быть настоящим Человеком! Это будет зависеть от нас самих. Мне бы хотелось, чтоб Марик знал иностранные языки, в первую очередь: немецкий и английский. Поэтому надо найти такую детскую группу, в которой бы говорили на одном из этих языков. В таком возрасте дети легко усваивают новую речь. Ты спрашиваешь, Ликин, покупать ли сейчас пианино для Марика? Это было бы, конечно, очень хорошо. Нужно только будет и тебе, моя детка, заняться музыкой. Не стоять же инструменту без употребления, от этого никакой пользы не будет, и музыкальность сына не разовьется от того только, что он будет глядеть на пианино. Надо, чтоб ты выучилась играть. Трудную задачу я перед тобой ставлю, Лидука, но интересную. Слух и способности у тебя есть, вот только времени мало остается у тебя. Может быть сумеешь немного выкраивать? Хоть немного научишься, помаленьку играть, чтоб Марик слышал музыку и видел, что надо работать и учиться музыке. А когда я приеду домой, то уж заиграем во-всю. Я ведь когда-то учился этому искусству… Купить пианино, конечно хорошо, но как с деньгами? Ведь оно должно дорого стоить, — сколько? Хорошо, если я скоро, хотя бы, в течение ближайших двух лет, вернусь домой, а если придется отбывать весь срок, — это еще 4 ½ года! Надо быть готовыми и к худшему. В последнем случае тебе нужны будут деньги, чтобы подкреплять свои материальные ресурсы, получаемые от службы. Я очень доволен, что ты получила, наконец, свои вклад, — это большая радость для меня. Много мне пришлось понервничать на Камчатке, чтобы добиться возвращения книжки и перевода тебе этих денег. Теперь ты с Мариком обеспечена на довольно большой срок. В этом отношении ты, Ликин, находишься в несравненно лучшем положении, чем жены многих других товарищей. К тому же ты — инженер, и твой заработок позволит тебе продержаться с сыном и матерью. Главное — это сохранить здоровье, беречь себя всеми силами и средствами. Нет ничего лучше здоровой, свободной жизни! Не отказывайте себе в питании, — ты, мой мордик, плохо все же выглядишь, щечки твои недостаточно пухлы, нос и подбородок вытянулись, заострились, — надо питаться лучше, одеваться хорошо. Вот желание твое обменять нашу и мамину комнату на две, лучшие, сухие, светлые, я одобряю целиком и полностью. Это полезно и необходимо. Если в нашей комнате все так же сыро, как было, надо менять ее, она вредна для здоровья. Только не забирайся опять в первый этаж, поселяйтесь выше, во 2-ом, 3-м этажах, там лучше. Торопиться с этим не надо, а уж менять, на действительно хорошую квартиру. Это потребует затрат, но они целесообразны. Насчет же пианино я тебе ничего окончательного теперь не скажу. Подождем, может быть, немного, а там, может и я вернусь, тогда уж все будет у нас. Учить Марика музыке можно начинать только с 7-ми — 8-ми летнего возраста, не раньше, а к тому времени я так и так буду дома. Не пойми только, Лидок, это, как нежелание с моей стороны украсить твою и Марика жизнь. Ведь мы и раньше строили планы — купить пианино, и мне очень обидно, что не пришлось это осуществить. За мной еще в долгу перед тобой, моя девочка, манто для тебя. Можешь быть уверена, что, когда я вернусь домой, ты будешь иметь его от меня. Но мне хочется, чтоб вы были обеспечены в первую очередь самым необходимым, жизненно необходимым. К этому относятся: квартира, питание, одежда, обувь, воспитание сына, получение тобою минимума культурных развлечений — театр, кино и т. п. Летом хорошо выехать на дачу, поехать на курорт, и тебе с мамой подлечиться, отдохнуть, и Марика подкрепить. На все это нужны будут деньги, а работница в доме пока что ты одна. Так что насчет пианино — смотри сама, Ликин, решай. Хотя, если оно стоит недорого, в пределах 3-х тысяч рублей, я думаю, теперь можно и купить его. Пусть будет, но только когда я вернусь домой, в первый же день ты должна будешь проаккомпанировать один из моих романсов. Ладно, Лидука? Договорились! Мне не надо беспокоиться, учить тебя тому, как надо обращаться с деньгами, — ты умница сама, достаточно серьезный человек, экономная и бережливая хозяйка (иногда даже слишком), и ты найдешь правильное применение своим средствам. Но жизнь сейчас дорога, и поэтому я позволил себе остановиться на этом вопросе. Вот ведь ты нуждалась крепко, а денег, что ты получила при отъезде с Камчатки (по моим расчетам, у тебя должно было быть тысяч 10–12, — не ошибаюсь ли я?), не хватило вам и на 2 года. А мне хочется, чтобы вы безбедно прожили сейчас хотя бы 2–3 года, за это время, несмотря на весь мой пессимизм, я все же надеюсь, что разберутся с моим делом, правда возьмет свое, и я вернусь домой. Мне денег не посылай, не надо. На моем личном счете имеется сейчас 730 рубл. Этого хватит на 14 месяцев, т. к. выдают не больше 50 рубл в месяц. Те 250 рубл., что ты послала в первый раз, я не получил, — наука мне на будущее. Конечно, обидно, что они тогда пришлись тебе тяжело, но ничего не поделаешь. У меня к тебе есть единственная денежная просьба: передать моей маме 3 тыс. рубл., — я обязан ей помочь. Ликин! Отец мой тяжело болен. Так, после настойчивых моих требований, сообщила мне Роза в письме, полученном мною на днях. Имама пишет, что он лежит тяжело больной и поэтому не может написать мне. Мне кажется, что от меня скрывают более тяжелое, что случилось с папой. Жив ли он еще? Неужели я не повидаю его уже никогда? Теперь, больше, чем когда-либо, увеличивается моя сыновняя обязанность помочь старикам-родителям. Сейчас я могу это сделать, у тебя есть на это деньги. Я думаю, что ты плохо поступила, когда приехала с Камчатки, что не отдала папе 300 рубл., заплаченных им за квартиру (помнишь, ты сама писала мне об этом), заставила его ходить к тебе за ними, просить их. Вместо этого ты должна была хоть немного помочь им, отцу с матерью. Деньги тогда у тебя были. Ты, наверное, Ликин, ни разу не подумала с Камчатки послать старикам немного денег, ну хоть 100–200 рубл., это бы их поддержало. Ведь я им помогал, а потом сразу все прекратилось. Ты должна была бы хоть в малой степени заменить меня перед моими родителями. Ты об этом, конечно, не подумала, а такая маленькая помощь тебя бы не стеснила, а старикам была бы большая помощь и моральное утешение. Ведь у них нет никаких средств к существованию, а иждивенчество у дочерей приносит им невыразимые страдания. Я тебя сейчас не упрекаю — дело прошлое. Но если это было так, как я предполагаю, ты допустила ошибку, моя Лика! Мой отец умирает в тяжелых муках, не повидав своего сына, а я ничем нс могу ему помочь. Горе мое велико, моя женушка, мой сынка. Еще один удар, крепкий, безжалостный, хочет согнуть меня. Но я должен поддержать мою старушку-мать. Ты о ней очень зло, нехорошо отзываешься, а она ведь мать мне, родная мать! Ты понимаешь, что это значит для нее и для меня? Она у меня сейчас одна, она от меня никогда не отвернется, будет ждать меня, пока хватит ее жизни, не променяет меня ни на кого, ей и мысль такая не сможет притти в голову, она дни и ночи думает обо мне, плачет обо мне, проливая свои горькие материнские слезы. А сейчас у нее, вдобавок, еще такое горе с папой. Бедная моя старушка! Пожалей и ты ее, Лика, утешь хоть как-нибудь, если ты хоть капельку любишь меня, передай ей частицу моей сыновней любви и преданности, согрей ее несчастную, тяжелую старость, продли своим хорошим отношением ее годы, чтоб она могла повидать своего сына… Сейчас — это ее единственная мечта! Ведь ты мать нашего сына, а моя мать дала мне жизнь, она выкормила меня своею грудью, вырастила меня тоже в нелегких условиях. Попробуй подойти к ней с теплым, хорошим словом, и ты увидишь, как рассеется вся неприязнь, так непонятная мне. Я хочу вас всех любить, быть преданным своей семье. Зачем, зачем же эта неприязнь, такое взаимное недоверие, непонимание? Чем это вызвано? Что вам делить между собою, кроме горя и любви ко мне, желания помочь мне? Я не могу себе представить, чтоб моя мать хотела зла тебе, моей жене, и моему сыну, тем более в такое время, когда я в такой беде. Я не могу себе представить, чтобы ты, моя любимая, правдивая и честная жена, хотела зла моей матери, умирающему отцу, чтоб ты хотела беспричинно ссорить меня с ними. Но, в то же время я не могу понять всего происшедшего и происходящего у вас. Я тебе верю, Лидука, всему, что ты мне пишешь, и как-то не верится, чтоб все это было так. Все это тяжело дается мне, поверь, дорогая… С большой теплотой и любовью мама, Паша и Роза каждый раз сообщают мне о Марике, о тебе, и единственное на что они жалуются, это на то, что ты относишься к ним плохо, с недоверием, сторонишься их, никогда не сообщаешь им о получении от меня писем, не передаешь им привета. Они мне не пишут об этом никаких подробностей, но говорят, что это очень их огорчает и, главное, маму. Неужели же они лгут, способны так лгать? Но и ты ведь не лжешь мне! Как же мне разобраться во всем этом? Может быть я так отстал от жизни, от всего, что делается «по ту сторону», что потерял чутье и способность понимать отношения, возникающие между людьми на воле, даже близкими мне людьми? Ты просишь меня не пытаться мирить тебя с ними. Хорошо. В последний раз я пишу тебе об этом, больше к этому вопросу я возвращаться не буду. Прошу тебя, если все остальное невозможно, помочь только материально моей матери, чтоб хотя бы эта забота моя смогла поддержать ее на старости лет. А это моя обязанность, вне зависимости от теперешних, случайных, взаимоотношений. В том, что я не отрекаюсь от своей матери, от сестер, хочу нормализовать ваши отношения, ты, Ликин, видишь, судя по твоим упрекам, мое недоверие к тебе, мою нелюбовь к тебе и сыну. Нет, ты неправа, Лика! Тем фактам, что ты сообщаешь, я верю, но не верю в серьезность причин, их породивших. Все дело в недоговоренности, невыясненности, которая может быть устранена, если кто-то из вас наберется духу и искреннего желания разрубить этот Гордиев узел, поговорить по душам, откровенно, но с искренним намерением не углублять разрыва, а выяснить его и, быть может, ликвидировать. Я не прошу горячих отношении между вами, но я не хочу вражды и неприязни. Я хочу, чтоб вам легче жилось на свете, чтоб меньше было темных пятен, неприятностей и горестей в вашей жизни, и без того тяжелой. Я этого хочу, потому что люблю тебя и сына, но и не могу не любить своей матери. Итак, кончим на этом. Точка. Да, чуть не забыл: твою телеграмму от 6/11 я тоже получил, но знаешь когда? — 4/I1I. 5/111 я получил сразу две посылки: из Саратова — рыбную, и из Костромы, о которой ты пишешь в письме от 16/II. Все, что ты посылаешь мне, доходит полностью и я получаю. Не нахожу слов, чтоб благодарить тебя за заботу и внимание. Посылки твои поддерживают меня очень и физически, и морально. Но, Ликин, не надо посылать их так часто. Довольно одной посылки в месяц. Ем я не так уж много и одной посылки в месяц будет вполне достаточно. Рыбы посылать не надо, — селедкой нас здесь иногда кормят, да и соленой горбуши дают, а я соленого не могу есть. Семга, тешка, селедка пришли с маленьким запашком, — ведь 1 / м-ца посылка гуляла. Правда, мы ничего не выкинули (это не в арестантских привычках), с помощью товарищей сельди уже все съедены, а копченку я ем с удовольствием — она в порядке. Что мне посылать? Масло, сало, грудинку, колбасу, сыр, консервир. молоко, какао, консервы, сахару побольше, чай, немного конфеток, иногда шоколадку и, вообще, чего-нибудь вкусненького, по чему я весьма соскучился. С удовольствием я бы съел чего-нибудь из твоего собственноручного приготовления: кексик, маковый тортик или еще чего-нибудь по твоему усмотрению. Ну, конечно, табак и курительная бумага нужны, присылай мне также трубочного табаку — у меня есть трубка. Вот и весь ассортимент. Посылай из всего этого понемножку, раз в месяц, не чаще, и я буду тебе очень признателен. О том, что мне нужно из вещей, я уже тебе писал: простенький костюм, ботинки, галстук, ремень поясной, футляр для зубной щетки, портсигар (или кисет твоей работы), две пары оправ роговых для очков (расстояние между центрами 62-63-мм), — больше ничего не надо. Ты извини меня, Лидука, но что ж поделаешь, приходится побыть немного на твоем иждивении. Неловко мне это и очень горестно, признаюсь тебе… Чувствую, что отрываю кусок от тебя и Марика. Вышел приказ Наркома об улучшении питания, о создании своей продовольственной базы, может быть, в скором времени действительно улучшат это дело, к тому же я понемногу крепну, что называется — становлюсь на ноги, благодаря твоей поддержке (организм был сильно истощен), и тогда можно будет прекратить посылки, нужды в них не будет. А пока что, теряя всякий стыд и совесть, я принимаю твою помощь с несказанной благодарностью. Пришли мне, пожалуйста, бандеролью книги, которые я просил. Ты правильно поняла, что мне нужно: по учету, планированию, сметному делу. Подбери такую литературу и пришли. Да, еще нужно по теории бухгалтерского учета и по технормированию. Много книг, конечно, не надо, а самые интересные для меня. Ты спрашиваешь, что я должен Пете? Он дал мне 350 р. Половину я отдал Г.Л. Из вещей он дал мне полушубок, 2 ватных костюма (один тоже для Г.Л.), носов, платочки, носки, пару белья (их я тоже поделил с Т.Л.). Одним словом, я полагаю, что нужно ему отдать рублей 400. Поблагодари его от моего имени и передай ему и Н И. привет. Неужели Н И. не может побывать у Анастаса Ивановича? Ведь он обещал мне это. Пусть расскажет про меня, он ведь все знает, как и что состряпано. Из моей большой жалобы (черновика того, что я посылал с парохода с Нарышкиным, — кстати, что слышно о нем, так и не приехал? — видно все мое дело, ты знаешь, что нужно делать, какие документы нужно собрать и передать Прокурору). Читала ли ты все это и что, конкретно, делается? Ты пишешь, что Роза подала жалобу 15/II. Но это подано в обычном порядке, а нужно найти пути, чтоб разговаривать лично с Прокурором Союза и с Наркомом. Некоторые этого добиваются, иногда дела пересматриваются, везут на пере-следствие. Подавала ли ты и сестры от своего имени заявления? И вообще, могу ли я надеяться на что-нибудь? Прошу тебя писать мне об этом возможно конкретнее, чтоб я мог ориентироваться. Почему Паша не советует мне больше писать жалобы? Ну, хорошо. Заявления поданы, а теперь что? Ждать пока их там в порядке очереди, через полгода разберут и… откажут? Надо ведь что-то делать. Ты понимаешь, Лика, как обидно и тяжело сидеть с таким клеймом в то время, как не совершал никакого преступления… Ты ведь знаешь! Ликин, я послал тебе доверенность на получение облигаций на 800 рубл., что оставались в Камчатстрое, но в 1939 г., как невостребованные мною, были сданы в доход Государства. Я написал заявление в Главн. Управл. Гострудсберкасс и Госкредита Наркомфина СССР о возвращении мне облигаций, т. к. я их не востребовал не по моей вине, а потому, что был в тюрьме. К заявлению приложил справку Петропавловской Сберкассы № 611 от 2b/X. 40 г. о том, что действительно мои облигации займа Укрепления Обороны СССР на 800 рубл. были у них на хранении и сданы в 39 году в доход Государства. В заявлении я писал, чтоб облигации выдали тебе. Я просил мое местное командование, чтоб выслали тебе и доверенность и заявление, но не знаю, как сделано. Возможно, что заявление направлено прямо в Гл. Упр. Сберкасс, а тебе вышлют только доверенность. Во всяком случае, ты пойди туда и постарайся вернуть облигации. По поводу облигаций, что забрали при аресте, я вновь написал жалобы Прокурору Краслага и Прокурору Хабаровск, края. Как только облигации поступят, я их перешлю тебе. Почему ты получила только 2/3 пая из РЖСКТ? Что нужно сделать, чтоб получить остальное? По поводу свидания, я на днях подам заявление. Не знаю, разрешат ли? В лучшем случае разрешат на 2–3 часа. Ну, что успеешь за это время? Но хоть бы дали эти 2–3 часа, приедешь, может быть, добавят еще пару часов, а то ведь нет уверенности, что, вообще, разрешат… Подай от своего имени заявление Нач-ку Гулага НКВД, объясни положение, что мы 3 !/2 года не виделись, проси разрешить длительное свидание на 2–3 дня хотя бы. Постарайся, может, пройти сама к нему и лично просить об этом. Если откажут там, обратись в Прокуратуру, напиши на имя Наркома Л. П. Берия. Если разрешат свидание, я вот не знаю, Лидука, ехать ли тебе с Мариком? Ты конечно, понимаешь, как я хочу его видеть, но, во 1) я не хочу, чтоб Марик видел меня в заключении, — это может произвести на него тяжелое впечатление и запечатлеться слишком сильно в его детской душе; Во 2) дорога очень тяжела: Паше пришлось ехать обратно до Красноярска в бесплацкартном поезде, там — пересадка и до Москвы опять в бесплацкартном поезде. Ты представляешь, что получится с тобой и с Мариком от такой поездки? Нельзя подвергать его такому риску. Кроме того, Ликин, ты приедешь с ним, приедешь на свидание. Оно будет в маленькой комнатке специального домика свиданий. Марик будет тут же с нами. Можно ли будет при нем обо всем переговорить? Не слишком ли тяжела ему будет сцена нашей встречи и расставания? Поэтому, с болью в сердце, я склоняюсь к тому, чтобы ты, если ты поедешь на свидание, не брала с собой Марульку. И не надо готовить его к поездке, не возбуждай его к этому. Ладно, Лидука? Твоего приезда, нашей встречи я жду с нетерпением. Это самое большое мое желание сейчас, осуществление которого, к сожалению, никак от меня не зависит. Добивайся и ты — в Москве. Теперь, Ликин, о самом главном. Да, я писал тебе, что ты должна чувствовать себя свободной в своих действиях, поступках. Я писал это, обливая свое сердце кровью, заглушая в себе все личное. Я любил тебя всегда глубоко и сильно. Вся моя жизнь с 1930 г. связана с твоей. Ты знаешь, мою любовь и привязанность к тебе. Мы вместе переносили тяготы твоей учебы, я делил с тобою все, что было у меня. Мне кажется, что я. был хорошим мужем тебе и товарищем. Ни разу, никогда я не изменил тебе, других женщин я не знал. И когда ты была больна, когда я вернулся из командировки и застал тебя при смерти (ты была в очень тяжелом состоянии, Лика), я был готов отдать тебе всю мою кровь, всю мою жизнь, чтоб спасти тебя. Ты выздоровела. Помнишь, как родился наш Марик? Был ли я плохим отцом ему, а тебе — мужем? И если бы не это несчастье, что случилось со мною, разве был бы кто счастливей нас? Я много, Лика, пережил, я немного уже не тот Сема, которого ты представляешь. Несколько седых волос в моей голове уже тоже есть. Я научился переносить тягчайшие страдания и пока что не было такой силы, чтоб могла меня окончательно сломить. С первого до последнего дня я думал только о тебе, о сыне, и это мне давало бодрости и силы. Во имя вас я перенес так много и остался жить. Ты для меня стала во сто-крат дороже и любимей, ты — жена, оставшаяся верной своему мужу, отторгнутому всем. Все мои мысли и мечтания всегда неразрывно с тобою, с нашей будущей вновь счастливой жизнью, картины которой я так ярко рисую в своем воображении. Я люблю тебя, Лика, так, как никогда не любил. Да, я писал тебе о твоем праве на свободу своих действий и поступков. Я иначе не мог, ибо, помимо того, что я муж, что я люблю, я еще и гражданин, не потерявший в себе чувства гражданственности, хотя и лишенный ее формально. Да, признаюсь тебе откровенно, я писал это тебе, как гражданин, но как муж твой, как твой Сема, муж Лики, надеялся и ждал того, что ты отвергнешь это свое право, как любящая и верная жена. Но ты не отвергла его. Ты, пока что не допускаешь мысли о том, чтобы Марик, имея живого, любящего отца, вдруг попал бы в руки чужого ему человека… Ты говоришь только о Марике, только он тебя останавливает. Так ли я понял? И ты хочешь приехать ко мне на свидание для того, чтобы разрешить этот вопрос? Не для того, чтобы этим коротким свиданием закрепить любовь и супружеские узы, а для того, чтобы разорвать их? Нужно ли тогда ехать тебе в такую даль и с такими трудностями, чтобы лично всадить нож в мое больное сердце? Не легче ли нам будет не видеться в таких условиях. Ведь ты пойми разницу, ты уедешь, свободная в своих действиях, а я останусь — бессильный что-либо сделать, чтоб вернуть тебя, свое прежнее счастье. Переживу ли я и это — самое большое потрясение, какого мне не приходилось еще испытать? Да и стоит ли? Для кого? Для чего? Помни только: я отдал тебе все, для твоего счастья я могу отдать и последнее, что у меня еще осталось — жизнь, — но кто еще будет любить тебя так, как любил и люблю тебя я, и в чем оно — это счастье твое: в том ли, чтоб, следуя завистливому чувству, возбуждаемому чужими супружескими парами, бросить мужа своего и окончательно разбить уже имеющееся, но прерванное временно счастье? Целую тебя и сына — Сема.Конечно, мама страдала от своего неприятия родных отца. Гордость?.. Скорее, гордыня не позволяла ей пойти на компромисс. Влияние бабушки безусловно сказывалось: слишком разные у них были, говоря сегодняшним языком, «менталитеты». Может быть, мать и хотела пойти на сближение, но всякий раз бабушка останавливала ее: мы сами выдюжим, не нужна нам «ихняя» помощь, но самое главное — они богатые, а мы бедные… Это не классовая ненависть, а вполне житейская непрязнь: те, кто живет лучше нас, пусть так и живут, а мы уж как-нибудь сами — и на хлеб заработаем, и детей вырастим. С одной стороны: «от них помощи не дождешься!», а с другой: «да пошли они все!., очень они нам нужны!». Родные отца действительно жили побогаче. Мой дед, до революции харьковский приказчик, — суховатый, рассудочный господин, знал торговлю, но к этому знанию общество добавило очень хорошее понимание, что такое «погром» и «черта оседлости». Не думаю, чтобы он помогал большевистским организациям в 19-м году, как об этом твердил на допросах отец, стараясь «понравиться» Дуболазову. Трое детей — старшая Паша (так звали в доме Полину), Роза (Розалия) и младшенький Семен — составляли, по еврейской традиции, цель и смысл существования родителей. Во-первых, надо было дать им образование, во-вторых, им надо было дать высшее образование, и в-третьих, по возможности им надо было дать два или даже три высших образования… Эти задачи и оказались выполненными на две трети, остальному помешали войны, революции, голод и прочие исторические катаклизмы… Мама моего отца, то есть моя еврейская бабушка, которую звали Софья Марковна, в младые годы славилась в Харькове неописуемой красотой в прекрасном сочетании с добрым сердцем и острым, не женским умом. Почему Софья? Потому что — мудрая. Дочки подросли и получили медицинское образование. Отличные врачи, работоспособные, чрезвычайно ответственные, Впоследствии, когда я уже вырос, у меня на глазах было множество случаев, чтобы убедиться, сколь классно они умеют лечить, какими действительно мастерами своего дела они были. Моя мама не могла этого не знать, но в ее горделивом (может быть, тут сказывались ее греческие гены?), страстном, но умевшем прятать на дно души свою страсть характере, наверное, жила эта вот чисто подсознательная зависть к преуспеянию, к удобствам и комфорту, для нее, мамы, совершенно недостижимым. Да, у мамы была своя правда. И она из последних сил ею руководствовалась. У сестер были лети и хорошие мужья. Мама была совершенно убеждена, что Лева, для меня — дядя Лева, в этой жизни имеет всё. — Семен сел. Почему Лева бездействует? Почему не пойдет к Сталину по вопросу о Семе? Почему, наконец, сам не поедет немедленно к Семе в лагерь с лекарствами, которых у него вагон и маленькая тележка, и не займется лично Семиным здоровьем? Ведь если его так трудно освободить, то почему Леву не волнует Семино здоровье?.. Ведь кто-кто, а Лева может Сему спасти — это его прямая обязанность как родственника!.. То же самое — Марик. Часто болеет. Но Лева ни разу НЕ ДАЛ нам ни одного профессора. Мы ходим в районную поликлинику, стоим там в очередях, имея в дядях замминистра — ну как это понять?.. Только так: они все — и Лева, и Паша, и Роза — совершенно равнодушны к нашим несчастьям, им наплевать не только на меня, но и налюбимого моего Сему и на любимейшего моего Марика!.. — Им не наплевать, — говорила Лиде Александра Даниловна. — Им насрать! Находясь далеко от Москвы, в центре Сибири, отец фибрами души чувствовал растущую опасность потерять семью — и не из-за разлуки (что было бы страшно, но нельзя сказать — нелогично), а из-за обыкновенной вражды между родственниками. Мало было лагернику цели выжить, еще ему надо было с расстояния держать ситуацию, гасить конфликты, умиротворять стороны. Это ли не двойной подвиг обыкновенного человека?.. Оказавшись в глубокой яме, он ОТТУДА дает советы а-ля Макаренко: только чтобы не ПРОПАСТЬ, только чтобы УЧАСТВОВАТЬ в воспитании сына — пусть хотя бы словесно (иного-то просто не может быть), отсюда его назидательность, примитивное морализирование, спецрассуждения мнимого главы семьи на злобу дня. Я не мертв, я с вами. Я не далеко, я рядом. Слушайте мой голос. И — слушайтесь. Давайте читать его, как Чехова, — между строк.
г. Канск, 18/III. 1941 г. Моя любимая женушка! Мои дорогой сынка! Папка ваш поздравляет вас с днем рождения: Лидуку — 5-го апреля, а Марика — 3-го апреля (письмо мое, наверное, подоспеет как раз к тому времени). Крепко, крепонъко обнимаю вас, моих дорогих, и целукаю. Желаю вам здоровья, бодрости, сил, хорошей и долгой, долгой жизни. И мечтаю я о том, чтоб эти будущие ваши дни рождения проводить вместе с вами, чтоб я мог утречком, когда вы еще в постельке, тихонько подойти к вам, моим любимым деткам, поцеловать ваши лобики, губоньки, глазки, и сделать вам подарки, которые обрадовали бы вас (папка ваш знал бы уж, чем кого порадовать — а?). С нежностью — с большой любовью он будет ласкать своих милых, любимых, каждому уделит свою горячую, преданную любовь: женушке — любовь мужа и друга, сыну — любовь отца и товарища. Так примите это от меня и сейчас, хотя я так далек от вас, чувствуйте мою близость и знайте: больше, чем кто-либо, я с вами, всеми своими устремлениями, помыслами и желаниями. Примите бескорыстный, искренний, душевный мой привет мужа и отца, будьте счастливы, любите друг друга, будьте друг другу в отраду и пусть злодейка-судьба никогда вас не разлучает. Ничего, мои дорогие, время придет, мы будем вместе, переживем все наши горести и несчастья. Жизнь должна будет вознаградить нас за все пережитое — радостно и хорошо нам будет оттого, что мы отдали свою любовь друг другу, что мы остались верны друг другу в самые тяжелые годы, что мы дождались все же друг друга и соединились для новой, счастливой жизни. Помнишь, Лидок, 5/IV. 1939 г.? я был тогда в Сибири, — ты рано утром получила от меня цветы в Москве. Наша любовь тогда только начиналась и она была сильна, крепка и прекрасна. Как было нам хорошо! А вспомни Новосибирск-Искитим, наш первый медовый месяц! И все наши последующие годы, насыщенные трудом, учебой. Я слишком отдавался работе, уделяя тебе подчас мало времени и внимания, — нещадно корю я себя за это теперь! Но я тебя всегда любил, любил крепко и верно, был привязан к тебе, как к единственно близкому человеку. Я люблю тебя, Лика, сильнее, чем прежде, — поверь! Эти последние годы связали меня с тобой чувством глубочайшего уважения и безмерной благодарности тебе, испытавшей так много горя. Ты — моя верная жена, мой друг, мать моего сына — моя любовь, моя радость, моя единственная надежда! Я не представляю себе жизни без тебя, Лика. Все это время я мысленно жил с тобою, с сыником, и когда мне было особенно плохо и тяжело, я уносился к вам, в свою любимую семью, чувствовал себя среди вас, около тебя, моей женушки, и мне становилось легче, бодрее. Лика, дорогая моя! Как мне тяжело, если б ты только знала! За что? Что сделал я плохого в своей стране? Чем хуже я других людей, работающих, созидающих, наслаждающихся жизнью? За что мне такое несчастье? Неужели я не добьюсь правды и окончательно лишусь всего, даже всей моей семьи? Ликин! 18/III, сегодня я подал заявление о разрешении мне свидания с тобой. Ответ ожидаю в течение месяца, может быть, раньше. Характеристику от Нач. КВЧ(культ. — воспитательн. часть) я должен получить хорошую, т. к. работаю добросовестно, мною довольны, никаких замечаний и взысканий не имею, участвую в хоровом и драматическом кружке (агитбригада). Очень волнуюсь, ожидая ответа. Неужели опять откажут? Что ты делаешь в этом направлении? Подай заявление Начальнику ГУЛАГа НКВД СССР, проси, чтоб разрешил свидание. Может сумеешь сама попасть к нему, поговорить с ним? Объясни положение: что мы 3 ½ года не виделись, сейчас ты получаешь отпуск и сможешь поехать. Ведь не каждый раз можно это сделать, — только на время отпуска! Обратись к Прокурору Союза, если тебе откажут в ГУЛАГе. Вообще, в последнее время многим отказывают в свиданиях, и я боюсь, что и мне откажут. Я здесь бессилен что-либо сделать, но у тебя большие возможности добиваться в центре. Я надеюсь, что мы скоро увидимся. Напиши мне, согласна ли ты с моим мнением о приезде также и Марика ко мне? Ты понимаешь, Ликин, как тяжело мне самому отказываться от возможности повидать сына, но мне кажется, что соображения, высказанные мною по этому поводу в предыдущем письме, — достаточно серьезны. Если бы я еще был бы уверен в том, что ты сможешь устроиться здесь хорошо с жильем и, главное, с билетами на обратную дорогу. Трудности большие, а с Мароником тебе будет еще тяжелей. Паша останавливалась в гостинице. Ты тоже постарайся устроиться в ней. Насчет билетов обратись к носильщику, немного дороже будет стоить, возможно, удастся получить и обратно билет на курьерский или же на скорый поезд с плацкартой. Ну, что мне привозить? Я и сам не знаю. Видеть тебя, быть с тобою хоть немножечко, рассказать тебе о своем горе, влить в тебя бодрости и надежды, убедить, что не все у нас пропало в нашей жизни, что мы еще будем вместе и посоветоваться с тобою, как на это время облегчить и устроить твою жизнь. Прости меня, Лидука, за некоторую резкость моего предыдущего письма, но я был очень взволнован твоими словами. Неужели и ты думаешь, что судьба нас окончательно разъединила? Я в это не верю, не хочу верить, ибо только в надежде выйти на свободу, быть с тобой, с сыном, в своей семье, я черпаю силы. Не станет этой надежды, — и жить мне уж нельзя будет. Для чего и для кого? Ты должна дождаться меня во что бы это ни стало, любой ценой. Я понимаю, Ликин, что тебе, молодой, полной жизненных сил и энергии, женщине, тяжело быть одной. Мы достаточно взрослые с тобою люди, чтоб откровенно сказать об этом. Природа требует своего и надо ее удовлетворить. Ты пишешь, что ты неспособна, как другие женщины, на легкую связь, и тебе оттого живется тяжелее, чем им. Это правда, Ликин, я это знаю и понимаю. Так больно мне говорить об этом, но, когда я писал, что ты должна быть свободной в своих действиях и поступках, я именно имел в виду свободу твою в удовлетворении твоих естественных желаний. В другое время я бы не допустил и мысли о возможности этого (разве мы не любили друг друга и не удовлетворялись этой нашей любовью вполне?), но сейчас, сейчас… Лика! Ты должна любить меня по-прежнему, ничто не должно поколебать твоей любви и преданности, — я жду этого от тебя. Всем своим поведением я заслужил твоего уважения больше, чем этого заслужили многие другие мужья у своих жен. И, попав в очень тяжелые обстоятельства, о которых ты теперь уже все знаешь, я остался честным гражданином нашей Советской страны, не потерял своего достоинства, не лгал, не клеветал, держался только правды, правды о своей невиновности. Я остался тебе верным мужем, и отцом своему сыну, ибо только мысль о вас, также, как и чувство советского гражданского долга поддерживала меня в моих испытаниях. Клеветники, вроде Певзнера, Борзова, Бушева, — на свободе. Они не дорожили именем честного советского человека, большевика, сочиняли жуткие небылицы, — они вышли на волю, они пользуются всеми благами жизни. А я… За что? Неужели и ты меня оставишь? Ты говоришь, что ты не можешь идти на случайную связь. Но будет ли тебе легче, если ты совсем перейдешь к другому человеку? Даст ли он тебе все в жизни, и сумеешь ли совсем отрешиться от мысли и воспоминаний обо мне — твоем муже и отце твоего сына? И, вообще, о чем это я говорю? Или я уж совсем потерял рассудок? Это все бред, а не сознательные мысли. Я знаю тебя, мою любимую женушку, мою Лидуку! Я знаю, что ты меня любишь, что ты способна ждать меня, ты не нуждаешься в легких связях, которые смогли бы оторвать тебя совсем от мужа, ты сможешь дождаться меня и отдаться вновь нашей любви. Ты — нравственно чистая, морально устойчивая, моя девочка, — тебе легче, чем многим другим женщинам, пройти этот путь физического одиночества. Твои мозги и тело не развращены, как у некоторых других, находящих себе в этом облегчение, — и тебе легче, чем им. В этом твое преимущество перед ними. И еще одно преимущество у тебя есть: ты — инженер, у тебя работа, ты ею много занята, нужно читать, заниматься, совершенствовать свои знания, обогащать свой культурный уровень. Ты, наконец, — мать замечательного ребенка, нашего Марика. Все восхищаются им, и я горд своим сыном. Он будет у нас большим Человеком, Человеком — с большой буквы, в подлинном смысле этого слова. Я об этом мечтаю, создаю планы его воспитания, и ты, моя женка, вместе со мною будешь их осуществлять. Нет, ты не уйдешь от меня никогда, моя Лидука! Для этого тебе нужно перестать быть Ликой Котопулло, той Ликой, которую я знаю! Моя любимая, вчера я получил твое письмо от 6/III с 4-мя большими фотографиями Марика. Какой чудесный у нас сынка! Он очень похож на тебя и на меня, я целукаю его бесчисленное множество раз. Большую радость ты доставляешь мне присылкой карточек. Прошу тебя прислать мне последние свои (обязательно свои) и Марика снимки, сделанные в хорошей фотографии, а не только у таинственного какого-то «начинающего фотолюбителя». Я очень доволен покупкой тобою радиоприемника, он доставит вам много удовольствия. Жив ли наш патефон, какие у тебя пластинки? Я одобряю полностью твои рассуждения об экономии средств, нужно тратить их на самое необходимое, не отказывая себе во всем необходимом. Благодарю тебя за переданные моей матери 1000 рубл. В прошлом письме я много тебе писал о ваших отношениях, в некоторой части может я был и нечуток, я нервничал сильно, когда писал, а ты не обижайся на меня, пойми, что человеку, находящемуся в такой страшной дали от жизни, позволительны и могут быть прощены некоторые ошибки. Я просил тебя передать маме 3 000 рубл. Подумай, как лучше: дать их ей сразу (т. е. еще 2 тысячи) или же лучше помогать ей понемногу, скажем — 100 рубл. в месяц. Мне кажется — последнее будет лучше и для самой мамы. Напиши мне, как ты поступила в этом вопросе. Лидик, я пишу тебе при первой возможности, а она бывает не каждый день и чревата для меня осложнениями, если поймают письмо, посланное стороною. Ведь разрешают только одно в три месяца. Я тебе послал 22/11 письмо с одним освободившимся товарищем — Сеней Липецом. Он думал, что побывает в Москве и лично передаст, но поехал в г. Куйбышев. Получила ли ты это письмо? Потом я послал тебе письмо в десятых числах марта. Во всяком случае, несмотря на то, что посылка писем сопряжена у меня с большими трудностями, я пишу тебе больше и чаще, чем получаю от тебя. Постарайся писать чаще, Лидука! Ты хочешь научить Марика письму? Не рано ли слишком? Ведь он болезненный ребенок, и ему будет это тяжелой нагрузкой. Пусть окрепнет еще немного, тогда уж сделаем его грамотеем. Почему он так часто болеет, Ликин? Надо его показать лучшим профессорам: Сперанскому, Киселю. Пусть посмотрят его и скажут, что нужно для укрепления его организма. Обязательно надо это сделать. Но, ты не отчаивайся, Лидука, я встречал людей, много переболевших в детстве, но удивительно крепких и здоровых в более зрелом возрасте. Ликин! Передай маме мою большую признатепьность за нашего сына, за ее заботы о нем. После такой тяжелой болезни она сделала его таким бутузом! Нет слов для моей благодарности. Как ее нога? Почему ты ничего не пишешь о здоровьи мамы? Что делается для того, чтобы полечить ее? Береги свою мать, она у нас хорошая, и много ей, бедняжке, пришлось так же перестрадать. Передай ей мой крепкий поцелуй и привет. Что это у тебя за приятельницы? Я очень рад тому, что у тебя есть такие хорошие друзья. Приветствую их и уже считаю их и своими друзьями. Сфотографируйся вместе с ними и пришли мне весточку, чтоб я имел о них несколько большее представление. Ладно? А где Танька Шварц? Что с нею? Лидик, я работаю в финчасти (Главной Бухгалтерии) счетоводом (фактически — бухгалтером). Атмосфера на работе не совсем здоровая. Чувствую на каждом шагу, что я — еврей. Это очень тяжело: мелкие гадости, подлости за спиной и пр. Трижды пытались уже меня сплавить в этап, — пока что держусь, благодаря тому, что хорошо работаю, и есть некоторые хорошие ребята, поддерживающие меня. Ну, да ладно, ничего не поделаешь, — гадости еще много на белом свете, а здесь есть всякий сброд. Как-нибудь переживу, лишь бы у меня было крепкое моральное состояние, как было до сих пор. Сейчас началось время этапов в другие лагеря. Может быть, и меня погонят. Куда — не знаю. Если бы на запад, было бы хорошо, ближе к вам, и климатические условия получше: но могут и обратно, на восток. А может быть, и оставят здесь. Все это не в моих руках. Если это случится, при первой возможности — сообщу тебе. Но пусть такая перспектива не останавливает тебя от посылки мне писем. Здесь в этом отношении порядок хороший: если человека отправляют, то вся почта (письма, посылки) досылаются вслед за ним. Ничего не пропадет, так что ты не прекращай переписки. Я все же надеюсь, что нам удастся повидаться. Разрешение хлопочи, используем его в другом месте, если меня перебросят куда-нибудь. Вообще, это здесь в порядке вещей. Можешь тут пробыть 2–3 года, а вдруг, совершенно неожиданно: «собирайся с вещами» и айда! Поэтому-то нельзя и обрастать вещами (тряпками, как это здесь называют на воровском жаргоне, — я уже и его изучил). Нужно иметь самый минимум самых необходимых вещей, ибо таскаться в этапах с мешками, чемоданами и пр. невозможно: и тяжело, и уберечь трудно. Так что вещей мне не посылай, за исключением того, что я просил, — да ты уж, наверное, выслала мне это. Лидик, пиши мне, что с моим делом? Двигается ли хоть что, есть ли какая надежда? У кого, где были, с кем говорили, что предпринимаете. За последнее время от нас уехало несколько человек на переследствие из осужденных Военной Коллегией. Есть несколько человек с пересмотренными решениями Особого Совещания. Может и мне посчастливится? Ведь должны же разобраться, наконец, или мне совсем пропадать? Писала ли ты от себя заявления? Делали ли это Паша и Роза? Ваши заявления будут читать скорей, чем мои. Пожалуйста, прошу тебя принимать энергичные меры. Жалоб я не пишу больше, не знаю — правильно ли это с моей стороны? Все же хочу на днях отправить жалобу М.И. Калинину. Сходи еще раз к т. Бадаеву, скажи, что жалобы мои уже поданы, — ведь он обещал пересмотреть мое дело. Нельзя же так оставлять вопиюще неправильное решение Особого Совещания. Юристы не принимают — это понятно. Но попробуй сходить к Браудэ, Комодову на дом, заплати им хороший гонорар, ознакомь их с делом, заинтересуй, пусть просто посоветуют что-нибудь, как поступать, к кому обращаться, что делать? Ну, вот и все, моя дорогая Лидука! Да, пришел телеграфный перевод из Москвы на 50рубл., не знаю еще от кого. Думаю — от тебя или от сестер. Денег не надо мне посылать, я тебе уже писал об этом. Пиши, пиши, Лидик, чаще, — это единственная моя просьба. Пиши обо всем, о себе, о Маронике, о родных, о друзьях, о работе. Только не забывай меня! Целую тебя и сынку много, много раз, поздравляю вас с днями вашего рождения и хочу только одного: видеть вас здоровыми и быть с вами вместе. Еще разик обнимаю и горячо вас целую. Ваш папка Семка. Привет горячий маме и всем родным. Почему никто мне не пишет?Мама. Я помню это письмо. Марик мне его вручил с криком: «Мама, мама, папа приезжает!» Я ахнула. Прочитала письмо, спрашиваю тебя: «Почему, сыник, ты решил, что папа приезжает?» Я. А что, нет? Отец. Нет. Мама. Он в слезы, я за ним. Почему он решил, что… я так и не узнала. Одно было ясно: он тебя тоже ждал. Как и я! Отец. Ты сходила к адвокатам? Мама. Нет. Отец. Почему? Мама. А не к кому было ходить. И Брауде, и Коммодов были арестованы, расстреляны, я же говорила, Сема этого не знал, а я не хотела его расстраивать лишний раз. Я. Кто они такие, Брауде и Коммодов, что их тоже надо было убрать? Мама. Они были защитниками на процессе правотроцкистского блока — Семе мерещилось, что они сумеют и его защитить. Никто не понимал тогда, что всё наоборот: суд в Москве порождал сотни тысяч обвиняемых по всей стране, и уже этим, «последователям», суд не требовался. А нет суда — нет и приговора. Достаточно доноса и решения по нему «тройки» Особого Совещания. Этим методом уничтожали где угодно, кого угодно, сколько угодно… В Центре аукнулось — на периферии откликнулось. Я. А ваш патефон, между прочим, сохранился до сих пор. Можно завести? Мама. Заведи. Я покрутил ручку, поставил толстую черную пластинку, из небытия послышалась музыка детства: фокстрот «Экспресс Роберт Ли» — джазяра американская, классная, такую и сейчас не услышишь. Отец и Мать, может быть, танцуют… А может, и нет, просто слушают… Они не знают, что до начала войны — всего ничего. Да ведь и Сталин не знал. Впрочем, он-то знал, но не верил…
Канск, 6/IV. 1941 г. Здравствуйте, дорогие мои! Вот и праздничные дни мои прошли, когда я весь, целиком, был с вами. Получили ли вы вовремя мои Поздравления? Как вы провели эти дни? Ты уж совсем большая, моя Лика! 31 год… А давно ли я тебя встретил 18-летней девушкой? 2-го февраля 1929 года я поступил на работу в Стройсиндикат и тогда я впервые увидел тебя — стройную, черноглазую девочку с косичками! А ты обратила на меня внимание во время моего выступления на предвыборном собрании, — помнишь? Ты сама мне об этом рассказывала… Скоро исполнится 10 лет нашей женитьбы. Последние годы оказались плохими, очень плохими… Но мы ведь дождемся с тобой лучших времен и опять заживем счастливо, радостно. У нас уже большой сын. Через 4 года ему идти в школу, а я, даже при самом плохом исходе, к тому времени окончу срок, выйду на свободу, вновь встречусь с вами. Но я не представляю себе, чтобы мне пришлось отсиживать весь срок, быть этого не может. Меня должны выпустить, реабилитировать, восстановить, ибо я невиновен! 21/1 я передал свою жалобу на имя Наркома Л.П. Берия. 28/1, как мне сообщил 2-ой отдел Управления Краслага, эта жалоба была отправлена в 1-ый Спецотдел НКВД СССР. 29/III мне объявили извещение 2-го отдела Краслага от 18/ III — 41 г. о том, что ходатайство мое о пересмотре дела 1-ым Спецотделом НКВД СССР направлено в Секретариат Особого Совещания. Значит, дело будет пересматриваться. Иначе 1-ый Спецотдел не дал бы дальнейшего хода моей жалобе, и прямо отказал бы, как это имеет место во многих других случаях. Итак, я не теряю надежды, она меня греет и поддерживает в моей тяжелой, обездоленной жизни. 29/III ушел на волю один товарищ, инженер Нейман, имевший по Особому Совещанию срок — 10 лет. Больше года он не писал уже никаких жалоб, а на прежние он не имел сообщения, что они будут рассмотрены. И вдруг, вызвали, вручили «бегунок» (обходной листок) и выгнали на волю. Вообще за последнее время намечается некоторое движение, малое еще, чуть-чуть заметное, но все-таки движение: много людей, осужденных Военной Коллегией, поехали на переследствие, некоторым переквалифицировали дела и резко снизили сроки. Жду своей очереди… Только нельзя успокаиваться, надо будировать, добиваться, стучаться во все двери. Меня гнетет, что я бездействую, не пишу никому. Правильно ли поступаю, достаточно ли того, что я уже написал, как продвигаются мои жалобы, могу ли рассчитывать на серьезное и внимательное отношение к ним? Где и у кого ты была, с кем говорила, кому писала, какие имеешь обещания? Лидик. со свиданием опять ничего не выходит, — отказали мне и на этот раз. 2 дня назад получил извещение об этом… Мотивировки нет, но, как мне объясняют, из-за того, что у меня нет еще 6-ти месячного лагерного стажа. Я подам заявление на имя Нач-ка Управления Краслага, буду просить его, но в результате сомневаюсь… Что ты предпринимаешь? Обращалась ли ты в ГУЛАГ, к Прокурору Союза? Объясни положение: 3 '/, года не виделись, сын растет, а я его фактически не знаю, получаешь в апреле-мае отпуск, имеешь возможность поехать, в другое время не сможешь… Вчера один товарищ получил разрешение на свидание: его жена, из Омска, писала на имя Нач-ка Управления Краслага, в Канск. Попытайся и ты это сделать, напиши и ему, и в ГУЛАГ НКВД СССР. Может быть, разрешат. А я так хочу видеть тебя, поговорить, побыть с тобой хоть немного. Будет теплее, может и сынку ты сможешь привезти с собой, — надо будет об этом еще раз подумать. Я уж писал тебе по этому поводу, но пойми, мне так хочется вас видеть, а боюсь тяжестей долгого пути, трудно будет тебе с ребенком ехать, а еще трудней уезжать отсюда. Напиши мне свое мнение об этом, как ты сама считаешь? Но ты назовешь меня, конечно, глупцом, — я столько говорил об этом, а свидания-mo нет пока… Нужно обдумать и решить все это заранее, ибо, когда вдруг получим разрешение, некогда будет раздумывать, надо будет уж ехать тебе. Если к маю месяцу вопрос не разрешится, Марика с мамой не задерживай, отправляй их в Анапу. Нельзя лишать его необходимого курорта, Анапа его укрепит, и маме будет полезно, да и ты поедешь туда на месяц: поправишься, отдохнешь, подлечишься. Только в море помногу не болтаться и далеко не заплывать, — слышишь? Ликин, я получил, наконец, из Хабаровска облигации, все в порядке. И 100рубл., отобранные у меня при аресте, тоже пришли сюда. Я подаю заявление, чтобы разрешили переслать облигации тебе, буду этого добиваться. 3 /2 года они лежали без движения; посылаю тебе их опись, проверь все тиражи, следи за ними в дальнейшем и сообщи мне, если окажутся выигрыши. Мое заявление и доверенность на твое имя на 800 рубл. облигации, оставшихся в «Камчатстрое» и зачисленных в 39-м году в доход государства, отправлены в 1-ый Спецотдел НКВД СССР. Имеешь ли ты какое сообщение по этому вопросу? Ликин, мне очень тяжело и обидно твое молчание. Никто здесь не получает так редко писем, как я. Почему? Чем заслужил я такое отношение? Что мешает тебе писать мне чаще? Неужели нельзя хоть раз в неделю вырвать час-другой на короткое письмецо? Волнениям моим нет конца, нет такой самой тяжелой мысли, чтоб не перебывала в моей голове, — ведь только о вас мои думы и заботы, беспокоюсь ведь я о вас, пойми ты это, моя родная! Не обидели ли твоя мои последние письма? Но я сам хожу все это время с потерянной головой, с разбитым сердцем, не нахожу места, где бы приткнуться. Мысли только о тебе и о сыне… На меня не обижайся, — с тобой говорит ведь полуживой человек, хватающийся за каждую соломинку, чтобы удержаться в жизни… А она, чувствую, уходит, уходит медленно, тяжело… Нити, скрепляющие меня с жизнью, грозят оборваться! Что же это такое? За что мне такой тяжелый приговор, такая ужасная судьба? Я не хочу думать об этом, гоню от себя тяжкие мысли, но они вползают в меня и не дают мне покоя. Если это не так, ты должна сказать мне свое слово, уверить меня в обратном, подбодрить меня. Я совсем растерялся, и здоровье, начавшее было укрепляться, вновь стало пошаливать: опять начались головные боли, сердце дает крепкие перебои… За все это время, что я сижу, не было еще у меня такого тяжелого, напряженного состояния, как сейчас. И это несмотря на то, что мы можем переписываться, особенно ты, передавать друг другу свои мысли, рассказывать о жизни, советоваться, бодрить друг друга… Может быть на отношения твои ко мне кладут свой отпечаток неполадки твои с моими родными? Может ли это быть? Разве я стал хуже от этого, и ты меня меньше любить стала? Я ж не виноват во всем этом! Я хотел бы вас помирить, мне все это приносит невыразимую боль; но, если это уж так невозможно, я ведь не настаиваю и люблю тебя не меньше от этого. Ведь жить-то нам с тобою вместе, а мы друг друга слишком хорошо знаем, верим друг другу и любим. Не так ли, мое солнышко, моя любимая женушка? Я жду твоих писем, они для меня всё! Я надеюсь, Ликин, на твою любовь, на твою верность, на твою поддержку. Я буду дома во что бы то ни стало. Не отчаивайся, не горюй, — жизнь наша еще будет принадлежать нам. Но только при одном условии: сообща противостоять ее невзгодам. Дружба и любовь познаются и закрепляются в беде, и, я уверен, наши дружба и любовь с честью выдержат до конца это испытание. Ведь правда, Лидука? Целукаю тебя и моего Мурзика несчетное количество раз. Ваш муж и папка Сема. Привет маме, всем родным и твоим приятельницам.Мама. Твой отец был сентиментальный человек. Я. Будешь сентиментальным на сорокаградусном морозе и во взаимоотношениях с паханом. Мама. Я имею в виду его манеру писать письма. Я. Стиль? Мама. Манеру. В каждом письме — объяснение в любви, в каждом слова на разрыв души, нежность и ласка. Я. Блатной романтизм? Мама. Ничего блатного. Он и на свободе любил встать передо мной на колени. Я. Тогда что?.. Секс? Мама. В советское время мы действительно не знали, что это такое. Я. А как же я появился?.. От вашей платоники? Мама. Да нет же… Просто ЭТО иначе как-то называлось… или не называлось вообще! А все остальное мы умели делать не хуже нынешних, то есть вас. На Камчатке мы бывали вместе, можно сказать, каждую ночь. Я. В свободное от строительства социализма время? Мама. Вот именно. Я. Все-таки поразительно, что ты держалась. Мама. Ничего поразительного. Ведь я любила его. Я. Любила!.. Как можно любить человека, не видя его четыре года?.. Мама. Можно. Я. Как? Мама. Я каждый божий день разговаривала с ним. Мысленно. Я ощущала его рядом с собой круглые сутки. К тому же ты был точная копия отца. Мне казалось совершенно всерьез, что ты и есть он, только маленький. Так ты был похож на него. Бабушка про тебя говорила: «Шлиндмановская порода»!.. Она тоже безумно любила тебя, баловала. Я. Я ничего не помню из той довоенной жизни. Для меня детство началось в Анапе, в июне 41-го. Мама. Мы приближались к войне, совершенно не чувствуя, что нам еще предстоит пережить… А письма… Я писала ему часто, но мои письма до него не доходили. Почему-то. А его… весной 41-го письма от Семы сыпались в наш почтовый ящик одно за другим, одно за другим…
Канск, 19/IV-1941 г. Дорогая Лидука! Вот уже месяц, как я не получаю от тебя ни одной весточки, последняя посылка также была 1 ½ м-ца назад. Не приложу ума, что случилось? Здорова ли ты, здоров ли наш сынок? Крайне беспокоюсь и буквально выбился из колеи, — почти не сплю, не нахожу себе места. Объяснений такому твоему молчанию внезапному не нахожу, в голову лезут только самые плохие мысли. Понимаешь ли ты, моя Лидука, всю тяжесть моего существования? Можно ли его отягощать еще более таким безжалостным отношением со стороны любимой жены, от которой с нетерпением все время ожидаешь поддержки и теплого слова? Если что-нибудь случилось — лучше сообщи, но не мучай меня молчанием. Как ты, как наш Марик, как мама? 9/IV я получил письмо от Александры Даниловны. Очень благодарен ей, в ближайшее время постараюсь ответить, передай ей и всем родным привет. Я работаю по-прежнему, зачислен в штат Финчасти, со здоровьем было бы лучше, если б была у меня хотя бы одна спокойная минута. Все зависит от тебя, моя дорогая! Вся моя жизнь и наше будущее в твоих руках… Целую тебя крепко, крепко и Мароника. Ваш Сема. Немедленно пиши и не заставляй меня ждать.
Канск, 20/IV-1941 г. Дорогая моя Лидука! Нет подходящих фраз, чтоб передать тебе мое состояние. Вконец обескуражен, потерял голову, не знаю, что и думать, нет ни минуты покоя… Разве можно так жестоко поступать со мною? Что случилось, почему молчишь? Вот уж больше месяца, как состояние тяжелого, беспросветного одиночества овладело мною и давит всей своей тяжестью. Не было еще такого со мною за все эти 3 ½ года. Я всегда чувствовал твою дружбу, любовь и близость, готовность помочь, поддержать меня, — это меня бодрило и вливало силы. Когда, наконец, наступила возможность установить с тобою связь, ты немедленно откликнулась, мои надежды оправдались. Ты крепко меня поддержала и морально, и материально, на протяжении 2-х месяцев. Я был горд великой гордостью мужа и отца за своих прекрасных, любимых женушку и сына, не забывших меня, отдающих мне всю теплоту и горячую любовь своих сердец. При всем моем несчастном положении я был на 7-м небе от счастья, от сознания, что вы — мои, всегда мои, любимые, близкие, дорогие! Почему же так вдруг все оборвалось? Почему вдруг замолчала? Если я обидел тебя чем — прости, но не наказывай так строго. Пойми меня, Лидука, — только об этом прошу я тебя! Много обидных глупостей, возможно, написал я тебе в предыдущих письмах, но ведь я совсем, совсем растерялся, прочитав те несколько безжалостных строчек из твоего письма… Серьезно ли ты писала, продумала ли? Хочу думать, что нет. А я в ответ намолол всякой чепухи — не от разума, не от сердца, а от мятущихся, бредовых мыслей, доводящих меня подчас к грани сумасшествия. Как боюсь я этого, если б ты только знала! Потерять рассудок, что может быть страшнее? А у меня бывают такие моменты, что прекращается всякая разумная мысль, тело напрягается, готово к какому-то безумному поступку, и только огромным усилием воли ставишь себя обратно на место, выбрасываешь из себя вон все это безумие. Не оставляй меня, Лидука, не оставляй! Я хочу льстить себя надеждой, что все мои страхи и опасения — не больше, как плод больной, расстроенной нервной системы, не больше! Ты осталась такой же моей честной, прямой, преданной и любящей Ликой, какой была всегда, какой ты была, когда мы были вместе. У нас есть сын, которого нужно воспитывать, из которого надо сделать Человека! Вся моя любовь, все мои силы, знания и разум, вся моя жизнь принадлежит только вам — тебе и сыну — вам одним! Я далек сейчас физически от вас, но я вместе с вами, каждый час и каждую минуту. И будет такое время, когда мы будем вместе, не будет конца нашему счастью. Ведь это правда, Лика? Ответь мне! Обо мне не беспокойся, — я сумею сберечь свои силы и здоровье для дальнейшей жизни. Все зависит от тебя, только от тебя! Я работаю хорошо и много, многие довольны и мне поручают все более и более серьезную работу. Несколько дней тому назад меня включили уже в постоянный штат Финчасти. Но у меня не прошли еще опасения насчет возможности этапирования меня в Норильск. В мае-июне будет туда этап и я боюсь, что меня включат в него, т. к. мне еще на Камчатке объявили о назначении меня в тот лагерь. Там очень плохие климатические условия, гиблое место и только самые здоровые выдерживают. Я живуч, как кошка, — не это меня страшит. Но это — страшная даль, связь очень плохая, буквально раз в год доходят письма, — это страшнее всего. Надеясь, что меня туда не отправят, т. к. я на хорошем счету у местного командования, все же нужно быть готовым, поэтому, прошу тебя, Лидука: 1) это время снабдить меня возможно лучше, продуктами и вещами, о которых я тебя просил еще раньше (кстати, брюки у меня совсем изорвались и я хожу латанный-перелатанный, выскакивая, к стыду своему, из единственных штанов); 2) если меня будут отправлять, я постараюсь сообщить тебе об этом, а ты тогда, не ожидая моих писем, начнешь писать туда, памятуя, что чем больше напишешь, тем больше шансов на то, что что нибудь да дойдет туда. Но это все так, на всякий случай. Пока что я здесь, а Нач. Финчасти сказал мне, что я буду закреплен на работе у него для «особых поручений» при нем, как он выразился. Живу в том же общежитии, которое я тебе уже описывал. Принимаю участие в работе хорового и драматического кружка. 15-го и 16-го числа мы ставили в клубе лагпункта пьесу Гусева «Славу». Я играл роль Николая Маяка. Прошло с большим успехом. Нач. КВО (культ. — воспит. отдел) Управления Краслага поблагодарил наш коллектив за хорошую постановку и игру и заявил, что все участники будут бесспорно закреплены в Краслаге и нив какие этапы не пойдут. Нач. Лагпункта также объявил нам благодарность, а после него пришел Парторг Лагпункта и заявил: «За то чувство, которое вы вложили в исполнение этой пьесы, за правильное ее понимание и удовольствие, доставленное зрителям, — от парторганизации всем участникам спектакля — привет и благодарность». Хорошая оценка со стороны парторганизации, — что может быть лучше и радостней этого? 26/IV — концерт, я буду петь под аккомпанемент струнного оркестра. Прошу тебя, Ликин, подбери мне и пришли почтовой бандеролью арии опереточные, цыганские романсы и новые песни — по твоему выбору. Работа в клубе занимает все мое свободное время, а его не так уж много — часа 3 в день, но я нахожу большое удовольствие в этом, это единственный вид общественной работы, доступной мне в моих условиях, да к тому же мешает сосредотачиваться на тяжких думах, что всегда лезут в голову. Прихожу в барак поздно, час-два читаю книгу, газету, ложусь спать, долго не могу уснуть, всегда думаю о вас, гляжу на ваши фотографии, целую вас крепко, а потом уж засыпаю. Сон у меня беспокойный, ору благим матом, точно режут, — врачи говорят, что «нервы распустились», а лечить их здесь нечем, — подождем до свободы. Ликин! С письмами тяжело. Я не могу писать тебе достаточно часто — по режимным условиям. И все же с большими трудностями и риском, я пишу тебе во много раз больше и чаще, чем ты мне. Получила ли ты мои последние 3 письма, где я поздравлял тебя и Мароника с днем рождения? Надеюсь, что получила. Как я уже писал тебе, в свидании мне отказано. Я говорил с Прокурором Краслага и с моим начальством по этому поводу, — они мне советовали написать тебе, чтобы ты обратилась в ГУЛАГ и к Наркому, — тебе разрешат. На днях один товарищ здесь имел свидание с женой, — ему отказывали, а она обратилась с письмом к Нач-ку Управления Краслага и в ГУЛАГ и ей разрешили. Что ты делаешь в этом направлении? Что слышно с моим делом, будут ли его пересматривать? Я имел сообщение от 1-го Спецотдела НКВД СССР, что мое ходатайство о пересмотре дела направлено в секретариат Особого Совещания. Надо было бы там протолкнуть его и ускорить. Скоро 1-е мая! Желаю тебе весело и бодро провести этот праздник в надежде, что следущее 1-е мая мы будем все-ж-таки вместе. Целую тебя и сынку крепко, крепонько, со всей своей теплотой и страстью — твой Семка. Привет маме и всем родным.Что за «безжалостные» строчки написала мама отцу, после которых раздался его крик души: «Не оставляй меня, не оставляй!»? Отмечу с болью: какая-то трещинка, едва заметная, но уже обнаруженная, появилась и проявилась, не так ли? Мама смолчала. При ее житейской нетерпимости — что поделаешь, характер такой, — ей бы удержаться, не теребить Сему лишним волнением, однако женская натура живет страстями, а не логикой. Мама, прости. Очень легко судить тебя со стороны. Но где наша чуткость к окаменелой одинокости молодого существа, к тому же еще любительницы поэзии? Ей все время что-то мерещилось. Она жила ведь сразу в нескольких измерениях — на работе, дома, в поэтических мирах, для нее совершенно реальных, и, что было самым мучительным, рядом со своим Семой — в его камерах, на его этапах и в лагере. Мама была обделена физической лаской. Всё, что она получала от мужчины, было чувственным посылом от мужа, гнившего на каторге. Ее ощущениями руководила загнанная в консервную банку нежность, растратить которую было не на кого. Ее, эту нежность, можно было только копить. Или — вообще забыть о ней, как в монастыре забывают. Бабушка подзуживала: — Долго ты еще будешь одна? Или: — Ну, чего ты сидишь?.. Пойди куда-нибудь… с кем-нибудь. Или грубее: — Развяжи себя, Лида!.. Однова живем!
Канск, 3/V — 1941 г.Он знал ее увлечение поэзией и гвоздил ее ОТТУДА Некрасовым. Расчет (если он был) правильный. Мама стала часто плакать. Но этого не видел никто. Я. Папа, скажи правду, ты там, в бараке своем сидя, что-нибудь читал? Книги давали вам читать? Отец. Книг пять я там прочел. Я. Понял. Ну и какая повесть-роман-рассказ тебе понравилась больше всего? Отец. Чехов. «Каштанка». Я. Смеешься?.. Отец. Просишь правду — говорю правду. У нас библиотечка своя была — передавали книги с койки на койку. Некрасов — «Избранное», «Как закалялась сталь» и «Каштанка» — издание для детей. А-а-а, еще «Сталин. Биография» — кто-то напоказ держал, в такой коричневой обложке… «Каштанку» мы до дыр зачитали. Наизусть ее могу… Особенно этот кусок, когда Хозяин из глотки собаки назад кусок мяса за веревочку доставал… Я читал это вслух, и зэки в этом месте плакали… Я. А про Сталина, значит, не читали? Отец. Мы его нюхали. Я. Что ты сказал, я не понял. Отец. Буквально. Сидим, бывало, голодные, в желудке песня без слов, что-то такое булькает, а нюхнешь обложку, потянешь носом коричневую корку — легчает! Мы это заметили, и кто исстрадался, просил: «Дай нюхнуть! Дай нюхнуть!» — ему тут же книжку с портретом, он в нее уткнется, посопит, повздыхает — глядишь, уже не хочется. Я (смеясь). X чего не хочется? Отец. А уже ничего. Надышался товарищем Сталиным — и стало тебе хорошо, лучше некуда!.. Я. Чудо!.. Так ведь ровно вся страна жила! Отец. А я тебе о чем говорю!.. Мы и вы — вся страна и есть. А еще кто?… Милая моя,Как боязлив, как недосадлив я!Я плакал над твоим рассчитано-суровым,Коротким и сухим письмом;Я спрашивал: не демон ли раздораТвоей рукой насмешливо водил?Я говорил: «Когда б нас разлучила ссора —Но так тяжел, так горек, так уныл,Так нежен был последний час разлуки…Еще твой друг забыть его не мог,И вновь ему ты посылаешь мукиСомнения, догадок и тревог —Скажи, зачем?.. Не ложью ли пустою,Рассеянной досужей клеветою,Возмущена душа твоя была?И, мучила томительным недугом,То над своим отсутствующим другомБез оправданья суд произнесла?Иль то был один каприз случайный,Иль давний гнев?.. «Неразрешимой тайнойЯ мучился: я плакал и страдал,В догадках ум испуганный блуждал,Я жалок был в отчаяньи суровом…Всему конец! Своим единым словомДуше моей ты возвратила вновьИ прежний мир, и прежнюю любовь:И сердце шлет тебе благословенья,Как вестник мной нежданного спасенья…Так няня в лес ребенка заведетИ спрячется сама за куст высокий;Встревоженный, он ищет и зовет,И мечется в тоске жестокой,И падает, бессильный, на траву…А няня вдруг: ау! Ау!В нем радостью внезапной сердце бьется,Он все забыл: он плачет и смеется,И прыгает, и весело бежит,И падает — и няню не бранит,Но к сердцу жмет виновницу испуга,Как от беды избавившего друга…(Н. А. Некрасов)
Дорогая моя, любимая Лидука! 30/IV получил, наконец, долгожданное твое письмо от 18/IV. Как долго ты не подавала никакой весточки о себе, как мучительно и тяжело было для меня это твое молчание! какие только мысли не перебрели в моей несчастной голове, какие только самые жуткие картины не вставали перед моим больным воображением… Я тебя обидел и оскорбил своими предыдущими письмами, — я себя казню за них, но ты поймешь меня и простишь… Не хочу, мне стыдно возвращаться вновь к этой теме, — не надо больше говорить о ней! «— Да, Семик, — я не допускаю мысли о другом человеке, близком себе, кроме тебя, одного тебя. Ты — мой дорогой и любимый муж, друг, — тебя я ценю больше и неизмеримо больше, чем кого бы то ни было. Наши жизни не могут идти по разным путям… Люблю тебя по-прежнему, жду тебя и буду ждать во что бы то ни стало, как бы тяжело мне ни пришлось и сколько бы времени ни прошло». Эти твои простые, теплые, звучащие клятвою слова, запомнившиеся мне на всю мою жи знь, я клятвенно повторяю вместе с тобою. Эти слова твои звучат вдохновенной молитвой: с ними я сейчас засыпаю, с ними просыпаюсь, они встают передо мною живыми, огненными буквами, выжженными в твоем благородном сердце, они превращаются в кровь, вливающуюся в мои жилы, кровь, дающую мне жизнь… Я снова молод, я снова бодр, весел, жизнерадостен, я чувствую в себе силы преодолеть всю тяжесть моего ужасного существования. Крошка моя, мой славный медвежонок, моя любимая, единственная моя женушка! Сердце мое разрывается, не вмещая в себя огромной любви моей к тебе, моему ясному солнышку. Желанный мой друг! Как передать тебе, как сказать тебе о том чувстве глубочайшего уважения и великой благодарности, которое я питаю к тебе, прошедшей через такие тяжелые испытания и невзгоды, возмужавшей, выросшей в борьбе женщиной-матерью нашего сына, и оставшейся для меня тем же верным другом, той же маленькой моей Ликой, нежной, хорошей моей девочкой! Я вернусь на волю, так незаслуженно отнятую у меня, я вернусь к тебе, моей милой, ненаглядной, я отплачу тебе за все перенесенное тобою, я принесу тебе мою вечную, неиссякаемую любовь, мои горячие ласки, всю мою жизнь. Жди меня, моя дорогая, я приду и принесу тебе много, много радости, упоительного счастья — у нас хватитвремени забыть все прошедшие несчастья и горести, мы станем вновь полноправными хозяевами жизни, советскими гражданами, людьми нашего общества, мы будем воспитывать и растить нашего сына, как садовник взращивает плодовое дерево. Наш плод должен быть и будет сочным, налитым всеми жизненными соками, — наш сын будет большим человеком, настоящим Человеком! И тем более мы будем горды им, тем более будем им счастливы, что вместе мы прошли в нашей жизни, что мы остались друг другу верны во имя любви, во имя нашего сына, для него и для нас самих. Будущее нашего ребенка зависит от того воспитания, которое дадим ему мы — родители, от той среды, в которой он будет находиться, от того комплекса семейных и общественных интересов, которыми будет заполнено его существование с самого детства. Характер человека начинает подготавливаться и складываться уже с 1 ½— 2-х годичного возраста, — это нужно помнить всегда и постоянно. Детство, считается, неизгладимо в памяти человека; в детстве приобретенные черточки вырастают в линии, детские привычки и потребности глубоко укореняются в человеке, все эти мельчайшие штрихи и еле уловимые нюансы ребячества постепенно превращаются в то, что называется «характером» человека. С детства надо прививать человеку дух коллективизма, любовь и уважение к труду, чтобы потребности его всегда соизмерялись с возможностями, определяемыми, в свою очередь, степенью и количеством производительного труда, отдаваемого им обществу, государству. Все необходимые советскому, социалистическому человеку качества: потребность в труде, как в воздухе, честность, бескорыстие, простота и скромность, высокая нравственность, уважение к товарищам, родным — членам единого советского коллектива, смелость и отвага, любовь к своей Родине, к советской власти, к партии большевиков, к Ленину и Сталину, готовность всегда, когда это надо, пожертвовать своею жизнью для них и за них, поступиться своими личными благами в интересах коллектива, дисциплинированность, любовь и жадный интерес к науке, знаниям, — одним словом, все то, что составляет сущность нового человека, — все это нужно продуманно вводить в плоть и кровь, в сознание ребенка с первых лет его жизни. И, конечно, не пустым словом, не «лекциями», не одними «разговорами по душам», не показом со стороны, не книжно, а личным примером родителей, всеми теми условиями, в которые мы сами поставили нашего ребенка. Не дай бог привить ему сейчас вкус к излишествам, воспитать в нем эгоистические чувств, мелкособственнические наклонности, леность и проч., — да этого потом не вытравишь никакими средствами. Дорогая моя Лидука! Всю свою любовь ты отдаешь нашему Марику, — это правильно, естественно, иначе и быть не может, ибо прав А. Макаренко, когда говорит в своей «Книге для родителей» (кстати, читала ли ты ее?), что «люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди». Но я прибавлю к этому, что одна лишь горячая любовь, идущая от родительских эмоций, но не направленная в разумное русло (ну, скажем, к примеру, — за ним не далеко ходить, — такая любовь, как у Нюни к своим детям, — а ведь она, ой как любит своих детей, буквально всю жизнь им отдала… — одна такая любовь может, как это часто, слишком часто бывает, покалечить человека не меньше, а иногда даже и больше, чем если бы он прожил вовсе без родительской любви. Уж до чего Люсю баловали в детстве, и как будто бы недаром: она была такой замечательной, чудесной девчонкой — предмет забавы и игр для взрослых… А что получилось? Нравственный и физический недоносок, уродец. Что она сейчас делает, чем занимается, — напиши мне). Семья Самуила и Нюни — это наглядный пример того, как не надо воспитывать детей, т. е. иначе говоря, как недопустимо вредно можно строить семейную жизнь. Если вдумчиво проанализировать этот пример, да противопоставить ему семью, покоящуюся на основе учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, живущую, в больших и малых своих делах, по-советски, да приложить к этому еще и научный метод богатой советской педагогики, — то наш ребенок, наш сын, наш Марик, действительно вырастет полноценным человеком и Гражданином, будущность которого обеспечена нашим советским обществом. Уверен, что вдвоем с тобою мы справились бы с этой задачей вполне. Ведь правда, Лидука? Но, что же делать, коль я попал в такое жуткое положение, вместо того, чтобы по праву, заслуженному мною всей моей предыдущей жизнью и идеологией, идти рука об руку с тобою, плечом к плечу со всеми советскими людьми? Все то, что случилось со мною, является результатом действий людей, воспитанных отнюдь не в духе Коммунистической, партийной морали. Наш Марик, надеюсь, не будет таким, он не будет способен на подлости и пакости в отношении других людей, и его уж, наверное, не постигнет участь его бедного отца, так как жить он будет уже в Коммунистическом обществе. Все дело воспитания нашего сына падает сейчас только на твои плечи, моя дорогая Лидука, ты справишься с честью с этой задачей. Если мне суждено, несмотря на всю вопиющую несправедливость этого, быть оторванным от своей семьи на протяжении всего этого срока, я все равно постараюсь выжить, пережить все это во что бы то ни стало, и я окажусь все же с вами, моими дорогими и близкими. Марику будет тогда 8 лет, он первый год пойдет в школу, и он получит своего отца, который станет ему лучшим другом и товарищем. Не печалься, моя женушка, наш сын будет иметь и знать своего отца! а ты, моя любимая, будешь еще иметь своего, безгранично любящего тебя мужа, все того же твоего Сему! Я был немного нездоров, несколько дней побыл в больнице — небольшая операция, вызванная парапрактитом (это такой паршивый нарыв), образовавшимся в результате инфекции после первой операции. Пришлось испытать весьма резкую боль, но, благодаря проф. Бельцу Адаму Адамовичу, теперь уже все в полнейшем порядке. Не беспокойся, Ликин, и не волнуйся, — все хорошо обстоит у меня сейчас со здоровьем! Когда я прибыл сюда, то был отнесен, по состоянию здоровья, к 3-ей категории, последней медкомиссией определен уже во 2-ю категорию. Ты видишь, дела поправляются и скоро я буду уже совсем здоровым человеком. (При одном только условии: чтобы ты не забывала меня. Проходит 10 дней, нет от тебя писем, — я уже больной, выбитый из седла человек, становлюсь буквальным «психом», все болезни просыпаются, все болячки наваливаются разом…). Ну, вот уже и 1-е Мая прошло. Как-то вы там отпраздновали эти дни? 1-го, вечером, и 2-го, днем, опять ставили в клубе спектакль «Славу» Гусева. Успех этой пьесы у нас огромен. Как я тебе уже писал, я играю в ней Маяка Николая, военного инженера, — темпераментного, восторженного молодого человека, вспышкопускателя, горящего «бенгальским огнем», жаждущего подвига ради славы… Говорят, что играю я на сцене неплохо, получается здорово, наш режиссер, б. засл, артист Республики Або Яковлевич Волгин, доволен, и публика крепко аплодирует. А вчера, вечером 2-го Мая, был концерт, и, в сопровождении духового оркестра, я спел: «Спой нам ветер» и «Москву» (Страна моя, Москва моя…). Против всяких ожиданий, даже вызывали на «бис». Я очень рад тому, что оказался полезен нашему клубу, и могу быть одним из его активистов. Но, вот беда: одеваться для сцены нужно нам самим, клуб ничего не предоставляет, приходится изыскивать собственные ресурсы. Для концерта нарядился в костюм одного, в ботинки другого, галстук третьего; то же и для спектакля, где нужен был военный костюм. Но, и вне зависимости от этого, я сильно пообтрепался, главное — брюки совсем изорвались, да так, что я уж латку на латку накладываю, и носки порвались, — я сам тоже чиню, штопаю. Прошу тебя, Лидука, прислать мне вещи, о которых я тебе писал, я в них очень нуждаюсь. 2 книжки, высланные тобою 5/III, я получил 28/IV. Посылку из Осташково я получил в один день с посылкой из Костромы. Это было 2 месяца назад, разве я не писал тебе о ней? Последнюю твою посылку, о которой ты пишешь, из Одессы, я еще не получил, на днях, наверное, прибудет. 28/ IV я получил три письма от Паши и мамы, они прислали мне фотокарточку Инги и пишут, что тоже выслали посылку из Харькова, через тамошних родных, но я и ее еще не получил. Кстати, моя Лидука, ты так возбуждена против моих родных, что ожидаешь от них всякой пакости и козни. Даю тебе мое честное слово, что ни единым словом, ни в одном письме, ни Паша, ни Роза, ни мама, не обмолвились по поводу приезда твоего с Мариком ко мне (вернее, о нежелательности твоего приезда с Мариком). Ты напрасно их обвиняешь в этом. Я тебе процитирую дословно все то, что они мне писали относительно тебя и Марика: Роза пишет в письме от 17/IV «Дочки наши уж совсем большие, да и твои Марик уже большой и к тому же замечательная умница». Паша — в письме от 18/1 из Красноярска: «О наших невзгодах с Лидой не думай, все обойдется, не впутывайся ты в нашу ссору. Приедешь, тогда сам разберешь. Марик большая умница, у него замечательный слух и голос, говорит абсолютно все. 30-го января у Инги рождение, будет елка, мы уже пригласили Марика, он каждый день ждет и все у Самуила спрашивает: не пора ли идти к Игне, он так называет Ингу». И еще, в этом же письме: «Если переменится адрес, сообщи нам, очень тебя прошу, Лида очень неохотно сообщает нам и нам это очень тяжело». Паша — в письме от 27/XII — 40 г. (первое письмо): «Привет от Марика, он чудесный ребенок. Роза была у него вчера. Нас ты не вини за нелады с Лидой, это дело ее совести, пусть она никогда не знает горьких материнских слез о сыне, пусть она никогда не знает мучительных бессонных ночей, проведенных твоей старой матерью. Лида во многом могла облегчить горе стариков, она этого не хотела. Семинька, но не это главное, главное, что можно писать тебе, что есть надежда видеть тебя». Паша — в письме от 6/11 — 41 г.: «Была у Лиды и Марика, у них все по-старому. Лида опять начала работать у прежнего архитектора, он оставил ее и еще двух инженеров-конструкторов для новых проектов. На работе ею очень довольны. Марик здоров и большая умница, очень обрадовался, когда меня увидел, и не отпускал уходить, пока не рассказал всех стихотворений, какие знает, и песенок. Танцевал Ка-бординку, но в спешке путал с Яблочком. Мама — в письме от 2/11 — 41 г.: «Мой родной, единственная просьба к тебе, пиши нам отдельно и как можно чаще, потому что Лида не говорит мне, что она получила письмо от тебя. Я, конечно, не претендую, она твоя жена, я не хочу и не могу сравнить себя с ней. Но я же старая мать с наболевшей душой и ты у меня один, мое сердце всегда болит и в тревоге за тебя». Паша — в письме от 15/IV: «25/1IIЛида получила повестку, ее вызывали (об этом мы узнали от Люси, она получила повестку от почтальона и передала Лиде). Этот вызов, мне кажется, связан с пересмотром твоего дела. Нас не вызывали, хотя заявление мы подписали все, мне сказали, что в нашем вызове нет необходимости. Очень не хочется огорчать тебя, но и смолчать не могу. Твоя жена очень неумно держит себя по отношению к нам, она, вероятно, руководствуется своей матерью. Короче, она очередной раз «отшила» меня и маму. Бог с ней… Нужно ли говорить тебе о нашей любви и дружбе к тебе. Твоя жена незаслуженно оскорбляет твою мать и думается мне, что и тебя восстанавливает против нас. Твое несчастье, мой любимый единственный брат, это постоянно кровоточащая наша рана. Есть чувства, которые не укладываются в слова, ты, чуткий и сердечный человек, поймешь нашу любовь и без слов. У скольких порогов и дверей я выстояла! Сколько оскорбительно равнодушных людей с холодными глазами слушают с едва скрываемым зевком! А сколько незаслуженных оскорблений, унижении и горьких, горьких слез! И все-таки каждый день куда-нибудь к кому-нибудь ходим, просим, требуем. Я верю, что добьемся правды, и товарищи вернут тебя к твоей обычной честной трудовой жизни, а нам вернут брата и сына». И еще, в этом же письме: «Как обстоит со свиданием, разрешат ли? Если Лида не поедет (из-за занятости на работе), тогда, может, можно мне приехать?». И последнее письмо мамы от 2/IV: «хотя ты мне не ответил на мое первое письмо, я не знаю и не могу понять, почему ты, мой дорогой, не хочешь написать. Неужели ты думаешь, что ты мне не так дорог, как тебе Марик. Я знаю, мой дорогой сын, что ты мне не можешь помочь, а от Лиды я этого я подавно хорошего не жду, она мне совершенно чужой человек, она дает мне это знать и чувствовать. Я узнала, что она получила одно письмо и другое письмо. Ну вот, я узнала ее телефон и решила позвонить ей, я спросила, могу ли я приехать, чтобы она мне почитала, конечно, не все, но хотя бы несколько строк, и видеть почерк твой, и это бы меня обрадовало, но она такая, я могу сказать, бессердечная, что она сразу меня как-то отшила, что письмо только ей и Марику и нечего мне приходить. Ты же должен понять, мой родной Семочка, сколько слез я пролила и три сутки я ходила как разбитая от обиды. Ну вот, мой родной, еще одна просьба к тебе: Лида поедет к тебе, я уверена, что она мне не скажет, что она едет к тебе, то пиши мне, когда у тебя будет тебе еще разрешение повидать тебя, мне очень хочется видеть тебя, я соберу все мои силы и поеду к тебе». Вот все, что мои родные писали мне о тебе и об отношениях с тобою. Больше писать о родных не буду. Проверь, все ли так обстоит с ними, как ты себе представляешь? Я же буду разбираться во всем этом, когда приеду, когда сумею все выяснить, выслушать и свести вместе обе, так сказать, враждующие стороны. Ликин, почему ты ничего не написала о вызове 25/111, куда это тебя вызывали и по какому поводу? Завтра подаю заявление (еще одно) на имя Нач-ка Управления Краслага, капитана Госбезопасности Почтарева, о свидании с тобою и Мариком. Местное командование обещало мне поддержку, — может быть, разрешат. Писала ли ты сама? Только без разрешения не езди, это ни к чему не приведет, так разрешения не добьешься, не повторяй Пашиной ошибки. Прошу тебя только об одном: пиши мне. Как можно чаще. Спасибо тебе за фото Марика, я беспрерывно смотрю и целую его. Когда же снимешься ты? Присылай мне каждый раз свои и Марика карточки. Целую тебя крепко, крепко, обнимаю тебя и Мароньку бесчисленно и горячо. Ваш Сема. Привет маме и всем родным. Ликин, спасибо за поздравление, но ты ошиблась: 9/VI, а не 9/V. Целукаю т. Сема.Ровный свет в пространстве. Спит белая стена. Тени родителей моих находят на ней множество отражений, от письма к письму становящихся все рельефнее. Остановившиеся часы сейчас вновь затикали, чуя свою нужность в приближении мирового побоища на нашей земле. Что за чудный городок этот Канск, расположенный поблизости яркого всегда Красноярска?.. Почему именно он выбран злодеями приютом для каторжан? Вот один из них, неплохо все-таки устроившийся у бухгалтерского стола, гнущий спину над дурацкими бумагами с утра до ночи, тихо, про себя, несущий огромную страсть — мой отец, пронумерованный, как и все его коллеги, лагерник. Он рядом с чернилами и бумагой, он в порядке. Неведомо его знанию и сознанию смеющееся над старым миром слово «компьютер», он ловко щелкает на счетах — наряды, наряды, наряды, кажется, сотни тысяч одних нарядов… Не ошибись в расчетах, бухгалтер!.. Не вешай нос, не высовывайся, не лезь вперед батьки в пекло, но и не отставай… Сидишь — и сиди. С властью заигрывай, но только в художественной самодеятельности — это честнее, чем в иных случаях, во всяком случае, не подлее. Да и жизнь разнообразит. И от этапов спасает (главное). На воле ты пел, так и здесь попой во весь голос, пока глотку не разодрало и сердце не застопорило. Себе удовольствие, а другим радость. Музыка преисподней. Эстрада без парада. От тоски и тошноты единственное спасение. У отца моего был действительно хороший голос, тенор-баритон, конечно, не лемешевский, но с оперной вибрацией, без школы, без итальянских секретов владения дыхательной техникой, но, на высоких особенно нотах, — громовой до удивления, сильный, что и говорить, голос. «По утрам он поет в клозете» — почему-то вспомнилась гениальная фраза, начинающая знаменитый роман. А в карцере не пробовали?.. А на лесоповале не хотите?.. Большой театр города Канска с залом, полным уголовниками, и «правительственной ложей», где сидят начальнички… «Спой нам, ветер, про дивные страны»… Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Здравицы в честь товарища Сталина. Крики «ура!», переходящие в овацию. В роли Николая Маяка — зэк Семен Шлиндман. Наш родной советский «китч». Оболваненные и недооболваненные сталинщиной, канули они все. Исчезли с поверхности земли, связанные ниточками страстей и обид. Зачем они жили?.. Почему им, а не нам или еще кому, выпало именно ЭТО?.. Для чего пискнули их жизни, прокрученные в жерновах кровавой истории?.. Кто знает ответ? До войны, между прочим, остался месячишко с лишком.
Канск, 11/V — 1941 г. Здравствуй, моя родная Лидука, здравствуй, мой родной сынок Марик! 7-го числа я получил вашу посылку, что была 19/IV отправлена из Одессы. 8-го числа я получил бандеролью 2 книги: «Планирование производства» (неправильно, надо: «Вопросы планирования предприятия») и «Амортизация и ремонт в промышленности СССР». Очень благодарен тебе, моя женушка, за твою заботу и помощь. Все то, что ты послала, дошло в целости и сохранности, ничего не испортилось, все это очень нужно и ценно для меня. С огромным удовольствием я съел твой замечательный огромный кекс, — ничего вкуснее я в жизни не едал! В каждом кусочке я чувствовал твои, милые мне, пальчики, твою заботливую и искусную руку. Большое спасибо тебе и маме (ведь не без ее участия пеклась эта превосходная штука?). Надпись и отпечаток ручонки Марка очень меня обрадовали, но чорт возьми, ящика я не получил — ящиков нам не выдают, они остаются в почт. — посылочном бюро. Вчера и сегодня было повторение концерта, о котором я тебе уже писал. Я вновь пел те же песни. На этот раз у меня получилась неприятная штука. Когда я пел «Москву», я вдруг увидел ее воочию, представил себе тебя, Марика, нашу комнату, и это все так рельефно встало перед моими глазами, что я забыл на мгновение, где я нахожусь, что я пою в концерте, и… заплакав, поперхнулся, споткнулся, остановился посреди песни, слова выпали из памяти, и, пока я спохватился и собрал себя, пришлось пропустить целую строку. Это очень неприятно перед публикой, но я так взволновался этим чудным видением, что до сих пор не могу притти в себя. Как тоскливо мне без вас, мои любимые, как тяжело! Когда же кончатся мои мучения? Я пишу сейчас еще 2 жалобы: на имя М. И. Калинина и в Особ. Совещание. Я уже писал тебе, что имел сообщение от 1-го Спец. Отдела НКВД СССР о том, что мое ходатайство о пересмотре дела передано в Секретариат Особого совещания. Это было в марте месяце, сейчас уже май, изменений никаких нет. Ты пишешь, что решения 1940 года не пересматриваются сейчас, но ведь оно неправильное, не может же оно оставаться в силе! Что делать для того, чтобы обратить внимание, заинтересовать, побудить к справедливому пересмотру? Помогут ли мои жалобы, будут ли их читать, сумеют ли они нарушить эту установленную «очередь» для пересмотра? Ликин, постарайся добиться приема у Наркома Госбезопасности Меркулова, может быть, он тебя примет? Расскажи обо мне все, что знаешь, всю мою жизнь, скажи, что я не виновен, что я никогда не был и не мог быть тем, за кого принимают меня, что я всегда был и остался глубоко преданным своей Родине, Партии и Правительству, пусть проверят мою верность на любом деле, в котором я готов, если это нужно будет, жизнь свою отдать за мою родную Советскую власть, за партию, за Сталина. Зачем меня мучают, кому это нужно в нашей стране? Заявление о свидании я подал на имя капитана Госбезопасности Почтарева. 4/VНач. Лагпункта и Нач. КВЧ сказали, что мне дана хорошая характеристика и что просьба моя ими поддержана. Жду на днях ответа. Неужели опять откажут? Я уж не буду знать тогда, что делать! Обратилась ли ты сама в ГУЛАГ, в Наркомат, как я тебе советовал? Писала ли ты сама Нач-ку Упр-я Краслага? Я хочу видеть тебя и Марика чем скорее, я только и живу мыслями об этом. В последнее время я себя опять стал скверно чувствовать, — вновь возник этот проклятый парапрактит, причиняет мне сильные физические боли, — возможно, придется опять резать, но для этого надо лечь в больницу дней на 8—10, а я не хочу этого, пока не получу ответа на мое заявление. Ведь, если разрешат, ты сразу, не долго задерживаясь, сумеешь выехать? Да? Сейчас уже май месяц, как дело с отправкой Мароника и мамы в Анапу? Когда они собираются ехать? Ведь нужно Марика отправить до наступления жарких дней, а время проходит… прошу очень Александру Даниловну фотографировать чаще Марульку, самой тоже сниматься, и присылать мне фото из Анапы. Почему мама мне ничего не пишет? Хоть бы раз написала! Тетя Тася — единственная из всей родни, вспомнила обо мне, прислала мне хорошее письмо, я был так обрадован ему, а ей очень, очень признателен, а мама почему-то ни слова не пишет. Это обидно и непонятно. Как ее здоровье, как нога? Дорогая Александра Даниловна! Очень прошу вас написать мне. На меня не нужно обижаться, я ни в чем не виноват, мне и так очень тяжело, и я надеюсь, что мы с вами еще поживем, Лика будет жить и радоваться в радости и счастьи, которых она заслужила. «Жизнь — это темный лес, а не светлое поле», говорит народная пословица. Сейчас вот и мы попали в такой «темный лес», придет время — выберемся из него и наша жизнь все-таки станет «светлым полем», чистым, ясным. Гем более будет нам хорошо и радостно, что мы пережили такую катастрофу, такие тяжелые невзгоды. Я вам не могу передать всей моей теплой, искренней благодарности за заботу о Маронике, за все то, что Вы отдаете ему. Только, чур, не балуйте его слишком, когда он сыт, не старайтесь его перекармливать, и научите его кушать самому без уговоров, без песенок и сказок. Нужно, чтоб он был самостоятельным парнем, не изнеженным, не избалованным, сильным, крепким, не давать в нем развиваться чувству эгоизма, чего я больше всего боюсь. Наш сынка должен быть коллективистом, будущим настоящим большевиком, борцом, и эти качества нужно развивать в нем с детства. Не давайте ему сознавать на каждом шагу, что он «единственный сын», и свою любовь, и Вы, наша бабушка (не сердитесь, что я называю Вас «бабушкой», — сейчас Вы уж к этому, наверное, привыкли?), и ты, моя родная Лидука, передавайте ему так, чтобы он не воображал себя «гвоздем» в семье, а занимал бы положение рядового члена семейного коллектива. В этом — залог того, что Марик будет воспитан полноценным советским человеком, коммунистом. Так что, договорились мы с Вами, Александра Даниловна, будете Вы мне писать, — правда? А уж когда приеду, тогда расцелуемся крепко-накрепко и заживем во славу. Ликин, милая! Последнее твое письмо я получил 30/IV, сегодня П/V… Надо писать чаще, пусть хоть коротенькие письма, открытки, но чаще, чаше!..Нет, не Чехов, не Набоков. И даже не Константин Симонов. Но — гигант. «Когда строку диктует чувство», и микроорганизм становится гигантом. Простодушное прекраснодушие превращает дистрофика в атлета, само написание письма становится для зэка актом приобщения к жизни на свободе, выводит его дух за пределы колючей проволоки, вытаскивает из бесчеловечного к человеческому — прежде всего к семье как норме «гражданского состояния». В этих условиях сохранить любовь, оставленную ТАМ, значило спасти себя, — наполняясь энергией этого хранения, лагерник преодолевал не только собственное одиночество, но еще и СИСТЕМУ, ибо если ГУЛАГ не в силах был забить человека до конца, следовательно, он проигрывал. Обломок человека все еще неровно дышал к своей за тысячи километров где-то сейчас живущей жене, изнемогал, так сказать, по всем направлениям… Но жил!.. Жил! И это самое главное!.. Затерявшаяся в хаосе и кровавых нагромождениях 20-го века частная историйка любви моих родителей, конечно, не нова. Но столь же и не осмыслена. Может быть, она и важна-то лишь для меня — конкретного плода этой любви, да и то, с каждым новым годом сия важность куда-то улетучивается, выветривается во времени. Человечество живет, покоряясь великой силище — забвению. Природой дано, что эта силища естественна и неодолима. Уж если из сознания то и дело уходят так называемые «события исторической важности», то что уж требовать от людей памяти про какие-то пылинки, которых давным-давно смело могучим веником Времени. Однако почему-то не хочется поддерживать этот в принципе полезный инструмент. Хочется то и дело не соглашаться с термином «пылинки» в отношении живших и страдавших на этом свете людей. Вот почему каждый рядовой документ, ими оставленный (ну, к примеру, чье-то кому-то письмишко), неминуемо с течением времени высвечивается в исторический раритет, характеризующий эпоху не хуже, чем настоящие музейные или архивные ценности. Так, хорошо облизанная ложка лагерника, хлебавшего ею баланду, для нас делается дороже любой антикварной серебряной ложки девятнадцатого века. Всякая эфемерность значений отступает перед новым качеством документа в нашем сегодняшнем восприятии, и, казалось бы, потухший в чернотах прошлого начинает в нашу сторону истово сигналить, а иногда и излучать свет.Эти стихи Некрасова так созвучны моему каждодневному настроению, моим постоянным желаниям получить от тебя, моей родной, любимой женушки, весточку! Я стараюсь много читать, читаю сейчас, несмотря на ограниченность времени, больше, куда больше прежнего. Все свободное время, которое чаще всего выкраиваю за счет сна, я читаю, стараюсь вобрать в себя побольше знаний и ума. Читаешь ли ты, моя Лидука, и что читаешь? Напиши мне об этом и о том, бываешь ли ты в театре, в кино, что смотрела, какие нынче хорошие постановки в Москве? Ликин, надо, чтоб и ты, и Марик начали учиться иностранному языку, я думаю, в первую очередь, немецкому. Я здесь, практически, с немцами, учусь, а тебя прошу выслать мне учебники. Подбирай для меня еще книги по планированию и бухгалтерскому учету, они мне очень нужны. Лидик! Прошу тебя выслать мне вещи, о которых я просил, — не в чем ходить, изорвался совсем. А в следующей посылке положи побольше сладкого и еще пришли мне яичного порошка, — говорят, что он помогает восстановлению памяти. Ну вот, пока все… Ожидаю твоих писем и твоих фотокарточек (если еще не снялась, иди сегодня же в фотографию). Крепко, крепонько целукаю тебя и сынку — твой Сема. Привет всем родным, Таньке Шварц и твоим приятельницам Мифе и Вере, а тебя, мою роднусъку, еще разик крепко целукаю отдельно от всех и очень крепонько. Т. Семука.«Не знал бы я, зачем встаю с постели,Когда б не мысль: авось и прилетелиСегодня, наконец, заветные листы,В которых мне расскажешь ты:Здорова ли? Что думаешь? Легко лиПод дальним небом дышится тебе,Грустишь ли ты, жалея прежней доли,Охотно ль повинуешься судьбе?..»
Канск, 20/V- 1941 г. Ликин, моя милая женушка! Май месяц, этот 4-й, что мы находимся в разлуке, стал для меня в этом году праздничным маем. Подумать только: за 20 дней, с 30/IV, 4 письма, посылка и бандероль с книгами от тебя, моей любимой, славной девчурки! На письмо, полученное 30/IV, я тебе уже ответил. I1/V я получил твое письмо от 25/IV и телеграмму от 23/IV (видишь, какие темпы в доставке!..). 15/Vя получил письмо от 7/V, а вчера — только от 12/V. (Последнее время письма начали быстрее пропускать через цензуру). Отвечаю тебе сразу на все: Прежде всего о свидании. Ответа на мое заявление Нач-ку Краслага от 4/V я еще не получил. Твое заявление от 12/V очевидно тоже уже поступило, — я полагаю, что на днях будет ответ. Какой только? Лелею надежду, что свидание будет на этот раз разрешено и мы, наконец, сможем увидеться. Но, если не разрешат, то я считаю, что не нужно тебе ехать «на авось», добиваться разрешения на месте. Ведь это уже 3-е мое заявление, к тому же и ты уже написала, и если теперь откажут, то вряд ли ты сумеешь получить разрешение, когда приедешь сама. Ты права в том, что нет никаких оснований к лишению нас права хотя бы на короткое свидание, тем более, что я отношусь хорошо к труду, участвую активно в общественной работе (в клубе), не имею взысканий, не нарушаю лагерного режима и проч. А вот видишь, все же трудно получить это разрешение, и дадут ли его еще? Я, со своей стороны, если и сейчас откажут, буду беспрерывно добиваться, писать к Нач-ку Краслага, и в ГУЛАГ, и Наркому, то же советую и тебе, и думаю, что, в конце концов, мы разрешение получим. Но ехать без наличия разрешения нельзя, т. к. нет уверенности, что ты добьешься положительного результата на месте. Может получиться, что только измотаешься в дороге, потратишь много денег, переволнуешься, а пользы не будет. Надо это учитывать и действовать благоразумно. Согласна ты с этим, моя мордука? Теперь насчет приезда твоего с Мариком. Лидик, милый мой, этот вопрос для меня — настоящая кровоточащая рана. Все время в мозгу сверлит этот вопрос. Лидонька, ну разве мне самому не хочется видеть нашего сына, не хочется посмотреть на него, услышать его голос, обнять его, моего кроху, поговорить с ним? Разве мне не хотелось бы, чтобы он увидел своего отца? Свидание с моим Мароником было бы для меня величайшей радостью, — ты это понимаешь, Ли дух а! Но, решая этот вопрос, нужно прежде всего исходить из целесообразности и пользы для самого нашего сына. Ведь правда? Мароник слаб здоровьем, болеет часто, ему трубно будет перенести тяжелое длительное путешествие сюда и еще более тяжелое — обратно в Москву. Здесь чрезвычайно трудно с билетами. Приходится уезжать в бесплацкартном вагоне до Красноярска, там пересадка опять, возможно, в бесплацкартный вагон. Ты представляешь себе трудности такой поездки и чем чревата она для ребенка? Можно ли подвергнуть такому испытанию нашего мальчика при его слабом здоровье? Я думаю, что нельзя. Потом. Несколько дней надо будет прожить здесь, в Канске. Как вы эти дни сумеете пробыть, как устроитесь? Если ты одна, это проще, а с ребенком? (Кстати, когда приедешь, вещи оставь на хранении на станции, а сама пойди устраиваться на жилье поближе к лагерю, у кого-нибудь на частной квартире. Только выбирай место получше, не торопись, чтобы люди были приличные, семейные, а еще лучше, если живут одни женщины, — вот приезжала здесь к одному товарищу недавно жена из Омска, так она устроилась где-то поблизости у двух пожилых женщин. Лагерь от города в 2–3 километрах, итти далеко, а, если свидания будут вечером, то и опасно). Дальше. Свидание будет бесспорно кратковременным — на 2–3 часа, не больше. Постараюсь разделить эти 2–3 часа на 2–3 встречи. Нам нужно успеть об очень многом и многом поговорить. И времени мало, и можно ли обо всем говорить при ребенке? А условия такие, что он должен будет находиться здесь же, все будет слышать, видеть… маленькая комнатка в маленьком домике для свиданий около вахты. Но если бы я даже уделил ему целиком все время нашего свидания (что, пойми, совершенно невозможно!), то и в этом случае, это время настолько мало, что у ребенка, в конце концов, останутся лишь какие-то обрывки воспоминаний о встрече с отцом, это только выбьет его из нормальной детской колеи. К тому же, это ведь будет первое наше свидание после таких тяжелых 3 ½лет. Сумеем ли мы удержать свои нервы при нашей встрече? А я не хочу, чтобы Марик увидел своего отца впервые и в таком состоянии. Будем надеяться, что в предстоящем году окончится уже мое заключение и мы встретимся не на 2–3 часа, а уж на всю нашу жизнь, наша встреча тогда будет радостной, бодрой, и если уж папка ваш и раскиснет на минуточку, то он все последующее время сможет употребить на то, чтобы рассеять в памяти ребенка эту неприглядную картину, чтобы не оставить в его памяти образ слабого, плачущего отца. Ты понимаешь меня, Лидука моя, или нет? Ты не подумай только, что я уж такой «кисель», наоборот, за эти годы, мне кажется, я возмужал, вырос, стал сильнее, но ведь надо же представить человечность нашей встречи в таких условиях, и я за себя, скажу честно, не могу поручиться, что смогу выдержать внешнее спокойствие. Разрыдаюсь, боюсь, собой перестану владеть. Надо ли все это видеть, испытать и перечувствовать нашему сынке, обладающему пылким умом и большой чувствительностью? Если, не дай боже, год пройдет, а я все еще останусь в том же положении, то тогда уже приедешь с сыном. Ну вот, я высказал все соображения по этому вопросу, — теперь слово за тобой, решай. Я надеюсь, что ты согласишься со мной, но не заподозришь меня в нежелании видеть сына. Поверь, что такое холодное, здравое рассуждение, которое я допускаю в этом деле, стоит мне очень много крови и причиняет моему сердцу нестерпимую боль, — ведь я так хочу видеть нашего мальчика! Но жизнь учит меня сдерживать свои желания и чувства, не поддаваться только голосу сердца, не сообразуя его с разумным началом. Ты спрашиваешь, Ликин, как быть с отправкой Марика и мамы на лето. Я много думал над этим и пришел к такому решению: слабость здоровья Марика, как мне кажется, имеет своим источником, прежде всего то, что он — камчадал, вывезенный на материк в слишком раннем возрасте. Сказалась перемена климата, резкое изменение атмосферного давления. Прежде чем вывозить его куда-либо на юг, тем более в жаркую Анапу, нужно показать его опытному врачу, и посоветоваться, можно ли туда его отправлять. Сделала ли ты это? Анапа — детский курорт, но хорошо ли там всем детям? Поэтому, прошу тебя, Лидоник, добиться приема у лучшего детского врача, у профессора, и только тогда уж решай вопрос об отправке Марика в тот или иной пункт. А может, как раз лучше его отправить не в Анапу, а в другое место, посевернее? Ведь мы этого с тобою не знаем, правда? Надо проверить этот вопрос и тогда уж решать окончательно. Мама больна, ей нужно обязательно лечить ногу, ты не должна связывать это с вопросом о Марике. Нужно маме опять-таки обратиться к врачам, чтобы ей назначили место, куда ехать; купить путевку и отправить ее в санаторий, где бы она смогла действительно подлечиться. Запускать такую болезнь нельзя, а она уже и без того запущена. А теперь, как же быть с Мариком, с кем он останется? Так вот, хочешь ты или нет, но я категорически настаиваю и требую, чтобы в это лето ты отдохнула и тоже полечилась. Что это за разговоры: «подожду, когда ты приедешь, тогда уж вместе отдохнем»? на меня, пожалуйста, не смотри. Я одно, ты — другое. Я не имею возможности отдыхать, а ты ее имеешь. Я могу обойтись без отдыха, так как, в конце концов, я здесь сам — один, предоставлен самому себе, а ты — сейчас глава семьи, ты обязана быть совершенно здоровой и не имеешь никакого права истязать себя в работе, растрачивать свое здоровье. Хорошенькое дело: 6-ой год без отдыха, да еще в таких жутких условиях. Опять-таки, не показывай на меня, я 3 года отсиживался и отлеживался, больше на воздухе, я лучше себя сохранил, чем ты, — тебе нужен немедленный отдых и лечение. То, что творится с твоей памятью, нервами и общим состоянием здоровья, абсолютно недопустимо в твоем молодом возрасте. Ты что же хочешь совсем себя изнурить, превратиться в инвалида? И зачем ты работаешь по 12 14 часов, что тебя гонит к этому? Нужда? К чему это может привести? К тому только, что ты потеряешь здоровье, покалечишь себя, преждевременно состаришься. Понимаю. Ты не хочешь тратить денег камчатских, бережешь до моего приезда, а доведешь себя до такого состояния, что никаких денег не хватит для восстановления здоровья, — ведь деньги не всегда могут в этом помочь, бывает поздно, подумай над этим! Лидик, любимая моя женка, я выйду отсюда, буду с тобою, будут и деньги, будет и совместный отдых и лечение. А пока что я категорически требую от тебя пожалеть себя и Марика, беречь здоровье и не слишком экономить в деньгах. Службу на лето ты должна оставить, к осени поступишь на другую работу, не беда. Летом ты будешь с Мариком вместе, поедете на курорт, отдохнете, полечитесь, и чтобы вы были у меня здоровыми, без всяких разговоров. Все это, вместе с маминым лечением будет стоить несколько тысяч рублей, так что же, ты разве не можешь разрешить себе этого? Если ты не можешь, то я разрешаю, и не только разрешаю, но требую от тебя истратить их на здоровье, чтобы они пошли вам на пользу. Сейчас сними дачу под Москвой, пусть мама с Мариком поедут туда (это — в случае, если дадут нам с тобой свидание), ты вернешься со свидания, мама поедет на свой курорт, а ты с Мариком на свой (а может быть, можно будет и всем вместе в одно место — это зависит от указания врачей). Если же свидания не дадут, то надо действовать тебе сразу, ехать уж на все лето, куда скажут врачи и тебе, и Марику. Понятно, мордуля? Ты не думай, что если я здесь, а вы там, то ты можешь самовольничать как хочешь. Еще раз прошу тебя, и настаиваю, чтобы ты на лето оставила службу и занялась основательной починкой здоровья: своего, сынкиного и маминого, — сколько бы это денег не стоило. Мой любимый мордик, моя, моя Лидуха! Как хочу я обнять тебя и крепко, крепко, как умеет это твой Семик, расиелукать тебя, — ведь ты такая хорошая и любимая! Нет, я не сомневаюсь, я знаю, что мы будем вместе на всю нашу жизнь и ничто никогда нас не разлучит. Не было на свете любви, подобно нашей, Лидука! Не унывай, моя ластонька, вся жизнь наша еще впереди, мы не такие уж старые, а бодрости и жизнерадостности у нас хватит еще на целый век! Ты, Ликин, спрашиваешь о посылке из Осташкова — я ее получил еще в марте, числа 5-го, а из Одессы — 7/V. Мордулькин, ай-ай-ай, спутала день моего рождения: 9/ VI, а не 9/V — вот видишь, как ты переутомилась. Так что немедленно берись за отдых и за лечение, ладно? Крепко, крепонько целукаю тебя и моего сынку, думаю о вас и живу только вами, только вами, моилюбимые — ваш папка Сема. Привет маме, Самуилу и всем родным.Она посылала ему посылки из разных мест, потому что если из одной Москвы, посылку отбирали. Называлось — «реквизир». То из Одессы, то из Костромы, то из Осташкова — через знакомых и через знакомых и родственников знакомых. Государство делает запреты. Народ делает всё, чтобы эти запреты обойти. Тут нужна негласная консолидация. Против НКВД, против дворников, агитаторов, против милиции. В народе их назвали «легавыми». Или — «стукачами». Кто назвал? Ищи свищи! Те, кто сидел, были фантазерами и выдумщиками. Они создали огромную «блатную» культуру — свой язык, свои песни, свои жесты и т. д. Поначалу «блатари» теснили «политических», ставили их ниже себя. Потом опомнились — «зауважали» «политических», были случаи их смыкания, когда «воры» ставили политических на месте «воров в законе», «авторитетов» — за что? За ум. За последовательность. За жизнь по понятиям, которые прививаются за колючей проволокой.
23/V- 1941 г. Дорогая Лидука!продолжаю письмо невеселым сообщением: сегодня получил извещение 2-го отдела Управления Краслага об отказе в свидании. На этот раз отказано не только мне, а вообще все свидания временно прекращены и никому не даются. 1оворят что из-за отсутствия соответствующего помещения, что вскоре отведут (или построят) специальное здание для свиданий вне лагерной зоны и тогда возобновят выдачу разрешений. Я в это дело мало верю и совсем отчаялся. Что же это такое? Мало того, что держат в заключении совершенно невиновного человека, так еще лишают его элементарных прав на свидание с женой, с которой не виделся 3 ’/ года! Завтра я отправлю жалобу на имя Наркома Вн. Дел и на имя Прокурора Союза. Ты сделай то же самое, пиши, ходи и требуй. Не может быть такого положения, чтобы нам не дали повидаться. Только не вздумай, Лидукин, приезжать без разрешения, я боюсь, что ты не сможешь его добиться на месте, тем более, если действительно правда, что свидания запрещены вообще. Если до июля м-ца не добьемся ничего, сделай так, как я уже говорил: поезжай с Мариком на дачу или на курорт (куда скажут врачи), отправляй также и маму, отдыхайте и лечитесь. Я думаю, что к осени все же дадут нам свидание, тогда приедешь. Лидукин, я получил предварительное согласие Нач-ка Финчасти на отправку тебе облигаций. Я не хочу высылать их тебе на дом, т. к. это будет ценный пакет на 4 995 рублей, а ты сообщи мне адрес и № сберкассы, и я их вышлю для тебя в ее адрес. Только сделай это поскорее. Получила ли ты мое письмо, где я посылал опись облигаций? Наводила ли ты справки в 1-м Спецотделе НКВД СССР насчет моей доверенности тебе на получение облигаций на 800 рубл., что сданы были в 1939 г. в доход государства? (Я об этом тебе уже писал подробно, — получила ли ты письмо?). Лидик, мой дорогой друг, моя любимая женушка! Ну что же делать, коли мы уж так несчастливы? Не будет же век так продолжаться. Ты права тысячу раз, когда выразила надежду на то, что наша весна еще придет и что она будет радостной и пылкой. Всю мою любовь и преданность я отдам тебе, моя Лика, моему солнышку ясному, и нам будет еще хорошо, очень хорошо, Лидука! Через несколько дней, 31-го мая исполнится 10 лет нашей женитьбы. Для нас это великий юбилейный день, мы имели право провести его вместе с тобою, с нашим сыном, в семье, в счастьи и радости. Мы незаслуженно оказались лишенными этого права, оно вернется к нам, и мы еще отпразднуем с тобой, моя любимая, не один еще юбилейный наш день! У меня отняли все, что только можно отнять у гражданина и человека, но я счастлив тем, что у меня осталась верная любящая жена, мой замечательный сынка, что вы меня любите, верите мне, и готовы ожидать своего несчастного мужа и отца. И это сознание, это ощущение вашей любви и поддержки, это твое, моя Лидуконька, доверие, вселяют в меня бодрость и силы для того, чтобы перенести все, что выпало на мою долю. Я горжусь тобой, Лидука, и люблю тебя крепче, чем когда бы то ни было. Знай, мой мординька, что ты и Марик для меня — моя жизнь, все мое будущее. Вы должны быть здоровы, чтобы дождаться меня, чтоб мы могли пожить с вами многие и многие годы. А я буду здоров, обо мне не беспокойся, я все перенесу стойко, ничто меня не сломит, ибо я знаю и имею для чего и для кого жить: для моей семьи, для тебя, моей единственной любимой, для моего сына, который должен быть прекрасным человеком! Не отчаивайся, Лидука, жизнь наша впереди, и будет нам еще много радости и счастья, мы еще с тобою повеселимся! Пиши мне чаще. Целукаю тебя и Марульку со всей супружеской и отцовской нежностью и любовью — твой Семука. Я жду к своему дню рождения, к 9/VI, твои фотокарточки и Марикины, Сема. Привет маме и всем родным.Он ревновал, представьте. Слова «он не находил себе места», сказанные в отношении лагерника, совсем уж точно передают его состояние. Но что есть ревность, как не покосившаяся любовь?.. Фундамент перестает держать здание и… крыша поехала!.. Любовь требует концентрации чувства, а чувство мечется, душа мается, сердце бьется с учащением… «Песнь песней» начинает скрежетать и дребезжать диссонансами. Жить не хочется, потому что гармонии нет. Всё-то вытерпит наш герой, но измены — нет, не снесет. Любые унижения — мелочь по сравнению с этим. В первом же письме он «дал» жене свободу, но попробовала бы она ему изменить тогда… А сейчас тем более: хоть нахожусь — ниже некуда, а — человек, у меня свое достоинство есть. Вот если перестану страдать, сделаюсь равнодушным — «ну изменила, ну и черт с тобой!», тогда и на себя можно махнуть рукой, поставить на себе крест. Ревновать — на свободе ли или в яме — всё одно: заниматься самоедством, а это занятие опасное, потому как очень уж привлекательное для голодного лагерника. К тем кошмарам, которые он имеет «по закону», добавляются совершенно иные муки и звуки, действующие не менее разрушительно. Куда уж больше бедному страдальцу?! Ан нет, еще и это. Крепок узник своим стоицизмом, но когда его еще и снедает, снедает, снедает страсть, — плохи его дела, не позавидуешь. Вот уж когда он тает на глазах, не только от отсутствия жиров в пище. Какую надо дикую иметь волю к жизни, чтобы и тут устоять. Влюбленный узник пылает любовью стократ ярче, чем это было бы на воле, а уж ревностью сжигает себя дотла начисто, до горстки пепла в своем бараке. Сначала тревога дразнит, потом кусает, рвет на части, действует всепоглощающе и душераздирающе… Жизнь в реальности, которая и без того фантасмагорична (но — привык, начал привыкать!), заменяется на жизнь во впечатлениях, видениях, мнимостях… Вот бы собрать воедино все сны всех узников ГУЛАГа — мощная бы кинолента получилась бы. Такое в Каннах не приснится, что снилось моему отцу в Канске!.. Реальность отступает — а это ведь только и нужно узнику. Ревность плодоносит: бытие срастается с небытием. Он ревновал — значит, любил. Значит, жил. Значит, был.
Зам. Нач. Опер. Чек. Отдела При Управлении Краслага НКВД Гэ-ну Янковскому От ЗК Шлиндмана Семена Михайловича Канский ОЛП, бриг. 5 ЗАЯВЛЕНИЕ Я плановик-экономист, работал с ноября м-ца 1935 г. в г. Петропавловске на Камчатке Нач-ком Планового отдела треста «Камчатстрой». 3/XII — 1937 г. я был арестован и мне предъявили обвинение по ст. 58, п.п. 1-а, 7, 8 и 11. Следствие велось почти три года, a 10/IX — 1940 г. мне было объявлено решение Особого Совещания при НКВД СССР о заключении меня в ИТЛ сроком на 8 лет «за участие в антисоветской право-троцкистской организации», в которой я никогда не состоял, и не мог, как честный советский человек состоять, и о существовании которой ничего не знал. Я уверен, что это решение будет пересмотрено (1-й Спецотдел НКВД СССР в марте м-це 1941 г. сообщил, что мое ходатайство о пересмотре дела передано в Секретариат Особого Совещания), так как не может быть такого положения, чтобы честный человек был бы оклеветан и осужден за совершение тягчайшего преотупления, которого он не совершал, и чтобы в этом в конце концов не разобрались. Поэтому прошу вас не смотреть на меня как на действительного преступника-троцкиста, ибо я им никогда не был и не буду В свете этого мне совершенно непонятно, почему мне трижды отказывают в свидании с женой и ребенком (последний отказ от 2-го Отдела Упр-я Краслага я получил 21-го с.м.). 3 7 года я уже не виделся со своей семьей. Жена моя обращалась в ГУЛАГ НКВД СССР, но ей ответили, что вопрос о свиданиях разрешается на месте, т е. в Управлении Краслага (письмо жены от 11/V с.г. прилагаю). Она пишет, что будет ждать до середины июня, а потом все равно приедет и будет добиваться разрешения. Что я. могу сделать, — ведь и мое, и ее желание увидеться вполне законно. Я работаю в Финчасти ОЛП счетоводом, никаких замечаний и взысканий не имею, выполняю все правила лагрежима, участвую в общественной клубной работе; — и с этой стороны нет оснований лишать меня свидания. В дополнение к моему устному обращению к вам, прошу вас рассмотреть мое заявление и разрешить мне свидание с женой и ребенком. Жена моя — Котопулло Лидия Михайловна, инженер-конструктор, работает в проектной мастерской, живет в г. Москве, уп. Петровка, д. № 26, кв. 50. Сыну Марику — 4 года. Очень прошу вас не отказать в моей просьбе. Зк С. Шлиндман 24/V- 1941 г. РЕЗОЛЮЦИЯ: т. Прохоров! Объявите, что по данным УРО ему может быть представлено свиданье не раньше 15/VI — 41 г. Р. S. Письмо возвратите адресату.
Канск, 1/VI — 1941 г. Любимая Лидука, дорогой мой сыночек? За эту прошедшую неделю у меня произошло много событий. Прежде всего насчет свидания: 23-го числа я обратился лично к Зам. Нач. Опер. — Чек. Отдела при Управлении Краслага Янковскому с вопросом, почему мне отказывают в свидании; он меня расспросил, как да что, и заявил, что не видит оснований к недаче разрешения. Назавтра утром я отправил ему письменное заявление, и в тот же день, вечером, он встретил меня в зоне и сказал, что вопрос уже разрешен положительно, свидание получу. На моем заявлении он написал резолюцию, что, согласно установке УРО (2-ой Отдел Управления), свидание мне будет разрешено 15/VI. 26-го же, вечером, я вновь встретил его, спросил, как и когда будет официально оформлено разрешение, на что он ответил, что мне свидание будет разрешено бесспорно, что я могу уже написать тебе об этом, и ты можешь приезжать во второй половине июня. Когда я ему указал на то, что, насколько мне известно, сейчас вообще не дают свиданий из-за отсутствия, якобы, соответствующего помещения в лагпункте, он ответил, что меня это не касается: раз свидание разрешено, то помещение будет, пусть, говорит, ваша жена приедет, а если только свидания не дадут, пусть обратится ко мне. Я вновь спросил у него, могу ли я писать тебе, чтоб ты выезжала, и он вновь подтвердил, что могу. И вот я не знаю, как же поступить теперь: выезжать тебе или нет, — ведь официального-то разрешения пока что нет. 5-го числа я подам заявление Нач-ку УРО, но боюсь, не откажут ли вновь. За последнее время уже были случаи, когда приезжали жены на разрешенное свидание, но уезжали ни с чем обратно — свидания не дали — нет помещения. Как бы не вышло и с тобою так же, — вот чего я боюсь. Но, с другой стороны, зам. Нач. Опер. — Чек. Отдела управления — лицо вполне официальное, и он не должен был бы, кажется, безосновательно делать такое заявление и подводить нас. Я думаю, нужно сделать так, ты приготовься к отъезду с тем, чтобы, как только получишь мою телеграмму о разрешении свидания, сразу сумела выехать. Но до этого, я считаю, выезжать нельзя, — слишком рискованно. Когда приедешь в Канск, и если будут какие-либо тормозы в предоставлении свидания, обращайся к Янковскому. Надеюсь, что свидание будет, состоится, и мы, наконец, увидимся. Как я жажду этого момента, моя любимая женушка! 2-е событие: 27/V неожиданно для меня, как это вообще случается в лагере, меня перевели на общие работы. Вот уже 5 дней, как работаю на шпалорезке, катаю Баланы, гружу шпалы и т. п. Эти 5 дней стоят мне года жизни. Работа для меня совершенно непосильная, я надрываюсь, выбиваюсь из сил. Дважды за эти 5 дней меня врач освобождал от работы: с сердцем было плохо, ноги распухли, вены вздулись, голова адски болела, вчера и температура поднималась. Нормы очень высокие, работа тяжелая, с 6-ти утра до 6-ти вечера, с часовым перерывом на обед, а с завтрашнего дня переходим на 12-ти часовой рабочий день, чтобы заработать свою пайку хлеба и 2-ой котел из кухни (т. е. 2 баланды и 2 каши в день), нужно крепко жилиться. Сейчас как раз начался сплавной сезон, работа на производстве кипит, бригады соревнуются, ребята крепко работают, а я не могу за ними угнаться. Позавчера я выработал 115 % нормы, но, Лидука, чего мне это стоило, если б ты только знала. Боюсь, что долго такой работы я не смогу выдержать. Но вчера меня вызывал вечером Нач. финчасти Коркин и сказал, что в понедельник, т. е. завтра, меня оформят обратно в Финчасть на постоянную работу, и со вторника, или со среды, я вновь выйду на работу в контору. Будет ли это или нет, я не уверен, но пока что очень трудно. Дорогая моя Лидука! Сегодня — 4/VI — продолжаю письмо, т. к. все эти дни писать не мог. Наконец-то, с сегодняшнего дня, я вновь возвращен на работу в Финчасть, начал оживать понемногу, но чувствую себя совсем разбитым. Устал за эти дни, что ходил на общие работы, чертовски, болят руки и ноги. Думаю, что теперь на некоторое время меня тревожить не будут с этой работы, — было бы хорошо. Вернулся благодаря требованию Нач-ка Финчасти, который доволен моей работой, а переводили меня без его ведома (не только одного меня, а целый ряд работников других частей аппарата ОЛП, т. к. не хватает рабсилы на производстве). Ты не волнуйся за меня, я здоров, в несколько дней постараюсь оправиться совершенно. Я знаю, как трудно с отправкой посылок, но как только будет возможность, вышли, т. к. ощущаю большую потребность в дополнительном питании, да и с вещами плохо, штанов нет, не могу прилично одеться. Еще одна у меня есть забота: сейчас формируется этап в Норильск, так я сильно бьюсь, как бы и меня не отправили. Если пройдет благополучно, то все будет вообще в порядке. Я полагаю, что меня не могут отправить по состоянию здоровья — не подойду, туда требуются только здоровые люди, ввиду тяжелых климатических условий. Это ведь очень далеко, туда уж на свидание приехать нельзя будет. Но сейчас рано говорить об этом, будем надеяться, что «сия чаша минует нас»… Лидик, я сегодня получил твое письмо от 21/V. Спасибо, что подробно рассказываешь о себе и Марике. Лидик! Я бы хотел, чтобы ты меньше работала. Ну, скажи, зачем тебе работать чуть ли не по 2 смены? Деньги тебе, что ли нужны? Нет, ты их имеешь и можешь расходовать. Не береги их до моего приезда, он может быть не таким скорым, как нам этого хочется, а приеду — тогда будут и деньги, ведь мы умеем работать и всегда заработаем на то, что нам нужно. Надо сохранять здоровье, а значит и жизнь, надо воспитывать сына. К чему вся твоя работа, все твои заработки, когда ты вваливаешься домой чуть жива, сына фактически не видишь, себя изматываешь до крайности, к чему? Что пользы в этом? Надо построить жизнь несколько иначе. Лучше будет, поверь мне, если ты сможешь вечерами быть дома, отдохнуть, уделить время и себе и Марику, — больше будет радости в жизни и сейчас и позже. Не так ли, моя дорогая? По поводу отправки Марика в Анапу я уже писал тебе. Повторяю: без совета компетентного врача не отправляй. Я опасаюсь, что южная жара может плохо отразиться на Марике, нельзя ему резко менять климат. Не лучше ли все же поехать на подмосковную дачу? Маму отправь на курорт, чтоб она полечилась — это необходимо для ее ноги. Сама оставь на лето работу и поезжай с Мариком, найми в помощь домработницу. Отдохни, пожалуйста, основательно за это лето, чтоб зимой могла хорошо работать, и чтобы была здоровой. Только так надо сделать — это мое мнение. Если врач разрешит выехать в Анапу или порекомендует другое место, то и ты поезжай с Мариком. За работу не бойся, если не эта, то найдешь другую. Только не бойся потратить лишнюю копейку. Напиши мне, в какую (адрес и. №) сберкассу выслать тебе облигации на 4995 руб., они уже поступили сюда и я хочу отправить их тебе. Денег немного можешь мне выслать, рублей 250, больше не надо пока что. Ликин! 31/V исполнилось 10 лет. Как тяжело быть нам в такой горькой разлуке! но не для того же прошло 10 лет, чтобы нам больше не видеть счастья и радости в нашей совместной жизни, — мы еще поживем хорошо, и не один еще наш юбилейный день отпразднуем вместе! Не унывай, Лидука, будь бодрой, «в нашей жизни будет еще много раз весна!» Дорогая моя женушка! Как хочу я поскорей обнять тебя, любимую, прижать крепонько к своему сердцу, целовать тебя горячо и нежно, со всей моей любовью ты скоро приедешь ко мне, я уж не дождусь этого дня. Лидик, когда приедешь, позвони из города по коммутатору лагпункта в Финчасть и попроси меня, мы сразу сможем поговорить. Я на работе бываю с 8 ч. 30 м. до 12 ч. дня, с 1 ч. дня до 5 ч. 30 м. вечера и с 9 ч. вечера до 11 ч. ночи, — в это время и звони, меня тут же позовут к телефону, просто проси Шлиндмана, спросят откуда, скажи «из Управления» или «из Финотдела». Лидоник! Ты давно не присылала мне фотографий Марика, а своих все так и не шлешь. Почему? Книги я получил, что выслала, и песенник, — высылай мне еще, только посерьезней что-нибудь, не такие брошюрки, а учебники по планированию и бухгалтерскому учету. В посылках, что будешь высылать мне, посылай витамин «С» и побольше сахару и сладостей, может, можно яблочек, варенья. Масло пришли топленое, а сало, колбасу — копченые, т к. сейчас лето, чтобы не испортилось. Нужны еще мне носки, т. к. то, что было — изорвал. Ликин, заявление свое ты правильно адресовала, т. к. Управление Краслага находится в Канске, а не в Красноярске. Получила ли ты уже ответ? Пора. Я все же, на этот раз, предчувствую, что ты приедешь числа 20–25, и мы увидимся во что бы то ни стало. Правда, моя любимая? Береги себя и сына, слушайтесь своего папку, я вас, моих любимых, крепко целукаю, крепко, крепко, Ваш Сема. Привет родным и Самуилу. Когда приедешь ко мне, прошу тебя сказать заранее об этом моей маме. Целукаю еще и еще — твой Семука.Они не увиделись. В свидании было отказано. Отец. Я, конечно, выругался, когда узнал. Янковский — мимо ушей, не прореагировал даже. Сказал только, что он не начальник, а заместитель начальника. Я понял, что не всё в его силах. Он был хороший человек. Я. Мама, а ты, наверное, тоже расстроилась? Мама. Нет. Я. Это почему? Мама. Во-первых, я привыкла расстраиваться и уже не расстраивалась. Во-вторых, у меня не было денег ехать в Сибирь. Все деньги, которые я собрала в этот момент, ушли на поездку мамы с Мариком в Анапу. А тут еще случилось: мы поехали на вокзал с вещами, втроем плюс Самуил, — и машина, в которой мы находились, по дороге разбилась, в нее врезался грузовик… только мы отъехали, на Цветном бульваре… Слава богу, у нас ни одной царапины. Но на поезд мы опоздали, билеты пропали, а это деньги!.. Пришлось заново доставать и по второму разу платить. Беда одна не приходит. А мне хотелось их на все лето отправить. Анапа же детский курорт, и Марику он был совершенно необходим…
15/VI — 41 г. Москва. Сегодня 15-е июня. Прошло десять лет, как мы женаты. Вот время! Десять лет — это уже не мало, правда? Как мы постарели за эти годы… Сколько горя пришлось перенести и тебе, и мне. Но были у нас и радостные, хорошие времена. Я вспоминаю первый наш месяц в Искитиме, мои студенческие дни в тяжелые годы, но отчасти облегчаемые твоими заботами, вспоминаю как мы обедали через день в твоей столовой и как нам было хорошо. Так скромно, трудолюбиво жили мы и все мечтали о нашем будущем, о том, как я кончу институт, как мы заимеем сына, и тогда нам будет так хорошо, хорошо. Но это были только мечты, — колесо жизни стало вертеться в другую сторону. С рождением сына — с таким, можно сказать, самым радостным событием в нашей жизни, — пришли все напасти и горести. Как обидно… Ведь по существу, мы еще не жили как следует. А годы проходят, — каждый прошедший день свидетельствует о приближении смерти… Часто мне кажется, что я уже совсем старуха, не верится, что я смогу еще увидеть светлую жизнь, быть вместе с тобой, растить нашего сынку. Все кажется, что не дождусь я этого, — так мучительно долго и тяжело проходит время. Ну вот опять я заныла… Дорогой мой, Семука, только ты не падай духом… Еще и мы поживем! Что делать с моим приездом к тебе? Ехать ли без разрешения или ждать еще и сколько? Меня беспокоит твое здоровье. 11-го числа я отправила свое семейство в Анапу. На этот раз все обошлось хорошо. Марик уехал в хорошем настроении. Утром 11-го числа пошла на вокзал узнать, как и на когда можно достать билет, т. к. в последние дни погоды в Москве стали лучше и сразу оказалось много желающих ехать. Достать билет на вокзале было невозможно, тысячная толпа к кассе, пыталась по телефону заказать билет за 3-ое суток, но безуспешно, т. к. в течении 50-минутного беспрерывного набирания телефона, — мне не удалось соединиться с Бюро заказов. Вернулась я на работу в страшном отчаянии, было так досадно, что приходится в пыли и в сырой комнате томить ребенка и досадно еще за этот случай с машиной, который послужил причиной оттяжки отъезда мамы с Мариком. Кончилось тем, что мир оказался не без добрых людей. В семь часов вечера мне принесли билет в мягком вагоне, достал мне его наш гл. архитектор через Главк по брони. Я была счастлива и понеслась домой собирать в дорогу, т. к. поезд уходил в 12 ч. 15 м. ночи. Все успела сделать, приготовила еду в дорогу и опять же с Самуилом отправились мы провожать. Марик чувствовал себя превосходно, очень беспокоился, что я могу остаться в вагоне и уехать с ними, все твердил мне «ну, мама, выходи скорее». В купе с ними ехали еще две женщины с девочкой тоже до тоннельной и один военный до Ростова. Попутчики хорошие и я думаю, что ехать им было не плохо. Вчера получила телеграмму, что приехали благополучно и Марик здоров. Еще была открытка с дороги, в которой мама пишет, что на утро Марик проснулся и объявил, что ему снилась мамочка, как она бежала за поездом, и что он боялся, чтобы она не упала под поезд. Моя кроха, я уже начинаю скучать. Вот сегодня выходной, целый день одна, не с кем слова сказать — единственное живое существо в комнате, — это золотая рыбка в аквариуме Марика, да и та нема. Тишина адская, — мерно тикает будильник. Началась моя холостяцкая жизнь с скитаниями по столовкам и проч. Но мне это не страшно — было бы только хорошо Марику в Анапе. Я напишу тебе, как они устроились там, кажется мне, что им будет там не плохо. О своем отпуске я пока не думаю, будет видно после того, как я приеду от тебя. Семик, я послала тебе посылку из Нальвы (с Мифой), но не вложила в нее записку с описью содержимого. Пишу, что послала: 1. Брюки — коричневые новые 2. Гимнастерка твоя синяя суконная 3. Туфли коричневые новые 4. Носки 1 пара 5. Рубашка белая — апаше 6. Джемпер (я его немного сама носила, но он мужской) 7. Резинки для носок 8. Пенснэ 9. Папиросные гильзы — 500 штук 10. Машинка для набивки гильз 11. Табак — 200 гр. 12. Сгущенное молоко 1 банка 13. Крекер — коробка 14. Конфеты в коробке 15. Бульонные кубики — 28 шт. 16. Сахар — 500 гр. 17. Лимонная кислота 1 тюбик 18. 2 галстука 79. Конфет разных 1200 гр. 20. Изюм 100 гр. 21. Грецких орехов 15 шт. Вот всего понемногу, что можно было впихнуть в ящик и то вышло больше восьми кило на 600 гр. Мифа пишет, что насилу уговорила принять посылку. На днях уезжает еще одна приятельница в Харьков, — пошлю еще чего-нибудь вкусненького тебе. Напиши — употребляешь ли ты бульон, кубики и посылать ли еще их. Как джемпер, носишь ли и нужны ли тебе еще рубашки? Получил ли бандероль с нотами? Облигации адресуй в сберкассу 5288/0134 — ул. Горького д. 17, счет № 31714 — это номер сберкнижки. Получил ли ты письмо от тети Таси, она тебе послала уже второе. Она все болеет, годы и тяжелая жизнь сказываются. Я не помню, писала ли я тебе, что у Нинзы было большое горе, она потеряла Реночку. Еще в 1938 году она болела дифтеритом и умерла. Сейчас у них растет вторая дочка Марточка — толстая хорошая девочка. Марика перед отъездом сфотографировала, когда будут готовы карточки — пришлю тебе. Сама все не выберусь сняться, то некогда, то не в порядке, ты не обижайся — приеду наглядишься в оригинал. Особенно и смотреть не на что — плохая я стала и некрасивая — старею. Иногда хочется примолодиться — подкрашу губки, — но все не то. Приедешь, тогда и будем молодеть. Ну пока — кончаю. Целую тебя крепко, крепко. Твоя Лика.В этом последнем предвоенном письме мама проговаривается — «каждый прошедший день свидетельствует о приближении смерти… Часто мне кажется, что я уже совсем старуха, не верится, что я смогу еще увидеть светлую жизнь» — и в самом конце: «плохая я стала и некрасивая — старею… хочется примолодиться…». Слова понятные и объяснимые… Можно не придавать им значения, поскольку женский комплекс тих и искренен. Но это если не знать финала истории любви в сталинское время. Все остальное — вопиет само (особенно список вещей в посылке) и потому в комментариях не нуждается. Мама сейчас вроде даже как-то успокоилась. Отправила «семейство» на курорт. Но тут — бах! — началась Война.
* * *
Завязка — это что?.. Это то, с чего начинается история, то, откуда берет старт и разворачивается основной сюжет… В нашем случае это — арест отца, обвинение, дело и его обстоятельства, допросы и, наконец, приговор. Завязка затянулась. Потому что следствие шло целых два года. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. И, я считаю, отец победил в этой борьбе. Он, во-первых, не сдался, не признался, не сломался. А ведь вполне мог и «вышку» получить!.. Он проявил характер и сыграл свою роль на полной самоотдаче. Он выиграл первый раунд, цена этого выигрыша — жизнь. Отец. Да, я не сдох… пока что. Мама. А я устала. Я не уходила в отпуск в эти три года. Ох, как же я устала. Я. В этом месте разрешите объявить антракт, чтобы зритель мог чуток отвлечься от чтения вслух давно написанных писем. Но я остаюсь на сцене, потому что мне хочется остановить это замечательное довоенное время. Мне четыре годика стукнет в апреле, а маме через день после моего дня рождения… мама, сколько? Мама. Тридцать один. Отец. А мне в мае тридцать шесть. Я. Молодые еще. В самом соку. И любовь их продолжится. И то, что кануло в Лету, вдруг заживет, затрепещет, как флаг на ветру… Мама. Время развевающихся флагов… Отец. Время еще не оборвавшихся, не обрушившихся чувств. Годы войны… В театре войну показывают записанными звуками — громыханием пушечных выстрелов, стрекотом пулеметов, гулом самолетов, пуканьем взрывов… Это всё фон. А фон — это не главное. Главное на войне — страх. Страх быть убитым. И страх тих. И письма военных лет тихие. Потому что личные, а значит, сокровенные, в них все припрятано, таится и светится, светится и таится… Мама. Я писала Семе много, почти каждый день. Но эти письма — почти все — потеряны, сохранить их было трудно. Отец. Когда шмонали, в первую очередь отбирали письма. Самое дорогое. Мама. Он рвался на фронт. Они там все рвались. Хотели доказать, что все они патриоты. Отец. Не все. Некоторые говорили: нам повезло, что мы сидим. Авось выживем. Или: уж лучше свои пусть убьют, чем немцы. И возникали споры: нет, немца я тоже смогу убить, а тут своего вряд ли. Так что на фронте оно лучше погибать. И тогда возникал кто-то: а за что погибать?.. За Родину, за Сталина?.. Так мы и тут за них погибаем! Мама. У нас так вопрос не стоял. Я рыла рвы под Москвой, зажигалки тушила на крыше, очень, между прочим, боялась этих зажигалок… Они вонючие, со специфическим запахом, а я их на лопату — и в бочку с водой… Даже интересно: потушу — не потушу?.. Каждая со своим характером… бывали зажигалки злые — те, что шипели и не поддавались, а бывали и добрые, которые уже на лопате гасли… Я. Было страшно? Мама. Сначала да, потом попривыкла… Но самое страшное на войне — сказать? Я. Скажи. Мама. Это паника. Этот день в Москве я запомнила. Когда все побежали!.. И в первых рядах коммунисты, начальники… на своих машинах… на грузовиках… я даже подумала: откуда у них столько личных грузовиков?!. Я. А ты где была?.. Сама не пыталась бежать?.. Мама. Я стояла, как столб, на Петровке и смотрела. Все орут, все бегут, все куда-то едут… А я, дура, на работу стою голосую… Мне все хотелось на работу попасть, но в тот день в Москве никто не работал. Из учреждений только ящики какие-то выносили, шкафы на тротуаре бросали… Бумаги, папки — всё по воздуху летит… через мостовую… и кошка какая-то с перебитой лапой противно так мяучит и ковыляет… И вдруг тишина. Будто все уехали. Никого в городе будто. Я одна. Вот это страшно. Я. А потом, когда паника кончилась? Мама. Повылезли все. Постепенно. И как ни в чем не бывало… Заработали. Я. А те, кто уехал, вернулись? Мама. Кто успел удрать — их след простыл. А кто не успел — так до победы и дотяпал. Отец. А у нас… многие не дотяпали. Те, кого пустили на фронт, попали по путевке в штрафбаты и там… оттуда только на луну… а те, кто вроде меня писал заявления, но остался в бараке, уже не рыпались, как говорится, ковали победу в глубоком тылу. Очень глубоком! Я. Мерзли? Отец. Бывало. Я. Дрались? Отец. Случалось. Я. Я имею в виду, с «урками», с «блатарями»? Отец. Что я, фраер, что ли? Я. Значит, ты не был «фраером». Но ведь ты был «политическим». Отец. Ну, был. Ну и что? Я. Я читал, что уголовники в лагере терроризировали «политических». Отец. Бывало. Кого как. Я. Но с тобой… как с тобой обходились? Отец. Да никак. Я. Как ко всем? Отец. Как ко всем. Я. Чем же ты это заслужил? Отец. Я не заслужил, а просто… жил. Я. А подробней?.. Ну, не молчи. Расскажи подробности. Отец. Ну, какие в той жизни подробности?.. Там всё однообразно. Я. И ничего не происходит? Отец. Абсолютно ничего. Только люди мрут как мухи, каждый день, каждый день… Я. И к этому привыкаешь? Отец. Кто как. Я. А ты… ты? Отец. И я. Чем я лучше других? Я. Не знаю. Отец. Вот и я не знаю. Там надо было просто жить и просто оставаться человеком. Я. Но это непросто! Отец. Кому как. Я. Почему ты не хочешь мне ничего рассказывать? Отец. А зачем? Я. Я хочу знать. Отец. Лучше не знать. Я. Как кому. Отец (смеясь). Много будешь знать — скоро состаришься. Я. Я стар. Я уже много старше тебя. И все равно… мне надо знать. Отец. О чем?.. Все давно и так известно. Я. Всё, да не всё. Отец. Тут ты многого хочешь. Ты думаешь, что-то изменилось?.. Ничего не изменилось. Так что… Попридержи язык, сынок, а то… Я. А то — что? Отец. А то получишь от жизни, как я. Вот в чем было дело!.. Оказывается, он берёг меня от распознания зла, «подробности» которого ему были хорошо известны. Лучше, чем мне. Он по-отечески предупреждал меня об угрозах, могущих поломать жизнь, сократить ее на четверть или вполовину, как это произошло с ним самим. Так многоопытный тигр защищает котенка — инстинкт природный, и потому, как знак сплочения старшего с младшим, родителя с ребенком, — до трогательности наивен, до восхищения прекрасен… Однако сталинщина при условии своей возможной реинкарнации, которую отец чувствовал своей отбитой в пытках селезенкой, могла бы гордиться тем, что бывший зэк ЗАПОМНИЛ ЭТО, то есть то, что система сделала с человеком, уняв его свободолюбие, предварительно отняв свободу. Тут результат налицо, хотя по сути победа над человеком не одержана. Наоборот! Это Человек побеждает, ибо даже свой негативный опыт обращает к сохранению потомства. И самое потрясающее — он при этом послушный судьбе стоик, смиренный, ни на что не претендующий «один из всех» и «такой же, как все», кто с ним рядом. Только одного требовала его душа — взыскания справедливости. Тут он был неугомонен, как та мышка, попавшая в молоко и взбившая своими лапками его в сметану. Потому и выбралась… Отец воевал. Но у него была своя война, свои окопы и фронты. Он бился за свою свободу и день и ночь, и день и ночь… Доказательства? Вот доказательства. Читайте письма. Белая стена становится пятнистой, как маскировочный халат. Война началась. Война продолжилась.Канск, 15/VII — 1941 г. Моя дорогая Лидука, мой родной Марик! Давно я вам не писал и ничего от вас не получал, но это не от меня зависело. Сейчас я буду редко писать, и, может быть, долго, очень долго вы не получите от меня писем, как и я не получу ваших. Ты, моя любимая, не беспокойся обо мне, я жив, здоров, со мной ничего плохого не может случиться. Было время, что ты долго не имела обо мне никаких вестей, это время прошло, а сейчас надо будет возможно привыкать вновь к такому же положению. Знай, моя родная, что я помню и думаю только о тебе и сыне и о судьбе моей любимой Советской Родины. Как больно, что не могу участвовать в боях с зверскими фашистами, — я б не пожалел своей жизни. Я подал заявление на имя Наркома, сегодня пошлю еще в Госуд. Комитет обороны, о посылке меня на фронт. Но пошлют ли? Моя дорогая женушка! Теперь, как никогда, требуется, чтобы ты, глава нашей семьи, сохранила разум, спокойствие и присутствие духа. Не теряйся пред трудностями, береги себя и сына, будь совершенно спокойной, — это главное. Я глубоко уверен в том, что фашистам не пройти по нашей земле, они будут разбиты и уничтожены, и тогда наша страна заживет еще более радостной и веселой жизнью. Я вернусь домой, к вам, моим любимым, и нам будет хорошо. Лидука, ты пиши мне возможно чаще, так, как писала все последнее время, я думаю, что все твои письма я получу все-таки. Неполучение их я считаю временным явлением, но готовлюсь к длительному отсутствию их. Прошу тебя, с получением сего, и впредь аккуратно каждый месяц высылать мне перевод в 50 рублей, — это будет для меня весточкой от тебя. Твои посылки из Орловской области и Харькова я получил, большое, большое тебе, родная, спасибо. Если будет возможность, высылай мне съедобного. Стеклянную посуду не надо, т. к. она бьется в посылке, — баночка с маслом разбилась. Я сейчас нуждаюсь в жирах и в сладком, все это, я знаю, трудно достать и дорого, прости, что я прошу об этом, но ты не часто, изредка, по возможности, ни в коем случае не отрывая от себя и Марика, посылай, что можно, — это будет большой поддержкой. За последнее время я получил посылки также от Паши из Сталинграда и Новой Мацесты. Родная моя Лидука! Я все питаю себя надеждой, что ты не отправляла Марика и маму в Анапу. Этот тяжелый случай с машиной меня очень взволновал, но. с другой стороны, я думаю, что благодаря ему ты их не отправила. А если они поехали, то как вернулись? Я задаю вопросы, но не знаю, получу ли ответы на них… еще раз, родная моя, прошу тебя писать и писать мне. Если не попадут ко мне твои письма, то я буду получать хоть переводы денежные. Кто из наших родных пошел на фронт? Как они, как вы, мои дорогие? Держитесь, мои родные, крепче друг друга, в тяжелое время так легче будет при взаимной поддержке. Последний месяц я работаю на производстве, даю до 160 % производительности труда, мне это очень тяжело, но я стараюсь. Плохо у меня с парапроктитом и гайморитом, думаю, что надо оперироваться. Не волнуйся, моя любимая, это пустяковые операции, я перенесу их легко, но зато буду здоровым. Главное — здоровье. Берегите его во что бы то ни стало. Недавно, в начале месяца, чуть не уехал на Север, по первому назначению. Уже собрался было, но отставили. Это хорошо, я доволен. Что слышно с моим делом? 12-го числа этого месяца я получил извещение, что пошло на пересмотр в Секретариат Совещания. Это ведь уже вторично я получаю такое извещение, — первое было в конце марта. Надо все же шуровать покрепче, не терять надежды на справедливый и правильный исход дела. Деньги мне, по 50 рубл., переводи почтой и в бланке для письма коротенько сообщай о своем здоровье и о сыне, о маме, о всех родных. Живите и будьте здоровы, мои дорогие, моя любовь должна охранять вас от всяких несчастий. Будь разумной и бодрой, моя родная любимая девочка! Тяжелые испытания надо перенести мужественно, не теряя головы. Целую и обнимаю тебя и сынку. Тепло и бесконечно Ваш Сема. Горячий привет маме, Самуилу с семьей и всем родным. Еще раз крепко целую и надеюсь на ваше благополучие. Твой Семука.Из письма отца ясно — он не знал, что я с бабушкой уже в Анапе. Но заявление с просьбой послать его на фронт было написано и сразу послано по разным адресам. Это говорит лишь об одном — он не желал отсиживаться в тылу, где ему было предписано именно отсиживаться. Теперь стало ясно: война разорвала нашу семью уже не на две, а на три части. Вернуться в Москву было невозможно, поскольку в столицу с первых дней войны были введены пропуска. О том, что было дальше, мама описала в подробном письме моему другу Юрию Клепикову — блестящему сценаристу, автору таких знаменитых фильмов, как «Ася-хромоножка», «Мама вышла замуж», «Пацаны» и др. (мы с ним вместе учились на одной стипендии на Высших сценарных курсах в середине шестидесятых годов), интересовавшемуся историей жизни и судьбы моих родителей. Отрывок из этого маминого письма (к нему я еще вернусь) пусть будет здесь опубликован.
«В Москве мы жили в полуподвале, сырой коммунальной квартире. Марик почти все время болел. Все камчатские скопленные деньги уходили на его уход, питание и врачей, чтобы как-то укрепить его организм. В 41-м году, за 10 дней до начала войны, я отправила Марика с мамой в Анапу (это моя родина, где я и мама родились) — детский курорт, на все лето. Анапа — это не Крым, а Северный Кавказ. Если по географии, то так 22-го июня, в 12 часов, отправляя очередную продуктовую посылку мужу, я услышала по репродуктору на Трубной площади голос Молотова о начале войны. Сразу же я дала телеграмму маме, в Анапу, чтобы выезжала обратно в Москву. А там в Анапе была паника, билетов нет, народ скопился на выезд, все женщины с детьми. Железная дорога к Анапе не подходит. Отправление через ближайшую станцию Тоннельную — в 40 км от города, по направлению к Новороссийску. Мама ответила «выехать не могу, не беспокойся, враг будет разбит». И такие письма шли ко мне в Москву в течение целого месяца. Несмотря на мои и требования и просьбы вернуться, мама оптимистически оценивала обстановку и храбрилась. Хотя паника и схлынула, народ, в основном разъехался, жить было тогда в Анапе превосходно. Все дешево, продуктов много, изобилие, т. к. подготовка к курорту в городе превосходила все потребности наличного населения. Это было большим соблазном для мамы, т. к. основная цель пребывания там — была закалка у моря тогда еще слабого ребенка, которому еще не исполнилось 5 лет. Маме казалось, что «мы настолько сильны, что можем победить скоро немцев, ведь финская война была всего два месяца». Так она рассуждала. А я в Москве думала об этом иначе, но писать ей «не обольщайся» — боялась. Через месяц после начала войны — в Москву был запрет на въезд, а особливо с детьми. Нужен был специальный пропуск. Детей эвакуировали из Москвы принудительно. Шпо время, фашисты подбирались к Крыму, заняли много городов, начались бомбежки и Анапы. Жить там было уже опасно. Рыли траншеи в каждом дворе, прятались во время тревог, осколки сыпались градом. Жертвы бомбежек стали реальными. Одна тревога сменяла другую. Связь моя с Анапой часто прерывалась. Хотя я и писала им почти ежедневно, но часть почты пропадала. Я послала им теплые вещи, обувь, зимние пальто. Мама с Мариком в Анапе вынуждены были прожить 1,5 года. Ежемесячно посылала деньги, 200 руб, которые у меня тянулись еще после Камчатки, на сбер. книжке. Питание там было дешевое, народу мало. А жила мама уже не на частной квартире, как в начале, а у родственников, где было еще двое детей. Это жена маминого брата. Она работала в госпитале и раздобывала продукты, а мама обслуживала всю семью. И вот немцы взяли уже Керчь, начались обстрелы, ведь это было уже совсем близко от Анапы (через Керч. пролив по низкому побережью). Угроза надвигалась с каждым днем. Доходили уже и кошмарные слухи, как немцы бросают в колодцы еврейских детей. Мама приняла решение уезжать из Анапы, она почувствовала всю ответственность за Марика, металась, а выехать было уже и там трудно. И куда? В Москву — запрет. Средств мало, кругом только деньги и взятки. В это время я в Москве встретилась с родственником моей близкой подруги, который приехал на побывку с фронта на несколько дней. Он увидел мое состояние, я дошла до галлюцинаций, не могла ничего придумать, Москву бомбили также. Уезжать я не могла решиться, т. к. боялась потерять связь с мамой. Короче говоря, этот человек уехал на фронт, обещая мне послать маме в Анапу немедленно, пропуск на выезд из Анапы, по которому она вправе достать билет. Я особенно не рассчитывала на этот вариант, т. к. человек этот не был для нас таким близким. Но как говорят, свет не без добрых друзей. Он вскоре мне сообщил, что пропуск выслан. Радости моей не было предела. Сообщила об этом маме. Она ежедневно ходила в МГБ справляться, но пропуск ей не давали. Оказывается он лежал в течение месяца под спудом и никто не хотел искать. Подействовала только мамина истерика там в местной организации МГБ и твердое заверение, что пропуск должен быть. Пропуск был оформлен до Рязани, т. к. в Москву все еще нельзя было въехать. Наш спаситель работал на фронте, в штабе и ему удалось оформить пропуск, будто бы на сына и мать. Кто тогда вникал в суть дела? И вот мама, за 6 дней до оккупации Анапы немцами — выбралась с пропуском под градом пуль грузовой машиной до Краснодара. А там своя кутерьма! Пропуск есть, билет есть, а сесть в эшелон невозможно. Столько народу с детьми и, конечно, паника, потому что и там уже немцы и проч. И вот мама, поняв, что с ее больной ногой и ребенком невозможно будет при очередной посадке в эшелон успешно втиснуться в вагон — решила тоже дать взятку. Этому ее научили люди, скопившиеся на вокзале г. Краснодара. Она уговорила носильщика за 1000 рублей выпустить ее на платформу вокзала за 5 минут до начала посадки в вагоны, с тем чтобы она могла в числе первых пассажиров войти с ребенком в вагон. Так и осуществилось. Ведь, если помните, мама была инвалидом, она хромала, у нее была неподвижность сустава ноги, зачастую с открытой раной после перенесенной в 20-х годах болезни костного туберкулеза (остеомелит). Выхода другого не было, иначе она застряла бы с Мариком там надолго. И вот они в эшелоне, едут через весь Кавказ до Баку. По дороге их 6 раз бомбили. Вдоль всей дороги были вырыты траншей и если поезд бомбился, то его останавливали и все прятались в вырытые траншеи. Народу тьма, все, дети, женщины, мест никаких. Заняты все квадратные сантиметры площади трех ярусов вагонов. Все вещи, авоськи, чемоданы привязаны снаружи к окнам. На крышах полно тоже. Проходы забиты, тамбуры, подножки тоже. И вот на ст. Тоннельная — очередная бомбежка с самолетов. День… жара. Марик спал на руках у мамы. Пришлось по сигналу выходить из вагона. Опустилась в траншею. Недалеко разорвалась бомба и маму в числе других присыпало землей. На руках Марик. Самолет отбомбился, сигнал о посадке в вагоны. Какой-то военный схватил Марика из рук бабушки, ткнул в вагон. А маму и других стали откапывать. Времени нет — сели по вагонам. И тут обнаружилось, что их разъединили. Поезд идет, а Марик потерялся. Тысячи людей, все ищут друг друга. Марика все еще нет, где, в каком вагоне, ни пройти, ни крикнуть невозможно — сплошные тела, кто сидит, а большинство стоят, т. к. места совсем нет свободного. По цепочке, из вагона в вагон стали кричать имена разыскиваемых. Так нашелся и Марик, которого передали по головам в тот вагон, где была бабушка. И тут небольшой штрих: через 2–3 часа из вагона в вагон была передана и беленькая панамка, соскочившая с головы Марика. По цепочке слова: «передайте той бабушке, которая кричала, это панамка того красивого мальчика с длиннющими ресницами, которого передавали раньше в такой-то вагон по головам». Эшелон дотянулся до Баку. Там они пересели на нефтеналивное судно, которое следовало до Красноводска (поперек Каспийского моря). Женщины и дети разместились на палубе этого судна вповалку. Под ними был военный груз — нефть. Невероятный шторм, смывало волной вещи. Люди привязывались полотенцами друг к другу и частям корабля. Кто плачет, у кого истерика. У детей сплошные поносы. Ждали налетов с воздуха. Пришел капитан и умнее ничего не мог придумать, ответив на вопрос, «что будет с нами?» — «Приготовьтесь кормить на дне моря — рыб». К счастью обошлось без этого. И люди, изможденные качкой, тревогой, наконец высадились на землю Красноводска. Там жарише страшное, тени почти нет. Сели под какое-то деревцо. Пить… А воды совсем нет нигде. «Бизнесмены» продавали маленький стаканчик воды по 10 рублей. Попили, отдохнули под открытым небом, собрались с силами и сели дальше, в поезд, который следовал до Ташкента. Там пересели в другой и добрались до Куйбышева. Это «путешествие» продолжалось свыше месяца. От Анапы — до Куйбышева. В результате у мамы сразу, на нервной почве — экзема на ногах и руках. В это время я в Москве уже устроилась на проектную работу, в Проектное бюро местной промышленности. Проектировала реконструкции предприятий местной промышленности для нужд фронта. А до этого я работала в 16-й типографии ОТИЗа — рабочей, шила из клеенки большие цилиндры, которые нужны были самолетам. Норму выполнять было трудно, голодала, комната нетопленная, дров не было, по карточкам ничего, кроме хлеба не получали. И вот, когда поступила в Проектное бюро (кстати, по объявлению «Вечерки»), там мне устроили мнимую командировку в Куйбышев. Там жила моя двоюродная сестра с мужем, у которых остановилась мама с Мариком. Я поехала туда и привезла их в Москву весной 42-го года, хотя пропуск был только до Рязани. В поездах света не было, а когда являлся контролер, проверять пропуска и билеты — Марика прятали на третью полку. Там он лежал вытянувшись солдатиком, не шевелясь. А из мамы делали тюк вещей, тоже как будто-бы неживое существо. Марику нравилась вся эта маскировка и оночень ловко и быстро карабкался на третью полку, даже и без нужды, просто тренируясь. Пребывание в Анапе 1 '/года его закалило климатически и к счастью он перестал часто болеть. Вот как он нам достался, Юра! Все это очень коротко я описала, но будет ли тебе это нужно? Все даты я, конечно, уже не помню, но если нужно, то кое что можно восстановить. Часть писем и открыток из Анапы у меня сохранилась. А большинство я отсылала отцу, ведь он тоже страдал и был в то время в наитяжелеиших условиях. В то время уже запретили посылать им продуктовые посылки. Я ежемесячно имела право послать ему только 50 рублей (это теперь 5 руб.), а что можно было у них купить там в ларьке, на эти деньги? Как мы все выжили, не знаю. Я в первый же отпуск (ведь в войну не было отпусков), в январе 1946 г. поехала к Сем. Мих. в Сибирь, это ст. Решеты (около Канска). Он работал в тайге. Ну это уже другие страницы моей жизни, что не сейчас это вспоминать».Всего этого отец, естественно, не знал и не мог знать. Курортная эпопея выдвинула на пьедестал семейного почета мою бабушку — ведь это она спасла мне жизнь во время бомбежки, прикрывая меня своим телом и получив при этом ранение. Чем не герой войны?! Прекрасно помню — и это одно из сильнейших моих детских воспоминаний, — как выглядела бабушкина нога с незаживающей раной у щиколотки. Кость была обнажена, на нее смотреть было невыносимо, хотелось зажмуриться. Рядом с раной светилась ярко-синяя полоска натянувшейся кожи — с красными кровяными подтеками и желто-зелеными пятнами. Этакий абстрактный натюрморт в духе Кандинского времен увлечения им экспрессионизмом в Берлине двадцатых годов. Эта нога буквально пылала физической болью. Часто приходилось слышать бабушкины стоны. Осколок сидел внутри. Извлечь его было нельзя. Единственный способ избавиться от страданий — ампутация. Врачи советовали именно эту операцию, пугая инфекцией, загниванием и гангреной. Но бабушка не соглашалась. Она, помнится, боролась с болью следующим образом: наливала в ведро кипятку, давала ему 5—10 минут остыть и совала туда больную конечность. На час минимум. Кипяток в ведро постоянно добавляла. Это называлось: «Парить ногу!» — Марик, помоги мне парить ногу! — до сих пор слышится мне бабушкин голос. «Помошь» моя заключалась в том лишь, что я стоял рядом, а бабушка в момент опускания ноги в горячую до предела воду хватала мою руку и сжимала ее своей железной рукой. Это утоляло ее страдания. Ибо правильнее было бы говорить не «парить», а «шпарить», но, к удивлению и мамы, и моему, бабушка после сеанса обычно хромала бодро, и дня два-три после этого боли в ноге исчезали, будто их не было. С той поры, когда и сегодня говорят «война» или даже «Великая Отечественная война», перед моими глазами прежде всего эта натуралистичная живопись: нога моей бабушки. Это не смешно. Не смейтесь, пожалуйста. Поверьте, это больно, очень больно, поверьте.
Канск, 22/X — 1941 г. Моя дорогая Лидука! Ночи не сплю, думаю только о любимой Москве, о тебе, о Марике. Быть в полном неведении о судьбе близких очень мучительно. Ты совсем мало пишешь. Последнее письмо твое от 9/IX. Прошло уже 1 ½ м-ца, а что могло произойти у тебя за это время… Единственное, на что я надеюсь, это что тебе удалось вызвать из Анапы маму с Мароником и вы все вместе выехали уже в Челябинск или в Свердловск. Но тогда почему же нет от тебя никаких вестей? Не случилось ли чего с тобой, моя родная. Смотри, береги себя, ты должна жить и быть здоровой для нас, для меня и сына. Я доволен тем, что ты так стойко и мужественно переносишь все, но мне страшно за тебя, за сынку, за всех родных. Ах, если б только мне быть с вами, я бы пошел защищать вас и родную Москву, родную Землю от лютых врагов. И если б пришлось умирать, то умер бы спокойно, с сознанием исполненного долга перед Родиной и перед семьей. Облигации не вышлю, — я их сдал в Фонд обороны, — ты не будешь ведь возражать против этого? Я здоров, обо мне не волнуйся. При первой возможности, дай о себе знать. Как все родные? Как Самуил с семьей, как ребята, ушедшие на фронт? Целую тебя крепко — твой Сема. Мы еще обязательно будем вместе. Сейчас же напиши мне все подробно. До свидания — Сема.Эта маленькая открытка дорогого стоит. «Облигации сдал в Фонд обороны». Вдумаемся, сегодняшние! Последние сбережения, заработанные еще на воле, пропащий зэк отдает на победу. И это после пыток, после чтения доносов на себя, после «экспертиз» и голодухи каждый день… «Ты не будешь ведь возражать против этого?» Хороший вопрос. Я. Мама, ты возражала? Мама. Нет, сынок. Я. Папа, она не возражала. И никто ни против чего не возражал.
15/I — 42 г. Москва. Родной мой Семик! Страдаю, что ничего не знаю о тебе, как здоровье, жив ли? От мамы стала получать письма, одно послала тебе на днях. Последняя открытка от 25/XII — пишет, что здоровы. Марик замечательный сын, уже знает все буквы, складывает из кубиков слова, очень подвижный. Устраивала она ему елочку. Была она с ним у врача, признал увеличение железок, весит 15 кг 300 гр, рост 101 см. За лето вырос на 4 см. Очень скучает по мне, часто вспоминает. Прислал еще открытку и дяде Самуилу, — он его любит. Волока контужен и поэтому демобилизован на 1 год. Ничего не слышно о Николае Ар. — наверное, погиб. Это большое горе для нас всех, — у Майки трое детей. Остальные все родичи живы и здоровы, но все живут вне Москвы. Я чувствую себя сейчас куда лучше, воспряла духом. Знаю, что сыник наш в безопасном месте, хотя мама писала, что и им приходится переживать то, что и мне раньше в Москве. Но самое главное то, что гонят всех гадов везде с нашей территории. Рада успехам нашим на фронтах. Я тоже вношу скромную долю своим трудом на окончательный разгром гитлеровской банды, — работаю на оборону. К весне, возможно, устроюсь по своей специальности, а пока работаю рабочей. Мама тоже чинит белье для Кр. Арм. Целую крепко. Твоя Лика. На днях вышлю тебе деньги — последнее время было трудно. Лида.Эта мамина открытка фиксирует самое страшное, что несет война. Контуженный Волока — это мой дядя Володя Тиматков — добрейший, умнейший, тишайший человек. Любил, как и мой отец, попеть в застолье. И они даже не раз это делали дуэтом на московских вечеринках до 35-го года. Николай Ар. — это дядя Коля Арутюнов, погибший, пропавший без вести в первые месяцы войны. Спасибо товарищу Сталину за его государственный и полководческий гений — благодаря ему начало войны было вчистую проиграно… Поэтому реплика об «успехах наших на фронтах» и о том, что «гонят всех гадов везде с нашей территории» есть выдавание желаемого за действительное, но посылать зэку другую информацию — значило бы делать из него еще и немецкого шпиона. «Пока работаю рабочей». Это «пока» длилось около года — с момента паники в Москве (октября), когда разрушились службы и места работы. Мама вкалывала «на свободе», занимаясь тяжелым физическим трудом. Но не потому, что ей хотелось ТАК помогать фронту, а потому, что она была женой «врага народа» и ее отделы кадров на другую работу не принимали. Бдительность прежде всего! И к тому же… Святое дело — оборона Москвы.
Н. Пойма, Красноярск, кр. — 15/1 — 1942 г. Моя дорогая Лидука! 3 ½ м-ца я не имею от тебя никаких известии, не знаю, что и думать. Жива ли ты, здорова? Страшно подумать, что с тобой могло что-то случиться плохое. Моя любимая женушка! Очень прошу тебя не забывать писать мне возможно чаще, — для меня это будет единственной поддержкой. Покоя не дает мне судьба нашего сына и мамы А.Д. Где они, что с ними? Удалось ли им выехать из Анапы и куда? Прошу тебя, моя мордуля, если будет возможность, выехать вместе с сыном и мамой поближе сюда, на Урал или в Сибирь… И для меня это будет легче, т. к. из этих мест лучше идет почта и принимают посылки. Моя дорогая! много бодрости придают сообщения о победах нашей Красной Армии над проклятыми фашистами. Хочется, чтобы их поскорее разгромили и уничтожили начисто. И мы тогда, может быть, скорее увидимся и будем вместе. Обо мне не беспокойся. С 1/XII я нахожусь на новом месте, работаю бухгалтером по х-расчету, возможно перейду на этих днях на плановую работу, если прибудут бухгалтера Здоровье несколько улучшилось, стал чувствовать себя крепче. Решил вновь обратиться с жалобой и с просьбой об отправке на фронт, но мало верю в удовлетворение. Будь бодра, береги себя, что бы ни случилось. Это единственная возможность все-таки увидеться и быть нам вместе. Пиши только чаще и подробнее о себе, о сыне, о родных. Любимая женка!помни, что я всегда с тобою, всеми мыслями и думами. Работаю много и думаю о семье и Родине. Целую тебя и Марика крепко. Ваш Сема. Привет маме и всем родным. Как Самуил с семьей?Здесь отец уже не впервые настаивает на своем предложении — перебраться семье на Урал или в Сибирь. Аргумент насчет «безопасности» правильный и бесспорный, но наш далеко смотрящий папа понимает, что когда он выйдет, ему тут же пришпилят «без ста городов». В Москве ему уже не жить!.. Никогда! Как тогда «воссоединиться» с семьей? Так что война могла и помочь в устройстве личной жизни. В будущем!.. Но пока отец, выстроивший свой план в голове, на эту тему помалкивает, дабы не «спугнуть» Лиду и «маму Александру Даниловну». Еще не время. Еще ему сидеть не пересидеть.
23/II — 1942 Г. Моя дорогая, любимая женушка! и я испытал много радости за последние дни: получил сразу несколько твоих писем и открыток, последняя из которых от 15/1. Получил от мамы открытку от 15/ХП и, вложенное тобою, ее письмо. Немного отлегло от сердца, крепко исстрадавшегося, особенно в последние месяцы. Тревога за вас, моих родных и любимых, не покидает меня ни на одну минуту, но я уверен, что наша могучая Красная Армия разобьет фашистских мерзавцев, освободит всю нашу страну от бандитов, и мы заживем вновь светлой, хорошей жизнью. Приветствую тебя за твое решение о переходе к станку, если у него ты можешь сейчас принести больше пользы Родине, чем работой по специальности; но полагаю, что в качестве инженера ты сейчас не менее нужна. Рад за твою героическую стойкость и бесстрашие, что ты с честью осталась в рядах москвичей, отбивших гитлеровские орды от нашей Москвы. За меня не беспокойся, — я жив, здоров, работаю на новом месте экономистом, работы много, и я также стараюсь хоть как-нибудь принести пользу моей Родине. Беспокоюсь о Маронике и маме. Если только будет малейшая возможность выехать из Анапы, пусть тотчас же едут. Следи за собою, дорогая моя, береги себя, — мы обязательно должны еще встретиться и быть вместе в нашей хорошей советской семье. Я уже подал несколько заявлений, ответа нет; — напиши ты от своего имени обо мне. Получил посылку от Саши из Йошкар-Олы от 11/XI — масло и мед. Паша пишет, что выслали еше две посылки, но они не пришли. Мой адрес: ст. Решеты, Красноярск ж.д., п/я № 235/5. Пиши, моя Лидука, возможно чаще. Привет всем родным, Самуилу, Нюне, Люсе и Нюмику. Напиши маме и Марику от меня горячий привет и большую неизмеримую благодарность маме. Целую тебя крепко, крепко — Твой Сема.Замечательные слова «Приветствую тебя за твое решение о переходе к станку» следует понимать как очередную порцию демонстрации патриотизма и «советскости». Я не троцкист, если думаю так. Товарищ из НКВД, читающий мою открытку, видишь, какой я идейный, какой я честный, не двуличный… Я не враг!.. Передай, товарищ, об этом еще куда-нибудь наверх. Ты же пишешь отчеты!.. Там, наверху, может, поймут, наконец, что счетовод-бухгалтер в заключении в Нижней Пойме для страны менее полезен, чем солдат штрафбата на фронте. Так или не так думал он, когда писал свою открытку, — неважно. Важно, что он не прекращал бороться за свою жизнь на свободе ни на минуту.
21/111 — 1942 г. Дорогая моя Лидука! Не имел возможности раньше написать тебе. Горячо поздравляю тебя и сынку с днем вашего рождения. Желаю вам, моим любимым, здоровья и долгой, долгой жизни. Желаю вам, моим единственным, выйти из переживаемых испытаний и опасности невредимыми и крепкими. Родная моя женушка! Очень беспокоит меня твое долгое молчание. И от мамы, из Анапы ничего нет. Гоню от себя мысли о плохом, верю, что все будет у вас хорошо. Вы, мои родненькие, единственная надежда и цель моей жизни. Вы должны обязательно жить для меня, — я еще буду с вами. Пиши мне как можно чаще и подробней. Как твое здоровье, Ликин? Что с работой? Устраивайся скорей по своей специальности, ведь тяжело тебе очень. Как обстоит у тебя с деньгами? Из сберкассы ты ничего не получаешь, я об этом узнал только вчера и очень огорчился этим. Ведь трудно тебе, моя родная. Обо мне не беспокойся, я здоров, работаю экономистом, чувствую себя хорошо. Ничего не посылай мне, я не нуждаюсь. Если будет у тебя возможность, вышли мне только немного табаку, — посылки теперь разрешены. Все мое упование на то, что скоро уже я буду с тобой, моя милая, дома, с нашим сынкой. Пусть мама мне напишет, пришлет фотографии. И свою тоже пришли. Крепонько целую тебя — твой Сема Передай привет всем родным, Самуилу с семьей, тете Тасе, Нинзе, Володе, Майке, Василию, Шуре, Морозам. Пошли мне телеграмму, чтоб успокоить меня немного!«Посылки теперь разрешены» — это что, вдруг проснувшийся гуманизм вождя?… Нет. Это государство сочло за большую выгоду для себя именно таким образом — не за свой счет’ — поддерживать многомиллионную армию доходяг-заключенных. Их труд был практически бесплатным. Так пусть их подкармливают родные и близкие, отрывая кусок от себя, чем мы, для нас эти траты лишние. Война ведь!.. Будем беречь каждую копейку. Отсюда — рассуждение о так называемой «законной баланде». На содержание одного зэка в лагере уходит 31 копейка. Это — чтобы он работал по 12 часов и не умер. Ниже сумма быть не может: зэк сдохнет. И хоть невелика беда, если потеря человеческого материала произойдет в большом количестве, это скажется на общем результате подневольного труда. Выгода уменьшится. Поэтому 31 копейка и ни одной копейкой меньше. Этот запредел на самом деле предел. Однако на практике и эту, можно сказать, «законную баланду» отдельный зэк получить от любимого государства не мог. Почему? А потому, что и здесь, зэка, простите, наёбывали. Он стоял с пустой миской в очереди за едой, и надо было иметь знакомство с поваром-раздатчиком, который мог своей ложкой-поварешкой зачерпнуть из котла поглубже и придать баланде густоту, а мог чиркнуть по поверхности и выдать пустую воду — эта баланда тоже вроде была «законная», да только зэк с ней оставался голодный и подыхал. «Законную баланду» надо было не только отработать, но еще и получить, а точнее, вырвать у государства, держащего тебя и так хуже некуда — за 31 копейку в день. Что это?.. Принцип распределительной системы социализма, вот что!
Канск, 8/IV — 1942 г. Здравствуй, моя любимая Лидука! пишу тебе, по совести говоря, с ужасным ощущением безнадежности получить ответ, — послание в неизвестность. Такое состояние, нагоняющее на меня смертельную тоску, уныние и крайне напряженное беспокойство за судьбу своей семьи, создано тобой, Лика, по абсолютно непонятным мне причинам. Больше полгода ничего не получаю от тебя, это ведь невероятное дело, объяснений которому у меня нет. Теряюсь в догадках, но притти окончательно к чему-нибудь не могу. Ни в коем случае не допускаю мысли о том, что ты совсем оставила меня. Как это так, могло ли это случиться? Больна ли ты или Марик? Но Паша в каждом из своих писем сообщает мне о Марике и обижается на то, что ты не отпускаешь его к ним в гости с Самуилом. Что-то не дает тебе написать мне хотя бы пару слов. Ты обязана немедленно сообщить мне о причинах своего молчания и обязана, хотя бы как мать моего ребенка, писать мне подробно о жизни моей семьи. Лидука, не добивай меня, — я не заслужил жестокостей с твоей стороны. Моя жизнь держится на волоске, — не обрывай этого волоска, ибо в моих условиях это гибель. Я нуждаюсь в самой срочной помощи, ты об этом знаешь из всех моих предыдущих писем. С каждым днем мое состояние ухудшается, силы иссякают, с колоссальным напряжением я еще держусь. Ты об этом знаешь, но мало того, что ничем не помогаешь, но просто отмалчиваешься, лишаешь меня даже тех минут покоя, которые я мог бы иногда иметь для себя. Вне зависимости от чего-либо я имею все основания ожидать отклика с твоей стороны, самой энергичной и действенной поддержки: материальной и моральной. Если всему причиной моя связь с родными и получение от них посылок (я уже имею от них три посылочки, которые продлили мою жизнь уже на некоторое время), то ты, Лика, величайшая эгоистка на свете. Но и мысли такой о тебе я не допускаю. Я тебя, моя Лидука, ведь так хорошо знаю, ведь ты была всегда так предана своей любви и дружбе ко мне! Неужели все изменилось и нет у меня моей славной, моей любимой и любящей Лики? Неужели я лишился той светочи, что озаряла весь мой горький путь на протяжении 5 ½ лет? Для чего же тогда все мучения и обиды, перенесенные мною? Лучше было мне погибнуть в самом начале моей трагедии и не проходить весь этот тернистый путь, в конце которого я всегда видел мою семью: тебя и сына. 3/4 пути уже пройдено и как жаль, Лидука, что нет уже сил, и, главное, нет, как будто, и цели, ибо самые близкие и дорогие люди, к которым стремился, покинули и забыли тебя. Да, не такого конца я жаждал для себя, — я его не заслужил ни перед тобой, ни перед сыном, и ни перед всем обществом. Знай, Лидука, и передай об этом моему сыну Марику, что я всегда был честным человеком, никаких, абсолютно никаких преступлений я никогда не совершал, вины моей в чем-либо не было и нет. И, если у меня не хватит сил, и придется мне все-таки уходить из этой жизни, то уйду я тем же прежним Семой, честным и преданным советским парнем, каким ты всегда меня знала. Хочу только, чтобы и сын был воспитан таким же честным человеком, каким был его отец. Еще и еще раз настаиваю и требую немедленного ответа, подробного ответа. Еще и еще раз настаиваю и требую немедленной помощи, ибо я хочу жить, понимаешь, жить! Если не можешь помогать, скажи об этом ясно и откровенно, я имею право знать о твоей жизни и условиях, но не оставляй хотя бы без поддержки моральной. Лучше бы мне погибнуть. Вот что я хотел тебе сказать, моя Лидука!.. Но как же ты живешь и как мой сынка? Целую вас, ваш Сема. Привет маме, Самуилу и всем родичам. Если можешь — вышли мне денег немного по телеграфу.Письмо резкое, тревожное во всех отношениях. Та любовь, высокая и нежная, которую, был бы я поэтом, можно было бы воспеть, как воспеты Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Фархад и Ширин, Пенелопа и Одиссей, Эраст и Лиза, Онегин и Татьяна, Дант и Беатриче, Фауст и Гретхен, Мастер и Маргарита (список можно продолжать) — всегда подвергавшаяся ударам судьбы и времени, — у Семена и Лидии — людей самых обыкновенных, самых рядовых — подпадала под те же макроиспытания, под те же гиперсотрясения, насылаемые ей откуда-то извне, со стороны. Эта любовь рано или поздно не могла не задрожать и не дрогнуть. Всё, что чувственно, — не из железа и не из железобетона. Мимолетны виденья любви, действительно, мимолетны. Но еще не приспело время разлада, не ударил последний колокол. Так хочется СОХРАНЕНИЯ, КАК БЫЛО, как КОГДА-ТО начиналось. И вот… Мама «не отпускает» меня к Веберам, даже с верным дядей Самуилом. Кол вбит. Дальше формулировочка: «мать моего ребенка». Моего, не нашего!.. И крик души: «Не добивай меня!» Затем справедливое: «Моя жизнь держится на волоске, — не обрывай этого волоска, ибо в моих условиях это гибель». И, наконец, неумолимо ведущий к домашней ссоре выпад: «Если всему причиной моя связь с родными… то ты, Лика, величайшая эгоистка на свете». В сущности, конфликт обозначен в полной мере, но отец боится, что перегнул палку, — надо, зная преувеличенно обидчивый характер жены, чуток подсластить пилюлю — отсюда в следующий миг и высокопарный слог — «светочь», «озаряла» и «лучше бы мне погибнуть». К борьбе с СИСТЕМОЙ прибавляется еще и борьба за семью. Как тебе это, Семен?.. Не лишняя ли тяжесть?.. Лишняя. А потому — «вышли мне денег немного по телеграфу». Эх-х…
19 /V — 1942 г. Моя дорогая, любимая Лидука! Получил открытку твою от 23/111 и письмо от 7/IV. И от мамы из Анапы, письмо от 20/111. Сколько радости приносит мне каждая весточка от вас, моих единственных! Очень досадно, что мои письма доходят не аккуратно до вас. Послал маме с Мариком несколько, а она пишет, что ничего от меня не получала. Ликин! Марик наш, своей ручонкой, печатными буквами, написал мне привет, что он скучает по своему папочке. Я уподобился институтке и тысячу раз целовал эти милые мне строки, этот листок бумаги, на котором мой сын выводил свои буковки. Как обидно, что я не смог во-время поздравить сынку и тебя, моя родная, с днями вашего рождения: 3-го и 5-го апреля. Надеюсь, что ты не обиделась за это, — ты ведь понимаешь, что я ограничен в возможностях. Пусть это будет с большим опозданием, но прими, моя дорогая, мои поздравления и пожелания, идущие из самой глубины отцовского сердца. Нет совсем радости в теперешнем периоде нашей жизни, но мы живем, должны жить и будем жить для нашего счастья в недалеком будущем, когда разгромят и уничтожат фашистских варваров, когда наш великий советский народ — победитель вновь начнет свою мирную, счастливую жизнь на своей свободной земле, когда я, быть может, тогда вернусь домой, к вам, моим любимым, дорогим деткам! А пока нужно упорно бороться и работать для дела скорейшего изгнания с нашей родной земли немецких мерзавцев, так исковеркавших нашу жизнь и нарушивших наши светлые надежды. Я продолжаю работать на старом месте, экономистом по хозрасчету и себестоимости. Несколько раз в месяц мы, административно-технические работники выходим в лес и, вместе с работягами, даем стране кубики необходимой древесины. Обо мне не беспокойся, моя дорогая; я жив, относительно здоров, держусь на ногах, способен работать, — чего же еще нужно? Не надо, мой мордик, обижаться на меня за то, что я упоминал о посылках. Дело в том, что нам объявлено еще в начале марта о том, что в адрес заключенных разрешена повсеместно отправка посылок. В связи с этим нам было предложено написать письма своим родным. Я не мог не воспользоваться такой возможностью и также написал тебе об этом. Я знаю, что если б только ты могла, то помогла бы мне уже давно, без моих просьб. Если я не получаю этих посылок, то значит нет возможности у тебя их посылать мне, — я это понимаю, моя дорогая и вовсе ничего не требую. Может быть, это могут сделать наши родные из Сарапула или из других мест, где они находятся, попроси их об этом, только надо на посылках обязательно указывать «Лагерь НКВДзаключенному…», чтобы почта приняла. Здесь, например, двоим товарищам были отправлены посылки с разрешения НКВД, куда обратились их родные. Во всяком случае посылки поступают в последнее время в большом количестве и являются для получающих их огромной поддержкой. Но пусть это тебя не огорчает, моя родная, я не голоден, живу сравнительно хорошо и надеюсь еще долго продержаться. Главное, воля к жизни, а ее у меня много, больше чего-либо другого. Моя Ликин! Непонятно мне, как это получилось, что письмо мое пришло с вырезанной страничкой, я не писал, и не мог писать ничего такого, что подлежало бы вырезыванию, а, кроме того, насколько мне известно, в таких случаях не вырезывают эти места, а вычеркивают. Лидокин! Очень обрадован я тем, что ты, наконец, начала работать по своей специальности. Желаю тебе больших успехов в этой работе. Пиши мне подробно, как твое материальное положение, как живешь, сколько зарабатываешь, как и где питаешься? Денег мне не посылай совсем, они мне сейчас не нужны. На лицевом счете у меня есть 857 рублей, но я оттуда не получаю, да и покупать нечего. Наоборот, я сегодня подаю заявление с просьбой о разрешении перевода маме и Марику 100 рублей. Думаю, что разрешат. Последние сообщения об упорных боях на Керченском полуострове крайне волнуют меня, — ведь Марик и мама так близко находятся оттуда. Я полон уверенности, что и на этом участке фронта, как и под Харьковом, наши доблестные бойцы уничтожат гитлеровских гадов. Лидик! Если только будет маленькая возможность, пусть мама с Мариком выезжают из Анапы, поближе сюда, и ты тоже приедешь к ним, будете вместе. Все мои мысли только о вас, и я призываю горячо нашу судьбу, если только она намерена оставить для нас хоть капельку счастья, уберечь вас, моих любимых, от всякой опасности и сохранить вашу жизнь, такую дорогую для меня. Береги себя, моя родная, пусть берегут себя мама с Мариком, мы должны обязательно жить. Нет ли сведений о Николае Арутюнове, о Шуре? Поехал ли уже на фронт наш Нюма, есть ли от него сведения? Как здоровье Самуила? Почему он ни разу не написал мне? Как живут и работают все наши родные? Напиши Волоке и Коле Губанову от меня горячий привет, что я горжусь ими, защитниками нашей священной земли и желаю им крепкого здоровья. Держись, моя Лидука! Ты геройски пережила тяжелые московские дни, когда враг нагло лез на нашу любимую столицу, ты должна и сейчас и впредь крепко держаться, будь настоящей советской женщиной, способной перенести все трудности этого тяжелого военного времени. Желаю тебе здоровья. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя, мою родную, любимую женушку, твой Семука. Горячий привет всем родным.Месяц всего прошел. Весна наступила… И как будто не было предыдущего письма. Все «трещины» заделаны. Письмами, весточками, моими «буковками» и рисуночками. «Я уподобился институтке» — и это мой отец, прошедший на следствии через всё, да и сейчас живущий не на курорте… «Дает стране кубики необходимой древесины»… Вот только «письмо мое пришло с вырезанной страничкой» — бдит недреманное око, не упускает из вида внешне преданного товарищу Сталину зэка. Переданы приветы всем, кому положено. Даже Коле Губанову… И не знает отец, что мой дядя Коля Губанов — младший брат моей бабушки, а потому дядя, не дед, поскольку ему и 25 еще тогда не было — приедет позже, в 43-м году, в кратковременный отпуск с фронта и устроится на побывку в нашей комнате (спал на полу), и угостит меня, шестилетнего, куском белого хлеба, и намажет его маслом в палец толщиной — из своего пайка (незабываемо по сей день), и сядет на диван, и возьмет гитару, и споет «Если ранили друга, сумеет подруга врагам отомстить за него!» — как сейчас помню все это… А через три дня он уедет на фронт, и спустя месяц — буквально через месяц — мы узнаем, что он убит. И неизвестно, где похоронен. Нет дяди Коли Губанова. И кто его сейчас помнит, кроме меня?..
20/VI — 1942 Г. Дорогая моя Лидука! Продолжаю сегодня мое письмо, чтобы отметить предстоящий день 31-го мая. Ведь это же 12-я годовщина нашей женитьбы! Сердечно поздравляю тебя, моя любимая женушка, и желаю многих, многих лет нашей совместной счастливой жизни. Да, Лидука, мало счастья выпало на нашу долю, особенно в последние годы… Что делать? Ни ты, ни я не виноваты в этом. Моя совесть чиста, и я могу смотреть прямо тебе в глаза. Никогда я не делал ничего такого, чтоб заслужить то, что постигло меня и разбило нашу жизнь. Оглядываясь назад, на нашу прошлую жизнь, чувствую себя виноватым только в том, что мало был внимателен к тебе, моей женушке, к семье. Слишком мало я оставлял времени и места для нашей личной, семейной жизни. Я не искал благодарностей за мою работу, но тем более я не заслужил позора и мучений. С нетерпением я жду момента своего возвращения в семью, и ты увидишь в моем лице самого искреннего друга, преданного тебе мужа, благодарного за твою любовь, верность и стойкость. Я так устал, моя Лика, мне хочется спокойной, радостной жизни, воспитывать своего сына, лелеять и голубить тебя, мое счастье, быть всегда с вами и около вас. Только мечта об этом и крепкая надежда на то, что это осуществится, придает мне силы, поддерживает меня в жизни, заменяя собою все недостающее для нормального существования. Как одержимый, я живу только этим, стремлюсь к этому всеми фибрами своей души, ощущаю момент своего освобождения, когда я вернусь в общество советских людей, в свою семью, к вам, моим любимым, ненаглядным деткам. Прошло 4 ½ тяжелых года. При самых худших обстоятельствах, останется еще 3 ½. Надо во что бы то ни стало прожить, сохранив себя и физически, и морально. Это очень трудно в моих условиях, особенно первое. Но я напрягаю себя до крайности, чтобы выдержать, и я выдержу. Даю тебе в этом мое клятвенное обещание. И ты, моя милая, должна мне это же обещать. Ты с Мариком должны и обязаны жить, сохранить себя и встретить своего мужа и отца. Ведь для этой светлой минуты, минуты нашей встречи и долгих лет нашей будущей жи зни, мы найдем в себе силы перенести все лишения, опасности и тяготы. Вот скоро разобьют и уничтожат гитлеровскую банду, изгонят с нашей земли последнего фашистского мерзавца, и этим ускорится день нашей встречи. И мы с тобой, с нашим сыном, осуществим ту жизнь, о которой я мечтаю. Последующие годовщины нашей женитьбы мы будем по-настоящему праздновать вместе. Крепко, крепко целукаю тебя, мою женушку, Твой Сема.Ну, что сказать, как прокомментировать? У этого письмеца торжественно-оптимистический тон. Что-го вроде тоста на празднике в честь «годовщины нашей женитьбы». Но и тут прорывается в контраст «я так устал» и «Прошло 4 '/ тяжелых года. При самых худших обстоятельствах, останется еще 3 ½». Он — считает. Годы, месяцы, дни, часы. Как все зэки на свете. И он полон любви, надежды и веры.
1/III — 1942 г. Моя дорогая Лидука! Пользуюсь случаем написать тебе письмо, так как центром разрешена отправка продовольственных и вещевых посылок заключенным и нам предложено сообщить своим родственникам адрес. Так вот, моя Лика, с 1/ХП — 1941 г. я нахожусь в новом месте. Это Лагпункт № 7 Нижне-Пойменского Отделения Краслага. Адрес: ст. Решеты, Красноярской ж.д., п/я № 235/5. … Здоровье мое ничего опасного не представляет, только что ослабел немного, — ведь я перенес в 41 году 5 операций: в январе — выпадение прямой кишки и геморрой, в апреле — парапроктит, в июле — фистула, в сентябре левосторонний полипозный гайморит, а в октябре — резекцию нижней раковины. Все операции я перенес хорошо, спокойно, считая, что лучшим методом лечения, тем более в наших условиях, является операция. Чувствую себя хорошо, и с этой стороны нет у тебя никаких оснований к волнению за меня. Я подал уже несколько заявлений об отправке на фронт, но до сих пор ответа я, как и другие, не получил. Говорят: когда понадобится — позовут. Ведь и мы находимся на трудовом фронте, выполняем оборонные задания. Все время я не теряю надежды на то, что я все же попаду на передовые позиции, встречусь лицом к лицу с ненавистным фашистским врагом и, или погибну, или останусь жив, но докажу, что я так же предан своей Родине, Партии и Сталину, как и другие люди нашей страны, отдающие сейчас… … Борьба с гитлеровскими бандитами — это борьба за наше будущее, за нашу жизнь, за нашего сына, за нашу семью. Мне приятно читать твои письма (все их я получил) и видеть в них твою тревогу за наше общее дело, за страну, твою любовь к родной Красной Армии, к Героям Советского Союза, твою радость по поводу наших побед над врагом. Я полностью разделяю твои чувства, моя Лидука, но мне очень больно, что я нахожусь в таком нелепом положении, да еще в такое время. Мое место не здесь, а там, с Вами, на фронте, на линии огня. Ликин, попробуй и ты, от себя, написать Наркому Л.П. Берия обо мне, опиши меня таким, как знаешь, проси, чтобы дали мне возможность умереть или остаться в живых в рядах победителей, бойцов за нашу Партию, за Родину, за Сталина. Со своей стороны я буду вновь и вновь писать и просить об этом же. Ликин! Твое письмо с маминым письмом я получил. Получил также и от нее открытку от 15/XII. Представляешь ли ты мою радость? Я очень долго, с октября м-ца, ничего от тебя не получал и, вдруг, уже здесь, несколько дней тому назад, я сразу получил целую пачку твоих открыток и писем за декабрь и январь м-цы. Ты не ругай меня, моя Лидука, за молчание, — я тебе писал, когда представлялась возможность, но почему-то почта плохо доходила. Когда не получаешь долго от меня писем, — не волнуйся, ничего со мною приключиться не может. Так же как и ты, я хочу жить и уверен, что буду жить, чтобы нам быть вместе, с тобою, с нашим Мариком, с родными. По гроб жизни я буду обязан маме за ее заботы о Марике, нет слов для выражения этой благодарности, ее можно только осуществить, когда я буду с вами, моими милыми. Я не могу ей сейчас ответить ', но прошу тебя это сделать за меня, проси ее, чтобы она чаще писала мне, а я при первой возможности буду писать в Анапу. Я внушаю себе мысль, что с ними ничего не может случиться плохого. Надо во что бы то ни стало стремиться к тому, чтобы она с Мароником выехала к тебе. Разве нельзя этого сделать через Сталинград по железной дороге? Но, конечно, мама права, что ей нельзя двигаться одной с Мариком, это очень опасное предприятие. Пусть уж, в таком случае, остается в Анапе, будем надеяться, что все будет хорошо, как и до сих пор. Что можно сделать по поводу железок Марика, что говорят врачи? Я спрашивал у наших врачей, они говорят, что рост 101 см ничего сверхнормалъного не представляет. Помнишь, каким малюсеньким наш Марик родился? Как хочу я видеть его сейчас, таким большим. Не хочу верить, что с Ник. Арутюновым случилось плохое, ведь и вы ничего определенного не знаете. Он жив и дерется на фронте с немецкими мерзавцами. Передай привет мой Волоке и Ник. Губанову — нашим геройским защитникам. Что с Нюмой, где он? Странно мне представить Нюмку лейтенантом армии, но ведь он уже тоже большой! Мой горячий привет Самуилу, Нюне и Люсе. Дорогой Самуил! Большущее тебе спасибо за твое настоящее человеческое отношение к Лике и Марику. Я многим тебе обязан и ты можешь быть уверен в моей большой любви к тебе. Держись, крепись, старина, мы с тобой еще поживем! Ликин, если мама с Мариком выедут из Анапы, то вы все вместе выезжайте поближе сюда, здесь будет все же лучше. Если сможешь, вышли мне небольшую посылочку с табаком (махоркой), немного жиров и сахару. Вещей, правда, у меня многих уже нет, потому что был у меня довольно тяжелый период, пришлось поменять кое-что на хлеб, но сейчас я уж не так нуждаюсь. Вещей высылать не надо, обойдусь вполне. Деньги твои поступают на мой счет, последнее извещение было в январском переводе в 25 рубл. Я получил переводный бланк с твоим письмом. Моя дорогая, любимая женушка! Все, что держит меня в жизни, это — ты и Марик. Вы должны жить и будете жить. Мы должны быть вместе и будем вместе! Целую тебя крепко, крепко, будь тверда и спокойна, обнимаю тебя и люблю крепко — твой Семука. Еще и еще мои приветы маме, сыну нашему и всем родным.Это письмо в том же, присущем отцу жизнеутверждающем тоне, хотя сильно порезано — значит, что-то энкавэдэшной цензуре не понравилось. Что?.. Вопрос навеки без ответа. Отец будто смакует свою благонадежность, адресуя Партии, Родине, Сталину свою сокровенную преданность. Только эти слова ничего не стоят. Слова, слова, слова… Особенно поражают такие из них: «Разве нельзя этого сделать через Сталинград по железной дороге?» Вот-те на!.. Папа не знает, что нельзя!.. Ему неведомо, как и где мы сейчас воюем!.. Письмо, написанное в марте 42-го, свидетельствует о полнейшем разрыве информации, которой владел посаженный на 8 лет человек, с реальностью.
11/111 — 1942 Г. Дорогой мой и любимый сын Марик! Горячо поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья и счастья! Марик, вот тебе уже и пять лет! Ты уже совсем большой у меня сын. Мне хочется, сыник, чтобы ты был хорошим мальчиком, чтобы ты учился всему только хорошему и вырос достойным гражданином нашей Страны. Мароник, ты должен уже теперь понять, что сейчас мы все переживаем много трудностей, война сделала много горя и таким ребяткам, как ты. У многих деток немцы-фашисты убили папу и маму, эти детки остались одни. Им, конечно, очень тяжело. И ты, умница, мой мальчик, когда пожалел ту девочку, которая плакала над гробом своего папы. Таких деток — и девочек и мальчиков надо теперь всем нам любить и заботиться о них, как только можно. Наше государство этих деток окружает вниманием и заботой. Детки, оставшиеся без папы и мамы не должны чувствовать одиночества, они все наши близкие и родные, потому что их папы и мамы воевали с фашистами только ради счастья своих детей. Все наши бойцы думают только о будущей счастливой нашей жизни, поэтому они так храбро бьют фашистов. Мароник! Правда ты будешь доволен, узнав что я все твои вещи, которые тебе уже малы — отдала деткам, у которых фашисты отняли все. Вот, например, твои рубашечки, распашенки, нагруднички, чулочки и многое еще, что было у нас лишнего, я отдала от тебя маленьким крошкам. Правда же это так и надо, потому что маленьким деткам надо помогать. Сын мой, Марик! Тебе уже целых пять лет! Это уже не мало, ты становишься уже большим человеком. Я, папа и бабуня очень хотим, чтобы ты был настоящим Человеком, чтобы ты всегда помнил, что взрослым трудно было завоевывать для тебя и всех других ребят счастье, чтобы ты всегда ценил это и любил нашу Родину. Возможно, что ты еще сейчас не все понимаешь, бабуня тебе на примерах расскажет о том, как надо относиться к своим товарищам, к взрослым и стареньким людям. Хорошим мальчиком ты будешь только при условии, если будешь хорошо учиться и слушаться бабуню. Она мне пишет, что ты иногда ее жалеешь, просишь, чтобы баба отдохнула, полежала. Это хорошо, так и надо делать. Бабуня устает, она много работает для тебя, чтобы ты был сытый и чистый. Бабуню надо любить, она отдает тебе все силы, она хочет, чтобы ты был здоровеньким и крепким внуком. Марик! Мне очень жаль, что я не смогу быть у тебя на дне рождения. Но ты знай, что твоя мамуся всегда мыслями с тобой, что она очень крепко, крепко любит своего сыника. Если будет возможно, пригласи к себе в гости своих друзей. А потом я буду ждать от тебя письма, напиши мне, какие новые стихи ты знаешь и как прошел твой праздник. Я уже приготовила тебе, сын, подарок, в день твоего рождения. Угадай что! Настоящий двухколесный велосипед, — очень красивый, с настоящими шинами, педалями и седлом, точно такой же как у взрослых бывает. Жаль, что ты не увидишь его в этот день, но вот когда приедешь, — будешь кататься. Мамуся твоя заработала денежки и купила тебе этот большой подарок. Ну как, ты доволен? Напиши мне, родной сыночек! Целую тебя и крепко, крепко обнимаю. Твоя мама.Это письмо «бабуня» читала мне вслух в Анапе. И я, пятилетний, конечно, был счастлив и хлопал ушами. Мне было невдомек многое — и почему я до сих пор не видел папу, и почему курортная жизнь с ее хождением на пляжи и загоранием вперемешку с купанием так быстро кончилась, да и сама война. Правда, кто такие фашисты, я уже знал. Это те, кто нас бомбит. На двор падали осколки. И я прекрасно помню, как они врезались в землю около нашего «таганка» — так по-южному называлась самодельная печка, вся черная из-за обуглившегося железа. Эти осколки в первые секунды сначала бешено крутились, вздымая пыль, потом делали самое опасное — непредсказуемо прыгали по земле зигзагами и только затем застывали — трогать нельзя, обожжешься о жгучий обгоревший металл, жди, мальчик, пока остынет… У меня, помнится, была целая коллекция этих исковерканных железяк. Бабушка научилась во время бомбежек — как правило, их было по 3–5 раз в день — спасать меня и себя весьма своеобразным образом. Заслышав самолетный гул, она хватала меня, малыша, за руку, тащила в дом, и мы тотчас залезали под кровать. Считалось, что, когда дом будет разрушен, даже после прямого попадания и пожара, мы спасемся под обломками. Во всяком случае, под кроватью у нас больше шансов… Там же сетка!.. Она предохранит нас. Она примет обрушившийся потолок на себя. С этой верой мы всякий раз лезли под кровать, которую бабуня называла «бомбоубежищем» и имела на то основания. Ведь другого бомбоубежища в Анапе не было. Это в Москве люди прятались на станциях метро, а в Анапе метро не провели. Может быть, поэтому жертв среди населения прибавлялось каждый день. Все, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, знают: знаменитый детский курорт Анапа был полностью разрушен — есть соответствующие кинодокументы. Как мы с бабушкой остались живы в этом кошмаре — одному Богу известно. Это называется — поехали на курорт. Да и бои в этих местах шли ожесточеннейшие. Керчь, Новороссийск — это рядом! — там море окрашено кровью. Не смейтесь из-за политрука Брежнева над Малой Землей. Там погибло множество наших солдат и матросов. Малая Земля — действительно героическое место… У меня в 70-е был друг-писатель. Фронтовик, прошел всю войну… я его спросил однажды за бутылкой: — Скажи… что было самое страшное на твоей войне? Он долго думал, потом ответил, мне кажется, честно: — Самое страшное — это рукопашный бой. Представляешь, солнце печет, море рядом Черное искрится, кузнечики стрекочут, бабочки летают, тишина, и вдруг… стенка на стенку, мы морской десант, нас триста, их не меньше, если не больше… Я матросик, мне 20 лет… И вот, идем… друг на друга вдоль берега… Сначала какой-то вой и с их стороны, и с нашей… сходимся, и начинается форменная драка… только запредельная… кто-то стреляет, а кто-то кинжалом или штыком… кто-то кого-то душит, бьет чем попало — прикладом или кулаком… «я тебе пасть порву» — это буквально… И вот так минут сорок — кто кого?.. Месиво!.. Кровавое!.. Мертвые, раненые, живые, полуживые… без зубов, без глаза… из-под трупов, из-под общей свалки вылезаем… Осталось наших живьем человек сорок… Победили!., мне этот вой изредка снится по ночам… У-у-у-а-а-а… Вот этот вой, когда рукопашная, — страшней ничего на войне не знаю. — Вой — что?.. «За Родину, за Сталина»? — Какой там… Просто мат-перемат… У нас свой, у немцев свой… У них, представь, тоже свои ругательства, не слабей наших… — А где была эта твоя рукопашная?.. Тысказал — вроде у Черного моря? — спросил я. — Под Новороссийском, — ответил мой старший друг. — У города Анапы… Знаешь? Я ахнул. Значит… Бывает же такое!.. Я смотрел на бывшего матросика, ныне писателя, и слезы как-то сами выкати тись на мои щеки. — Ты чего? — Ничего. Мы крепко выпили в тот вечер.
7/Х — 1942 г., Решеты. Дорогая моя Лидука! Объяснение моего очень долгого молчания лежит в исключительно тяжелом настроении, какое у меня было в последние месяцы. Я очень виноват перед тобой, родная, но поверь тому, что буквально каждый день я брался за перо, а писать не мог. Утешать тебя, обнадеживать был не в силах, ибо сам тяжело переживал, и не находил слов подходящих. Прости меня, Лика, своим молчанием я доставил тебе лишнюю долю волнения, беспокойства, но смогли ли мои слова утешить тебя бы в таком глубоком материнском горе? Но ты неверно думаешь, что участь нашего сына меня не тревожит, как тебя. Пойми, Ликин, что если есть на свете какая-нибудь цель в моем существовании, то это только ты и Марик. Если есть стремление и воля к жизни, то только ради того момента, когда мы вновь окажемся вместе, в родной семье. Нужно ли рассказывать о бессонных ночах, проведенных мною в тревоге за сына, за тебя, за нашу мать? Величайшим праздником в моей жизни останется день 2/Х— 1942 г., когда я получил одновременно твои телеграммы и письма о благополучном приезде мамы с Мариком в Куйбышев и о твоем приезде туда. Я давно, очень давно, Лика, не плакал, но здесь слезы обильно полились из моих глаз, слезы радости, разрядившие необычайное нервное напряжение, которое я испытывал. Мечта последних полутора лет, с первого дня войны, о том, чтобы вы, мои единственные, снова съехались вместе живыми и здоровыми, — сбылась. Лидик! Прошу тебя передать нашей матери, Александре Даниловне, мое горячее сыновнее спасибо. За все, что она пережила ради тебя и нашего Марика. До последнего дыхания моего я буду помнить о великом подвиге, совершенном ею, и нет такой благодарности в мире, что смогла бы отметить этот подвиг. Ликин, моя родная, крепко жму твою руку и поздравляю с возвращением сына и мамы к тебе. О, что бы я сейчас отдал за минуту радости быть вместе с вами, прижать вас к своему сердцу, приголубить, защитить вас от горя и несчастий! Но, Лидик, каждую минуту, всеми мыслями я с вами, где бы вы ни были. Ты очень мало написала мне о здоровье Мароника и мамы. Что случилось с ними? Чувство кровной ненависти и желания отомстить фашистским разбойникам охватило меня, когда я читал в твоем письме, как эти немецкие звери бомбили эшелон с женщинами и детьми, где находились наши мать и сын! Сволочь Гитлер со своей бандой поплатится за это. И я не теряю надежды еще всадить штык в поганую харю фашистского кровопийцы! Как здоровье мамы и Марика сейчас? Поправляются ли они? Что с мамиными ногами, не повредило ли их очень? Ведь она и так страдает своей больной ногой! Лидик! Теперь ты должна послушать моего совета. Нужно вам переехать из Москвы сюда поближе. На Урале, в Сибири вам будет спокойней и лучше. Вы сможете быть вместе. Работу ты везде получишь, но будешь с сыном и с мамой. Где сейчас тетя Тася, Шура Мороз? Может быть, в те места, где они? Тебе это видней, и, если есть возможность переехать, то сделай это. Помнишь, как не хотел я, чтоб мама с Мариком ехали в Анапу, — я тебе писал об этом тогда. Предчувствие чего-то плохого было у меня, и оно меня не обмануло. Теперь же я хочу, чтобы вы переехали в более спокойное место и где жизнь может быть легче. Трудно мне что-либо советовать отсюда и настаивать на чем-либо определенном, — ведь я ничего не знаю, как там и что там… Так что, Лидик, решай сама, но учти при этом мое пожелание, идущее из моего сердца, любящего вас больше всего на свете. Я так много перестрадал, все перенес, упорно стараюсь жить. И все для того, чтобы впоследствии вернуться в общество свободных людей, в свою любимую семью. Если б не эта светлая цель, то я давно бы уже не выдержал, скапутился бы. Я нахожусь на прежнем месте, работаю, болел некоторое время. Сейчас я чувствую себя хорошо, с этой стороны ты не беспокойся, родная. Меня обидело твое подозрение, что я, мол, не пишу тебе из-за посылок. Это не так. Я знаю, как тебе тяжело, что тебе пришлось перенести, как ты питалась сама, и было бы дико, если бы я ожидал от тебя посылок. Прошу тебя, и на этом я настаиваю, чтобы все материальные возможности ты направляла и использовала для сына и для мамы. Берегите себя! Это единственное мое требование к вам. А себя я как-нибудь сберегу, я доживу обязательно до нашей встречи, я дождусь своего возвращения домой, — это моя клятва тебе, сыну и маме! Только будьте вы живы и здоровы. Ничего не посылай мне; если я буду нуждаться в помощи, когда уж не будет другого выхода, то я сообщу тебе об этом, — тогда ты мне поможешь. Недавно я получил от Паши, из Казани, хорошую посылку. Я очень благодарен Паше, думаю, что ты не винишь меня за это. Если я не писал в письме Паше о тебе, о сыне, то только потому, что за последнее время, я вообще не писал родственникам о вас, зная вашу отчужденность. Вот уже 3 месяца, как я им тоже совсем ничего не писал, ни одного письма. Не ругай меня за мои письма и сестре, и матери, — это ведь мои сестра и мать, они не забывают меня, я нуждаюсь в их поддержке и очень благодарен им. Их судьба мне так же близка, — пойми, что не могу я отсюда делать окончательное заключение насчет всего происшедшего, порывать с матерью, с сестрами. Свое слово я скажу, когда выйду на волю, встречусь с вами, поговорю. Может быть, нам еще предстоит такая счастливая, радостная жизнь, что забудем все обиды? Дорогая моя Лидука! Я столько переношу сам и вижу несчастья других, что мне трудно быть в обиде на отдельных людей, — пойми это! Единственно, против кого я питаю жгучую злобу и жажду мести, — это к гитлеровским чудовищам, этим бандитам с большой дороги, погубившим нашу жизнь. Ликин! Вчера у нас здесь была комиссия, отбирали людей для отправки в какое-то другое место. Я тоже прошел комиссию. Возможно, что в ближайшие дни уеду отсюда. Есть предположение, что поближе к вам, к Уралу. При первой возможности, — я тебе сообщу свой новый адрес. Если останусь на месте, то тоже сообщу. Но ты продолжай писать, т. к. письма все будут пересланы мне. Денег мне не высылай, — я их использовать не могу. Желаю тебе, маме и Маронику нашему долгой жизни всем вместе, здоровья. Крепко, крепко, как только могу, обнимаю и целую вас, ваш муж, отец и сын — Сема. Александра Даниловна, дорогая моя! К вам обращаю свою любовь, преданность и глубокую благодарность. Ваш Сема. Пишите мне все и как можно чаще, я тоже буду теперь писать.Ничего нового в письме. Разве что «сыновняя» благодарность моей бабушке за спасение меня — это клей и мед одновременно, единственно возможный способ сгладить уже произошедший раскол между его родными и моими. Отец тяготился этой жизнью меж двух огней. Ему надо было постоянно сглаживать конфликт. А чего его сглаживать, когда обе стороны друг друга «не принимают» и не хотят мира. Там, на фронтах, война Большая, кровавая, а здесь война маленькая, междоусобица, вроде бы крошечная, никому не нужная, но так же истощающая, отнимающая последние силы. «Приеду — разберусь!» — вот и всё, что он мог сказать воюющим сторонам, которые ради него, дорогого и любимого брата и мужа, должны были бы сблизиться, обняться, объединиться, но ничего из этого так и не сумели сделать — не сблизились, не обнялись, не объединились… Что ожесточило этих, в общем-то хороших, людей друг против друга?.. Ведь их вражда не более чем дрязги, не что иное, как проявление какой-то странной ортодоксии, свойственной людям неоголтелым, которые вдруг, будто ни с того ни с сего, становятся оголтелыми, неуступчивыми, крайне агрессивными. Мама имела свою гордыню и жила, как натянутая струна, в постоянном нечеловеческом напряжении. Семья отца, отказав Лиде от дома, считая ее «чужой», тоже делала ошибку, хотя бы потому, что выбор отца надо было уважать, а уж когда родился я и Сема сел, можно было по-человечески разделить и радость, и горе. — «Гвозди бы делать из этих людей», — правда, мама? — «Не было б в мире лучше гвоздей!» — откликнулась Мать, знаток тогдашней поэзии.
г. Канск, 29/Х — 1942 г. Дорогая моя Лидука! Все еще нахожусь в Канске и никуда не выехал, хотя ожидаем каждый день. С П. -Поймы, должны были срочно везти на Урал, к Свердловску, но вот почему-то крепко застряли. Может быть, что и вовсе останемся здесь, — кто его знает? Я послал тебе за это время два письма, дошли ли они до тебя? От тебя я уж давно ничего не имею. Последняя открытка была от 4/IX и телеграмма из Куйбышева. Жду почты из Решот, должны переотправить сюда. Во всяком случае, можешь писать пока что мне сюда: Канск, Красноярского края, почт. ящ № 235/8. Где сейчас Марик и мама, удалось ли тебе привезти их в Москву, поправляются ли они, как здоровье? Вот основные вопросы, волнующие меня. Прошу тебя быстренько ответить мне на них. Пока я нахожусь в этапе, очень боюсь, что за это время ты можешь переехать в новое место, и я потеряю связь с тобой. Это было бы самым худшим, особенно сейчас, когда я больше, чем когда-либо, нуждаюсь в твоей моральной и материальной поддержке. Па всякий случай сообщи мне адреса всех наших родственников для того, чтобы в случае твоего переезда я через них смог бы установить связь с тобой. Ты пиши мне, возможно чаще, сюда, так как если меня и отправят, то по существующим правилам почта должна пойти вслед за мной. Об отправке, если она случится, я тебе дам немедленно знать. Моя дорогая, любимая женушка! Со всей откровенностью должен тебе рассказать о том, что сейчас, как никогда мне нужна помощь. Началась суровая зима, а я не имею необходимых теплых вещей, белья, валенок. То, что было — съедено и частично разворовано. Знаю, что ты ничем не можешь мне помочь, но пишу о своей нужде для того, чтобы ты знала горькую правду, и, если только найдешь хоть малейшую возможность, помогла бы мне. Нужно эту зиму пережить: может быть, в течение ближайших месяцев разгромят немецкую банду, откроются лучшие перспективы. Но как прожить эту зиму? Буду держаться изо всех сил и возможностей; постараюсь не поддаваться даже еще большим невзгодам, но и сейчас мне очень тяжело. Пусть тебя, моя любимая, это мое состояние только вооружит волей к жизни, настойчивостью в сохранении себя и семьи. Единственное мое желание — это, чтоб вы, мои единственные, были бы живы и здоровы. Когда я узнал, что Марик с мамой вырвались из Анапы, избежали угрозы фашистского плена, встретились с тобой, — я ожил, это влило в меня бодрость и придало новый жизненный импульс. Сейчас мне трудно, очень трудно, я удерживаю в себе все лучшие надежды, цепляюсь за уверенность в благополучном исходе. Через 4 дня исполнится 5 лет… злосчастные для нас годы, что мы с тобой, родная, пережили за это время! Осталось значительно меньше, на худший конец еще 3 года, а надо думать, что кончится война, и я скорей вернусь к тебе. Моя хорошая, любимая женка! Не тревожься сильно обо мне. Если будешь иметь возможность чуть-чуть помочь мне — помоги, а если нет, то пусть тебя это не удручает. Самое важное для меня — это сознание того, что вы живы и здоровы, что и у меня есть для кого жить и стараться выжить обязательно. Я надеюсь на материальную помощь от сестер, я должен просить о ней и принять ее. Так обстоит дело у меня, моя Лидука! Может быть и не следовало писать об этом, но кому же мне рассказать о своей жестокой беде, кто еще должен знать о ней? Ведь мы с тобой так хотим дожить до нашей встречи, чтоб вместе обнять нашего сыника, воспитать его. Клянусь, что постараюсь не сдаваться, постараюсь остаться живым. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя, сына и маму. Твой Сема. Передай мой горячий привет всем родным. Пиши, что с ними со всеми.Конец 42-го года… Окровавленная страна занята тем же, чем этот исхудалый, затихший на час после рабочего дня человек в соленой от пота гимнастерке — выживанием. «Нужно эту зиму пережить»… Отступать некуда, позади пять лет… Он сидит на своей койке около тумбочки, перед ним листок бумаги, наполовину уже испещренный чернилами (бывает, и карандашом, когда чернила кончаются), и пишет любовное письмо. Своим ровным, почти каллиграфическим почерком он кладет буквы в слова чуть наискосок, чуть вправо — в них клятвенное «постараюсь на сдаваться» и очередное проявление всепоглощающей страсти. Он, видите ли, «ожил». И теперь… «Постараюсь остаться живым».
г. Канск, 6/XII — 1942 г. Дорогая моя, любимая женушка, милая Александра Даниловна, родной мой сынка Марик! Шлю вам мой большой сердечный привет! Дальнейшее мое этапирование отменено, я остался в Канске, там, где был первоначально, и адрес мой теперь тот же, что был до XII —41 года. Переведен я в одну из основных производственных бригад в бригаду № 5, работающую на 1-м шпалозаводе. Это стахановская бригада, держащая первое место среди четырех шпалозаводов, имеющихся у нас. Работаю я в станкосмене, на конвейере, у оторцовочного станка (циркулярная пила), торную шпалы и брус. Работа физически напряженная и тяжелая. Стараюсь изо всех моих последних сил, вчера, например, выполнил норму на 166 %, ибо знаю, что каждая шпала — это удар по фашистскому врагу. Перешел на жилье в хороший барак, у нас чисто, светло, каждый имеет свое место. Плохо у меня обстоит только с питанием. Очень нуждаюсь в помощи. Дорогая моя Лидука! Если только будет у тебя малейшая возможность прислать мне посылочку, то вышли ее. Некоторые ребята получают посылки багажом, отправляемые большой пассажирской скоростью по жел. дороге. Узнай на вокзале, как можно отправить багаж на ст. Канск, Красноярской ж.д. Если удастся отправить, сообщи № квитанции по телеграфу, а самую квитанцию ценным пакетом вышли мне. Багаж будет выкуплен и вручен мне. Больше всего мне нужны: немного жиров, сахару, сухарей, пара белья, одеяло, простыня, носки, портянки, брюки, гимнастерка. Повторяю, без помощи мне продержаться нельзя будет, слабею с каждым днем все больше и больше, а жить хочется и нужно обязательно сохранить силы, чтоб выйти отсюда полноценным человеком и работником. Обратись, дорогая, к родичам, проси хоть чем-нибудь помочь мне — мы все возместим с большой благодарностью. Родные мои! Не меньше, чем в материальной, я нуждаюсь сейчас в моральной поддержке. Пиши мне как можно чаще. Как здоровье твое, Мароника и мамы? Берегите себя, родные! Крепко обнимаю и целую. В. Сема. Привет всем родным.Надо признать, до сих пор работа счетовода-бухгалтера в зоне была для отца удачей. Он все же сидел за столом в сравнительном тепле. Теперь — на холоде, в бригаде, на конвейере, у циркулярной пилы. Он, обвиненный в срыве «стахановского движения», сам нынче «стахановец» — «торчую шпалы и брус». Мама (бормочет себе под нос).…Немного жиров… Это две пачки масла… нет, пачку… иначе перевес… сахару… сухарей… пачка и еще пачка… значит, уже три пачки… пара белья… купила… одеяло… простыня… нашла… носки… есть!..портянки… где ж я ему возьму портянки?.. Мама, разрежь эту тряпку Семе на портянки… Да не жалей, разрежь… Брюки дал Самуил… свои, старые, ношеные, но еще ничего… гимнастерка… Опять?., я же ему две гимнастерки уже посылала… Хорошо, достану третью… Мама, ты разрезала?.. Нет?.. Режь, я сказала… Режь! (Укладывает посылку в ящик. Пробует тяжесть.) Нет, перевес… Сухари придется вынуть. Мама, запомни: мы вынули сухари!.. Будут ему сухари, но в следующий раз! Отец. А если… следующего раза не будет?!.
Канск, 21/XII — 1942 г. Здравствуй, моя любимая женушка! Послать телеграмму нельзя, но мне разрешено отправить письмо с просьбой о посылке. Дело такое, что я сейчас особенно остро нуждаюсь в помощи, как никогда раньше. Если только будет малейшая возможность, пришли мне из продуктов: немного жиров, сахару и сухарей, а из вещей: пару белья, простыню, теплые рукавицы, мыло, зубной порошок, нитки черные, носки теплые и летние, брюки, гимнастерку, рабочие сапоги или ботинки № 42. В первую очередь, конечно нуждаюсь в продуктах. Обратись, пожалуйста, к родственникам, — из мест, в которых они живут, отправка посылок разрешается. Можно отправить и багажом по жел. дороге в мои адрес. Квитанцию отправить мне ценным пакетом, а здесь по моей доверенности, наше почтово-посылочное бюро выкупит багаж на станции. Говорю, моя родная, прямо и откровенно, что без помощи извне я не сумею продержаться в нынешних условиях. Только поэтому я и обращаюсь к тебе, хотя знаю, что и тебе с сыном и мамой живется тяжело. Из того, что я прошу, пошли самый минимум, который доступен тебе по средствам. Но, прошу тебя, моя Лика, прими меры, чтобы посылочку отправить мне как можно скорее. За последнее время я начал, как здесь говорят, «доходить»: физически ослабел и настолько отчаялся, что начал терять последние остатки моральных сил. Последнее пугает меня больше всего, — поддержи, родная моя, своим теплым, дружеским любовным словом. Вот уж три месяца, как я не имею от тебя никаких известии, волнениям моим нет конца, только и думаю: где они, что они, как они? «Они» — это вы, мои единственные! Сколько радости у меня было, когда я получил твои телеграммы и письма о том, что мама с Мариком выбрались из Анапы, приехали в Куйбышев и что ты поехала к ним (твою открытку из Куйбышева я получил). А что дальше? Удалось ли тебе привезти их к себе в Москву? Где и как вы сейчас живете? Ведь мама была тяжело больна, — тебе об этом Нинза сообщала, — как ее ноги? Поправился ли наш Марик? Как твое здоровье, моя любимая? Что это за болезнь с температурой тела в 40° без диагноза, как сейчас ты себя чувствуешь! Берегите себя, родные мои! Вы должны и обязаны жить, должны быть здоровыми и неуязвимыми для несчастии и бед. Пусть маме с Мариком пришлось очень тяжело, но они выбрались из ада, они избежали угрозы фашистского плена, они остались целы от ужасных, разбойничьих бомбежек гитлеровцев. Значит, судьба не всегда против нас, она охраняет моих дорогих, самых близких мне людей. Передай маме мои горячие пожелания скорее оправиться после пережитых ужасов, а также мою сыновнюю благодарность за ее героизм и спасение нашего сынульки. Когда я вернусь к вам, я отвечу ей самой большой преданностью и любовью. Дорогая женушка, обрати пристальное внимание на состояние нервной системы нашего мальчика. Он слишком много перенес для своих лет и слишком много понимает. Нужно оградить его от недетских впечатлений, создать условия для нормального воспитания сообразно его возрасту. Напиши мне подробнее о вашей жизни, я постараюсь помочь тебе своими советами. Я остался в Канске, там, где был в прошлом году. Работаю в одной из лучших бригад на шпалозаводе станочником по оторцовке шпал и бруса. Работа для меня очень тяжелая, тем более, что я ослаб здоровьем и силы тают с каждым днем. Но я стараюсь работать до последнего, не отставать. Не буду работать — погибну. Дело только за вашей помощью, которую я надеюсь скоро получить. В адрес заключенных отправка посылок разрешается, нужно в адрес писать: «Заключенному». До вчерашнего дня у нас стояли хорошие теплые дни, а сегодня крепкий сибирский мороз. Хочу обязательно пережить и эту зиму, а она будет наиболее тяжелой… Мой адрес: г. Канск, Красноярского края, п/я 235/8. Горячо и крепко обнимаю и целую тебя, сынку и маму. Ваш. Сема. Привет всем родным. Как Самуил, Нюня, что пишет Нюма? Что слышно о Ник. Арутюнове, Шуре Тиматкове, Коле Губанове? Сообщи адреса Нинзы и Морозов. Пришли мне бумаги для письма и для курения. Еще разик целую, Сема.Очень трогательно звучит: «значит, судьба не всегда против нас». Мама. Рукавицы! Он раньше рукавицы не просил… Там мороз сорокаградусный, а Сема без рукавиц торцует шпалы… Я. Начал «доходить»? А не надо было план гнать, «стахановец» хренов!.. 166 процентов!.. Ай, какой герой!.. Без штанов!.. Без сапог!.. Без ботинок!.. Без рукавиц!.. Мама. Носки… Я же послала ему носки… «теплые и летние»… Да зачем ему сейчас, в декабре, летние!.. Обойдешься пока!.. Так, квитанцию не забыть… Зубной порошок положила… Нитки черные… Господи, у них там даже ниток нет!.. Белье отправила. Так. Мама, дай крышку эту фанерную… (Пишет.) «Заключенному»… О господи, он же еще бумагу для писем просит… И бумаги у него нет… Ничего-то у них нет!..
Канск, 10/1 — 1943 г. Любимая Лидука, здравствуй! Письмо от 21/XII не смог отправить, а теперь добавляю вот это. Живу по-старому, т. е. там же. Работаю на шпалозаводе. До 1/1 ходил в ночную смену, а январь м-ц, до февраля, в дневной. Наша бригада № 27 занимает первое место во всем Краслаге, работает стахановскими методами и намного перевыполняет план. Нахожусь в приличных бытовых условиях: оштукатуренный барак, нары вагонной системы, чисто и тепло. Работаю крепко и много, очень устаю и перемерзаю. Но хорошо, что возвращаюсь с работы и попадаю в теплое, светлое общежитие, где можно отдохнуть. У нас уже стоят крепкие морозы. Сегодня —38°, но у нас выходной день. Два раза в месяц мы имеем отдых полный. Все было бы ничего, моя Лика, но, повторяю, сейчас, как никогда прежде, я нуждаюсь в дополнительном питании. Если я его не получу, то мне будет очень плохо. Как можно скорее организуй отправку мне посылочки. Что только сумеешь, отправить мне из продуктов (а также из вещей), — все это поддержит меня в сильнейшей степени. Ликин! В одном из твоих писем ты выразила обиду на меня за то, что я просил о посылке. Ты писала, что если б была возможность, то ты выслала бы ее без моей просьбы. Я помню об этом хорошо, но все же прошу о помощи, т. к. нахожусь в таком положении, которое заставляет кричать о себе. Я думаю, что ты поймешь это и простишь меня. Хочу обязательно продержаться, дожить до освобождения, до возвращения к вам, моим любимым, до настоящей человеческой жизни. Я очень истосковался, моя родная, чертовски устал, с трудом поддерживаю в себе волю к жизни. Последние победы нашей Красной Армии над фашистами окрыляют мои надежды на скорое окончание войны и, может быть, освобождение и меня. Как обидно, Лидука, что я не могу находиться в рядах бойцов за любимую родину против немецких бандитов… Я уже подал несколько заявлений об отправке на фронт, но пока что результатов нет. Пошел 6-ой год, осталось еще 2 г. 10 месяцев. В сравнении с прошедшим сроком осталось уже немного, но боже мой, как же прожить это оставшееся время? Когда мне бывает особенно тяжело и тоскливо (а в последнее время это случается слишком часто), я думаю о нашей семье, о тебе, о Марике, о будущем нашем счастье, о великой радости, предстоящей после разгрома гитлеровской орды. Моя Лидука, надо жить, жить во что бы то ни стало, дождаться этого счастья, этой радости. Помоги мне сейчас в этом, моя родная! Нуждаюсь я в твоем теплом, искреннем слове, в твоей горячей любви, в твоей поддержке. Береги себя, сына, маму, держитесь крепко друг друга. Я бы хотел, чтоб вы переехали поближе сюда, здесь, в Сибири, и спокойней, и сытней. Работы здесь много и сможете устроиться. Напиши мне об этом, — ведь сейчас, когда мама и Марик выбрались из Анапы, препятствий к переезду вашему уж нет. А когда я освобожусь, то вряд ли будет возможность мне жить в Москве, скорее всего где-нибудь в этих местах. Так обстоит дело, моя дорогая. Очень прошу, чем скорее написать, прислать мне последние фотоснимки ваши, а как получишь письмо, телеграфировать мне. Передай горячий привет всем родным: Самуилу, Нюне, Нюме, Люсе, Нинзе, Васе, тете Тасе и всем, всем. Крепко, крепко целую, твой Сема. Мароник ведь уже умеет писать, — жду его письмеца.Год 43-й знаменует приближение долгожданного освобождения. У отца дубленая кожа, большие, огрубелые от физической работы руки, не раз и не два промерзшее лицо… Я вглядываюсь в немногочисленные фотографии родителей в те годы. Улыбки отсутствуют, присутствует какая-то еле сдерживаемая скорбь. Отец продолжает строить мнимое будущее: «Препятствий к переезду вашему уже нет. А когда я освобожусь, то вряд ли будет возможность мне жить в Москве, скорее всего где-нибудь в этих местах», — осторожно говорит он. Но сам-то знает твердо — никакого «вряд ли», а совершенно точно жизнь в столице ему будет запрещена. Но Лиду надо готовить к этому радикальному решению, называемому переменой места жительства. И нужно посмотреть правде в глаза: «женушка» — не готова.
Канск, 25/11 — 1943 г. Дорогая моя женушка! Как можно передать тебе о моем беспокойстве по поводу твоего молчания? Ведь я послал тебе 4 письма, но ответа не имею. Только из Пашиного письма от 25/1 я узнал, что ты с Мароником в Москве, на старой квартире. Это мне доставило много радости, — вы живы, здоровы, мои родные! Лидик, мой славный и единственный друг и жена! Прошу тебя сейчас же оторваться, напиши мне подробно о себе, о сынке, о маме, о вашей жизни, здоровье, обо всем, что случилось за последние полгода, пошли мне срочно телеграмму, как только получишь это письмо. Может быть, ты обиделась на меня за мои докучливые просьбы о помощи, о посылках, а ты не имеешь возможности их послать? Так напиши мне об этом просто и откровенно — никаких обид и претензий у меня к тебе за это не будет. Я знаю, что тебе сейчас очень тяжело живется, но, несмотря на это, я просил о помощи, так как это для меня вопрос моей жизни, моего дальнейшего существования, вопрос нашей будущей встречи и совместной семейной жизни. Мне сейчас очень трудно, я болен, ослабел до крайности, вишу буквально на волоске. Мне необходимо подняться на ноги, восстановить силы, окрепнуть, — это, при моем состоянии длительный и трудный процесс, — а где и откуда взять ресурсы для всего этого? Вот почему я и обращался и обращаюсь и к тебе, и ко всем родным, с великой просьбой и мольбою о помощи, о самой срочной помощи, кто чем только может. Если ты сама не можешь добиться разрешения на отправку посылки, сделай это через Пашу, — она мне отправила уже, но я до сих пор еще ничего не получил. Напиши родным, тете Тасе, Шуре, Мороз, Нинзе, из их мест, может быть, принимают посылки. В адресе на посылке, надо указывать: «Заключенному», т. к. нам объявляли, что в адрес ЗК посылки принимаются повсеместно. Никаких деликатесов мне не нужно, я нуждаюсь в следующем: сухари, крупы разные, сушен, картофель, антицингарное, и, если можно, жиры и сахар (или что-нибудь взамен). Скоро наступает весна и мне нужно: простые сапоги или рабочие ботинки (№ 41), рабочий костюм (брюки и гимнастерка), белье, носки, портянки, простыня, мыло, зубной порошок, чайной соды (это для желудка), нитки. Главное, конечно, и в первую очередь, вышли мне продуктов. Мобилизуй для этого всякую возможность, моя родная, Лидука, поверь, что если бы я не испытывал в этом такой же острой и жизненной потребности, я бы не просил тебя отрывать от себя, от сына и от больной матери кусок хлеба и посылать его мне. Но, повторяю, это вопрос жизни. Если нет никакой у тебя возможности, напиши мне об этом, моя родная, я хочу знать о вашей жизни правду и делить все твои нужды и невзгоды. Будет (если я доживу до этого) время, когда мы заживем с тобой хорошо и радостно, без нужды, счастливо, сытно, в счастьи и любви, своей маленькой, тихой семьей! Когда мне бывает очень плохо, я закрываю глаза и передо мной проходят иллюзорные картины нашей будущей жизни, нашего уюта. Ты, Марик, я, наша бабушка, — сидим все за семейным столом, едим вдоволь, пьем, тихо, любовно беседуем, — и так хорошо, тепло становится, кровь начинает живее бегать по жилам, а жить еще больше хочется… Я бьюсь из последних сил, поддерживаю в себе всеми способами надежду на благополучный исход моей горькой судьбы. Но без материальной, существенной помощи я не могу обойтись. Так обстоят мои дела, родная моя Лидука! В ближайшее же время жду от тебя, в первую очередь, телеграфной весточки, а потом и подробного письма. Твое молчание меня совсем добивает, пойми это. Как живут все родные? Живы ли, здоровы? Что слышно с Ник. Арутюновым, где Майка с детьми, что с Шурой Тиматковым, Володей и Николаем? Живы ли все они, наши доблестные защитники? Передай им мой горячий привет и пожелания. Передай братский привет нашему Нюмику. Я знаю о его ранении и контузии и очень взволнован его состоянием. Пришли в письме фотографии Мароника, свою и мамину, — я хочу посмотреть на вас, моих родных и иметь дорогие мне образы на своей груди, когда мне бывает плохо. Обнимаю крепко и горячо, целую тебя, моя Лидука, моего сынку, маму. Ваш Сема.Мольба услышана. Мама собирает и шлет «посылочки» по второму и третьему разу… Иногда они доходят, иногда нет. «Посылочка» — недаром «ласкательная» форма, которую так часто употребляет отец. Каждый ящичек, присланный, как сказали бы на Камчатке, «с материка», был и в самом деле спасительным от болезней и скорой кончины на оледенелой земле. Отец молит, но не унижается, не теряет достоинства. Ясно, что он нищенствует, ходит в тряпье, грязный и истерзанный непосильным трудом. Да тут еще от жены ни слуху ни духу. Депрессия снова подступает, но теперь она лезет уже не крадучись, не незаметно. Теперь от нее просто не отмахнешься…
Канск, 21/111 — 1943 г. Дорогая моя Лика! Что и как писать тебе? Вот уже около года я ничего не имею от тебя. Почему? Что случилось? Ты имеешь мои письма, знаешь обо мне, о моем состоянии, но молчишь, не отвечаешь. Или я тебя оскорбил своими просьбами о помощи? Или ты решила привести в исполнение свою угрозу разрыва со мною из-за моей связи с родными моими? Оправдываться я не буду, мои отношения с моей матерью и с сестрами — не преступление, они — мои родные, а судить об их поведении и отношении к тебе я могу не заочно, а когда вернусь домой, — об этом я уже писал тебе давно и ты согласилась со мною. Во всяком случае, они беспокоятся обо мне, проявляют действительно родственное отношение, на протяжении всего последнего времени помогая мне. Могу ли я отказаться от их помощи или не обращаться за помощью? Это было бы бессмысленно с моей стороны, т. к. я еле держусь на ногах, жизнь моя висит на волоске, а я хочу жить. 10 дней назад я получил от мамы и Розы первую посылочку, в ней было грамм 300 сала, 250 гр. масла, 300 гр. меду и немножко выжарок, 2 пары теплых носков и старенькие валеночки. Эта маленькая помощь явилась для меня жизненной поддержкой, ты, Лидука, должна понять, что это значит для совершенно истощенного человека… Еще несколько таких посылочек, и я, может быть, смогу встать на ноги и почувствовать себя вновь человеком, способным вполне сносно жить и трудиться. Я и так работаю изо всех последних моих сил, отдавая свой труд на помощь фронту. Работаю на тарном заводе № 1 звеньевым по уборке и относке из цеха отходов и готовой продукции, сортировке ее и штабелевке на складе. В моем звене до 20-ти человек и я сам работаю 11 часов ежедневно. У нас уже начало теплеть, только вот ночные и утренние заморозки еще крепки, а днем подтаивает даже, в валенках мокро, а ботинок или сапог у меня нет. Целый день, и ночами просыпаясь думаю только о вас, о тебе и сыне, нервы напряжены до крайности, не знаю ничего и толкаюсь от одной беспокойной мысли к другой… Ты должна, моя любимая, сообщить мне немедленно все подробности о себе, о сыне, о маме, как вы живете, как здоровье ваше? Если ты не имеешь возможности помочь мне материально, помоги мне хотя бы морально, своим теплым дружеским словом, своей весточкой о моей любимой семье. Я знаю, что если ты ничего не высылаешь мне, то, значит, ты не можешь это сделать. Я к тебе ничего не имею и больше никогда просить у тебя не буду. Если я доживу до счастливого дня возвращения домой, поверь, мы вновь заживем хорошо, счастливо и, надеюсь, без нужды! На мои заявления об отправке на фронт ответа не имею, но говорят, что, когда понадобится, то возьмут. Я на это не надеюсь, знаю, что осталось еще 2 ½ года до срока, буду стараться жить и честно, изо всех сил трудиться. Прошу тебя, родная, не забудь обо мне, не оставь меня, я храню, как святыню, все твои письма (ты не забыла, что ты писала мне всегда?). Я надеюсь, что стану вновь получать от тебя частые весточки, что ты пришлешь мне фотокарточки свои и Мароника. Крепко обнимаю, целую, горячо, твой Сема. Привет всем родным, напиши мне о них.Итак, он на новой работе — тарный завод, «звеньевой» по уборке и относке… сортировке и штабелевке… Короче, таскает и носит, носит и таскает… Правда не шпалы уже, а «отходы и готовую продукцию». Стахановский запал, видимо, слегка поугас, но «11 часов» физического труда ежедневно (всего 2 дня выходных в месяц, как мы помним) — как говорят евреи, это что-то! На фронте было бы лучше — там хоть знаешь, за что ноги протянешь, а тут… Ну, ни хрена. «Осталось 2 ½ года до срока»… Знал бы, что ошибался, может, быстрей «доходягой» бы стал и — с копыт…
Канск, 4/IV — 1943 г. Мои любимые женушка и сынка Марик! Примите горячее сердечное поздравление от вашего мужа и отца по поводу дня вашего рождения. 3-е и 5-е апреля ежегодно для меня являются большими днями, когда в особенности веемой мысли и думы только о вас — моих родных и любимых. Сегодня у нас выходной день и я имею возможность целиком отдаться воспоминаниям и перенестись своими мыслями и мечтаниями к вам, в Москву, в нашу тихую комнатушку. Всю мою жизнь я отдал бы за 15 минут пребывания с вами вот сейчас, сию минуту. Как горячо я обнял бы вас, прижал бы к своему исстрадавшемуся сердцу и мне стало бы так легко и тепло!.. Я так измучился уже, истосковался, я так нуждаюсь теперь в тепле и отдыхе — физическом и моральном. Давно, очень давно я уже не получал твоих писем, Лидука. Этим ты вовсе добиваешь меня, лишаешь даже тех коротких минут относительного покоя, которые могли бы быть у меня. И, главное, никак не пойму я причин такого упорного твоего молчания. Ведь я послал тебе много писем (учти при этом, что я не могу всегда, в любой момент писать их тебе), но ты ни на одно мне не ответила… Что случилось, чем я заслужил такую казнь? Мое состояние таково, что уж, пожалуй, и без давления извне, я могу не дотянуть до радостной минуты возвращения домой, а ты выбиваешь из моих ослабевших рук последнюю соломинку, за которую я хватаюсь с такой глубокой надеждой на спасение. 5 ‘А лет тяжелых мучений, ужасного существования… А сейчас — самый горький период, когда я уже с трудом волочу свои ноги, когда я ослабел донельзя и физически и морально, когда только моя сильнейшая воля к жизни, и сохранившаяся уверенность в вашей любви ко мне, и мечты о светлой, радостной нашей совместной жизни в недалеком будущем, только они еще двигают мной, поддерживают меня в этой жизни… Пойми, что только мысль о вас давала и дает мне силы, заставляет жить, преодолевать все мучения и невзгоды! Ты лишаешь меня этого живительного источника моих сил, вселяешь в мою душу смятение, не говоря уже о той моральной и материальной поддержке, в которой я так нуждаюсь и которой я жду каждый день, каждый час. Ежевечерно, возвращаясь с работы, уставший и обессиленный, я захожу в наше почт. — посыл. бюро с великой надеждой получить хоть что-нибудь, ноувы… И так каждый день ни весточки, ни посылочки… но если ты не имеешь никакой возможности помочь мне материально (хотя Паша помогла бы тебе в отправке посылки из Москвы или это можно было бы сделать через родных, живущих теперь в провинции), то не оставляй меня хотя бы без писем, без вестей о доме, о семье, без твоего теплого, любящего слова! Я в нем нуждаюсь сейчас так же, как и в хлебе, как немаленьком кусочке масла. Но довольно об этом… Я надеюсь, жду и требую от тебя, как муж твой и отец нашего Марика, чтобы ты немедленно сообщила мне о своей жизни, здоровье и, чтобы больше таких перерывов в связи со мною не допускалось с твоей стороны, ибо это мной совсем не заслужено. На самый худший конец осталось еще 2 г. 8 мес., по прошествии которых, если только я останусь жив, я должен вернуться домой, к своей семье. Мне сейчас очень тяжело, но я буду жить для этой цели, ты мне поможешь в этом. Но, если нет у меня дома, нет у меня моей любимой семьи, моей Лидуки, моего сынки, то и не надо жить, не для чего и не для кого переносить все испытания, не стоит мучаться… Скажи мне об этом ясно и откровенно, ты обязана сделать это, как жена моя, как мать нашего ребенка и, наконец, как человек. Жду твоей телеграммы и подробного письма. Дальше так продолжаться не может, нет у меня сил переносить это, поверь, моя любимая! Отзовись, откликнись, моя девочка, помоги — своему Семику, ведь ему сейчас так плохо… Еще и еще раз посылаю свои горячие поздравления (получила ли ты мое письмо от 20/111? Я его послал, чтоб вы его получили к этим дням), будьте, мои дорогие, живы и здоровы, берегите себя, родные, будьте счастливы и неуязвимы для всяких бед и несчастий! Крепонько вас целую, ваш Сема. Мой привет маме и всем, всем родичам.Приходящие (далеко не все и с такими перерывами) письма бередили душу — они и успокаивали, и терзали… Отсюда — желание «выяснить отношения», казалось бы, ясные, но омрачаемые домыслами, фантазиями и всякими видениями, к которым по понятным причинам склонен одинокий человек. Страдания растут, наматываются друг на друга, сердце, глупое, трепещет, как птичка в клетке… Что-то постоянно гложет — сегодняшний день во тьме, а завтрашний тоже пока ничем не светит… Ну, выйду я. А куда выйду?.. Где буду жить?.. И с кем? Серьезный разговор назревает. Но как тут не ошибиться, не сделать лишнее движение?.. Как не быть опрометчивым и резким в суждениях? Лида поймет. Должна понять. На то она и жена…
Канск, 26/IV — 1943 г. Славная моя, любимая Лидука! Письма от 20/Ш и 28/III, первые твои письма за последние ½ года я получил 16/IV. Долго я не мог развернуть конверта и читать, держал их в руках, глядел на них, настолько велико было мое волнение и велика радость. Никогда я не сомневался в твоей любви и преданности, в том, что ты, Ликин, не можешь забыть и оставить меня. Об этом я уже писал тебе и в последнем своем письме, за резкий тон которого прошу простить меня, Лидукин. Долгое отсутствие каких бы то ни было весточек от тебя выбило окончательно меня из колеи. Состояние неуверенности, растерянности и предельной раздражительности овладело мною целиком. Вот источник и причина резкости предыдущего письма. Сейчас мне стало немного легче — от сердца отлегло… Пойми и запомни: все мое существование только и поддерживается связью с вами, моими родными, уверенностью в том, что, когда настанет час моего освобождения, я вновь обрету мою семью, любящую и любимую. Не будь этой надежды, я бы уж давно не выдержал этого, поэтому я и жду, что ты исполнишь свое обещание и будешь писать мне теперь часто, подробно и откровенно обо всем. Прежде всего необходимо нам рассеять какую-то возмутительную ошибку, допущенную толи тобою, то ли мною самим: это насчет наших будущих отношений. Никогда и нигде, по-моему, я не допускал неопределенности и туманности в этом самом важном для меня вопросе. Не мог я допустить мысли о возможном с моей стороны разрыве. Это настолько чудовищно и нелепо, это так идет в разрез с моими сокровенными чувствами и желаниями, что и говорить об этом не надо, Лидука, родная моя! Брось об этом и думать, — этот вопрос пусть тебя вовсе не занимает. Нам надо обязательно прожить оставшиеся 2 ½ года, а тогда, уж где бы и куда бы меня дальнейшая судьба не занесла, вы будете со мной, мы будем вместе. Вновь заживем мы счастливо и хорошо, с той только разницей от прошлого, что теперь-то я отдам моей семье, любимой женушке и дорогому сыночку, весь свой досуг, все время, свободное от работы, и все свое внимание. Ликин, милая! Если б ты знала, как истосковался я по любви, по ласке, по теплу и уюту, по родному очагу… Где же и у кого я найду их, как не у тебя, моей Лидуки? Будь бодрой, крепись, не падай духом. Гитлеровская фашистская сволочь будет разбита, земля наша очистится от вражьих полчищ, кончится война и, может быть, и раньше назначенного срока меня выпустят, тогда, — лишь бы дожить и продержаться до этого момента. Знаю, что тебе с Мариком и с мамой тяжело, плохо живется. О, что б я отдал, если б мог вам помочь!.. Но, в этом смысле, я не в меньшей беде, и ничего не могу сделать. Тебе, Ликин, надо поразмыслить в двух направлениях: первое. Вещи, отправленные с Шурой, нужно тебе получить. Дорожить ими нечего, — будем живы, все будет снова. Оставить себе минимум, самый необходимый, а все остальное использовать на питание. Мне ничего не посылай, за исключением разве, если только будет когда-нибудь возможность у тебя, сухарей и табака. Добейся отпуска и поезжай за вещами, забери их, а то, что можно, достань в Сарапуле, — там, наверное, легче с продуктами, чем в Москве. Второе: если сможешь найти себе работу в провинции, лучше всего в Казахстане, Средней Азии или в Сибири, — то не раздумывай и переезжай. Я имею сведения, что в Киргизии, в Казахстане живется хорошо, продукты есть и сравнительно дешево. Все равно вряд ли мы будем жить в Москве, так как по освобождении, мне, очевидно, как и всем назначат для жительства другие места. Где-нибудь в районе, будешь работать по специальности, заведешь себе огородик, поросенка, и если будут средства, то и коровку, — можно будет жить. Вот у нас здесь в лагере, я смотрю на многих вольнонаемных работников, преимущественно женщин, эвакуированных с запада, — живут хорошо, сытно. Да и освобождающиеся, что остаются работать в системе ГУЛАГа, тоже получают хорошую работу и живут без особой нужды. Обратись в ГУЛАГ, предложи свои услуги для работы по специальности, тебя направят на периферию, обеспечат квартирой и прочими условиями. А где ты будешь работать в системе лагерей, может и мне, по освобождении, разрешат туда выехать, — там будем вместе. Я все же настаиваю, Ликин, на твоем переезде, — это обеспечит тебя с семьей лучше, чем сейчас вы живете. Конечно, пока есть возможность надо ехать не наобум, а подготовивши место, условия, т. е. по командировке из центра, в хорошее место и на подходящую работу. Мне кажется, что если тебе удастся реализовать эти два пункта (возврат вещей и выезд), то вам станет легче и лучше прожить это тяжелое время. А работать ты сможешь и будешь в любом месте, так как это нужно и для пропитания семьи и, главное, для быстрейшего разгрома врага. Я всегда думаю об этом. И когда работал на шпалорезке, и на выколке бревен из льда, и в тарном цехе, я всегда думал, что каждая шпала, каждое бревно и каждаядоска, — это удар по проклятым фашистам. И это придавало силы в работе, ибо ничего мне не хочется так сильно, как быстрейшего окончания войны с полной победой над разбойниками-гитлеровцами. Всю зиму я пробыл на тяжелых работах, но не отставал от других, перевыполнял нормы выработки. В декабре м-це я надорвался и у меня возникла грыжа белой линии, не дававшая мне возможности нормально работать. 11/IV мне была сделана операция, грыжа вырезана. Из больницы я вышел 22/IV и получил освобождение от работы на 20 дней. Сейчас нахожусь в бригаде слабосильных и отдыхаю. Обо мне не беспокойся, операция прошла вполне благополучно, чувствую себя хорошо. Теперь, возможно, меня назначат на более легкую работу, — это будет хорошо. Только вот подняться бы мне на ноги, окрепнуть — хоть немного. Ты не волнуйся, Лидука, все мои усилия направлены к тому, чтобы выжить, сохранить себя, и я крепко надеюсь, что это мне удастся. И ты, родная моя, все усилия свои должна направить к этому же. Я глубоко надеюсь, что встречу вас живыми, здоровыми. Передай маме мой горячий привет и пожелание здоровья. То, что она сделала для нашего сына, а значит для нас с тобой, Лидука, мы никогда не сможем забыть и в должной мере оценить. Много раз за эти дни и ночи я перечитывал твои письма, больно отзываются они в моем сердце. Но что можно сделать? Надо крепиться и бодриться. Ко мне приезжать не надо ни в коем случае. Свидания не дадут, сейчас они никому не разрешаются. Но, если бы даже и дали, то дорога настолько тяжелая, что пускаться в путь слишком опасно. Отсюда выехать очень трудно, почти невозможно, это будет стоить тебе огромных средств и потери сил и здоровья. Поэтому, Лидука, мы отложим твой приезд на лучшие времена. Что же касается помощи мне, то, повторяю, если будет возможность, то отправить посылочкой, а ехать из-за этого не надо. Может быть родичам удастся что-нибудь отправить мне. Передай благодарность тете Тасе, жалко, что ее посылочка вернулась обратно. При возможности переведи мне немного денег, рублей 100, а ежемесячно по 50 рублей, — деньги у меня уже все вышли с моего лицевого счета. Если получишь вещи из Сарапула, — вышлешь мне самое необходимое из одежды и белья. Вот и все. Еще и еще раз повторяю: обо мне не беспокойся, постараюсь жить во что бы то ни стало, тем более, что получаю помощь от моих родных. Когда улучшится твое положение, то и ты сможешь мне помогать, — пусть это тебя сечас не удручает. Мне нужно только одно: чтоб вы, мои дорогие, были живы и здоровы, не забывали обо мне, часто писали. Рисунки Мароника для меня явились светлым праздником. На его письма я напишу отдельно через несколько времени. Пришли мне ваши фотографии, хочу видеть вас такими, какие вы есть сегодня. Крепко и горячо обнимаю, прижимаю к своему сердцу и целую, твой Сема. Привет всем, всем родным, Самуилу, Нюне, Нюме, Майке с детьми и всем, всем родичам.Выговорился! Письмо, ставящее точки над i. «Куда бы меня судьба ни занесла, вы будете со мной, мы будем вместе». Именно этого позже не случилось. Маму, видимо, не на шутку испугало то, что предлагал — совсем не в шутку! — отец: «Заведешь себе огородик, поросенка, и если будут средства, то и коровку, — можно будет жить». Не можно, Сема, в том-то и дело, что не можно. Мама. Совсем сошел с ума мой муж — предлагает работать… в ГУЛАГе!.. Это как назвать?.. Мама ужаснулась отцовским бредням. «Синдром заключенного», выражающийся в переходе от сопротивления к служению в тех самых органах, которые лупили и допрашивали тебя, допрашивали и лупили?.. Да ни за что!.. «Обратись в ГУЛАГ, предложи свои услуги»… Сам обратись. Сам предложи. Это какой-то нонсенс. Сухарей и табака я тебе, конечно, вышлю. Но зачем на меня давить: «не раздумывай и переезжай». Легко сказать, да непросто сделать. Вот и получается: у мамы своя правда, у папы своя. Как их совместить?
г. Канск, 20/V — 1943 г. Моя любимая женушка, здравствуй! Вчера получил твое письмо от 20/IV. Большое спасибо тебе, моя родная, что пишешь теперь мне, хотя и не так часто, как хотелось бы мне. Лидик! Я использую каждую малейшую возможность, чтоб написать и отправить тебе письмо, но не всегда это мне удается. Поэтому не волнуйся, когда бывают некоторые перерывы в моей корреспонденции, и пиши мне, не дожидаясь моих писем. Злость берет меня на соседей, которые позволяют себе перехватывать и не передавать тебе моих писем. Есть же на свете такие подлые людишки!.. Но не стоит о них и говорить. Дорогая Лидука! Очень взволновало меня твое сообщение о плохом здоровье нашего Мароника. Может быть, это простудное явление? Надо посоветоваться со специалистами-врачами. Вообще, затемнения легких случаются у ребят, говорят, что это не так страшно, но нужно, конечно, принять меры. Будем надеяться, Лидука, на близкое окончание войны, на то, что скоро немецкие бандиты будут разгромлены, и тогда заживется лучше. Что можно сделать сейчас? Я лишен возможности не только чем-либо помочь, но даже и толково посоветовать, настолько я оторван от жизни, протекающей вне нашей зоны… Конечно, было бы хорошо выехать в дачную местность, обработать свой огород, но тебе одной ведь с этим не справиться, а мама не сможет тоже взять на себя эту работу. Я не знаю, Ликин, почем будет осенью картофель, но нужно обязательно использовать, это время, чтоб запастись на зиму овощами и продуктами. Как обстоит дело с использованием средств, находящихся на сберкнижке, и сколько их осталось? Единственный мой совет заключается в том, что надо все возможное, до последнего, направить на питание. Ничего не надо жалеть для того. Чтобы обеспечить хотя бы минимально необходимую пищу для организма. Знаю по себе, что крайнее истощение слишком трудно ликвидируется и дает плохие последствия. Но, между тем, все, что только в моих силах, я делаю для получения дополнительного куска хлеба, для усиления питания. Исключительную поддержку оказали мне посылки моих родных, благодаря которым я начал подниматься на ноги. Я тебе уже писал, что перенес 11/IV операцию грыжи белой линии, которую я получил еще в декабре 42 г., работая на шпалорезке. Эта грыжа меня сильно мучила и не давала работать, поэтому я и решился на операцию. Прошла она благополучно, 22/IV меня выписали из больницы и я до сегодняшнего дня имел отпуск — не работал. Шов у меня хорошо затянулся, боли прошли, а за этот месяц я крепко отдохнул. Повезло и то, что получил посылку, так что и питание было значительно лучше обычного. Завтра я вновь выхожу на работу в прежнюю свою бригаду на тарный завод № 1. Чувствую себя сейчас лучше и крепче прежнего, но далеко еще до нормы. Все же я надеюсь, что работать смогу и не отстану от других. Всю свою волю и силы употреблю на то, чтобы продержаться и хорошо работать. Отставать нельзя, иначе погибнешь. Ликин, моя любимая, обо мне не волнуйся, я буду держаться и обязательно дождусь выхода отсюда и возвращения в семью. По сравнению с прошедшим осталось немного — 2 ½ года. Это, конечно, очень долго, но пройдет и это время, и мы окажемся все-таки вместе. А тогда уж мы заживем получше, Лидука, и сынку нашего поправим и воспитаем его как следует. Я вернусь домой, когда Маронику будет 8 лет, это не поздно, чтоб его и воспитать и перевоспитать. Не надо слишком рано загружать его большой учебой, но, конечно, оторвать его от вредного влияния улицы нужно решительно. Пожалуй, правильно отдать его в школу художественного воспитания, ибо музыка и живопись облагораживают человеческую душу. Я в восторге от рисунков Марика, он бесспорно проявляет способности в этом. Но, кроме школы, нужно уделить его воспитанию внимание и дома. Мне не нужно говорить тебе об этом, моя дорогая, ты сама все знаешь и сделаешь все необходимое и возможное. Нам дорог наш сын, нужно проявить о нем максимум заботы, но, прошу тебя, Лидука, не забывать о себе самой, о своем здоровье, о котором ты мне почему-то ничего не сообщаешь, что сильно меня беспокоит. Перенапрягать себя слишком нельзя, надо сохранить себя обязательно, — ведь ты сейчас единственная хозяйка и глава нашего дома, нашей маленькой семьи. Я несказанно благодарен тебе за посылочку, которую Волока должен мне отправить, но прошу тебя воздержаться пока от дальнейших посылок — не отрывай кусок от себя и от сына — мне это причиняет страшную боль. Я надеюсь дожить до лучших времен, когда ты сможешь безболезненно мне помогать. Лучше посылай мне ежемесячно 50—100 рублей, сколько сможешь, на них я куплю себе что-нибудь поесть и покурить. Если иногда случится тебе возможность послать мне легкого табаку, мыла, зубного порошка, чаю, питьевой соды — вышли — это даст мне лучше питаться. Жена одного товарища подала заявление в НКсвязь и ей разрешили отправить посылку из Москвы сюда. Если случится послать мне указанные вещи, то подай такое же заявление, — может быть, и тебе разрешат. Я надеялся на то, что после операции, и в связи с общей моей слабостью, меня переведут на более легкие работы, но ничего не вышло, — не хватает людей на производстве. 27/IV я переслал заявление в Президиум Верховного Совета СССР об отправке меня на фронт. 14/V я прошел медкомиссию и признан годным к военной службе (я, конечно, не жаловался ни на какие болезни). Заявление вместе с определением медкомиссии и производственно-бытовой характеристикой направлено по адресу. Теперь буду ждать результатов, хотя и не питаю большой надежды на положительное решение. Ликин, подай со своей стороны тоже заявление, проси, чтоб отправили меня на фронт и поручись за то, что я выполню любое боевое задание на самом опасном участке, и с готовностью отдам свою жизнь в борьбе с врагом. Паша и Роза уже написали от себя Прокурору Союза. Надо нажимать и напоминать о себе, добиваться справедливого решения по моему делу. Ликин, милая моя женушка, только не унывай, не падай духом, бодрись и не сгибайся под тяжестью судьбы. Мы будем жить и жить будем хорошо и счастливо, так будем жить, как мы мечтаем сами об этом. Передай маме мой горячий привет и пожелания скорейшего выздоровления. В следующий раз напишу ей отдельно, а сейчас прошу ее мне написать поподробнее о своем здоровье. Мои большие приветы Волоке и Ник. Губанову — они молодцы — герои, я искренне горжусь ими и, клянусь, завидую им. Сердечный привет Самуилу, Нюмику, всей семье, всем нашим родичам. Крепко целую тебя, твой Сема.Это письмо примирительное. Явно не хочется усугублять конфликт. Лучше спрятать поглубже, подальше то, что может разделить и разрушить, — еще есть какое-го время, будем выжидать: вдруг все устаканится, не пойдет вразнос. Слишком дорога цена этой любви: маленький сын, отнюдь не пропавшее желание жить вместе… Любовь — это взаимность, которая держится на неутоленности. Любви всегда мало. Когда ее «хватает» — это уже спад, начало крушения чувств. Мамина любовь к отцу была всегда какой-то непрекращающейся чувственной лавиной — она сметала логику и житейскую рассудочность. «Я люблю Сему» — эти три слова, пронесенные мамой через всю жизнь, рвали ей душу: а он любит так же или только говорит, что любит?.. Дай в любви поступок, докажи, что любишь, — как в топку, брось всего себя, без остатка. Но проклятая разлука — главная врагиня любви — не дает это сделать, иссушает чувство, затаптывает огонь страсти. Отсюда и человеческая трагедия, ибо разрыв неизбежен и жизнь проиграна. Целая жизнь!..
г. Канск, 20/VI — 1943 г. Милая моя Лидука! Опять ты не сдерживаешь своего слова и заставляешь меня волноваться. Долго уже нет твоих писем и это не дает мне покоя. Твое последнее было от 20/IV, на которое я тебе ответил 20/V. Получила ли ты его? Поскорее сообщи мне о здоровье Марика и как ты решила вопрос о дальнейшем его воспитании? В какую школу ты отдаешь его учиться? Как обстоит дело с обеспечением на зиму картошкой и овощами у тебя? Выехали ли вы за город и получила ли ты огород? Как здоровье мамы и, главное, твое, моя любимая женушка? Все эти вопросы бесконечно волнуют меня, а отсутствие твоих писем меня сильно тревожит. Что писать о себе? Вот уже месяц как кончился мой послеоперационный отпуск и я работаю по-прежнему на тарном заводе. Вначале чувствовал себя лучше, отдохнул и окреп немного, но сейчас это уже прошло. Как идет твоя работа, довольна ли ты ею? Я ожидаю результатов по моему заявлению Президиум Верх, совета СССР об отправке на фронт, хотя больших надежд на это не питаю. Заявление ушло отсюда 31/V за № 303494. Пиши мне, моя Лика, и пришли фотографии. Посылай мне бандероли с газетами и журналами. Крепко целую тебя и сынку, твой Сема. Привет горячий маме, я жду ее письма. Как здоровье Нюмы?Он всячески старается показать, что в разлуке не перестал быть: 1) отцом и 2) мужем, главой семьи. Он ОТТУДА задает вопросы типа «а как у вас дела насчет картошки?» и ничтоже сумняшеся продолжает «ожидать результатов» относительно отправки на фронт. Заявление, отметим, за номером триста три тысячи четыреста девяносто четыре. Это значит, что перед ним немалая очередь таких же страждущих пойти за Родину в штрафбат потенциальных смертников. Все-таки товарищ Сталин, будь он неладен, создал нового человека, и, что самое прекрасное, этим образцовым новым человеком в стране был зэк.
г. Канск, 4/VII — 1943 г. Дорогая моя Лидука! Совершенно неожиданно отправляюсь этапом отсюда. Предполагаем, что это на Урал, в Соликамск Молотовск. обл., точно не знаю. По прибытии на место сообщу сейчас же адрес. Пока что ничего мне не посылай. Обо мне не волнуйся, я буду жить обязательно. Крепонъко целую тебя и Мароника. Твой Сема. Привет маме, Самуилу и всем родным.Ложная тревога. Этапа не последовало. Всего лишь переброска опять в Нижнюю Пойму — место хоть и не сладкое, но знакомое. И то хорошо, ведь могло же быть хуже. На этапировании люди мерли как мухи. Читайте, люди, Шаламова почаще, чтоб знать, что это такое — «этап», то бишь ад на земле.
Решеты, 7/IX — 1943 г. Лидука, дорогая моя женушка! Долго я тебе не писал, очень долго. Этому молчанию были причины, которые объясню. 6/VII, внезапно для меня, как это обычно и случается у нас, меня перебросили из Канска обратно на Н. Пойму, где я был в прошлом году, только на другой лагпункт. По дороге меня начисто обворовали, забрав продукты и вещи, полученные в посылке из Москвы. Сразу попал я на тяжелые для меня погрузочные работы, так как я еще очень слаб здоровьем. И бытовые условия здесь не то, что в Канске… Одним словом, я вернулся к тому же состоянию, что было зимой, т. е. резкий упадок питания, сил… К тому же я простудился, болел. Да еще на почве неправильного обмена веществ, появились фурункулы и карбункулы, до сих пор мучающие меня нещадно. Особенно доканал меня карбункул на левой руке, которой не могу из-за этого двигать. Только вот в последние дни дело пошло на улучшение, и я надеюсь, что вскоре все заживет. Писать тебе обо всем этом тяжелом моем состоянии, которому ты не можешь помочь, не хотелось, а умолчать о нем не смог бы, так как оно довлело надо мной. Это — первая причина моего длительного молчания. Вторая. В последнем своем письме, полученном мною перед отъездом в Канске, ты крепко обидела меня. После тоже длительного перерыва в письмах, в котором я имел все основания тебя упрекнуть, ты заявила в своем письме, что пишешь мне тогда, когда хочешь, а не когда я требую этого. Не нужно пояснять моей обиды на это, но пойми только одно: весточка из дому — это кусок жизни, это нить, связывающая меня с жизнью, поддерживающая меня и облегчающая мой тяжелый путь. Ты вообразила почему-то, что я не тревожусь о судьбе Марика, о его жизни и здоровьи, о его воспитании, не тревожусь о тебе, что я далеко от вас, а потому не способен переживать ваших горестей. Стоит ли это опровергать? Само собою ясно, что твои сомнения не имеют никаких оснований. В тысячный раз повторяю, что свои силы черпаю лишь из одного источника. Это — надежда вернуться все же домой, в свою семью, иметь, как прежде любимую жену и воспитывать своего сына. Источник моих сил заключается еще в сознании того, что где-то, в родной Москве, живет моя семья, жена, сын, любящие меня, тоскующие по мне, и ждущие моего возвращения. Именно сознание того, что я не одинок, что есть близкие мне люди, беспокоящиеся обо мне, думающие обо мне, и всегда ожидающие меня, готовые встретить меня с теплой лаской и любовью, — именно сознание этого поддерживает меня больше, чем что-либо другое. Не станет его — исчезнет самая цель и оправдание всего дальнейшего моего существования. Пойми это раз и навсегда и сделай соответствующие выводы. Третье. Опять-таки в том письме, резче, и, я бы сказал, грубее, чем когда-либо прежде, ты вновь поставила передо мной вопрос о моих родных, ставя наши дальнейшие отношения с тобою в полную и прямую зависимость от моих отношений с сестрами и матерью. Такой ультиматум я категорически отвергаю, он оскорбителен для меня, для моих чувств, и совершенно недоступен моему пониманию. В отношении моих родных тебя одолела какая-то болезненная мания, не дающая тебе объективного рассуждения. Ни мама, ни сестры мои, ни разу не позволили себе в своих письмах чернить тебя или порочить. Они только высказывают горе или недоумение по поводу ненормальных взаимоотношений, сложившихся между вами, надеясь на то, что все уладится с моим возвращением в семью. А ты в каждом своем письме поносишь мою мать, сестер, и еще требуешь от меня, чтобы я плюнул в лицо своей матери, отказался от своих родных. Для того, чтобы сделать это — нужны слишком веские причины, нужны очень крепкие основания. Таких причин пока что я не вижу, а разобраться мне в случившемся между вами отсюда тяжело. Вообще же все это мне кажется довольно глупым и бессмысленным, недостойным взрослых людей. И тебя, и моих родных, я всегда знал как милых, хороших и добрых людей. И ты, и они, сохранили свято любовь ко мне и проявляете чуткую заботу и участие, и не дорожить которыми я не могу. Поэтому вдвойне мне тяжелее разобраться в случившемся между вами и осудить кого-либо из вас. Давай, Лидука, договоримся окончательно об этом; когда вернусь домой, а это уж не за горами, будем толковать и разбираться. Тогда все будет ясно для принятия решений. И брось всякие сомнения насчет нашего будущего. Я жажду его всеми фибрами своего существа и толкаю дни, храня любовь. Для обеспечения нашего будущего надо думать о настоящем. Нужно обязательно сохранить себя и дожить до светлых дней. Проклятых фашистов скоро уже изгонят с нашей родной Земли, война кончится, станет легче, и я, может быть, вернусь. Если только будет какая-нибудь возможность помочь мне маленькой посылочкой, то помоги, — я в этом очень, очень нуждаюсь. Мой адрес: ст. Решеты, Красноярск, ж.д. почт. ящ. № 235/5. Ожидаю самых подробных писем о жизни, о здоровье, о работе, о сыне, о маме. Горячий вам привет. Крепко, крепко обнимаю и целую вас, моих милых. Сема.«Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа, — однако, сколько же детей таких взяли, спасли (сами-то дети пусть расскажут)»,[9] — это Александр Исаевич, можно сказать, прямо ко мне обращается с призывом — не отмолчаться по поводу народного противостояния сталинщине, и мужественного, и нравственного. Однако и Гитлер своей волосатой рукой (см. карикатуры Кукрыниксов военных лет) тянулся лично ко мне, малолетке со стажем безотцовщины. Зажатые с двух сторон, дети «врагов народа» автоматически становились «детьми войны» — я был в их числе. И теперь выжить сделалось трудно вдвойне. К тому же я был не просто ребенок, а ребенок-жидёнок со всеми вытекающими из этого положения перспективами. Вот тут и скажу, что дорогой и любимой бабушке моей Александре Даниловне Губановой обязан я своей жизнью. Конечно же, она выполняла свой долг перед дочерью — в первую очередь: спасти ее сына. И она сделала это, спасла. За три дня до прихода немцев в Анапу все же вывезла внука на переполненном беженцами поезде. Успела-таки оттащить из-под носа гитлеровцев удачливого еврейского мальчика. А не успела бы — была бы моя и ее судьба потрагичней, несомненно. Но вывезти было мало. У станции Тоннельная поезд встал, как вкопанный, в чистом поле — началась точечная бомбежка. Люди хлынули веером из вагонов в разные стороны. К счастью, увидели неподалеку землянку в виде буквы «гэ» — бабушка, держа меня за руку, пятилетнего, притаилась у входа, услышав гул самолета, накрыла меня телом своим… Бомба прямым попаданием взорвала другой вход. Переполненная землянка сделалась кровавым месивом трупов, рук, ног, раненых людей… Крики, стоны… Какой-то мужик хвать меня на руки — и побежал к какому-то лесочку. Бабушка получила в ногу осколок и не могла встать. Истошно взвыла: — Ой, что я скажу Лидочке?! Марик! Марик! Ее не боль в ноге скрутила — страшная, между прочим, боль, — а то, что она потеряла меня, внука своего. Самолет, сделав свое черное дело, улетел. А меня бабушка отыскала только через два часа. Все это время в тот же поезд грузили раненых и хоронили мертвых, закопав их наскоро в той же землянке. — Ваш ребенок? — появился из леса мужик, утащивший меня в сторону из-под бомб. Бабушка прекратила вопли. Ее счастью не было границ. Нашла! — А где матроска? — спросила она строго. Оказывается на моей голове была матросская шапочка до начала бомбежки, а теперь куда-то пропавшая. И как вы думаете, этот неизвестный мне товарищ (герой бабушкиных рассказов, которые я впоследствии не раз слушал) снова бежит в лесок, находит там мою шапочку и возвращает со словами: — Вот вам ваша матроска, мамаша. И в следующий раз не кричите так непонятно: «Марик-шмарик!» Судя по лексике, он был одесситом. С тех пор я люблю Одессу особенно. Наверное, понятно почему. …Однако наше опасное путешествие продолжилось. Прибыли через Грозный в Махачкалу. Через Чечню в Дагестан (сегодня бы тем же маршрутом!). Там сели на бодрый и смелый пароход «Калинин» и поплыли в Красноводск по Каспию. И тут нас снова настигла бомбежка. Казалось, это был тот же самый немецкий самолет. И на этот раз — беженцы, только, правда, на палубе, потому что в трюмах «Калинина» была… нефть!., ее везли из Грозного — через Среднюю Азию — к Сталинграду. Так что достаточно было получить с неба один горящий окурок — не то что бомбу, — чтобы наш «Калинин» взорвался бы к чертям со всеми нами посреди Каспийского моря. Не взорвался. Единственный зенитный пулемет отогнал вражескую птицу, которая так и не смогла сбросить на нас свои смертоносные яйца. Покружил-покружил немецкий летчик над нами, но после нескольких промахов, взметнувших вокруг кипящие водяные стслбы, удалился. «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”», — усыпанная беженцами палуба пела и ликовала. А наша «компаньонша» — тетка с двумя малыми детьми, — одолжившая нам горшок, на котором я просидел всю бомбежку, сказала, грозя в небо: — Щоб ты там усрался, поганый, а ты, хлопчик, сиди, малой, не бойся… Сиди, сиди! Отдыхай! И через минуту, под общий смех, выплеснула содержимое горшка за борт. В сияющем желтизной (песок, горы, домики — все желтое) Красноводске жили мы с раненной в ногу бабушкой на улице под открытым небом больше месяца — в палатке, сделанной из простыни. Стакан мутной воды стоил 40 рублей — огромные, бешеные деньги. Палящее солнце, тени никакой. Да еще чемодан украли. Бабушка плачет. А потом перестала плакать. Это уже я заметил, когда мы оказались в Ташкенте, — здесь другая была жизнь, тыловая, настоящая, отлаженная. Помню, как целыми днями мы жевали урюк, один сплошной урюк… И этот «урюк», само слово и сладкий запомнившийся вкус его, стали для меня символом той среднеазиатской эпопеи 1942–1943 годов. К этому времени Сталинградская битва отбросила немцев с Волги и покатила свастику с нашей земли. Можно было приблизиться к Москве, и бабушка ценой огромных усилий перетащилась со мной в Куйбышев, где нас приютили работавшие на авиазаводе родственники — дядя Вася Постригань и тетя Нина Тиматкова. Их дочку Марту — мою сверстницу — я считал своею двоюродною сестрой, и мы очень дружили в детстве и потом, пока ее родители не ушли из жизни. Но это уже было во времена хрущевской оттепели. Бабушка с открытой раной на ноге прохромала всю оставшуюся жизнь. Опухоль росла, боль была адская, но бабушка терпела ее героически, наотрез отказываясь от операции. Она считала, что операция по извлечению осколка приведет к гангрене — и это жуткое слово «гангрена» я слышал в детстве по сто раз в месяц. Единственное средство снять боль — как и раньше — погрузить ногу в горячую воду, почти кипяток, — только это самолечение избавляло от страдания. Парить ногу чаще, еще чаще — это была тяжелая работа, ведь в коммуналке, приходилось кипятить воду на керосинке, на общей кухне, где соседи рядом жарили, варили пищу и стирали белье. Эту больную вспухшую бабушкину ногу я запомнил, повторяю, навсегда — ее будто рисовал художник-дадаист: синее переходило в оранжевое, — покраснения вокруг незаживающей раны, обмазанные зеленкой, бугрились у щиколотки, а сама рана смотрелась страшноватой таинственной ямкой, поглотившей неведомый осколок. Незатихающую боль сопровождал теперь еще и дикий зуд, от которого лицо бабушки кривилось, она всасывала воздух, чтобы помочь себе облегчить страдания, но — бесполезно, зуд не уходил, а чесать кожу категорически запрещалось. Изредка бабушка делала всякие присыпки, используя какие-то пахучие белые мази, — тут я услышал еще одно противное слово: «экзема», и оно вместе с пугающей «гангреной» сопровождало бабушкину и нашу жизнь. Тем не менее бабушка моя была бодра и смешлива, остра на язык и чрезвычайно работоспособна. Ни минуты она не сидела без дела, все что-то готовила, шила, мыла и убирала. Она меня воспитывала, слегка шлепая пониже спины за мои проделки и разговаривая на разные темы — обо всем, кроме отца. Об отце, сидящем в лагере, со мной говорить нельзя было. Закрытая тема. А на мои вопросы ответ был один: «Он на фронте. Вернется — всё тебе расскажет». Что «всё» — не уточнялось. «Ты лучше ему письмо напиши. Или открытку. Вот, садись и пиши. Или нарисуй что-нибудь. Что хочешь, нарисуй». У меня сохранились десятки этих посланий: «Папа, бей немца!», «Папа, приежжай скорей!» (лексика сохранена) и др. — картинки боев с участием танков и самолетов, на которых красовались звезды и свастики: «наши», конечно, побеждали фашистов, моя рука лихо навострилась изображать стрельбу пунктиром, а взрывы особенно удавались благодаря желтым и красным карандашам. Рисование боев шло под шумовое оформление: я показывал, как тарахтит пулемет, ухает гаубица, падает объятый огнем «мессершмит», кричит «ура!» пехота. Это было мое участие в войне, мое участие в Победе. Одна беда, мои послания НИКУДА не посылались. Некуда было их посылать. Мама. Я сгладывала их в шкатулку и запирала на ключик. Всё боялась, что Марик найдет этот ключ, отопрет замок, увидит свои художества и письма отцу на фронт — что я тогда ему скажу?!. Отец. Страшно другое — когда тебя предают родные люди. (Мама вскакивает, бьется головой о стену.) Новое обострение отношений?.. Священная война?.. Ведь тут фронт другой и противники другие: муж и жена, на чистую и светлую любовь которых накатилась изводящая душу порча, но еще не все потеряно, не все слезы выплаканы… Дальнейшую переписку (1944–1945 г.г.) даю без примечаний, ибо тут понятно все: зигзаги задребезжавших чувств, нерв недовыясненных отношений, вместо взаимной нерушимости семейного союза — упреки, обиды, уколы, расковыриванье болячек… Снежный ком этого барахла слов растет, и оба адресата будто пугаются в какой-то момент от того, что сами друг другу высказали, пытаются вернуть, возвратить себя новыми искренними объяснениями и нежностью, словно забыв о только что нанесенных ударах, — ведь близится самое важное — долгожданное освобождение. Счет идет уже не на годы, а на месяцы… И Семен и Лида снова будут вместе, снова счастливы. Несмотря ни на что!
Ст. Решеты, 10/111-1944 г. Дорогая моя Лидука! Давно я не писал тебе, но вовсе не потому, что не хотел или забыл, а просто не мог. Как ты знаешь, не всегда я имею возможность отправить письмо. Не думай, что мне это безразлично. Наоборот, отсутствие хорошей постоянной связи с тобой очень удручает меня и приносит жестокие огорчения. Милая моя, любимая женушка! Все также, как и раньше, ты мне дорога и близка. Все мои мечты о будущем связаны неразрывно с тобой, с нашим сыном. Как мне порой бывает тоскливо, если б ты только знала об этом, моя любимая! … Осталось 20 месяцев — начинаю уже отсчитывать дни. А позади ведь 76 месяцев нашей горькой и непонятной разлуки… Вооружимся терпением, Лидука, осталось не так уж много по сравнению с пройденным этапом Это крепкий удар по немецкому зверью, по фашистской гадине. Все еще не теряю надежды на призыв в Армию, на отправку на фронт. Как хотел бы я принять непосредственное участие в великом бою, положить свою голову за нашу любимую Родину! Чувствую, что был бы я не последним бойцом, а со всем остервенением дрался бы с гитлеровскими бандитами, завоевал бы снова честное имя. Дорогая моя Лика! Поступило два твоих перевода по 100 рубл. Большое спасибо, Ликин, но денег не надо посылать, так как воспользоваться ими сейчас я не могу. Вновь прошу тебя, если не сможешь сама выслать мне посылочку, передай ее через Самуила Паше, а она отправит. Это будет для меня действительно реальной помощью и ты должна это сделать, несмотря на твои плохие взаимоотношения с сестрой. Я очень нуждаюсь в помощи, окажи ее в трудный момент. Я просил тебя, Ликин, высылать мне бандероли с газетами и журналами. Это тебя материально не затруднит, вполне выполнимо, а для меня явится большой поддержкой. Имея газеты, буду обеспечен куревом — табаком. Очень прошу тебя еще и о том, чтобы ты мне прислала фотографии твои и сынки и мамы. Неужели нет никакой возможности сфотографироваться? А это явилось бы для меня величайшим праздником. Все фотокарточки, которые ты прислала мне еще в 1941 году, я храню, как святыню и самую большую ценность. Но как же вы сейчас выглядите? Ликин, милая! Я тебе изложил мою точку зрения на твои взаимоотношения с родными. Не обижайся на меня, а спокойно продумай этот вопрос. Но лучше всего сейчас не говорить об этом, отложим до нашей встречи. Во всяком случае я не думаю, что это в какой-либо степени может отразиться на нашей жизни. Мы всегда с тобой можем принять правильное решение. Не так ли? Пиши мне подробно о сынке, о Марике. Как идут его занятия. Я уже писал тебе подробно мой взгляд относительно его обучения и воспитания. Никаких репетиторов брать не надо, пусть он сам добивается успехов трудом и прилежанием. Как здоровье его и твое, Лидука? Как сейчас жизнь у вас? Как прошла зима и каковы перспективы на весну и лето? Где ты работаешь? Как здоровье мамы? Что слышно о Николае Ар. и Шуре Тиматкове? Как живут все наши родные? Привет всем родным и Танюше (почему о ней не напишешь?). Крепко и горячо обнимаю и целую вас, Твой Сема.
Решеты (Н. Пойма), 22/VI 11–44 г. Здравствуй, дорогая моя Лидука! Ни на одно свое письмо, вот уже в течение 9-ти месяцев, я не имею от тебя ответа. Срок достаточно длительный, чтоб вселить всяческое беспокойство даже в такое уж достаточно пережившее сердце, как мое. Вопросы задавать тебе о причинах столь упрямого молчания становится бессмысленным… Единственная причина, какая, по-моему мнению, может заставить верную жену и любящую женщину ничего не писать своему мужу, может заключаться лишь в ее полнейшей измене. И если это так, то, смотри, Лидука, не раскаивайся, потом будет поздно! Для того ли я выстрадал столько, перенес невероятные мучения, нашел в себе силы перебороть все несчастья, чтоб, покончив со своим несчастьем, не найти своей жены? Для того ли я остался живым; несмотря на все шансы быть давно уже мертвым, чтоб потерять мать своему сыну? И имей в виду мое серьезное предупреждение насчет этого: заставить тебя жить со мною я не могу, — ты вольная в своих поступках женщина, — но сын наш, мой Марик, будет у меня. Я его заберу любыми средствами, — можешь в этом не сомневаться. Ты. давно уже не любишь меня, — я это почувствовал еще в августе 1942 года, когда, в ответ на мои теплые, ласковые слова к тебе, ты ответила, что твое сердце слишком очерствело и тебе странной кажется моя ласка… После этого ты все реже и реже пишешь мне, а теперь и вовсе перестала. Но ведь чем больше страданий выпало на долю одинокой женщины, тем более она нуждается в ласке, в тепле, в заботе со стороны мужчины. И разве жена не тянется к своему мужу, когда ей плохо? И где это видано, чтобы честная и любящая жена могла бы променять своего мужа на какие-то личные неудовлетворенные обиды? С каких это пор ты, Лика, сочла себя вправе ставить мне любые ультиматумы, требовать разрыва с родной матерью, с родными сестрами? А подумала ли ты, что удовлетворяя свое уязвленное самолюбие, свою эгоистическую гордость, ты, в то же время, плюешь в лицо своему самому близкому человеку, каким до этого времени, я для тебя являлся? А отдала ли ты себе отчет в том, что ратуя, якобы, за нашего сына, мстя, мол, за поруганное моими родными его и твое достоинство, ты хлещешь меня ~ отца твоего сына и твоего мужа? Требуя «благородного» возмездия, ты это возмездие хочешь получить за счет моей крови, моей жизни? Вражда твоя с моими родными стала у тебя болезненной манией своеобразной… Отрешись от нее поскорей, направь свои усилия на другие дела, хотя бы на дело правильного воспитания нашего замечательного сына, хотя бы на привитие ему таких необходимых человеческих качеств, как любовь и привязанность к своим родным. Не может быть гуманным и человеколюбивым тот, в ком воспитаны вражда и отчужденность к своим ближайшим родственникам, родным своего отца своей матери! Как может ребенок уважать чужую старость, коль он не терпит своей бабушки, матери своего отца? Как может человек относиться с состраданием к мучениям других людей, когда он воспитан в духе безразличия к нуждам своих родных? В твоем характере, Лидука, есть некоторые отрицательные черты, вызванные твоим несчастным детством. Детство нашего Марика несколько похоже на твое, но ты должна привить ему лучшие качества, чтоб это его детство не отразилось пагубно на его характере. Так то, Лидука! Плохо, очень плохо получается у нас с тобою. Горько мне думать об этом, больно говорить. А наговорил я тебе много может быть и такого, чего и не следовало бы говорить. Все же подумай обо всем, призови на помощь и разум и чувство. Жду подробных писем о твоей жизни. Обо мне не беспокойся, я жив и буду жить. Адрес мой прежний. Осталось еще J5 месяцев. Целую тебя и сына. Т. Сема.Переписка продолжается, дуэтное исполнение мелодии любви то и дело диссонирует, жаждет гармонии, но не имеет ее. Писем много, даже слишком много, может быть, из десяти надо оставить одно, есть повторы. Да, есть. Но Музыка зиждется на повторах, на нюансировке интонаций и плетении вокруг да около одних и тех же нот… Что-то исчезнет, если будет сокращено. Документ — сила, даже если он затягивает действие, нельзя укорачивать его длинноту, поскольку он не сама жизнь, а то единственное, что осталось от жизни. Ноты множатся, мелодия любви наворачивает тему, ритмы то ускоряются, то замедляются, тут целая соната чувств в игре звуков и темпов… Конечно, это не литература. Но в этой «нелитературе» спрятаны люди своего времени, конкретные мужчина и женщина, мученики эпохи, для которой их судьбы — тьфу, и больше ничего. У эпохи были гораздо более весомые исторические сюжеты: например, схватка богатых и бедных в революции, гуманизма и дегуманизма в искусстве, звезды и свастики в войне… Сердцу не прикажешь, тем не менее. Личное под напором, под нападением общего все равно окажется главным, всеопределяющим смыслом жизни — горестной из-за разлуки и счастливой по причине любви. Смятые эпохой, униженные и оскорбленные ею, мои родители все еще тянутся друг к другу из последних сил. Они — живы! И у них есть я.
16/IX — 44 Г. Зачем же в первой строчке своего письма ты называешь меня «дорогой», а в последней горячо целуешь, если все письмо насыщено оскорблениями по моему адресу??? Зачем же надо было мешать все в одну кучу? Как могут совмещаться в письме ласковые обращения с оскорблениями, неверием, запугиванием и обвинениями в крайне невежественном воспитании нашего ребенка? Что ж, я бы советовала тебе выдерживать свои письма в одном стиле. Вернее, тут стиль не причем, дело в существе. Ты надругался надо мной. Ты облил меня с головы до ног грязью. Что ж — спасибо! Обидел ты меня? Нет, это слово столь мало, чтобы передать мое состояние после полученного сегодня твоего письма. Могла ли я когда-либо подумать, что ты, тот кому я отдала все без остатка — любовь, ласку, молодость, кого так томительно жду и кого так крепко люблю, что ты — без всяких оснований позволишь оскорбить меня. Мне не надо оправдываться, потому что ни в чем моей вины перед тобой нет. Но напомнить тебе и повторить то, о чем я тебе писала еще в первом своем письме несколько лет тому назад, я должна. Сема, знай и верь мне, что сколько бы не пришлось, я тебя жду и буду ждать. Ты в своем первом письме дал мне полную свободу, не требовал и не посягал на какие-либо обязательства по отношению к себе. Помнишь? Несмотря на это, я все годы живу одной мыслью — дождаться тебя. Повторяю, что на легкие и даже поверхностные увлечения — я не способна. Мне никто не нужен, кроме тебя. Ты мой любимый и дорогой. И жду я тебя только лишь потому, что люблю тебя не просто, а очень глубоко и сильно. Несмотря на то, что наше совместное будущее стоит под большим вопросом, что для тебя не ново, — я люблю тебя не меньше и хочу надеяться только на крепкую и здоровую нашу семью, осуществится ли это — я не знаю, т. к. ты в течение всех этих лет обходил этот вопрос общими довольно пространными фразами. Да, я и не требую от тебя ответа теперь, я жду тебя так или иначе, вернешься и тогда решишь. Ты соглашался в этом со мной, так почему ты опять теперь возобновил эти разговоры? Что за подозрения в измене?.. Возможно ли это? Одно это слово жжет меня. Нужна ли тебе моя клятва? Что может укрепить веру ко мне? Я клянусь жизнью нашего сына, что ты мой единственный и любимый. Веришь ли ты мне? Жена твоя осталась только твоей, а дальше она будет твоей только тогда, если ты ее действительно захочешь. Это не эгоизм, не упрямство и не «месть за поруганное достоинство» — как ты выразился, — а здравый подход. Два зверя в одной берлоге ужиться не смогут. Зачем двоить твою душу? Твое сердце — берлога, а мы звери, нам ужиться в ней нельзя. И я, и твои родные не питаем к друг другу родственных чувств. Я еще в первом своем письме писала тебе, что я их презираю, а война, тяжелое время для всех и, в частности, для меня — это чувство усугубило. Как же ты сможешь жить с такой женой, которая презирает твоих родных и, наоборот, как ты сможешь любить своих родных хотя бы за то, что они обрекли твоего единственного крошечного сына на гибель в гитлеровской оккупации. Только счастливая случайность и упорное желание спасти ребенка у больной инвалидки — моей матери — оставили нам в живых нашего сына. Маме удалось выехать оттуда только за несколько дней до прихода немцев. Какие трудности пришлось ей пережить, — тебе неизвестно и какие возможности были в то время у твоих родных, — ты тоже не знаешь. Другим родственникам они предоставляли отдельные вагоны и купэ. А твой сын, — был и остался им всем совершенно чужим. Скорее, в их представлении гибель Марика, — развязала бы тебя окончательно со мной. Иначе предполагать трудно. Это только один факт, а их много, — за что я их презираю. Если этого чувства у тебя нет, то зачем же тебе сын? Возможно ты и не можешь реагировать на все это так, как я, ты мужчина, да и Марик рос без тебя. Навязывать тебе этого чувства я не собираюсь, оно должно было само появиться у тебя. И ты сам разбирайся во всем происшедшем. Если отношение к твоему ребенку можно назвать «какой-то личной неудовлетворенной обидой», (как ты называешь), то такая жена как я — может променять своего мужа на нее, хотя она и является честной и любящей женой. Как же можно говорить о нашей совместной жизни, если я не смогу уважать тебя как отца, который считает, что такое отношение твоих сестер и проч, к Марику является надуманной враждой, болезненной манией? Неужели я, Сема, в этом неправа? Неужели же, чорт возьми, я настолько глупа и эгоистична, как ты стараешься мне все время это внушить? Семик, ты не думай, мне самой тоже нелегко обо всем этом говорить, я очень мучаюсь, — потому что люблю тебя и хочу быть вместе. Но поступить иначе я не могу и не должна. Я и мои сын — люди. Зачем же нам присущи чувства любви и ненависти? Если нас не любят, — мы отойдем в сторону, не будем мешать. Если нас любят, — мы ответим такой же любовью. Я призвала уже давно разум, и другого выхода я не вижу. А чувство? Чувство надо заставить отойти на второй план. Вот тут мне приходится согласиться, что я проявляю эгоизм, но эгоизм этот бьет в первую очередь самое меня, он заставляет топить мою любовь к тебе. Вот и в этом причина моего продолжительного молчания. Ты толкаешь и навязываешь мне сближение или примирение с твоими родными, а я считала, что, поскольку они тебе сейчас помогают, а я нет, — то ты считаешь их конечно ближе и дороже для себя! Они спасают тебе жизнь, а я вот уже три с лишним года не могу облегчить твое положение. Это меня гнетет, но обращаться к их содействию, как просишь ты меня, я не буду. Как бы дорого это для тебя не обошлось, но я привыкла думать так: что просить помощи и получать ее — можно только от друзей, т. е. от таких людей, которые искренно относятся друг к другу. Ты пишешь, что еще в августе 42 г. ты почувствовал, что я тебя перестала любить. Это как раз тот период, когда Марик был в Анапе и тревоге в моем сердце не было границ. Я стала тебе писать более резкие письма, а затем и вовсе перестала. Помню, что за свою резкость, — я просила меня простить. А твои ласки в письмах в тот момент даже казались почему-то неуместными. Мне надо было спасать сына и мать, а ты разве не мог обратиться к своим родным с требованиями эвакуировать сына. Так же, как теперь ты просишь у них прислать тебе посылку, так же ты обязан был просить их сохранить жизнь нашему Марику. Ты этого не сделал и этим возбудил во мне раздраженность и зачастую продолжительное молчание. Я не могу много требовать от тебя, но вот такая досада на всю свою жизнь, на всех окружающих и иногда и на тебя — замыкает меня и я ничего не могу с собой поделать. Ты не обижайся на меня за это, Семик… Я сознаю, что я не права в этом и поэтому ты должен меня простить. Кстати, напрасно ты объясняешь отрицательные черты в моем характере только несчастным детством. Мое детство куда отраднее протекало по сравнению с этими годами жизни без тебя. Если уже говорить о черствости, эгоизме и замкнутости моего характера — то это результат жизни этих лет. Они сделали меня такой. Живу будущим нашим, где должно быть и возмездие за все пережитое и искупление, если оно потребуется. Твою фраза… «не раскаивайся, потом будет поздно». — Мне не понятно, в чем же мне сейчас не раскаиваться и что будет потом поздно? Теперь о Марике. Напрасно ты запугиваешь меня, что заберешь Марика к себе. Это слишком наивно и неумно. Делить я его не собираюсь. Марик — моя жизнь, он дал мне стимул к жизни, — не было бы сына, — не было бы и меня ужедавно. Я сыну отдаю все, что могу и он для меня — самое дорогое в жизни. Что-ж ты хочешь?.. Играть на моих чувствах, зачем?.. И не рано ли еще? Я жду отца своего ребенка и хочу продолжать воспитание своего сыника вместе, дружно и правильно. Мне ведь уже и трудно очень одной во всех отношениях. Кто же может разделить со мной родительские обязанности? Ты и только ты один. А часто я еще разрешаю себе помечтать и о появлении у нас дочки. Марик как-то мне посоветовал «сродить еще двоих детей», чтобы не платить налога. О неправильности воспитания сына ты напрасно меня предупреждаешь. Марик чуткий и ласковый ребенок, он любит всех, — кто любит его. А что касается вражды, то он еще слишком мал для таких чувств. Вырастет и тогда сам сумеет оценить отношения к себе. Я его не настраиваю, но разницу в отношении одной бабушки и другой — он ясно ощущает. Ребенок — остается ребенком, его можно купить, часто он спрашивает, почему моя бабушка приносит мне вкусненькое, отдает свой паек, а другая бабушка, зайдя как-то случайно к С. М. даже не заметила сразу внука? Не видеть Марика три года, зайти к С.М., чтобы узнать что случилось с ним, т. к. он не зашел по обыкновению в свой выходной день и пробыть всего только 10минут, из которых еще несколько минут ушло на переодевание внука в чистый костюмчик. Моя мама решила, что Софья Марковна пришла навестить своего внука, одела, причесала его, и когда он пошел в комнату С. М. — то бабушка заторопилась и ушла в течение 10 минут. Как может ребенок уважать чужую старость (как ты пишешь), когда его бабушка только мимоходом заметила его и зашла только из-за беспокойства о своем брате, а не специально к внуку. Марик сравнительно мало получает что-нибудь вкусненькое, так почему же бабушка ни разу его не побаловала каким-нибудь гостинцем? Ведь он ребенок и даже такой подход — расположил бы к бабушке и исключил то безразличие, которое он питает сейчас к ним. Да, чужие! 1,5 года тому назад твой ребенок давился отрубями, а у тетки зимой был виноград и яблоки. Разве это совместимо среди родственников? А теперь нам легче, мы тоже живы и здоровы. И обошлись без помощи. Сами своими силами вынесли все трудности. Лето Марик с мамой провели на прошлогодней даче, там где у нас коллектив имеет огород. Мама жила и стерегла огород. Я посадила 0,02 картошки, пока еще не собрала урожай. Мама живет еще там, на даче. А я и Марик — дома. Марик с первого сентября уже ходит в школу. Утром я его провожаю к 8.30 и встречаю в 12.30. Из-за этого мне приходится этот месяц работать дома. Дирекция пошла мне навстречу этим, зная, что мама живет на даче и водить в школу сына некому. Марик в школу пошел с радостью, учиться будет, наверное, неплохо, но по шалостям не уступит многим ребятам. Он очень резвый и живой мальчик. Я стараюсь часто узнавать через учительницу о нем, уже два раза пришлось наказать, — ставила на колени. Но помнить долго не может он и продолжает шалить. На днях было первое родительское собрание, где обсуждали режим дня детей и помощь родителей в деле воспитания ребят. Меня выбрали в школьный актив от родителей, — придется уделять время этой работе. Марик на даче за лето хорошо окреп и поправился, но совсем не производит впечатление толстого ребенка, он худышка и вьюн. Первый день нарядила его торжественно, в хороший светлый летний костюм, — отправила такого чистенького и красивого, а встретила жутко грязного и не менее красивого. С головы до ног вышел Марик из школы выпачканный чернилами и руки выше локтей, и ноги, и колени — все было покрыто черными пятнами от свеже выкрашенной парты. А костюм до сих пор не могу отстирать, Первый день у нас был знаменателен не только этим. С утра, проводив сына первый раз в школу — я поплакала, вспомнила тебя… А днем мы с Мариком пошли в сберкассу и завели сберкнижку на его имя со взносом в 500 рублей. Я сказала, что это ты ему прислал, чтобы учился хорошо и потом, лет через пять купил бы себе что захочет из трех вещей: большой двухколесный велосипед, часы или фотоаппарат. Он был очень доволен, показывал всем книжку и хвастался, что уже сам расписывался и давал образец подписи. Мне было обидно еще, что в предпоследнем твоем письме которое ты писал в марте с/г, ты не поздравил сына с днем рождения. Мы этот день праздновали, приглашали гостей. В музыкальной школе занятия еще не начались. Марику в этом году придется труднее, надо совмещать занятия в двух школах. Он сдал переходные экзамены на 4+. Твоего мнения об учении в муз. школе я так и не знаю, т. к. ты мне ничего не писал об этом. На посланные четыре письма в тот период, ты не ответил ничего. Семик, написала я много, но радости для тебя в этом письме мало, т. к. я, в основном, повторила сказанное раньше, поэтому лучше не затрагивать совершенно некоторых вопросов, или лучше может ждать молча. Только не думай, что я стала для тебя другой, ту жену, которую ты оставил — найдешь снова. Будь только здоров. Почему ты упорно не пишешь о себе: на какой работе? Как здоровье, как ты выглядишь? Нужны ли тебе деньги? Я могу послать. Идет зима, — как ты одет? Все родственники тебя помнят, передают привет и желают благополучия. О них подробно напишу в следующий раз. А пока: если веришь мне и любишь по-прежнему, то прими крепкий поцелуй от меня и сына. Жду. Твоя Лика. Только не надо сомнений, напиши веришь ли мне. Это важно.
26/11-44 г. Семик, вот уже десять дней прошло, как я получила твое переполненное до краев оскорблениями письмо. Этим письмом ты наплевал мне в душу. И вот эти десять дней я хожу как помешанная. Написала (в первую ночь по получении) тебе большое письмо и до сих пор не отправила. Почему? Все думала, что может я с горяча тогда и слишком резко изложила все свои думы в письме. Скажу откровенно — не отправила сразу письма только потому, что хотела проверить себя, может я ошибалась в чем либо… Семик, как хочешь, но вины за собой я не чувствую, нет ее. Я никогда не ставила перед тобой каких-либо ультиматумов по отношению к родным, — я полагала, что ты сам должен прочувствовать все обиды и сделать соответствующие выводы. Могу ли я навязывать тебе неприязнь к твоим родным? Ты знаешь несколько фактов их мерзкого отношения ко мне и Марику и ты их называешь личными неудовлетворенными обидами. Это крайне несправедливо с твоей стороны. Я не хочу тебе ничего доказывать, единственное, чего я хочу, — это отца своему сыну. Много слез и страданий принесли мне эти десять дней. Сегодня, глядя на Марика, как он душил меня своими ручонками, успокаивал как взрослый, глушил поцелуями мои рыдания, — я дала себе слово сломить или хотя бы заглушить все, что накипело в моей душе только для того, чтобы иметь отца своему ребенку. Семик, мы будем вместе. Мы должны быть вместе. Я пишу это, а слезы давят мое горло. Марик спит… Опять ночь. Наверное я пойду на любые тебе уступки, может, так легче, чем опять страдать. Я так устала… Тебя — люблю. Только бы скорее ты вернулся. Если тоже любишь, то поймешь. Захочешь — рассчитаешь меня с жизнью. Тогда уже Марик — твой. Тебя он любит и ждет. Пока еще он не понимает, почему ты так долго не едешь. Часто даже с раздражением говорит, что он тебя еще ни разу не видел. Еще год тому назад он написал тебе эту открытку и настойчиво требовал, чтобы я ему сказала номер полевой почты, т. к. он предполагает, что ты на фронте. Пришлось выкручиваться. Я предлагала ему самой написать адрес, но он ни за что не соглашался, говорит, что «когда ты пишешь, — папка не отвечает, а мне — ответит». Теперь он уже пишет не печатными, а письменными буквами, но без клякс пока не обходится. Напиши ему отдельное письмецо. Начались уже занятия и в музыкальной школе. За лето Марик позабыл многое, что проходили в прошлом году. Совершенно самостоятельно приготовил последний заданный урок: «Во поле березонька стояла». Надо было подобрать и записать ее нотами. Подобрал он удачно, а разбивка на такты и проч, ему одному трудна. Писала ли я тебе, что Марик прекрасно катается на двухколесном велосипеде? Уже нагоняет большую скорость. Велосипед я ему подарила, когда ему исполнилось пять лет. Идет зима — начинаются морозы. Марик очень много изнашивает обуви, опять нет у него ботинок, галош и валенок. За вечернюю «халтурную» работу у меня скопилось 1700 руб., хотела купить немного муки, но, наверное, придется потратить на обувь для сына, т. к. очередь на ордер не скоро подойдет. Мама еще на даче. Я кручусь как белка в колесе. Напиши мне, ради бога, поскорей и честно — веришь ли мне? Только не надо жалеть, это слишком унизительно. Целую крепко. Твоя всегда — Лика.
Решеты, 5/XI-1944 г Дорогая моя Лика! Твои письма от 16/IX и 26/IX я получил 20/Х. Не смог я сразу ответить на них, — надо было еще и еще раз собраться с мыслями. А позавчера я получил твое письмо от 18.X и три бандероли с газетами. Кстати, о газетах, я их получил 19 штук (7+6+6). Полагаю, что много пропало в пути. Высылай их понемногу, но чаще. Сколько ты их выслала? Ну, а теперь о твоих письмах и о наших взаимоотношениях. Ты говоришь об обиде и оскорблении, что я тебе нанес. Я не хотел этого. Но ты сама вызвала такую реакцию с моей стороны. Сейчас ты пишешь, что никогда не предъявляла мне ультиматумов. Это — неправда… Я сохраняю все твои письма и ты не сумеешь от них отречься. Я тебе много раз писал о том, что вопрос об отношениях с моими родными, о случившемся между вами в мое отсутствие я буду разбирать, когда вернусь домой, ибо мне трудно сейчас иметь определенное суждение об этом. Не я, а ты сама вновь и вновь, почти в каждом своем письме, ставила и поднимала этот вопрос, связывая его с нашим будущим. И в письме от 16/IX ты опять говоришь о невозможности в будущем нашей совместной жизни, если я не сделаю желательных тебе выводов в отношении моих родных. Ты опять угрожаешь мне разрывом? К чему? Подумай об этом хорошенько. Если я люблю человека, то зачастую прощаю ему его собственные проступки, объясняю их, нахожу пути примирения. Неужели любящие друг друга муж и жена, чьи отношения основаны на глубокой любви, взаимном уважении, пережившие вместе столько светлых, хороших дней, а еще больше горя и несчастий (а ведь беда еще больше сплачивает друзей), жаждущие новой счастливой жизни, мечтающие о воспитании своего сына, о рождении новых детей, — неужели они в состоянии разойтись из-за проступков, совершенных не ими, нет, а их родственниками? Мыслимо ли это? Никогда в своей жизни я не мыслил о возможности такой агрессии со стороны моей жены, моей Лики… Ия прошу тебя успокоиться, призвать на помощь весь свой разум, все свои чувства любви ко мне, и еще раз крепко продумать все случившееся. Ты и в последнем письме от 16. IXпишешь: «Наше будущее стоит под большим вопросом, что для тебя не ново»… Ты опять грозишь, что сможешь променять своего мужа на обиду, причиненную отношением родных к тебе и к ребенку. И тут же сама убеждаешь меня: «Как же ты сможешь жить с такой женой, которая презирает твоих родных?» Итак, повторяю: такая постановка вопроса со стороны любящего и преданного мне человека — мне непонятна, я ее и слышать не хочу, не желаю вовсе допускать в наших отношениях. А с другой стороны, твое недопустимо длительное молчание, вырвавшее у меня всю душу, измотавшее мои, и без того, потрепанные нервы… Чем мог я объяснить его? В результате: недоверие, подозрения, обвинения… Понятны тебе теперь источники, породившие мое письмо, столь взволновавшее и оскорбившее тебя? Да, вот еще о чем: ты почему-то говоришь, что я, якобы «в течение всех этих лет обходил общими, довольно пространственными фразами» вопрос о будущем нашем. Это тоже неверно… Всегда ты и Марик были для меня дороги и любимы мною. Я мечтал и мечтаю о том времени, когда возродится наша семья, мы будем с тобой вместе, любящие друг друга, отдающие друг другу всю любовь и ласку, воспитывающие своего чудесного сына. Только здоровая и крепкая наша семья привлекала все эти годы все мои мысли и мечтания. И все же ничего определенного я тебе сказать о нашем будущем не могу. Осталось уже немного: один год. Но я совсем не знаю, где мне придется жить после этого, возможно ли будет вернуться в Москву или хотя бы поселиться в каком-либо другом крупном городе? Приедешь ли ты ко мне в такое сибирское, или, в лучшем случае, среднеазиатское, захолустье, останешься ли там жить со мной? Можно ли будет забрать Марика из Москвы, оторвать его от учебы? Как-то, давно уже, ты мне ответила, что из Москвы ты не уедешь, а к огороду и к корове с поросенком у тебя тяготения нет, они тебя не прельщают… Вот эти-то обстоятельства, могущие возникнуть в недалеком уже будущем, смущают меня и не дают мне права высказаться определенней о нашем будущем… Наше будущее больше зависит от тебя, чем от меня. Не як тебе, а, очевидно, ты ко мне должна будешь приехать. Надо, конечно, надеяться, что, выйдя отсюда, по прошествии некоторого времени, мне удастся реабилитироваться и получить право на возвращение в семью, в Москву. Но, пока… Пока что именно такая реальная перспектива стоит перед нами. Я честен в отношении тебя, говорю прямо о нашем будущем. Решай! Что касается меня, то повторяю, я не собираюсь искать для себя другой женщины. Моя судьба связана только с тобой, моей единственной и любимой женушкой. Я тебя не забыл, не забыл и твоей любви, твоей ласки, твоей дружбы. И не проходит дня, чтоб я не мечтал о тебе, о нашей встрече. С этими мыслями и мечтами о тебе, моей женке, я засыпаю каждый раз… И мечты наши с тобой одинаковы: и мне так хочется иметь еще детей: девочку и мальчика обязательно. И мы с тобой сумеем это сделать, верно, моя Лика? Я тебе безусловно верю, Лика! Ты моя, и только моя, так же как я твой, и только твой! Я тебе дал полную свободу действий: свою судьбу ты должна решать сама, в своих поступках ты вольна, ибо ты — молодая женщина, имеющая право на жизнь. Но это не значит, что ты не можешь и не должна остаться верной и преданной своему мужу. Ты не воспользовалась данным тебе от меня правом свободы дей-степи, свободы во встречах с другими мужчинами, свободы увлечении и т. п. Я тебе верю, моя дорогая девочка, моя любимая женушка, и я счастлив и горд тобою! Тем более желанной и любимой будешь ты мне, когда мы встретимся после стольких лет разлуки. Тем с большим трепетом я возьму в свои горячие объятия свою женушку, пронесшую ко мне сквозь все эти мучительные годы честность и непорочность своей страсти… Еще раз говорю: я верю тебе, Лика, и благодарю от всего своего сердца за твою чистоту и преданность. Я не ошибся в своей жене. Только такую прекрасную, благородную девушку я мог полюбить, жениться на ней, только такая жена может быть у меня. Ибо и я сам чист перед ней… Я так же горячо люблю тебя и предан тебе и никогда не сменяю на другую! Теперь о нашем сыне, о его воспитании. Я уже писал тебе, что вполне одобряю его учебу в музыкальной школе. Это — правильный выбор, тем более, что в нем обнаруживаются музыкальные способности, доволен я и поступлением его в школу, и его успехами. Но не слишком ли это обременительно для такого малыша, ведь ему лишь 7 лет? Индивидуального педагога для него брать не следует по двум причинам: 1) нельзя его сейчас забивать усиленными занятиями, ~ он слишком молод еще, 2) пусть не привыкает к репетиторам. Надо, чтобы он прилежно, трудолюбиво усваивал то, что дается ему в школе, не забегая пока вперед, но и не отставая. Шалости его меня мало смущают. Наоборот, это хорошо, мальчик должен быть живым, подвижным, смелым. Но следи как зеницу ока, чтоб он не поддался дурному влиянию улицы, бродяг, воров и хулиганов. А для этого нужно всегда и постоянно прививать ему любовь и преданность нашей Родине, стремление быть полезным гражданином своего отечества, любознательность — жажду знаний, любовь к чтению, абсолютное уважение к государственной и личной собственности, трудолюбие, отвращение к лжи, уважение к старшим, скромность и, самое главное, честность. Эти качества должны вливаться в его детскую душу постоянно, систематически, капля за каплей. Ине надо излишне баловать его. Избалованность порождает пороки. Он должен знать с детства, что все прелести жизни даются трудом, и только трудом. Уважать труд и плоды труда каждого человека, всего общества — это особенно важно. Я не одобряю вклад денег на его имя в сберкассе. Деньги не должны прельщать его и думать о них он не должен. Он должен уважать каждую копейку, ибо ею оплачивается труд его матери, отца, всех трудящихся. Ну, на этот раз хватит об этом. Я здоров, работаю по-прежнему, мастером погрузки. Выгляжу так, что ты не разочаруешься в своем муже. Одет в зиму хорошо, тепло. Ни в чем не нуждаюсь. Газеты высылай почаще, а главное, пиши. Не волнуйся обо мне. Горячо обнимаю и целую тебя, твой Сема. Крепенько целую сына. В следующий раз напишу ему отдельно. Привет всем, всем родным: тете Тасе, Нинзе, Васе, Мапе, Волоке. Горячий привет маме А.Д. Почему не пишешь о ее здоровье? Привет Шуре и Гаврику Морозам, их детям — где они? Сердечный привет Самуилу с семьей и особенно Нюмику. Вышли мне фотокарточки свои и сына. Это будет огромной радостью. Дружеский привет подругам, особенно Мифе.
Решеты, 21/XI — 1944 г. Дорогая моя Лидука! Получил твою открытку от 26.X. Я не думаю, чтобы кто-нибудь выкрал письмо. Оно или выпало из конверта, или же, по проверке, забыли вложить обратно. Между прочим, пропавшее письмо было написано мною до получения твоих писем от 16 и 26 сентября, и не содержало поэтому ответа на твои вопросы. Последнее письмо написано мною 5.XI — ты уже его должна была получить. Еще раз повторяю, Лика: я тебе хочу верить и, безусловно, верю. И для того, чтоб не было больше никаких подозрений и обвинений — пиши чаще, как можно чаще. Последний месяц, в течение которого я получил от тебя 3 письма и 1 открытку, явился для меня необычно радостным и насыщенным переживаниями, хорошими, радужными надеждами. Вновь твой образ стал мне так близок и дорог! Нет более любимой мечты у меня, чем мечта о близкой уже нашей встрече, о воссоздании нашей семьи, о нашем хорошем, радостном будущем, о воспитании нашего сына. Остался еще 1 год! Ты, моя Лика, не беспокойся шибко обо мне. Оставшийся срок я надеюсь пережить и выйти к тебе в полном порядке. У меня к тебе просьба: к весне приготовить для меня сапоги (размер 41-й) и рабочий костюм. А к зиме будущей понадобится теплое пальто или полушубок, чтоб было в чем выйти поприличней и теплей. А пока что чаще высылай мне газеты, журналы, книги. Последнюю бандероль я получил с 6-ю газетами «Правда» за октябрь м-ц. Обязательно на внутренней стороне бандероли сзади адреса, пиши перечень посылаемого, чтоб я мог определить, что именно пропало из бандероли. Деньги, при возможности, переводи понемногу, — они понадобятся, когда выйду отсюда. Что у тебя? Как здоровье, работа? Как идет учеба Марика, его поведение? Как здоровье мамы? Обеспечены ли вы топливом, овощами, одеждой и обувью на зиму? Что из наших вещей пропало в Сарапуле? Жду от тебя подробного, Лидука, письма. Еще раз: пиши, как можно чаще. Сообщи мне, что случилось у моих родных, — от них нет давно писем. Горячий мой привет маме А.Д., тете Тасе, Нинзе, Васе, всей родне, Самуилу с семьей. Крепко целую тебя, мою женку, твой Сема.
21. XI.44 г. Мой дорогой сын Марик! С большой радостью я узнал о твоих успехах в учебе. Запомни, мой мальчик: чем прилежней и лучше ты будешь учиться в школе, тем лучше и красивей будет твоя жизнь впереди. Тот, кто любит свою Родину, должен учиться и быть послушным, дисциплинированным учеником. Когда вырастешь, сможешь быть хорошим офицером — Героем. Но мне очень обидно, что по поведению ты получил 4. Это — очень плохо, мой мальчик, и огорчает меня. По поведению мой сын должен иметь только 5, и ты должен этого добиться. Я буду доволен тобою, когда узнаю, что по поведению ты отличник и отлично учишься в школе. Напиши мне о своих успехах по музыке. Что играешь сейчас, какие песенки поешь? Напиши мне свою любимую песенку: текст и ноты. Передай привет мамочке, бабушке. Целую тебя и жду твоих писем, твой папа Сема. 23/XI—44 г.
Здравствуй дорогой папочка! Я уже учусь в школе. Утром мы уходим с мамой, а возвращаюсь я с Игорем и его мамой. Игорь мой товарищ. Учусь я пока на 4 и 5. Отметки первой четверти у меня по чтению 5 и по поведению 5, а по остальным 4. А теперь я стараюсь и во второй четверти хочу получить все 5-ки. Ты не волнуйся о нас, мы здоровы. Ждем тебя скорей домой и я хочу тебя крепко поцеловать. Посылаю фотокарточки. Смотри какой я большой. Мне 7лет и 8 мес. Мама сегодня подарила мне коньки. Привет от мамочки и бабушки. Целую, твой Марик 10/XII—44 г.
28/1 — 45 г., Москва Здравствуй, дорогой Сема! Вот уже остался один десяток месяцев — последний… Каждый день я думаю о тебе, о нашей встрече, о жизни… Как она сложится? Скоро кончится война, наши армии теснят врага, гонят его в свое логово. Близится развязка. Скорее бы. Каждый день мы слышим и видим салюты в честь одерживаемой победы. Дома мы с Мариком устроили карту с флажками и, ежедневно, перекалываем их все ближе и ближе к Берлину. Марик очень интересуется этим, следит внимательно сам за всеми городами. Говорит, что скоро кончится война и приедет папка. Может он и прав, может и дождемся мы тебя. Марику со школой не повезло. Он после каникул пошел учиться только 26-го января. В последний день каникул я заметила у него опухоль шейки с двух сторон. Мама вызвала врача, он признал, что у Марика свинка. Но после этого опухоль спала через два дня, я грела его синим светом и мазала камфорным маслом. По моему диагнозу у Марика была опухоль железок, а не свинка, но переубедить врача трудно и поэтому ему пришлось высиживать дома весь карантинный срок. За эти дни Марик так разболтался, ложился спать поздно, вставал тоже, мама с ним едва справлялась. Теперь опять все вошло в свою колею, режим налажен и маме легче. Маме приходится с нами тяжело, все домашние заботы лежат на ней. Я работаю сравнительно не много, но все-таки устаю тоже. Сейчас сижу, пишу тебе письмо, а Марик сидит напротив меня и играет сам с собой в шахматы. Он увлекается этой игрой, но мне с ним играть некогда. Иногда к нам заходит Алексей С и тогда Марик играет с ним. Это он научил Марика играть в шахматы. Алексей работает в Москве, он уже имеет двоих сыновей. Сам он много пережил, поседел как старик. Еще Марик увлекается марками, приходится деньги тратить и на это. Любимая женушка! Поздравляю тебя с днем рождения нашего сына и с днем твоего рождения! И сын у нас уж большой, и мамка совсем уже большая… Я все привык думать о Лике, как о маленькой девочке с косичками, моей дочурке-женушке, как я когда-то ее называл. А вот получил фотографию и увидел совсем взрослую женщину… Ничего, Лидука, не унывай! Мы с тобой еще молоды, вся жизнь — впереди! А то, что потеряно в прошедшие годы, — постараемся наверстать с лихвой в будущей нашей жизни. Лишь бы была воля к жизни! А у меня ее хоть отбавляй… Я так соскучился по настоящей жизни, Лидука! Я так истосковался без тебя, без семьи, без крова… Осталось 8 месяцев, — мы будем вместе! Желаю тебе, Ликин, здоровья и многих, многих лет жизни, жизни радостной, счастливой, полной достатка, насыщеной любовью до конца. Желаю тебе успехов в труде, в твоей работе, и, конечно, в воспитании нашего славного сына! Горячо, горячо целую свою Лику — Сема.
Решеты, 20/111 — 1945 г. Дорогая Лика! Опять тоскливо становится на душе, — нет давно уже от тебя писем. Вновь что-то непонятное происходит у тебя, или что случилось? Какие-то невероятные зигзаги получаются в наших отношениях… Нельзя ли их выпрямить хотя бы к концу нашей разлуки, в предвидении скорой встречи, до которой осталось всего лишь 8месяцев? Несколько писем я тебе отправил за последнее время, но ответа пока не имею. Связь, которая у нас с тобой не плохо восстановилась, оказалась вновь прерванной к моему горю. Ни писем, ни бандеролей… У меня настроение плохое, не шибко хорошо. 2 последних месяца я был на такой работе (заведывал заводом), которая у меня растрясла остатки нервов и основательно подорвала силы. Пока что перешел на свою прежнюю работу, но еще окончательно не знаю. Во всяком случае, вот уже 10 дней, как я буквально отдыхаю от заводских передряг и треволнений. Нет, я неисправимый дурак!.. Мне бы только биться головой о стенку в тщетной попытке прошибить ее… Даже здесь, в этих условиях, в этой ужасной среде, где честный человек — редкость, я не могу отрешиться от своей старой привычки итти прямой дорогой, — напролом, крыть все и всех попадающихся на пути. Поэтому меня и ставили на завод, где нужно было выправить положение. Шел я туда временно, пришлось поработать крепко. Сдал его вполне подготовленным к нормальной работе, сейчас он уже выполняет свой график. Главное, привел в порядок механизмы, оборудование завода, хромавшее на все 4 ноги. Но, чтобы продолжать свою работу на заводе с той же неослабевающей энергией, что и вначале, на это у меня пороху не хватило. Нет прежней выдержки, терпения, а, главное, сил… Крепко надо будет мне подремонтироватъся самому. Ты мне в этом поможешь, конечно, Лидука? У нас уже основные морозы прошли, вот-вот наступит весна. Зима была в этом году суровая, жала на все педали. Я выдержал ее с честью, ни разу не поморозился, хотя приходилось работать при 50–60 °C. Как прошла зима у вас? Ты мне так и не писала про свои нужды; как было с топливом, как обеспечились вы одеждой, обувью? Фотографии, что ты мне прислала, влили в меня свежие силы, подбодрили и обрадовали меня. Какой хороший сын у нас растет, Лика! Над ним стоит крепко поработать, и для него стоит потрудиться, — из него толк выйдет! Как его успехи в учебе, здоровье? Лидука! Пришли мне еще фотографии, а ты снимись в закрытом платье. Этот снимок твой я считаю неудачным, я хочу иметь чем больше твоих снимков, самых свежих. Посылай мне чаще бандероли, как можно чаще и пиши, пиши, и пиши. Передавай привет маме, почему она никогда не пишет? Как ее здоровье? Привет всем родным. Крепко обнимаю и целую тебя и сына — т. Сема. Привет Самуилу с семьей, Нюмику, Люсе, Мифе и Вере, Тане — привет.
20.111.1945 г. Родной мой мальчик! Горячо поздравляю тебя с днем твоего рождения. Тебе уже 8 лет, ты — школьник! Я рад твоим успехам в занятиях и в поведении. Желаю тебе все лучших и больших успехов, которых ты должен добиваться настойчивым трудом. Будь примерным учеником в классе, послушным мальчиком в семье, — этим ты доставишь мне большую радость. Сын мой любимый! Скоро наши доблестные Герои-воины разгромят злодеев-фрицев, кончится война, и ты увидишь своего папку, — я вернусь домой. Желаю тебе здоровья и наилучших успехов. Крепко целую тебя, твой папа. Передай привет мамусе, бабушке и дяде Самуилу.
Решеты, 3/V — 1945 г. Дорогие мои, Лидука, Марик и Ал. Даниловна! Горячо поздравляю вас с нашим светлым праздником 1 Мая! От всего сердца поздравляю вас с великой победой нашего народа над фашистскими мерзавцами — взятием нашими героическими войсками звериного логова — Берлина! Ура, ура, ура, родные мои! Какими словами можно передать чувство радости и гордости, владеющее нами в эти исторические дни? Как хочется быть сейчас с вами, в нашей родной Москве!.. А еще больше хочется быть сейчас там, на фронте, среди бойцов, итти вместе с ними, бить и уничтожать немецких гадов, мстить им за их звериные дела, сотворенные на нашей советской земле, за их чудовищные преступления, за миллионы человеческих жизней, за горе и несчастья, пережитые человечеством от их фашистской дьявольской руки. Я бы не щадил там своей жизни, но и не отдал бы ее дешево врагу… Но, что поделаешь, коль судьба определила меня иначе? Осталось 7 месяцев — 214 дней, — близка уже моя свобода, близка наша встреча! Ликин, родная моя женушка! В этот оставшийся короткий период времени нам нужно поддерживать между собою более тесную связь. Меня же чрезвычайно беспокоит вновь наступившее тягостное твое молчание. Что же происходит у тебя, что заставляет тебя так подолгу не писать мне, прерывать всякую связь со мной? Лида, мы должны восстановить нарушенные между нами отношения, установить тесную душевную близость, какая всегда существовала между нами. Ведь скоро, совсем скоро, мы встретимся с тобой, чтоб уж больше не расходиться в жизни. Надо подготовиться к этой встрече, подготовить к ней свои любящие сердца. Пиши теперь мне часто, очень часто, чтоб я чувствовал нерушимую нашу близость, знал бы ваши нужды, переживал их вместе с вами… Как прошла зима (у нас она была очень сурова в этом году), как здоровье твое, сына имамы, каковы успехи Марика в школах, где ты работаешь, какое материальное состояние твое теперь, как жизнь? На все эти, и сотни других вопросов ты должна исчерпывающе и систематически писать мне. Ладно, моя дорогая Лидука? И, кроме того, пришли мне еще свои и Марика фотографии. У меня есть сведения, что из Москвы разрешена отправка посылок. Так или иначе, изыщи способы отправки мне кое-чего из белья, обуви и одежды, так как мне буквально не в чем будет выйти отсюда. Сохранилось ли что-нибудь из моих вещей: костюм, пальто, белье, ботинки? И еще, если есть у тебя на сберкнижке деньги, то переведи мне 7–7 ½ тысячи рублей. Прошу тебя также чем чаще посылать мне бандероли с газетами, журналами и книгами, преимущественно с газетами. У меня все по-прежнему: здоровье относительное, а остальное… что и говорить!.. Крепко целую и обнимаю — Сема. Привет мой Самуилу с семьей, Морозам, Тиматновым, Майке с ребятами и всей родне. Что слышно о Шуре Тиматнове и Николае Арутюнове? Живы ли они?
5/V-45 Г. Дорогой Сема! Наконец получила от тебя весточку. Ты удивляешься, почему я не писала тебе, а я еще больше удивлена и обижена твоим молчанием. Тебе я послала много писем, фотографии, бандероли, а от тебя не получала больше четырех месяцев ничего. Раньше я беспокоилась, думала, что тебя куда-нибудь перебросили, но оказывается ты писал своим родным, что жив и здоров, настроение у тебя бодрое. Конечно, не надо скрывать, мне очень обидно, что мы с сыном у тебя не на переднем плане. Я и Марик так ждали поздравления ко дню рождения. — Почему же ты, зная что письма так долго идут, в феврале мог написать письмо родным, а не сыну? Марик так долго ждал ответа на свое письмо, почти ежедневно вспоминал об этом. Опять напрашивается вывод, что я и сын тебе не ближе всех. Наверное получаемые тобой посылки делают грань на самых близких и просто близких, к которым ты относишь единственного сына и жену. Но, поверь, Сема, что посылки — это еще не все. У меня нет и не может быть таких возможностей, чтобы посылать тебе посылки. Меня это страшно мучает. В одну из последних посылок я передала для тебя смену теплого белья. Получил ли ты? Вообщем мне тоже хочется внимания, возможного даже в твоих условиях. Связь между нами не должна прерываться, так же это зависит и от тебя. Конечно, ты отвык от меня, видишь, я тебе показалась взрослой и пожалуй чужой женщиной… Ты пишешь «не унывай», а для меня страшно подумать, что может мы не найдем в каждом из нас того, что было и того, что должно быть — близость, любовь, понимание… Чем ближе день нашей встречи, тем больше и больше я об этом думаю. Мне очень не нравится, что ты до сих пор не понимаешь как надо жить с людьми. Напрасно думаешь, что «итти напролом, крыть все и всех» — верный путь. Это давно уже вышло из моды. Если ты не поймешь этого, то и в дальнейшем тебе трудно будет жить. Ну, об этом поговорим подробно тогда, когда встретимся. Теперь о себе и сыне. Марик в третьей четверти очень много болел, свинкой и два раза гриппом. Пропустил школу, но успехи его не снизились. Все отметки остались такие же. Сейчас заканчивает учебный год, нагрузка у него большая. Сегодня сдал годовой экзамен в музыкальной школе им. Гнесиных, получил отметку 5. Радость в семье у нас большая, особенно рада бабушка. Из класса получили пятерки только 7 человек. Экзамен был по группе сольфеджио, пел он песенку, разобрал ноты и подобрал с ноты «до». Это было так приятно услышать по телефону: голос своего «мурзы» — «Мама, я сдал экзамен на “5”». Он не вытерпел и сообщил мне по телефону. Я тебе писала свои опасения в отношении его занятий по музыке. Так и вышло, он очень испортил себе руки. То, что он не во время начал заниматься по специальности испортило ему постановку рук. Я взяла сейчас для него частного педагога, которая уже дала ему шесть уроков. Теперь у Марика заняты почти все дни: два раза в неделю в школе — сольфеджио, два раза — урок музыки у учительницы и ежедневные занятия в общеобразовательной школе. Кроме этого надо ежедневно готовить уроки в школу и заниматься дома по музыке. За всем этим надо следить, в школу, на урок надо возить, в общеобраз. школу провожать и встречать. Домашние занятия по музыке проходят обязательно в моем присутствии. Я уже так устала и от этих всех забот. Скорее бы вернулся папка, — разделил бы со мною часть этих обязанностей. А кроме этого надо работать, работать еще и дома, часто и ночами. Денег моих мало, приходится «халтурить» дома. Часто еще помогает мама, Марика она балует часто и мясом и молочком, — если ей удается подработать — все тратит на внука. Устраивали мы наши именины, приглашали гостей. В этом году праздновали один день — 5-го числа. Было всего >> нас 18 человек: Самуил М. с семьей и барышней Нюмы, Нинза с Василием, Таня с Петей, Мифа с приятелем, еще трое сослуживцев моих и одна мамина знакомая. Веселились хорошо. Марик получил подарки: белый шерстяной вязаный костюмчик от СМ. с семьей, фотоаппарат — детский от Нюминой знакомой, шоколад — 4 плитки, тортик, печенье от других. Я получила портфель, платочек на настольную лампу, духи, одеколон, губную помаду и цветы. Все было бы хорошо, если бы и ты был с нами. Уже три года я храню бутылку коньяка, откроем мы ее в первый день твоего приезда. Это у нас «НЗ». Праздники 1-го Мая провела с сыном. В первый день мы были приглашены к Сам. М. на завтрак, потом я с Мариком поехали в зоопарк, провели там весь день. Удовольствий для него много было, а на второй день гуляли по городу и даже катались с ним на двухэтажном троллейбусе. Мой начальник на именинах у нас не был, т. к. в этот день у него тоже родился сын, которому теперь годик. Но он подарил Марику ценный подарок — валенки. Теперь у сына есть в зиму уже новые валенки. А остальное все надо делать новое. Нет шубки, галош, шапки и проч. Мне тоже нужно шить зимнее пальто. Я за войну так износилась, надо все приводить в порядок. Близится лето, — надо опять думать об огороде, даче. Возможно удастся опять устроиться там же, где мы были в прошлом и позапрошлом году. Купила уже удобрение для земли, теперь надо копать и думать о семенной картошке. Свой урожай мы уже поели. Сейчас, к весне у нас с питанием стало хуже, приходится картошку покупать на рынке. Я намного похудела. И опять остригла косы, говорят, что так выгляжу моложе. Мама немного поправилась. Вообщем с улучшением питания по сравнению с прошлыми годами, — мы будем приходить в старую свою норму: я похудею, а мама поправится. Как выглядишь ты? Почему не напишешь? Возможно это письмо, как раз придет ко дню твоего рождения. Поэтому спешу поздравить и тебя, а пожелать тебе ты знаешь уже, что я хочу. Пусть только все это исполнится. В прошлом году мы в день твоего рождения праздновали, мама пекла кулебяку. Каждый год мы в своей семье помним этот день и особенно думаем о тебе. Семик, у нас большое горе. Мы похоронили тетю Тасю. Она болела грудной жабой и умерла в больнице. О тебе она часто вспоминала и любила, а Марика всегда сравнивала с тобой, он очень похож на тебя. Пиши нам тоже чаще. Марик самостоятельно прочел твое письмо, улыбка сразу расплылась на его лице, глазки счастливо засияли. Он ждет с нетерпением конца войны, устроил карту с флажками и следит за всеми событиями. Каждый день радуемся победам. Вчера я проводила подписку на заем, я подписалась на 1500 руб. Целуем и обнимаем тебя крепко, помни о нас, а в моей любви и постоянстве не сомневайся. Твоя Лика.
Мой дорогой сын! Спешу сообщить тебе, что я жив и здоров, много работаю, по-стахановски, для того, чтобы добиться скорейшей Победы над злыми разбойниками-фашистами. После окончания воины я должен буду приехать домой, к тебе и к мамочке. Тогда уж мы порадуемся и повеселимся вдоволь, а я от Вас никуда больше не уеду, и мы будем всегда вместе. У меня есть к тебе, мой Марик, такая просьба: слушайся во всем мамулю и бабушку, старайся не волновать их. Будь дисциплинированным, как боец в Красной Армии. Пиши мне чаще и напоминай об этом мамусе. Будь здоров, мой сынка! Крепко целую тебя и мамочку, твой ПАПА.Отец. Война закончилась. Все возликовали, но это была минутная радость. У вас хоть салюты были. Мама. Я махнула 9 мая водки — сто грамм. Впервые за восемь лет. Отец. Размахалась. Нам сделали поблажку — 9-го мы все филонили — и те, кто был на общих работах, и те, кто шуровал на отдельных должностях. Пришел на ужин в столовую сам начальник лагеря и сказал речь: «Ну что, товарищи враги, поздравляю вас с нашей победой. Может, она кому-то как ком в горле, но мы вас предупреждаем — теперь, когда фашистский зверь разбит наголову в своем фашистском логове, у нас, у товарища Сталина будут руки посвободней, и вам, товарищи враги, теперь еще больше несдобровать». Он вот так и говорил, я запомнил: «Товарищи враги!» Я. Чушь какая-то. Отец. Не чушь. Мы-то сразу поняли правильно: сейчас, после победы, закрутят сильнее гайки, и будет нам полнейший пи… конец, в общем. Так и случилось. Но речь свою гражданин начальник закончил празднично: «Теперь раздать всем хлеба по двухсотке и киселя наварить столько, чтоб уелись, суки!.. А от меня лично — вот вам, товарищи враги, коробка сахара!» Я. Это он добрый, что ли, такой? Отец. Ага, добрый. Не одну тысячу людей сгубил. Но сейчас был добрый. Нас после ужина с киселем разогнали по баракам, а начальство в нашей столовой осталось, они там пили всю ночь. Праздник все же всенародный. Потому в середине ночи меня вызвали… Разбудили и вызвали. Я. Зачем? Отец. Чтоб я им пел. Я. И ты пошел? Отец. А куда же деться? Я. И что же ты им пел, папа? Отец. У меня репертуар огромный был. Четыре песни, и все любимые. «Песня о Москве» — раз, «С берез неслышен, невесом» — два, «На солнечной поляночке» — три и «Песня о Сталине». Пауза. Я. Ты пел «Песню о Сталине»? Отец. Пел. Я. Как ты мог? Отец. Мог. Я. Позорник. Отец. Как ты сказал? Я. Я сказал: «Позорник». Отец дает в челюсть сыну. Я полетел к стене и упал. Отец. Не смей так со мной разговаривать. Я — твой отец, понял? Я (встав). Позорник. Отец (еще раз замахивается, но не бьет на этот раз). Понял. Ты МОЙ сын. Я. Петь перед палачами — это как называется? Отец. Нет. Ты сын своей мамы. Я (свирепо). Маму не трожь! Мама (с гордостью). Мой… твой… Теперь, Сема, ты видишь — это НАШ сын. Наш.
Заиграла музыка. И чей-то голос — не голос отца запел «Артиллеристы, Сталин дал приказ…»
Я. А у нас эту песню пели не так. (И запел как.)
Американцы, Сталин дал приказ
Чтоб всю тушонку вывезли для нас,
Чтоб сотни тысяч матерей
Стояли в очередь за ней…
И чтоб хватило всем! Скорей! Скорей!
Решеты, 20.V.1945 г. Здравствуй, дорогая Лидука! Пишу тебе первое послевоенное письмо. Горячо поздравляю с Победой над врагом, с окончанием войны, с наступлением мирной жизни. Долгожданный день окончательного разгрома гитлеровских разбойничьих банд настал, — стало свободнее дышать на Земле, скоро заживем по-старому: свободно, радостно и счастливо. И мне осталось 6 ½ месяцев, или 196 дней, и я буду свободен! Теперь я уже могу сказать уверенно, что скоро мы с тобой увидимся наконец, опять будем вместе. Но как тяжко дожидаться окончания срока… Томительно и тягостно плетутся дни, забываешься только в работе, она спасает. Работаю сейчас много, физически устаю до крайности, и очень этим доволен. Но настроение у меня плохое. Совершенно не получаю писем ни от тебя, ни от сестер. Правда, последнее письмо от Паши было от 23. III, в котором она писала, что мама была очень больна воспалением легких, но выздоравливает. Я все же очень беспокоюсь. Прошу тебя, Лидука, сообщить мне о здоровьи мамы. Да и от тебяуже сколько времени нет ничего. Так хорошо наладившаяся связь между нами опять почему-то порвалась. Ни писем, ни бандеролей, ничего… Л я ведь отправил тебе несколько писем за последнее время. Как прошла у вас зима? Каковы успехи Марика в учебе, здоровье ваше? Как организуешь летний отдых? Лидик, очень прошу тебя писать мне часто на протяжении этих оставшихся 6-ти месяцев. Кроме того, посылай мне почаще бандероли с газетами, журналами и книгами, как можно чаще, — это окажет мне материальную помощь. Как будто сейчас разрешена отправка посылок из Москвы. Если это так, то вышли мне чего-нибудь. Я очень нуждаюсь, кроме продуктов и табака, в одежде, белье и обуви, у меня ничего нет, и не в чем будет выйти отсюда. Переведи мне денег 1–1½. тысячи рублей, если есть у тебя на сберкнижке. И, главное, готовь почву к твоему приезду сюда к 3.ХII, чтоб встретить меня. Жду твоих писем и всего, что прошу. Крепко целую, твой Сема. Пришли мне еще фотографии твои, сына и мамы.
26. V — 45 Г. Здравствуй, дорогой Сема! Пишу тебе уже в мирное время… Война кончилась. Радостно, что кончилось кровопролитие, люди теперь заживут счастливо и спокойно. Признаюсь, с этим событием я ждала и твоего возвращения в семью, но пока перемен нет. Время идет. Настанет ли день радости и в нашей семье? Я много сейчас думаю об этом, мечтаю даже. Марик ночью, как только услышали мы, что окончилась война, — сразу же заявил: «теперь скоро приедет и мой папа». Ждем мы тебя, дорогой! Я не знаю как будет, но, конечно, лучше было бы, если бы ты приехал к нам. Здесь дом и все было бы лучше. Если ехать мне к тебе, это связано с большими трудностями. Марик будет учиться, надо его отрывать от школы, я работаю, надо просить отпуск, а это все теперь так трудно. Обо всем этом ты сразу же мне напишешь, как будет обстановка. Во всяком случае, если тебе никак не удается приехать к нам, то я приложу все силы, чтобы организовать поездку к тебе. Как только говорить Марику? Он уже все понимает. Школу он закончил хорошо, годовые отметки — все круглые пятерки, кроме физкультуры, по которой выведена 4. Учительница им очень довольна, на родительском собрании хвалила. Получила я его ведомость успеваемости за весь год — на руки, — ждет тебя, чтобы показать. В музыкальной школе тоже сдал экзамены за год на 5. Сын у нас хороший, способный, но и баловник и непоседа. Приходится часто из-за этого воевать с ним. За хорошую учебу угостила я его мороженым, а вечером и дядя Самуил тоже угостил всех нас, тоже мороженым. Настоящий подарок, я сказала, привезет тебе папа. Сейчас опять заболела мама, чувствует она себя последнее время опять плохо. Питание к весне у нас ухудшилось. Начали мы копать опять огород на старом месте. Если будет теплое лето, то мама и Марик будут там жить, т. к. Марику надо хорошо отдохнуть за лето. Приезжай — картошки будет вдоволь своей. Сейчас еще Марик ходит к частной преподавательнице по музыке. Стоит это мне 500 руб. в месяц. Заработок у меня в среднем 1300 руб. — живем очень скромно. Все расходы идут на Марика, а мы кое-как, приходится во многом себе отказывать. Тебе деньги вышлю, как только надо будет. Пока передала через С.М. для тебя в посылку — пару простых рабочих ботинок (ношенные), — я купила их еще в 43 г., когда Волока возил тебе посылку. И еще передала для тебя новую серую верхнюю рубашку. Получил ли ты ранее посланную мною, пару теплого белья. Что есть у меня, нужное теперь — я посылаю. Костюм твой и пальто целы, но посылать эти вещи я не буду, если поеду — повезу или же приедешь — возьмешь. Сейчас это тебе не надо, а послать, чтобы пропало — жалко, я берегла все это так долго не для того, чтобы пропадало. Приедешь — все у тебя будет. При первой возможности — пошлю тебе посылку — просить меня об этом не надо. Получила от тебя последнее письмо от 3/V. Раньше я тебе еще писала, что погиб у нас еще и Николай Туб. О Шуре Т. и Никол. Ар. — ничего не слышно. Погиб еще и дядя Саша анапский. Вообщем вся родня почти. Привет тебе от всех родственников. Целуем и ждем — Лика.
2/VI — 45 Г. Дорогой Сема! На днях ты опять снился мне во сне, будто бы приехал, но не зашел домой, а прошел мимо. Мне от этого горя стало очень тяжело и я проснулась. Как ты, здоров ли? У нас жизнь течет без перемен. Все время в заботах, к тому же мама опять плохо себя чувствует. Огород до сих пор не засадили, — это у меня камень на душе, — время идет, а дело не движется. В мае стояли все плохие погоды. Сейчас уже третий день тепло и даже жарко. Надо Марика вывозить за город, а денег на всякие непредвиденные расходы не хватает. Еще у нас неприятность: жена Никола Губ. подала в суд на раздел комнаты на Воздвиженке. Мама нервничает — прожила в комнате 20 лет, а теперь должна кому-то ее отдать! После смерти Николая — жена его пошла по плохому пути, завела себе кучу мужчин. Все это неприятно. Пока что пришлось нанять защитника — все стоит деньги, а чем кончится не знаю. Марик пока учится у частной учительницы по музыке, стал заметно лениться — тянет его погулять. На днях сильно провинился, ушел с товарищами в кино без разрешения и соврал. Я его жестоко наказала — поставила на колени на соль, стоял и плакал. Но, наверное, запомнил на всю жизнь и теперь дает слово: не врать. Вообще — как пошел он в школу — мне стало труднее с ним ладить. Появились новые замашки, я нервничаю. Главное — любит очень спорить и противоречить (это в нем твоя черта), мне так иногда трудно с ним. Приезжай скорее, хоть частично возьми на себя миссию воспитания. Без отца — мальчика очень трудно растить. Еще беда — до сих пор вожу его в женские бани с собой, а он ведь уже большой. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Пишешь ли ты мне, или опять не ждать от тебя скоро письма? Привет от всех наших родственников. Целую крепко. Лика.
3. VI. 1945 Г. Дорогая моя Лидука! Как же мне дождаться весточки от тебя? Ты ведь получила столько моих писем, почему же не отвечаешь? Правда, я долгое время и сам не писал, но я не был виноват в этом, не мог… После этого я уже отправил тебе несколько писем, и с великим нетерпением жду твоих весточек. Как твое здоровье, работа? Как наш сыник, мой Марик, получил ли он мои письма? Как здоровье А.Д.? Еще и еще раз поздравляю с Победой над фашистскими мракобесами. Как-то сейчас в нашей родной Москве после войны? Ликин, я просил тебя выслать мне одежду, белье, обувь, т. к. мне ведь осталось 6 месяцев, надо быть готовым к выходу. Переведи денег, если есть, конечно, и высылай почаще бандероли с газетами и книгами. А главное — пиши… Скоро уже наступит долгожданный день моего освобождения, нашей встречи. Крепко целую вас, моих родных — в. Сема.
Решеты, 8. VI — 1945. Дорогая моя Лидука! Твое письмо от 5. V получил, очень обрадовался. Но когда же ты перестанешь удивляться и обижаться моему молчанию? Ведь я то не всегда могу тебе написать и отправить письмо. Не сравнивай моих условии со своими. И не надо попрекать меня тем, что я пишу своим родным и не всегда тебе… Ты уже не в первый раз повторяешь: «не в посылках все дело». Этими словами ты глубоко обижаешь меня. Если б ты знала хоть немного об условиях моего существования, то не говорила б так. Я тебе как то писал уже, что именно посылки, что я получал и получаю от моих родных, спасли меня. И сейчас, в самое последнее время, только помощь сестер выручила меня из очень тяжелого положения. Если ты хочешь знать, я обязан им своей жизнью. Как же тебе после этого обижаться на то, что я пишу своим родным? Но всегда, когда я пишу им, то пишу и тебе. Ты получаешь — не меньше писем, чем они. Меня сильно задело твое замечание о «самых близких» и «просто близких» родных… Это вовсе необдуманно с твоей стороны и навеяно каким-то нехорошим отношением ко мне, какой-то предвзятостью, от которых надо все же избавиться, так как вносит раздор между нами. Да, Лика, прошло ведь 8 лет… В моем представлении ты все такая же, какой я тебя оставил. Но, судя по последней фотографии ты изменилась, выглядишь старше, куда солидней. Я очень прошу прислать мне новые фотографии, более удачные, где ты уже без кос, без этой грандиозной прически, к которым я не привык. Но и меня ты найдешь изменившимся, постаревшим… Ведь мне пошел уж 41-й год… Хотя я и не так уж плох и сейчас — больше моих лет мне не дают, а иногда и меньше. Но хвастаться собою не буду. Не имел к этому оснований в хорошие времена, тем более теперь. Когда увидишь, надеюсь, не разочаруешься в своем муже, так же как я хочу не разочароваться в своей женушке. Скажу тебе по совести, что очень доволен тем, что ты сняла косы и стала носить прежнюю прическу. Пришли мне поскорей свои последние фотографии. И Марика тоже. Этим ты доставишь мне большое удовольствие. Прости меня за невнимательность, что не во время поздравил тебя и сына с днем рождения. Но так уж бывает у меня, что выпадает из памяти самое важное. А потом спохватываешься… Ликин! Я прервал письмо (сегодня уже 15.VI), не смог сразу закончить, а вчера получил еще письмо твое от 26.V Как хорошо мне становится, когда приходит письмо от тебя… Большую радость доставили мне успехи Марика в учебе. Это моя величайшая гордость и смысл моей жизни. Быть с тобой и с сыном! Вот к чему я стремлюсь все эти годы. Но, повторяю, не надо предаваться иллюзиям, нужно готовиться ко всему. Может случиться, и скорей всего это будет именно так, что я в Москву поехать не смогу, а должен буду оставаться в этом районе на работе. Пройдет некоторое время и я, конечно, надеюсь, что получу не только право на возвращение домой, в Москву, но и полную реабилитацию. А пока что надо серьезно подумать о том, чтоб тебе приехать в начале декабря сюда. Когда приедешь, мы решим окончательно все вопросы устройства нашей дальнейшей жизни. Работу здесь ты сможешь получить. Все дело в учебе сына, которую нельзя прерывать. Во всяком случае, готовь почву для получения отпуска, чтоб без задержек, когда я выйду, приехать ко мне. Выехала ли мама с Мариком уже на дачу? Как наш огород? Я думаю, что в этом году жизнь будет уже легче прежнего. Денег вышли мне немного сейчас, так как на них я сумею купить в нашем ларьке картошку, овощи, молоко. Нам разрешают переводить деньги на ларек и покупать себе продукты. И бандероли пошли мне. Пару теплого белья, я получил, но не знал раньше, что это ты послала. Это меня обрадовало бы очень. Ботинок и гимнастерки я еще не получил. Сегодня пришла посылка от Паши от 31. V, отправленная из Пушкино. Ликин, родная моя, любимая женушка! Все должно быть и будет у нас с тобою хорошо. Я глубоко в это верю. Мы еще будем жить и жить, любить, воспитывать своих детей. Крепко обнимаю и целую тебя и сына, твой Сема. Горячий привет маме, Самуилу и всем родным. Жду от тебя писем и бандеролей.
15. VI- 1945 г. Дорогой мой мальчик, сын мой родной и любимый! Великую радость доставило мне сообщение мамочки о твоих успехах в школьных занятиях и в музыке. Больше всего я доволен тем, что ты сдержал данное мне слово и стал учиться на пятерки. Это хорошо, мой Марик, очень хорошо! Летом надо будет хорошенько отдохнуть, закалиться на солнышке, окрепнуть, чтобы в будущем году учиться еще лучше, еще успешней. Сейчас еще я не могу приехать, но пройдет некоторое время и мы, наконец, увидимся с тобой. Пиши мне о себе, о своих товарищах, об учителях, о школе, о своих играх, книгах, что читаешь. Пиши мне сам почаще, да и мамочке напоминай, а я буду отвечать вам сразу. Крепко, крепко целую тебя, твой папа.
Решеты, 5.XII.1945 г. Дорогая моя Лика! Получил твое письмо от 2/V1 — очень расстроился твоими сообщениями. Твое жестокое наказание, примененное к мальчику, ничем не оправдывается. Как это можно ставить ребенка голыми коленками на соль? Это ведь так унизительно и оскорбительно для детской души, должно вызвать естественное озлобление, и вряд ли может привести к исправлению. Я категорически возражаю против таких мер, они не педагогичны, не возбуждают в ребенке добрых чувств, а зачастую приводят к обратным результатам. Ликин, дорогая женушка! Не обижайся на меня за резкость, но она помогает ясности и взаимопониманию. Надо воспитывать сына на образах лучших людей, окружить его атмосферой честности, благородства, любви к людям, и нашей советской Родине, к комсомолу, рассказывать ему о жизни замечательных людей, подбирать книги, журналы для него, доступные детскому разуму, чем дальше держать его от интересов взрослых людей. Немедленно прекрати водить его с собой в женские бани. Это ведь просто ужасно! Мальчику уже 9-ый год, а он ходит в женские бани!.. Волей-неволей это вызовет в нем, недопустимую для ребенка, реакцию, вызовет в нем преждевременные эротические размышления, тем более, что на улице и в школе он бывает среди развращенных ребят, рано узнавших о половой стороне жизни взрослых людей. Сейчас же, немедленно прекрати это. Проси Самуила (передай ему мою личную просьбу об этом), чтобы он ходил с Мариком в баню. Пусть Нюмик его берет с собой, или пусть он моется дома. Пусть он, наконец, лучше по месяцу вовсе не моется, но только не води его больше в женские бани. И еще, наверное, ты кладешь частенько Марика с собою в постель, — сознайся!? Я тебе уже давно, несколько лет назад, писал, чтоб ты этого не делала. Это очень вредно, это вызывает т. н. «детский онанизм» у мальчика, слишком рано он возбуждается близостью голого женского тела, что вызывает в нем половые эмоции. Надо всячески избегать этого, моя дорогая Лика, всячески оберегать его от этих взрослых представлений и мужских переживаний. Пусть его первая любовь к девушке, которая неизбежно придет к нему в свое время (но только в свое время, а не раньше…), пусть эта первая любовь его не будет запятнана похотью, открыто-грубым половым инстинктом, стремлением поскорее овладеть женщиной. Отношение к женщине должно облагораживать, воспитывать лучшие чувства и качества в мужчине. А это надо подготавливать с детства, ибо потом уж будет поздно… Скольких преступников, отъявленных бандитов, уголовников я здесь насмотрелся (мне приходится жить среди них), и в подавляющем большинстве случаев, у них начиналось с слишком раннего курения, водки и знакомства с женщинами. Эти, слишком рано познанные ими, пороки приводили их и толкали на путь преступлений. И все это — недостатки воспитания со стороны семьи и школы. Ибо в наших советских условиях, в нашей социалистической стране, каждый имеет возможность учиться и трудиться, быть полезным и достойным членом общества свободных и культурных людей. Уголовное преступление у нас не вызывается никакими социальными и экономическими факторами, оно ничем не оправдывается. И, если у нашего ребенка возникнут нехорошие наклонности, то в этом повинны будем только мы с тобой, только мы с тобой, больше никто, и никакие другие причины. Когда он вырастет, станет уже взрослым юношей, мужчиной, он успеет надышаться близостью женщин, окунуться в сокровенные глубины, полностью насладиться этим чарующим, пьянящим соприкосновением с женским телом, насытиться самому и дать истинное счастье и удовлетворение любимой женщине, как это бывало с его отцом, как это было, и будет еще, в отношениях между нами с тобой, моя любимая и желанная Лика! Но сейчас блюди его, нашего сына, как зеницу ока, не допускай его ни к чему плохому и, для его детского организма и мышления, вредному. Не обременяй его, во время летних каникул, занятиями. Сейчас учительница ему не нужна. Достаточно того, что он получает в музыкальном училище. Ежедневные домашние упражнения, в пределах программы, назначенной училищем, — вот что нужно обеспечить во время каникул. А лучше всего, конечно, отправить его на отдых с бабушкой на дачу, под Москву, чтоб он окреп, поправился, отдохнул. Ведь он еще совсем у нас маленький, и не надо на него слишком нажимать. Вот пока все мои замечания насчет воспитания сына. Напиши мне свое мнение, и как ты претворяешь их в жизнь. Что с маминой комнатой на Воздвиженке? Чем окончился суд с б. женой Николая? Я думаю, что нет у нее оснований претендовать на комнату, можно было бы оспорить ее иск. Ах, как жалко, что меня нет в Москве, я бы обошелся без адвокатов в этом деле. Напиши мне о результатах. Готовься, Ликин, к поездке сюда, ко мне, к 3/XII, подготовь к тому времени отпуск. У меня нет достаточных надежд, что я смогу сразу поехать в Москву. Очевидно, придется оставаться в здешних местах или, во всяком случае, поселиться в другом месте. Будь готова, чтобы сразу, по моему вызову, приехать ко мне. Будь здорова, моя дорогая, с нашим сыником и с мамой. Крепко обнимаю и целую, твой Сема. Горячий привет маме, всем, всем родным. Пиши по адресу: ст. Решеты Красноярск, ж.д., п/я 235/5, ОЛП № I, мне.
21/IX -45 г Дорогой Сема! Близится день нашей встречи… А ты все молчишь, не пишешь о своих планах. Что ты думаешь? Вернешься ли снова в свою семью или у тебя уже другие планы? Я писала тебе, чтобы ты сообщил мне, ехать ли мне к тебе, или ты сможешь приехать к нам? Отпуск по работе я отодвинула на декабрь. Если ты напишешь, чтобы я с Мариком приехали к тебе, то я буду хлопотать о выезде. Если же ты сможешь приехать в Москву, то мы рады тебя встречать дома. Все уже готовится к твоему приезду. Нет дня, чтобы мы с Мариком не говорили об этом. Марик ждет тебя с особым детским нетерпением, а я еще и с затаенной тревогой в сердце. Семик, если бы ты только знал, что я переживаю… Как мне хочется быть с тобой и как мучительно сомнение… Зная только, что Марику нужен отец, его ты должен пожалеть, он рос без заботы и ласки мужчины. Из твоих писем я заключила, что ты имеешь очень смутное представление о воспитании ребенка. Практически это совсем не так просто, как тебе кажется. Сейчас Марик уже включился в учебу в обеих школах. В общеобразовательной школе идет ничего, троек нет, но шалит здорово. Любит подраться, — задира хороший. По музыке занимается в школе два раза в неделю (сольфеджио), два раза по специальности у учительницы и два раза с другой учительницей — дома, готовит уроки, заданные учительницей по специальности. Это пришлось сделать для того, чтобы ему было легче, я уже не могу следить за правильностью его занятии. Объем моих музыкальных знаний уже исчерпан, поэтому пришлось нанять особую учительницу до твоего возвращения. Тогда, вероятно, ты будешь следить за его учебой. Вообщем вся неделя у Марика занята занятиями, кроме которых он должен еще и сам заниматься ежедневно по музыке и готовить уроки в школе. Сейчас у него очередное еще увлечение. Упорно следит за ходом матчей по футболу, знает все команды и их игроков. Это почти психоз, я уже не знаю как его отвлечь от этого. Любит еще и шахматы, но играть ему почти не с кем. Ждет тебя, чтобы сразиться. На днях купила я ему за 1500 рублей кроватку, теперь Марик спит уже отдельно. Расходов у нас много, приходится работать еще и вечерами («халтурить»). Больше нас вывозит мама, она почти сейчас нас кормит, в этом помогает С.М. С комнатой мамы кончилось положительно — суд решил выселить Маруську из комнаты мамы. Пришлось все лето судиться, много было потрачено нервов и денег. Марик в этом году поправился плохо, т. к. на даче из-за судов пришлось быть мало и погоды были летом очень дождливые. Картошку мы еще не начали копать. Как подумаю, что это еще мне предстоит, так жуть берет. Ведь самое тяжелое — это перевозка, все приходится возить на своем горбу. У меня силы тоже подорваны, за последнее время я перенесла ангину в сильной форме с осложнением на сердце. Ангина кончилась в три дня, а я бюллетенила четырнадцать дней, т. к. врачи признали заболевание или обострение сердечной деятельности. Было досадно болеть. Я на сентябрь месяц попросила у директора разрешение работать дома, чтобы больше следить за занятиями Марика, приучить его к порядку в начале года, а вышло так, что Марику пришлось ухаживать за мной, т. к. я проболела с первого по четырнадцатое сентября. Он ходил в аптеку, за хлебом, в магазин и даже один раз ездил ко мне на службу — отвозил выполненную мною работу. Как только спала температура — я понемножку «халтурила». Вот так и проходит наша жизнь. Сема, через С.М. я передала давно для тебя ботинки и серую новую верхнюю рубашку. А сейчас еще одну пару нового белья. Получил ли ты это? Почему то ботинки тебе не послали, говорят, что тяжелые. Сейчас пошлю тебе одну тысячу рублей, — я получила за «халтуру». Ты, наверное, думаешь, что я тебя забыла, а я ведь только и живу тобой и надеждами на счастливое будущее наше. Пиши. Деньги — это на дорогу. Писать много не буду — все тебе ясно. Я люблю тебя также сильно. Целую — Лика.
3. XII. 1945 г., Решеты Дорогая моя Лидука, любимая женушка! Вот подошла наша горькая дата. Я полагал, что она в нынешнем году будет счастливой датой моего освобождения, возвращения в семью. Но судьба иначе сгадала. Опять отсрочка, меня оставили «до особого распоряжения», т. е. сверх срока на неопределенное время. Еще один крепкий, тяжелый удар приходится перенести! Но надо перенести и его во что бы то ни стало. Крепись, моя родная! Я не думаю, чтобы это продолжалось долго, к весне, очевидно, отпустят, — таково сейчас общее положение в отношении таких, как я. Так что не ко мне одному применена такая задержка, — это делается по общей директиве. Местное начальство обещает возбудить ходатайство о быстрейшем моем освобождении, так что надеюсь все же, что долго не задержат. Война кончилась, и, когда все уляжется, успокоится, разрядится обстановка, тогда уж во всяком случае, держать больше сверх срока не будут. Что же касается меня лично, то есть основания полагать, что меня вскоре выпустят. Столько ждали, подождем еще немного. А я так готовился к освобождению. Ты не представляешь всех моих переживаний. А сейчас я чувствую себя так же, как 8 лет назад, в тот злосчастный день — 3.XII—1937 года. До сегодняшнего дня я все еще не терял надежды, нервы были напряжены до отказа, а сегодня я как после тяжелой, длительной болезни… Но, ничего, родная Лика, не хочу терять бодрости и надежды. Вопреки всему хочу жить и жить! Я хорошо окреп и радовался своему здоровью. Я сейчас вполне полноценный мужчина, что называется, крепко стою на своих ногах, хорошо выгляжу, и ты была бы довольна моим внешним видом. Наружных следов моего 8-ми летнего тяжелого существования на мне не заметишь, несмотря ни на что я очень хорошо сохранился, и мне никто больше 32—34-х лет не дает. Так что ты, моя дорогая, получишь обратно 100 %-ного мужа, если, конечно, ничего в дальнейшем со мною не случится, если останусь жив и здоров, в чем я хочу быть уверенным. Получала ли ты отпуск на декабрь. Боюсь, что ты выехала ко мне, а сейчас очень тяжело ехать, да я еще в заключении. Если до весны меня не выпустят, то в апреле м-це приедешь ко мне на свидание. Нам необходимо увидеться, я очень истосковался. Не обижайся на то, что я долго не писал и не отвечал на твои письма. Я не мог писать, я не знал, что писать. Я ждал сегодняшнего дня с таким трепетом, с ужасной тревогой в сердце. У меня не было полной уверенности в освобождении, но я так надеялся. Но, когда я собирался писать, то не знал и не мог ничего писать. Сегодня судьба определилась: нужно еще какое-то время претерпевать, разлука наша продлена. Только не отчаивайся, моя дорогая, не все потеряно, мы еще будем жить с тобой хорошо и радостно. Очень благодарен тебе за перевод денег. Я получил извещение о поступлении 2-х переводов по 1000 рубл. от тебя и 500 рубл. от сестер. Теперь я сумею получать по 50—100 рублей в месяц, что будет для меня серьезной поддержкой. Полагаю, что и ко дню освобождения останется достаточно денег. Хочу, Ликин, договориться с тобой о том, чтобы установить нам с тобою настоящую связь, чтобы ты писала мне не раз в 2–3 месяца, а часто и того реже, а каждую неделю, каждые 10 дней. И я, по мере моих возможностей, тоже буду писать часто, отвечать тебе на все письма. Сейчас я особенно нуждаюсь в моральной поддержке, да и ты тоже — окажем же ее друг другу. Сыну скажи, что мой приезд задержался, так как меня не отпускают с работы, я еще здесь нужен. Не огорчайся сама и не огорчай его, — все будет еще хорошо. Пиши мне о своем здоровьи, о работе, о жизни, — мне хочется знать все подробности. Как идет учеба Марика, его успехи, поведение, здоровье? Напиши мне, как Марик сам относится к занятиям, проявляет ли он сам достаточно интереса к своим занятиям, урокам, как все ему дается, не перегружен ли он слишком? Как здоровье мамы А.Д.? Как ее ноги? Белье и рубашку серую, что ты послала мне, я получил, — спасибо тебе за них. Не горюй, Лидука, и я постараюсь тоже победней себя держать, «не опускать нос на квинту». Горячо тебя обнимаю и целую. Твой Сема. Пришли свежие фотографии. Привет маме, Самуилу с семьей, всем родным!…Теперь хочется на минутку прервать нить переписки, потому что драма в этом месте достигает кульминации: влюбленные, чью любовь разорвала история, сейчас встретятся, и им сделается на миг до головокружения хорошо. Им полегчает. Нет, это еще не возвращение к счастью, а только кратковременный подход к нему, приближение к невозможному, к тому, что совсем недавно казалось невозможным. «По новой влюбился» — точные слова. Волны желания прикатили из-за горизонта и омыли тела влюбленных, разлука на миг отступила. Это была маленькая победа людей над сталинщиной. Всего 10 писем и записок… Их лиризм высок, чего стоит только мамин крик души: «Сема, я тебя вижу» — из окна во двор, где под конвоем находились заключенные. Качалова, Кикиловы, «паршивый Грук», Саша Антонов — люди добрые и злые, участники «сцены свидания», — вы ведыоже сметены беспощадным временем, но на этих страничках ваш след. Эти записки и письма — рядовой документ житейской правды. Семен и Лидия, папа и мама мои дотронулись друг до друга, как Ромео и Джульетта после проклятой разлуки. Теперь им осталось самое трудное — донести свои чувства до конца гулаговского заключения отца, чтобы выйти к новой жизни после войны, к новому строительству семьи, где главным скрепляющим существом суждено быть мне, маленькому сыну моих родителей.
Ликин, дорогая моя! Я жив и вполне здоров, скоро ты убедишься в этом своими глазами. Свидание должны разрешить, возможно оно состоится сегодня. А потом будем хлопотать еще о свиданиях. Это — мой хороший товарищ, он поможет и научит как сделать. Я работаю в зоне оцепления, заведую производством газочурки. Сегодня мы должны, выйти на работу. Я разговаривал с Качаловой — Нач. Культ. воспит. части, она обещала устроить тебя здесь с жильем, обратись к ней, она симпатичный человек. Напиши мне записку, как твое здоровье, как наш Марик? С волнением ожидаю нашей встречи, возьми себя в руки, не волнуйся, будь спокойной. Сема.
Как я и ожидал, меня не выпустили в зону оцепления. Но мне передали, что ты меня видела. Я почти такой же, как прежде, правда? Сегодня вечером должны быть оформлены разрешения на наше свидание. Состоится оно завтра, наберемся терпения. Мне передали, что ты собираешься сегодня вечером поехать за вещами в Решеты. Не надо сегодня этого делать, лучше отдохни, а поедешь завтра или послезавтра. Ты устроилась у Кикиловых? Как тебе у них? Дочка ихняя — зав. столовой вольно-наемных, а я снабжаю ее дровами. Как ты устроилась с питанием? Напиши мне все подробно, и главное, не волнуйся. Итак, до завтра. Крепко и горячо целую тебя, твой Сема.
Ликин, милая! Последние минуты сегодняшней встречи опоганены мерзким и мелким человечком. Надо стоять выше этого, не плачь, не отчаивайся. От него абсолютно ничего не зависит, ничего серьезного он не может сделать, кроме мелкой пакости. Ни о каком изоляторе или ущербе для меня не может быть и речи, как бы он ни хорохорился перед тобой. Так что плюнь на это происшествие и не теряй чувства юмора. В таких случаях правильней и здоровей смеяться, чем плакать. А когда меня освободят, то я обязательно рассчитаюсь с ним, по меньшей мере, набью ему морду. В нашей жизни — это «случай в трамвае» с идиотом кондуктором, наподобие Трука. Лика, любимая женушка! Только не расстраивайся и не плачь, — я должен узнать, что ты уже смеешься вполне успокоенная. Завтра отправь телеграммы родным, подробно успокой их, напиши, что дело только до весны — до мая — июня м-ца. Получи разрешение еще на свидание, проси 3 часа, чтоб написал: «личное свидание». Все будет в порядке, обязательно. Перед выездом из Решет сюда позвони: ОЛП № I, диспетчера Модиевского или Ульямпермеса, скажи им, каким поездом ты сюда выезжаешь и результат о свидании. Тебя встретят и приведут. Деньги передай мне через подателя — Сашу Антонова, он пронесет их мне в целости и сохранности. Насчет «горючего», когда привезешь, то «особое» и побольше, тоже передай ему — это мой лучший товарищ. С отъездом в Москву не торопись. Если и задержишься на 2–3 дня, то получишь отсюда медицинскую справку за подписями и печатью. В вопросах получения свиданий, сроков отъезда, устройства и проч, слушайся советов Саши — все что он скажет — правильно. Вещи, чемоданчик — все привези, чтоб с собою не таскать. У меня все будет в сохранности. Главное — будь совершенно спокойна за меня. Ничего плохого со мной не случится, я буду жив и здоров, работать буду, спокойно ожидать скорой свободы. Когда будешь просить о свидании, переговори с Н. и обо мне. Когда получишь разрешение на второе свидание, проси о третьем. Я никак не могу успокоиться по поводу твоего волнения. Ликин, моя единственная женушка! Прошу тебя не волноваться, не плакать. Ведь ты у меня молодец, герой, плакать не хорошо. Приехать с Решет тебе лучше послезавтра утром. Я выйду на работу в оцепление, а когда ты предъявишь на вахте разрешение о свидании, то нас будет сопровождать стрелок оцепления, который уже не будет чинить таких безобразий, как этот паршивый Грук. Ну, это — чепуха. Основное — чтоб ты была спокойна. Твой приезд ко мне должен нас, и всех родных, успокоить полностью, но только не расстраивать. Во мне ты можешь быть уверена полностью. Я прошел такую «академию», что никаких глупостей никогда не сотворю. Я могу только иногда обругать такую паршивую собаку, как Трука. За это нам абсолютно ничего не будет, — не беспокойся, я знаю, что делаю. В следующий раз он будет лучше. Денег передай мне 500 рублей через Сашу. Остальные передашь мне в следующий раз. Только будь осторожна, чтоб у тебя не украли. Горячо целую тебя, мою родную, и в лобик, и в глазки, и в щечки, и в губки, и во всю мордочку. Твой Семушка.
Ликин, милая женушка! Ты мне доставила столько счастья, что его хватит теперь мне на долгое, долгое время, вплоть до нашей уже окончательной встречи. Она, Лика, будет обязательно и, я думаю, не в далеком будущем. Родная моя! Ты — любимая жена и мой лучший друг, я благословляю тебя на долгие годы жизни и здоровья. Спасибо, родная, спасибо! Ликин! Саши сейчас нет, он скоро придет, я посоветуюсь с ним и все передам, он будет у тебя сегодня же. С Францем передай часть (1 б.), остальное возьмет Саша. Денег мне передай еще не больше 300 рублей с Сашей. Записку от Немч. в Тинскую передаст тебе Саша. Кроме записки, говорят, нужно и заплатить, тогда будешь обеспечена билетом и посадкой. Не скупись этим, обязательно устройся с отъездом. Передаю тебе записку Когану, зайди к нему. С дороги отправь на имя Володи письмо, и если можно и телеграмму, — буду ждать. В дороге не отказывай себе в пище. Я не в себе, что ты без постели, без подушки. Это все советы на случай, если ты уже уедешь. Но как мне хочется, Лидука, еще раз с тобой побыть! Постарайся получить еще 1 свидание. Я думаю, что в Канск бесполезно ехать. Кроме того, говорят, что из Канска значительно тяжелее уехать, чем из Тинской. Оставь себе 1 бут. — она может помочь тебе при посадке в поезд. Крепко, крепко целукаю тебя, твой Семука. Из Решет — позвони в диспетчерскую о результатах.
Дорогая Лидука! Сегодня с утра нас завернули на разгрузку тракторных саней — до обеда. Но я попал на шпалозавод и, таким образом, могу тебе написать и отправить письмо. Не смогу повидать тебя при отъезде, — это большое горе для меня. Я действительно, как у нас говорят, «по новой» влюбился в тебя, как мальчишка, как 16 лет назад. Любимая женушка! Ты влила в меня новые силы. Зарядила на долгое время, обеспечила дальнейшую мою жизнь. Ты — моя любовь, моя гордость, моя краса, моя единственная! Ликин, используй все, что только сможешь, чтоб получить еще одно свидание. Теперь только я понял, что мы еще многое не договорили, мне нужно еще многое тебе сказать, многое от тебя услышать. Мне нужно тебя еще хоть немножечко повидать… Мне так тяжело с тобой расставаться. Проси Н., умоляй его, но получи еще разрешение. Я так хочу тебя еще видеть, говорить с тобой, побыть около тебя, поцелукать черные глаза мои… Когда мы вчера прощались, я совсем был уверен, что мы еще раз встретимся на свидании. Неужели его не дадут нам? Ведь тебе обещали! То, что ты передала мне с Фр. (1 б. и 500) и с Саш. (2 6. и 500), я получил. Больше ничего мне не надо, Лика. Береги себя, моя любимая, мы еще увидим хорошую жизнь, — так оно будет во что бы то ни стало. Береги сына, — он должен быть у нас хорошим человеком. Ликин, обратись обязательно к Когану Илье Яковлевичу (лесосбыт) насчет билета и посадки. В Канск не езди, в Красноярск тоже. Оттуда, говорят, еще труднее попасть на поезд, чем в Тинской. Старайся уехать из Тинской, не жалей средств, только, чтоб уехала благополучно. Свои фотокарточки я пришлю почтой (я буду иметь возможность сфотографироваться), а ты пришли свои все, и Марика, и мамы, и родных, и друзей. Пиши мне чаще, как можно чаще, и обо всем, обо всем, чтоб я знал все, что у тебя. С Мариком сходи к хорошему профессору насчет того, что ты рассказывала. Надо это обязательно выяснить сейчас же. Мне ничего 3–4 месяца не присылай (кроме того, что я просил), ты меня обеспечила полностью всем необходимым, — буду жить без всякой нужды. О результатах позвони из Решет в диспетчерскую — обязательно, обязательно! Желаю тебе счастья, сил, здоровья, успехов. Крепко и горячо целую тебя, твой Сема.
Ликин, милая моя! Утром, в 6 часов, приходи на эл/станцию, спроси Скрипника или Марильцева. Они тебя поместят. А я, выйдя на работу, приду. Пока темно, 30–40 минут мы поговорим. Все будет в абсолютном порядке, не беспокойся. Одень полушубок и шапку. С ребятами на эл/станции полная договоренность, — никаких сомнений не должно быть. Мы должны с тобой попрощаться. Счастлив, что устраивается с билетом в Тинской. А как будет с посадкой в Решетах и в Тинской? Это нужно обеспечить. Милая, любимая! Крепонько целукаю тебя, твой Семука.
Семик, я никуда не пойду. Считаю, что рисковать этим не стоит. Н. отказал, но успокоил, что твое освобождение — дело самого ближайшего времени. Уеду так, т. к. прощаюсь с тобой заочно. Желаю здоровья и ближайшей встречи уже со всеми родными и сынкой. От Паши телеграмма — «адрес Семы прежний, дома все благополучно». Сейчас же сядь и напиши все, что я просила: 1) заявление в 2-х экз., 2) письмо Самуилу, — поблагодари его за доброе отношение ко мне и помощь, 3) напиши общее письмецо Нинзе, Басе, Володе и Тане (Шуриковой жене) — поблагодари за посылку и проч. Вот все. Я из-за этого приехала. А завтра, когда я буду итти к поезду — смотри на меня — помашем друг другу издали рукой. Если можно, то передай с кем-нибудь какую-нибудь безделушку, какой-нибудь личный предмет для сынки, просто какую-нибудь мелочь. Еду не в Тинскую, а в Еланскую — там, если удастся, то в Красноярск — там я смогу получить билет. Ты об этом не волнуйся. Думаю, что доберусь во-время, а если опоздаю, то тоже не беда. Я оставила заявление у Мифы, чтобы мне продлили отпуск за свой счет. Это будет все сделано. Деньги у меня есть. Я уже загнала платок, так что ничего не страшно. Будь спокоен. Я доеду благополучно. Семик, любишь ли ты меня столько, как я? Все ли у нас по-прежнему? Что ты чувствуешь, радость ли только от моего приезда или еще что? Только не волнуйся, что я не пойду туда. Это твердо и не сердись. Целую тебя крепко, крепко. Будь здоров. Помни мой наказ — будь выдержанным, поменьше запальчивости и гонора в отношениях ко всем абсолютно людям. Эта черта неизгладимая в твоем характере — сильно огорчает и беспокоит меня за наше будущее. Будь здоров и хоть немножко счастлив! Твоя любимая Лика.
Ликин, жизнь моя, любовь моя, жена моя! Ты уезжаешь, и я желаю тебе, моя родная, здоровья, бодрости, счастья, многих лет хорошей жизни. Я молю судьбу, чтоб она тебя оберегала от всего плохого, я благословляю тебя, моя Лидука, я стою перед тобою на коленях, провожаю, — сердце мое рвется на части. Мы скоро будем вместе, Лика, так что не будем унывать. Я люблю тебя, Лика, больше самой жизни, ты, моя родная, моя единственная! Тебе я посвящу всю свою жизнь, мы будем жить и жить. Твой образ вечно во мне, ты — единственное божество, которому я молюсь и пред которым преклоняюсь. Лидик, никаких сомнений у тебя не должно быть. Я чист перед тобою за все эти годы, что были вместе, и что провели в разлуке. Ибо ни одна женщина никогда не выдерживает сравнения в моем представлении с тобой, моей любимой женушкой! Твой светлый образ поддерживал меня в самые трагические минуты моей жизни, он будет сопутствовать мне до последних моих минут. Но я хочу еще пожить с тобою, я хочу еще испытать счастье, которым ты только одна можешь наполнить мое существование! Счастливый путь, моя Лидука, моя крошка, моя любовь! Отовсюду посылай мне письма и телеграммы — на имя Володи, — я их сразу буду получать. Коньяк мы разопьем, когда получу от тебя весточку из Москвы. Заявление я не успел написать, я это сделаю в ближайшие дни и найду возможность переслать тебе. Хотя я не придаю этому серьезного значения, — вопрос будет решаться здесь и только отсюда. Все будет в порядке, не позже мая-июня я должен быть на воле. Жди меня, Лидука, жди! Я постараюсь вознаградить тебя за все пережитые муки, за все причиненное горе. Солнце будет нам сиять, Лидука, и мы крепонько погреемся под его живительными лучами. За меня не беспокойся, я буду держать себя в полном порядке, и твой наказ будет выполнен. Счастливого пути, моя милая! Целую тебя, родную, прижимаю к своему больному сердцу, твой и только твой Семука.
Семик, родной мой! Я вижу тебя из окна. Какое зло… нельзя даже подойти и посмотреть поближе. Уезжаю от тебя в бодром и хорошем настроении. Надеюсь, что мы еще будем вместе. Надо теперь, чтобы ты приехал к нам, хотя бы в отпуск, как делают это другие. Очень жаль, что не написал заявления. Если удастся — пришли свой портрет потом. Почему ты не передал ничего для сына? Оторви хотя бы пуговичку или что-нибудь. Обо мне не волнуйся. Я доеду благополучно. Будь только здоров и старайся не натворить глупостей в последнее время. Сына буду растить по-прежнему в надежде на скорую встречу с тобой. Целую и горячо обнимаю тебя дорогого и единственного моего близкого друга, твоя любящая Лика.
Дорогая Александра Даниловна! Трудно Вам рассказать о моих переживаниях в связи с приездом Лики. Для меня это явилось величайшим событием — праздником в моей жизни. И я Вам скажу по секрету, что я вторично влюбился в свою Лидуку, в мою единственную, хорошую женушку. Я горжусь ею, я полон счастья. Спасибо Вам, родная, за такую дочку, за мою женку. Такие женщины, как наша Лика, редки, они — наша краса, наш цвет!.. И еще сердечное спасибо Вам, наша дорогая мать, за спасение нашего Марика. Низко кланяюсь Вам и никогда не забуду Вашего великого материнского подвига. Берегите себя, родная, — Вы так нужны Лике и Марику, нашей семье. Лечитесь, обращайте больше внимания на свое здоровье. И, кроме того, очень прошу Вас быть осторожнее на своей работе, ведь у Вас больная нога, как бы не было чего… Дорогая Александра Даниловна! Судьба моя заставляет еще какое-то время быть нам в разлуке. Но ничего, и это пройдет, мы будем все же вместе, мы еще поживем хорошо, и Вы отдохнете от всех своих мучений и трудов. Я научился понимать и ценить жизнь, ошибок прошлого я уж не повторю. Пишите мне, родная, простите меня, Вашего несчастливого сына, Крепко обнимаю Вас и целую, Сема. Привет горячий всем родным нашим: Нинзе и Васе, Волоке, Майке, Морозам с детьми.
Решеты, 14. VI — 1946 г. Любимая моя женушка! Каждое письмо свое мне приходится начинать словами крайнего беспокойства и горечи по поводу твоего упорного молчания… За 5 месяцев я получил всего лишь 2 письма от тебя, — последнее из них было от 26.11. Таким образом, почти уже 4 месяца я ничего не имею от тебя… Что же, в конце-концов, случилось? Какая черная кошка вновь пробежала между нами? Горе мое велико, — ты не имеешь никакого представления о моих тяжелых переживаниях. Что я могу думать, что предполагать? Мама и Паша сообщают мне о том, что ты, якобы, говорила, чточасто пишешь мне. Они удивляются, почему я не получаю твоих писем, успокаивают, заверяя, что ты и Марик живы и здоровы и что все у тебя благополучно. Так ли это? Но чем же тогда объяснить неполучение писем? Ведь когда их пишут и посылают, то и получают их. Твой приезд был таким ярким, счастливым событием в моей жизни! Я снова почувствовал тогда жизнь, я поверил в свое будущее, ибо я видел тебя и сына рядом с собою. А теперь эта связь с жизнью порывается, я остаюсь вновь все более и более одиноким, покинутым, забытым… Можешь ли ты быть откровенна со мною? А я прошу об этом тебя! Может быть ты обиделась на меня за немного резкий тон моих писем? Но он явился естественным ответом на холодно-надменный тон твоего письма от 26.11, поразившего меня в самое сердце. В своих первых письмах я искренно рассказал тебе о чувствах и мыслях моих, вызванных свиданием с тобою. И сейчас я живу твоим ярким, дорогим мне образом, я полон к тебе глубокой благодарности и любви! За что же ты так мучаешь меня? Для чего присыпать открывшиеся раны солью? Мне ведь и так не сладко живется… Да что и говорить тебе? Ведь ты сама все видела, но может быть не совсем ясно поняла? Оставим говорить об этом. Я жду от тебя подробного письма. Я надеюсь, что ты осталась и будешь мне верна, как и прежде. Я уверен в том, что не для того ты ездила ко мне, чтоб порвать наши отношения, чтоб отказаться от нашего будущего, которое все же наступит и в нашей жизни. Я надеюсь на освобождение в течение ближайших месяцев. Некоторые уже ушли (Франц работает в Канске, а другие даже поехали домой). Не надо терять надежды, Лика! Есть все основания считать, что и я скоро освобожусь. Я работаю на прежнем месте, по-старому. Работа идет хорошо, я заведую производством и одновременно являюсь теперь бригадиром. В материальном отношении первые 4 месяца после твоего отъезда я прожил без нужды, питался хорошо, избаловал даже себя в этом отношении, о чем я сейчас крепко жалею… Володя рассказывал мне о том, что его брат был у тебя, остался очень доволен тобой и твоим гостеприимством. Соломон Григорьевич (он тоже освободился и работает в Решетах) передавал мне, что ты была у его матери в Москве и жаловалась на то, что не получаешь моих писем. Вот видишь, я имею приветы от тебя через третьих лиц. Но и за это спасибо! Хотел я сфотографироваться, но нет проявителя. Поэтому и не посылаю тебе своей карточки. Но жду твоих фотографий с Мариком и мамой. Отправила ли ты сынку на дачу? Куда и каковы там условия? Как здоровье сына? Все ли теперь благополучно с ним? Как здоровье мамы, все ли в порядке с ее делами? Как идет твоя работа, что с твоим здоровьем? Лика, моя любимая! Я хочу верить в то, что у тебя все хорошо и что твое молчание не является признаком плохого. Герман Наумович передает тебе живой привет от меня. Прошу тебя свести его к моим родным, — им это доставит большую радость. Почему и Марик мне ничего не ответил на мои письма и телеграмму? Крепко целую тебя и сына, Сема. Горячий привет маме, Самуилу с семьей, всем родным.
22.1.1946 г., Решеты Дорогая моя Лидука! Вот и опустело все вокруг, — нет тебя, милой моей, желанной, любимой… И опять тоска, печаль, грусть, безысходная… Вдалбливаю в себя надежду на то, что скоро кончится мое несчастье, что и я буду свободным, что и мы с тобою еще поживем вместе. С особенной силой мне захотелось сейчас быть с тобой, с сыном, в нашей семье. Затянувшиеся было старые раны, вновь открылись, кровоточат, причиняют неимоверную боль. Сердце разрывается, мысли только о тебе, моей милой! Ты спрашивала: «Все ли у нас по-прежнему?» Нет, вовсе не по-прежнему… Я ведь в тебя вновь влюбился и, пожалуй, люблю тебя, мою Лику, в тысячу раз сильнее прежнего! Не нахожу себе места: как ты доедешь до дому, все ли будет благополучно? Не задерживай сообщения о себе, телеграфируй, как договаривались. Вчера мы с Сашей посидели вечерком, все вспоминали, желали тебе счастливого пути, раздавили ту половину, что сохранялась с 1943 г. у тебя: за твое здоровье! Привет тебе от Саши, от всех друзей. Крепко, крепко целую тебя, твой Сема. Привет Маме, Маронику, Самуилу, всем родным.
Дорогой мой сыночек Марик! Посылаю тебе с мамуськой горячий привет. Ее приезд очень обрадовал меня, она рассказала мне о тебе все подробности. Любимый мой мальчик! Я очень доволен твоими успехами в учебе и в музыке. Но запомни, мой сын, что знания и успехи достигаются только трудом, упорными занятиями. Само ничего не приходит, всего нужно добиваться. Вот видишь, мой сынок, я пишу грамотно, и это только потому, что я всегда учился, много читал еще в детстве, старался побольше узнать, был послушным мальчиком, не шалил слишком много, всегда отлично выполнял заданные мне уроки, слушался и никогда не огорчал своих родителей и учителей. Советский человек должен быть дисциплинированным, честным, культурным, хорошим во всех отношениях. Только таким ты и должен быть. Ведь я скоро приеду, посмотрю сам: какой ты есть, мой сын! Ты плохо кушаешь, а ведь стыдно тебе, большому мальчику, кушать с ложечки, подаваемой бабушкой. Я горю со стыда за тебя, сыночек! Надо бросить эти капризы, нехорошо так, очень нехорошо… Мальчик не должен слишком разбираться в пище, он должен есть все, чем побольше, и конечно, сам, без помощи бабушки или мамочки, — тогда можно надеяться, что он будет настоящим мужчиной. Я хочу, чтоб ты перестал волновать мамочку и бабушку своими чрезмерными шалостями, — ты должен обещать мне это! Ты должен понять, что мамочке с бабушкой сейчас тяжело, — я не могу приехать домой, — ты должен поэтому помогать им, облегчать их жизнь, радовать их своим примерным поведением и успехами в занятиях. Я крепко надеюсь на тебя, мой сын, считаю, что ты не подведешь меня. Ты должен взять себе за правило: быть внимательным на уроках в классе и у учительницы, слушать, выполнять и запоминать все, что говорит и показывает учитель, и, безусловно, приготавливать все заданные тебе уроки, и, конечно, слушаться мамулю и бабушку, поменьше шалить и побольше самостоятельно кушать. Тогда уж я тебя похвалю от всей души и буду доволен тобою, моим любимым сыном! Пиши мне обо всем: о своих товарищах, об играх, об учебе, об успехах, об отметках, о книгах, прочитанных тобой, о мамочке, бабушке, о вашей жизни. Целую тебя крепко, твой ПАПА.
23/1 — 46 г. Дорогой Семик! Вот я снова дома. Все минувшее, как сон… прошло, и не верится, что встреча наша была самой настоящей, близкой. Все так быстро прошло и кончилось… опять я вернулась к прежней своей действительности. Сердце мое полно и радости и некоторой удовлетворенности после нашей встречи, но необходимость и дальнейшей разлуки откладывает такую печать, что трудно себе представить. В поезде, еще когда я ехала домой, я чувствовала, что потеряла опять тебя, все дорогое мне. Что же это? Когда же настоящая радость вернется к нам?.. Ты уже знаешь, что я сумела 20-го числа выехать. В Решетах мне помогли сесть в тамбур поезда женщины, где я останавливалась. Доехала до Еланской стоя, конечно замерзла жутко, так как продувало со всех сторон. В Еланской не стала искать адресата, где мне советовали остановиться, т. к. было поздно — 10 ч. вечера. Решила переждать ночь на станции. Кстати, проходил поезд на Москву и я решила понаблюдать посадку и выявить возможности получения билета. Поезд пришел в 11.40 веч., касса не продала ни одного билета, очередь безнадежно выстаивает по несколько суток. Я решила попытаться подействовать на проводников. И, к моему счастью, мне это удалось. Заплатила большие деньги и получила возможность ехать даже в плацкартном вагоне. Все детали пути — невозможно описать, — они полны страха, омерзения и всяких неприятностей. Но все уже позади — я дома и так быстро. Наверное все у вас там удивляются этому. Но ты знаешь, я так привыкла энергично действовать именно тогда, когда я остаюсь совершенно в одиночестве, что я лично считаю, что это даже нормально. Никакими услугами мне не пришлось воспользоваться и я этим особенно довольна. Домой приехала в 12 ч. ночи 26-го, т. е. в субботу. Явилась ночью так внезапно, что все наше «семейство» повскакивало и просидели всю ночь без сна. Я за дорогу так устала, но рассказать все до деталей, — было самым горячим желанием. Марик спал в кроватке, но, наверное, почувствовал мой приезд и проснулся тоже. Радости было много. На утро я сходила в баню, позавтракали и тут же пришли Паша и Роза. Надо было им снова все рассказать. Встретилась я с ними просто и дружелюбно. Оказывается в мое отсутствие они тоже заходили к нам. Когда пришло твое письмо вскоре после моего отъезда, — они приходили его читать, затем интересовались телеграммами. Все было бы хорошо, но вся радость моей поездки омрачилась сильным ухудшением здоровья Марика. Я тебе говорила, что просвечивание показало затемнение правого легкого, сделали еще и еще. Затем сделали «пирке» — результат был положительный. Вчера я была с ним на приеме у врача в тубдиспансере, где его поставили на учет. Врач успокаивает, что еще не опасно, возможно, что все рассосется. Из-за этого я не нахожу себе покоя, что делать? В питании Марику — нет ограничений, все время в мое отсутствие мама доставала рыбии жир. Вчера Паша еще тоже принесла ему бутылочку рыбьего жира. Врач говорит, что надо много гулять на воздухе, хорошие квартирные условия и проч. А у нас скоро будет жуткая сырость. Душа рвется. Надо менять срочно комнату, надо думать уже о даче, надо впрягаться в работу, чтобы погасить все долги и накопить к лету денег для дачи. Столько самых необходимых дел. Хочу показать Марика хорошему профессору, но пока еще не знаю кому. На работу еще не ходила — думаю мне продлили отпуск, хочется еще пару дней отдохнуть после дороги, но еще не знаю удастся ли. Вчера была Нинза, сидели до 2-х ч. ночи — опять рассказывала обо всем происшедшем. Ну вот — пока все. Целую тебя крепко, крепко — твоя Лика. В Кирове купила себе хорошие валеночки и Марику теплые тапки. Большой привет Саше, Францу, Володе и Герм. Наум.
29.1.1946 г. Дорогая моя Лидука! Сегодня получены твои телеграммы о благополучном приезде домой. Какая радость, какой праздник у меня! Все это время мысли только с тобой, моя родная, только о тебе… Погода отражала мое настроение… Со дня твоего отъезда и до 27-го числа дул сильный ветер, пуржило, заносило снегом; вечером 27-го ветер стих, наступила ясная морозная погода, — хорошо… Хорошо и у меня сейчас на душе! За тебя я спокоен, ты моя единственная, любимая женушка! Жду твоих подробных писем о переезде, о приезде домой. Как Марик, мама, все родные? Как твое здоровье, Лика? У меня все по-старому: и работа та же, и здоровье то же. Сейчас, вечером, собираемся отметить твой приезд в Москву. Все тосты за тебя, хорошую, любимую. Самый горячий привет от Саши, от всех друзей. Крепонъко тебя целую — Сема. Привет всем, всем родным. Жду писем.
Решеты, 10.11.1946 г. Ликин, моя милая! Сперва мне принесли открытки, что ты писала Герм. Наумовичу из Москвы, потом Володе — с дороги, а вчера уж я получил твое письмо от 29.1. Радость моя велика по поводу твоего приезда домой, твоей встречи с родными. Читая и перечитывая твое письмо, мне казалось, что я вновь с тобой, моей милой, любимой, сижу с тобой, разговариваю, держу твои ласковые руки в своих руках, гляжу в твои прекрасные умные глаза и мне вновь так хорошо, тепло, уютно от этой твоей близости… Опиши мне более подробно свою обратную поездку. Я очень обеспокоен случившимся с тобой в пути. Твои слова о «страхе, омерзении и всяких неприятностях», пережитых тобою в пути внушают мне самые жуткие картины… Всю ночь я не смог уснуть, какие это негодяи, мерзавцы смели приставать к тебе, что именно случилось? Расскажи мне все правдиво, по порядку, не стесняясь. Но одно только я знаю с полной уверенностью, что ты, моя любимая, осталась чиста и неприкосновенна, что ты всегда принадлежала, принадлежишь и будешь принадлежать только мне одному, что никто не коснулся и никогда не коснется тебя, моей ясной, чистой голубки, моего светоча, моей любви! Дорогая женушка! Твое сообщение о болезни нашего сынки очень тревожит меня. Я разговаривал с нашими врачами, они успокаивают, говорят, что в таком возрасте все можно залечить, не оставив никакого следа. Главное — питание и режим поведения. Необходимо прекратить немедленно занятия по физкультуре, всякие шалости, беготню, всякие резкие движения, ослабить нагрузку в учебе. Вся энергия, затрачиваемая им на это, должна пойти на преодоление болезни. Посоветуйся с учителями и врачами, что из его занятий можно отложить на 1–2 года. Я думаю, что, в первую очередь, надо сократить занятия по музыке. Посети школу, попроси учителей, чтобы следили за ним, чтоб не допускали шалостей, беготни, освободили от физкультурных занятий и всяких игр. Марик — мальчик умный, понятливый, объясни ему серьезность болезни, потребуй, чтоб прекратил шалости, игры, возню и беготню. В этом — основное средство для спасения от болезни. Квартиру надо было бы поменять. Я не знаю, как это сейчас в Москве делается, поэтому не могу ничего конкретного посоветовать, но поговори с Самуилом, вместе и меняйте. Пока что, если не удастся обменять, к весне может быть лучше тебе переехать с Мариком в мамину комнату на Воздвиженку, — у нее ведь комната светлая и сухая? Я пишу сейчас же письмо Паше, надеюсь вполне на помощь моих родных, они примут со своей стороны меры помощи, а ты, Ликин, прошу тебя об этом, будь разумной и не отказывайся от их помощи. Надо сделать все, чтоб спасти нам нашего мальчика, не дать развиться этой страшной болезни. Будь спокойна, моя Ликин, волнением и переживаниями делу не поможешь, здесь нужно только энергично действовать, использовав все возможности. Я уверен, что наш сынка выздоровеет, оправится от болезни, и потом мы совместными усилиями наверстаем упущенное в его учебе. Ликин! Я счастлив, что уже наметились первые шаги на пути к примирению и установлению нормальных отношений между родными и тобою. Прошу тебя закрепить это всячески, — легче будет жить, поверь мне! Была ли у тебя моя мама.9 Или ты была у нее? Прошу тебя обязательно повидаться с ней, успокоить старушку, рассказать обо мне, сказать, что я жив, здоров, нахожусь в нормальных условиях, работаю и ожидаю скорого освобождения. Ты ничего не написала мне о здоровьи мамы А.Д. Как ты ее нашла, как ее ноги, лечится ли она? Еще раз прошу ее быть всячески осторожнее, осмотрительнее, чтоб не повредить своему здоровью… Как вся наша родня: Самуил с семьей, Нинза с Васей, Володя, Таня, скоро ли ответят на мои письма? Твои приветы Саше, Францу, Володе и Герм. Наумовичу я передал, очень благодарят и посылают тебе все они, и остальные мои товарищи, которых ты не знаешь, большущий привет и самые добрые пожелания. Все часто вспоминают о тебе, и мне приятно, что здесь говорят о тебе только хорошее. Как я доволен, что я не взял у тебя всех денег, — видишь, они пригодились тебе в дороге, и при посадке, и для покупки валенок и тапок, чему я очень рад, — молодец, что купила эти нужные вещи. Ликин, еще я хочу просить тебя, чтоб ты не сохраняла «мою часть» денег, лежащих в сберкассе. Те деньги, которые тебе нужны для усиленного питания сына и для дачи, возьми со сберкнижки, и не перетруждай себя дополнительными вечерними работами. Береги себя, свое здоровье, Лидука, — ты нужна мне и твоему сыну. А когда я выйду, то у нас опять будет все, станет легче. Мне ничего не посылай, кроме разве книг, газет, зубного порошка и мыла. На 4 месяца ты меня обеспечила, а больше я не намерен здесь находиться, — надеюсь на освобождение. Я все на той же работе, на том же месте, все в порядке, наказ твой выполняю, — обо мне не беспокойся. В ближайшее время я вышлю тебе свою фотографию, жду твоих, Марика и всех родных. Особенно большой привет тебе от Саши, сегодня он достал «кое-что» и мы отпраздновали получение твоего первого письма. Пиши, как ты провела сегодняшний день выборов? Когда ты приступила к работе, все ли в порядке? Тысячу тысяч раз обнимаю тебя и крепко, крепко, горячо целукаю, твой Сема.
10 февраля 1946 г. Мой дорогой сын! Мамочка написала мне о том, что ты не совсем здоров, что тебе нужно серьезное лечение. Ты умный и уже большой мальчик, вся моя надежда только на тебя, на то, что ты сам поймешь, что требуется сейчас от тебя. А требуется вот что: прекратить всякие шалости, возню, беготню, борьбу и игры с ребятами в школе и на улице, не допускать резких движений, быть спокойным и выдержанным мальчиком, слушаться во всем мамочку и бабушку. И еще я прошу тебя о том, чтобы ты побольше кушал, все, что тебе дают дома, без капризов, не огорчая мамочку и бабушку и не заставляя их кормить тебя с ложечки и упрашивать, — это некрасиво для взрослого мальчика. Вот и все то, о чем я прошу тебя, мой любимый сын! Жду твоего обещания выполнять мою просьбу. Мамуся была у меня, рассказывала о тебе. Я очень доволен тобою, мой сын, твоими успехами в учебе. Скоро я приеду домой и тогда мы будем с тобой вместе учиться, играть, гулять, забавляться. Напиши мне, как ты будешь выполнять мое задание. Жду твоего письма. Крепко тебя целую, твой папа.
На плечи мои злая судьба положила тяжелое бремя позора и лишений, кругом меня мрак… Но сквозь эту жуткую темень все время пробивался ко мне светлый луч, поддерживавший мое существование, вселявший в меня силы. Этот луч — ты, моя любимая, желанная Лика! Мысль о тебе, о нашем ребенке, и еще возможном впереди нашем счастье, всегда, в самые трудные моменты моей жалкой жизни, придавала мне энергию, удерживала от окончательного падения вниз, от гибели. В центре всех моих надежд и мечтаний находишься ты, самый дорогой и близкий мне человек. Для тебя я способен жить и жить, преодолевая самую смерть, уже несколько раз пытавшуюся удушить меня. Для тебя, и за тебя, я готов пожертвовать своей жизнью, принять любую смерть. Но я крепко надеюсь на просветление, на скорое свое освобождение, несущее с собой возможность реального осуществления всех моих мечтаний. Жизнь только с тобой и для тебя, моя дорогая! Вот как сильно я люблю тебя, мою возлюбленную жену и друга! Я восхищаюсь твоей преданностью, твоей любовью ко мне, — они служат единственной моей опорой в жизни. Но, клянусь тебе, Лика, моя любовь к тебе, это — самая моя жизнь, оказавшаяся на сей день сильнее смерти. Никогда не сомневайся в моей любви, Лика, ведь я тебя так люблю!.. Отвечаю тебе и на третий твой вопрос: твой приезд вызвал во мне столько самых разнообразных ощущений, что трудно мне еще и сейчас собраться с мыслями, дать им какое-то общее, единое определение. Восторженная радость и печаль глубокая, мало кому понятное счастье несчастного человека, потерявшего все, и, вдруг, нашедшего все… Я увидел тебя живой, здоровой, прекрасной… С новой силой возникли стремления, желания, я вновь влюбился в тебя, как юноша, переживающий свою первую, чистую любовь!.. 9-й год разлуки… Нечего таить, за это время начали стираться в памяти черты даже самых близких людей, а тяжелые условия и жестокая борьба за существование поглощали зачастую все, затмевая память, вырывая из нее все то, что было связано с прошлым. Я всегда думал о тебе, моя Лика, твой образ всегда стоял предо мною, но ты была так далеко от меня… И вдруг ты явилась, такая родная, такая близкая, такая любимая! И ты оказалась на яву в тысячу раз лучше, неизмеримо прекраснее, в стократ благороднее даже той Лики, которая все время находилась в моей памяти, представлялась моему воображению. Вот и представь себе мои чувства, возникшие с твоим приездом! Как можно рассказать о них? Ты пришла ко мне «с той стороны», принесла с собою живительный, свежий запах воли, воли — понимаешь ли ты, что это значит для меня? Вдруг, за 8 с лишним лет, я получил возможность оказаться близким с вольным, свободным человеком, только что приехавшим из Москвы, моей родной Москвы! И этот человек — не просто человек… И эта женщина — не просто замечательная женщина… Это — моя жена, моя любимейшая Лидука, мой мордик! Какое определение можно дать этому ощущению? Его трудно пережить, а еще сложнее рассказать о нем понятными словами… Ты, как яркий луч, восстала предо мной, промелькнула пред моими слепнущими, окруженными вечной темнотой, глазами… Ты вновь ушла, а я остался в темноте, еще более безысходной, чем прежде… Тоска! Тяжелая, гнетущая тоска! Тоска по любимой Родине, по родной Москве; тоска по воле, по свободному общению с людьми; тоска по культуре, по книге, театру, музею; тоска по родным, по матери, сестрам, по всем близким, по сыну, которого я еще совсем не знаю; тоска, самая тяжелая и острая по тебе, моя Лика, по нашей семье… С твоим отъездом все эти ощущения нахлынули на меня с новой силой. Связь с жизнью, настоящей жизнью, опять порвалась…Все старые раны раскрылись, надо их вновь заживлять, это длительный и мучительный процесс. Но та живительная струя, которую ты привезла мне, поможет в дальнейшей борьбе. Сознание того, что у меня есть семья, родные, сын, что есть у меня любящая и преданная жена, — придает мне нужные силы и бодрость духа. Теперь мне ничего не страшно!.. Твоя телеграмма о благополучном приезде получена. По этому поводу мы собрались с Сашей и, конечно, тяпнули по маленькой за твое здоровье. Ресурсы, привезенные тобой, мы исчерпали до дна. И это внесло неожиданное разнообразие в мою «сухую» жизнь. Ликин! Просьба к тебе от меня, от Саши и других товарищей: если представится возможность, выслать небольшую посылочку «специального назначения» по адресу: п/я 235/1, Таврильченко Ангелине Иосифовне. От нее Саша получит содержимое в полном порядке. Я все же ожидаю, что в ближайшие месяцы я выйду отсюда, надо будет ознаменовать среди друзей это событие, попрощаться с ними, да и до этого весьма полезно редко, редко испробовать… Следующим письмом я пошлю тебе мою фотографию и портрет, нарисованный художником. От тебя я жду фотографий твоих, Марика, мамы, родных. Попроси и Самуила послать мне свои карточки. Еще обязательно пошли мне фото Мифы, — мне хочется познакомиться с твоей подругой. Заявления в Москву я пока что не пошлю, подожду немного. А здесь я подаю, и буду писать, — это будет более основательно. Но, так или иначе, я надеюсь, что скоро я буду свободен, осталось ждать до весны. Я работаю на том же месте, выполнил январский план на 101 %, а по производительности труда на 148 %, сэкономив рабсилу. Вчера был слет отличников производства, и я был делегатом слета. Для участников совещания был дан концерт, я конферировал, прошло с успехом. Я очень доволен тем, что во время пребывания твоего, здесь стояли тихие и теплые погоды. Как только ты уехала, погода резко изменилась, подули ветры, пурга, мороз. Сегодня —32° с ветром, потрескивает и пощипывает. Но я хорошо одет, обут, морозы мне нипочем. Питаюсь я превосходно, лучшего в наших условиях не придумаешь. Купил 25 кг картошки, 2 кг пшен. крупы, покупаю молоко, мясо. Каждый раз, когда я ем, меня совесть мучает, мне кажется, что ты с Мариком и мамой значительно хуже питаетесь. Тебе надо, дорогая Лидука, поправиться обязательно, ты похудела недопустимо. Не отказывай себе в питании, поправляйся, в следующую нашу, уже окончательную и постоянную, встречу ты должна быть толстушкой, хорошенько поправиться и набраться побольше сил. Это мое задание тебе, обязательное к выполнению. Берегите себя, дорогие, берегите! Еще раз скажи маме, чтобы она не слишком увлекалась, чтоб была осторожней, ведь у нее совсем больные ноги. С сыном сходи к профессору-специалисту. Меня беспокоит это явление в его здоровьи, надо выяснить и принять меры сейчас. Как с его легкими, что ты предпринимаешь? Надо сократить его шалости и, может быть, и нагрузки его в учении. Ликин! Как ты доехала до Москвы? Какая была встреча с родными? Напиши мне подробно обо всем, — жду с нетерпением твоих писем, которые ты обещала писать мне часто. Ты мне не сказала ничего о том, как ты нашла меня? Не разлюбила ли ты меня после встречи? Будешь ли ты меня так же верно ждать, как прежде? Обо мне не беспокойся, я выполню твой наказ, все будет в порядке. Как ты себя чувствуешь, моя женушка? Все ли хорошо и в порядке у тебя? Позавчера я посетил помещение, где было наше свидание, и сердце сжалось от боли, тоски… Когда же мы с тобою встретимся, наконец, по-человечески, достойно, в домашней обстановке, в своей семье? Обнимаю и целую тебя несчетно, горячо — твой Сема. Горячий привет маме, сыну, всем родным. Большущий привет тебе от Саши и от всех товарищей.
24/11 — 46 Г. Дорогой Семик! Получила сразу все твои письма: две открытки, письмо, вернее половина письма, т. к. в нем не оказалось наверное четырех страниц. Письмо это получено без всякого ко мне обращения, даты, — из этого я сужу, что первых двух листов не достает. По содержанию — тоже не понятно, на какие вопросы ты мне отвечаешь, т. к. в письме изложено только на третий вопрос, а какие первые два — неизвестно. Это меня очень огорчило. В следующий раз не пиши таких длинных писем. Лучше писать чаще и тогда не будут теряться страницы. Вчера получила еще твое письмо от 10/11. Отвечаю сразу на всю эту корреспонденцию, т. к. за все это протекшее время не имела возможности написать. Во-первых, о сыне. Делали врачи еще несколько раз просвечивание и последнее показало, что все уже у него в легких рассосалось. Но пока он стоит и будет стоять на учете в тубдиспансере. Чем объяснить это явление — не знаю. Врач говорит, что это часто бывает так. Питание Марик получает очень хорошее, регулярно мясо, масло и пр. Но ест он без всякого аппетита, все ест насильно с повседневным скандалом. Ничего ему не помогает, ни уговоры, ни пристыживание. Как только садится кушать — так и начинается сплошное для меня мученье. Из-за этого я так нервничаю, приходится пускать в ход и ремень. Без подзатыльников еда не обходится. Я не могу найти подхода к нему и из-за этого сама часто прихожу в болезненное состояние. Каждая еда — это пытка для меня. У Марика нет абсолютно чувства вкуса, чтобы ему не предложили — ничего он не хочет, все ест насильно, давится, срыгивает и проч. Меня это приводит буквально в бешенство, я уже не могу сдерживаться. За последнее время нервы еще больше расшатались. Твои письма действуют на него только на миг. Он и сам очень нервный ребенок, очень повышенной чувствительности. Теперь о маме. Она вполне поправилась, но с ногой все еще мучается, рана не заживает. Врач говорит — надо лежать, а разве она может это выполнить. Все домашние заботы лежат на ней. Избалованность Марика — дело ее рук, хотя она и сердится, когда я ей это говорю. С твоей родней произошло примирение, 2-го февраля я с Мариком были у Розы на именинах Инги, ей исполнилось 13 лет. Там были вся семья С.М., Паши и я с сыном. Приняли внешне нас хорошо с поцелуями, внимательно. Но за весь вечер никто не промолвился словом как нам жилось или живется, как здоровье, о тебе тоже — ни слова не говорили, до тех пор пока я сама не сказала, что ты выглядишь хорошо, но по сравнению с Сашей — худой. Саша и Лева совсем стали солидными мужчинами. Роза очень худая и постарела, Паша выглядит хорошо. Мама постарела, но по цвету лица не уступит молодой женщине. Марик вел себя довольно возбужденно, продекламировал весь свой запас стихов, загадывал загадки и проч. Обратно С.М., Ан. М. и Марик приехали даже на машине, а я, Люся и Нюма трамваем. Я приглашала заходить к нам, но пока никто не приходил за исключением Паши, которая забежала на несколько минут в прошлое воскресение, узнать, нет ли от тебя писем и спросить, в какие дни свободен Марик, чтобы показать его врачу-профессору. Роза ограничилась советом устроить Марика в лесную школу Это, конечно, меня даже обидело. Во-первых, Марик один не может поправиться, т. к. он не может обслужить себя и, если он дома плохо ест, то там за ним некому следить. Во-вторых, туда помещают детей совершенно истощенных и совсем больных, а в-третьих, для того, чтобы приняли Марика в лесную школу надо иметь отца на фронте. Конечно, я не думаю отправлять его куда-либо от своих глаз. Ведь ни Паша, ни Роза никогда не могли допустить мысль лечить своих дочек без своего присмотра, а мне так легко советуют. Все это оттого, что мы им чужие. Конечно, наше примирение, это результат моего отношения к тебе, возможно, даже и чувства жалости, я не могла видеть твоих слез, когда ты просил меня помириться с твоими родными. Не обижайся — это так. Никогда мы не можем быть близкими родственниками. А довод твой, что надо помириться только для того, что будет легче жить — низок. Я никогда не могу с этим согласиться. Ты привык так рассуждать, т. к. тебе пришлось бороться за существование, но я, несмотря на всю тяжесть своих условий — никогда не принимала помощь от людей, которые не искренне ко мне относятся. Зачем это надо? Пусть будет тяжелее, но зато своими силами и уменьем достигается благополучие. Вчера я хотела с Мариком пойти к Паше, но она позвонила С.М., чтобы я не приходила, т. к. она уйдет в свой Университет. Просила прийти сегодня в воскресенье, но сегодня мы приглашены к Нинзе на день рождения ее дочки, поэтому опять откладывается визит. Семик, ты спрашиваешь каким я нашла тебя после такой долгой разлуки. Пожалуй, что все таким же, как и был. Внешне ты выглядишь хорошо, я и не могла ожидать этого. А в смысле содержания тебе похвалиться нечем, ты рассуждаешь все также, по-мальчишески. Во всех твоих выражениях, в письмах и даже в тех беседах, которыми нас осчастливили — промелькнуло, что ты еще далеко не чувствуешь себя ни отцом, ни даже серьезным мужем. Кругом все поверхностный взгляд на людей, на жизнь. К сожалению, ты не научился, мне кажется, узнавать людей. Это очень плохо. Гы не растил сына, — поэтому на переднем плане я, которую ты «снова полюбил, как 16 лет назад». А мне кажется, что я тебя не полюбила снова, я любила тебя всегда и эти восемь лет и раньше также одинаково, равно, без скачков. И сейчас, повидавшись с тобой, я не почувствовала, что ты «особенный», я всегда любила тебя и люблю за все твое и хорошее, и плохое. Как можешь ты разводить небылицы, задавать какие-то глупые вопросы о моей неприкосновенности во время обратного пути… Ведь я только поделилась с тобой впечатлениями во время обратной дороги в двух-трех фразах. А ты наплел целую вереницу опасений и дурацких подозрений. Склонность к демагогичности не оставляет тебя в покое. Надо быть серьезнее. Также еще подумал ты серьезно о той посылке, которую просишь прислать тебе. Не буду объяснять, но, конечно, такой посылки я тебе не собираюсь делать. Надо понимать, что я хочу твоего возвращения в семью, приедешь — тогда и будем ознаменовывать этот день среди своих близких и родных. Гораздо было бы полезнее тебе написать еще и еще заявления, ходатайства, чтобы приблизить этот день, а не «заботиться» об «ознаменовании». Еще факт твоей крайней непродуманности в отношении учебы Марика. Ты думаешь, что бросить занятия по музыке — это выход из положения. Для того, чтобы ребенок не болтался зря, надо им все время заниматься, а я не имею возможности в этом. Лучше уж он будет занят своими делами. Вообще мне уже так трудно воспитывать сына — ты не представляешь Менять комнату нашу надо, но смешно, что ты предлагаешь временно переехать в мамину. Неужели ты забыл, что мамина комната еще хуже нашей, тем более, что там несколько лет никто регулярно не живет, там так сыро — жутко. Вот пока все то, чем я живу. Со здоровьем у меня — все благополучно, не волнуйся. Ждем тебя скорее домой. А пока пришли обещанное. Большой привет всем, всем, кого я знаю. Целую крепко. Твоя Лика. Не кори меня за излишнюю критичность по отношению к тебе, это только тебе и нам в пользу.
Решеты, 10.111 — 1946 г. Лидука, дорогая. Ты заставляешь меня неописуемо волноваться, чем объяснить твое молчание? За все время я получил от тебя лишь одно письмо от 29.1 и все… Что уж я не передумал, какие только кошмары не чудятся мне… Что-то случилось с тобой или с Мариком, или мамой? Ликин, любимая моя женушка, после нашего свидания я ожидал, что ты будешь писать мне часто, ведь ты-то знаешь теперь мою жизнь, понимаешь значение каждого письма для меня. Чем скорее пиши мне. У меня все по-старому: на той же работе, здоров. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя и сына. Т. Сема. Привет всем родным.
Решеты, 14/111 — 1946 г. Дорогая Лидука! Голову я уж совсем потерял в волнении и догадках о причинах твоего молчания. Казалось бы, что после нашего свидания связь между нами должна была бы упрочиться, ты не должна была бы заставлять меня мучиться в беспокойстве, а оказалось наоборот… Почему? Что случилось? Не нахожу себе покоя, тревоге моей нет предела, буквально схожу сума, мерещатся всякие ужасы, самые жуткие картины… Не заболела ли ты после дороги, не случилось ли что с тобой, с Мариком, с мамой? Я получил от тебя одно единственное письмо от 29/1, ответил тебе большим письмом, писал еще, а ответа от тебя все нет и нет… Ради всего святого, Ликин, скорей напиши мне, пришли телеграмму на имя Володи, чтоб я сейчас же мог получить ее, сообщи мне правду о случившемся, ничего не утаивай от меня. Мне так тяжело стало жить после твоего отъезда, Лидука, если бы ты только знала!.. Твой образ не уходит от меня, тоска по тебе, родной моей и любимой, гнетет меня с неимоверной силой. Ты стала мне родней и ближе в тысячу крат, чем когда-либо раньше. Я переживаю такое чувство, как будто я тебя только что обрел, и ты пленила меня целиком, без остатка. Ты явилась ко мне, несчастному и страдающему, поверженному в прах нищему, как сказочная фея, добрая, мудрая, благородная, любящая!.. Ты совершила великий подвиг во имя нашей святой любви, и нет такой дани, которую я смог бы принести к твоим ногам, моя Лика! Кто знает, когда кончится мое несчастье? Я все живу надеждами на апрель-май-июнь м-цы этого года. Мне думается, что в ближайшее время меня отпустят, желаемое кажется мне реальностью. 18.11 отправлено мое заявление в Ос. Сов., характеристика хорошая, ходатайство поддержано командованием. Что говорят в Москве по моему вопросу, есть ли какие основания для надежды на скорое освобождение? Спрашивала ли ты, где, обращалась ли ты к кому? В начале апреля я вновь напишу заявление, копию отправлю тебе. Я живу все так же, на прежней работе, на старом месте. Чувствую себя относительно хорошо, только нервничаю очень из-за неполучения вестей от тебя и родных. Питаюсь я хорошо, за это время истратил больше половины, еще на 2 месяца обеспечен. Нужны мне сейчас: летний костюм (брюки и гамнастерка), тапочки, носки, наволочка подушечная, простыня, зубной порошок. Посылаю тебе перечень предметов (краски, кисти, карандаши), необходимые нашей культ, — воспит. части. Если сможешь, закупи все это за любые цены, возьми счета на имя ОЛП № 1 Краслага, мне по ним заплатят наличными деньгами, хоть 1000–1500 рублей. Вышли все это посылкой на мое имя и счета вложи в посылку. Кроме того, если можно, достань песенники, ноты для хора и мужского соло (романсы), пьесы с мужскими ролями. Отправь это бандеролью на имя нач. КВЧ ОЛП № 1 Качаловой, приложи и к этому счета, мне заплатят по ним. Во всех этих предметах ощущается здесь острая нужда, не можем развернуть клубной работы. Для меня посылай бандеролями, а лучше посылкой, газеты, журналы и книги — все это мне сослужит большую пользу. Как обстоит у тебя дело с дачей и огородом на лето? Как сейчас жизнь в Москве? Помогая мне, не отрывай только насущного от себя и сына, ни в коем случае. Как чувствуют себя мама, Самуил? Меня все время не оставляет беспокойство… Ликин! Что ты предприняла для Марика? Я писал Паше, просил оказать нужную помощь, — оказана ли она? Как сейчас здоровье сына, есть ли улучшение? Еще раз советую значительно сократить его учебу, не переутомлять его занятиями, — потом наверстаем упущенное, лишь бы он здоров был. Шалит ли он как и раньше? Ведь ему нужен полный покой, чтоб попусту не растрачивалась его энергия, необходимая для преодоления болезни. Нужно еще окончательно выяснить происхождение тех случаев с гноем у Марика, и, в случае необходимости, принять меры к лечению. Но, главное, Ликин, ты должна быть спокойной и не терять самообладания. Береги себя, любимая, ты ведь так нужна и мне, и сыну нашему. Мы еще с тобой молоды, и будет время, когда мы еще используем нашу молодость во всем. Не унывай и не отчаивайся, надо все преодолеть для счастливого нашего будущего. А я еще мечтаю о семье, о будущих наших детях (ведь мы должны еще иметь дочку и еще одного сына, — не так ли, женушка?), скоро, Лика, эти мечты станут действительностью. Горячо поздравляю тебя, любимая, с днем твоего рождения и с днем рождения нашего сына. Говорить о моих пожеланиях вряд ли нужно, — ими полна моя душа, рвущаяся к вам, моим самым дорогим и любимым. Но, самое главное, пожелание: это, чтоб вы были здоровыми и чтоб этот год оказался для нас счастливым годом восстановления нашей семьи. И мне так хочется, чтоб день 31-го мая — день нашего 15-ти ле-тия — мы были вместе, Лика! Прими мои горячие пожелания, может быть хоть частица из них осуществится в нынешнем году, и нам улыбнется счастье, и мы с тобой повеселимся и порадуемся по настоящему, как этого заслуживает наша честность, наша любовь. Пришли мне, Лика, фотокарточки. Мое фотографирование задержалось из-за отсутствия проявителя. При первой возможности пошлю тебе свои карточки. Бываешь ли ты у сестер и у моей мамы? Паша писала мне в открытке от 4. II, что ты с Мариком были на именинах Ингушки, что Марик был центром всего вечера, — они счастливы вашим посещением. Ликин, побывай с Мариком у моей мамы, этим ты доставишь ей большую радость. Каковы сейчас ваши отношения? Сообщения твои и Пашины о вашей встрече меня несказанно обрадовали. Как здоровье мамы и всех наших родных: Нинзы, Васи, Володи, Морозов? Почему и они ничего не напишут мне? Передай им всем мой горячий привет и благодарность. Крепко, крепонько целую тебя — твой Сема.
Решеты, 22/111 — 46 г. Дорогая моя Лидука! Я уже совсем потерял голову. Чем объяснить такое твое молчание? Ведь за все время я получил от тебя только одно письмо от 29.1, а от Паши открытку и бандероль от 4.1 I. Что я могу думать, что предполагать? Самые ужасные картины рисуются моему воображению, не нахожу себе покоя. Нервы мои отказываются выдержать такое испытание, я становлюсь буквальным «психом», не могу работать, сегодня свалился, заболел, не мог итти на работу. Неужели ты заболела? Или что случилось с сыном? Или с мамой? Или с моими родными? Но, что бы не случилось, ты должна мне сообщить немедленно. Это лучше молчания, легче неизвестности. А ведь мы договаривались с тобой, чтоб часто писать друг другу. Хочу надеяться, что все благополучно. Горячо поздравляю тебя и сынку с днем рождения. Желаю вам, моим любимым, здоровья и счастья на долгие, многие годы. У меня все по-старому. Крепко, крепко целую тебя и Марика, твой Сема. Привет всем родным.
Решеты, 23.111 — 46 г. Дорогая моя Лидука! Я уж и не знаю, что случилось у тебя. Что думать, что гадать? Вопреки нашему уговору, ты совсем не пишешь мне. Со времени твоего отъезда я получил лишь одно письмо от 29.1 и все… Окончательно теряю рассудок, потерял способность спокойно размышлять, волнуюсь чортовски… Ругать тебя я не могу. Слишком сильно обаяние нашей встречи, чувство величайшей любви и глубочайшего уважения к тебе целиком владеет мною. И, конечно, никаким сомнениям и подозрениям нет места в душе моей. Что же остается для объяснения твоего молчания? Только самые ужасные догадки о чем-то страшном, случившемся у тебя. Не заболела ли ты тяжело? Случилось ли что с мамой? Или с Мариком плохо? Какие только самые кошмарные картины не встают перед моим больным воображением! Я их гоню от себя всячески, а они все лезут и лезут, как осенние мухи, не давая покоя. Необходимое внешнее самообладание стоит мне очень больших усилий. А я ведь и без того переживаю тяжелое и тревожное для меня время. Я все время так был уверен в предстоящем окончании нашей разлуки, в скором возвращении моем в общество, в нашу семью, — я ведь только и живу этими мечтами! А враги вновь начали лязгать оружием у наших ворот, подняли зверино-черчиллевский вой во всех англо-американских подворотнях… Капиталистические собаки хотят загрызть ненавистный им социализм, нашу страну, наш советский народ. И мучает меня этот вопрос о судьбах нашей Родины, о Вас, моих родных и близких! И, если стрясется война, и весь наш народ вновь поднимется на борьбу, то где же я буду? Неужели опять мне влачить свое жалкое существование, не имея возможности защищать свой дом, свою семью, Вас, моих родных и любимых? Эти мысли тревожат меня, а к ним примешивается сейчас еще и чувство крайнего беспокойства из-за твоего молчания. Во имя наших отношений немедленно сообщи мне о случившемся, об истинных причинах молчания. Самая плохая и тяжелая правда будет легче для меня неизвестности. А я все же крепко надеюсь и не теряю уверенности в скором освобождении. Жду апреля-мая с замиранием сердца, с трепетом. Ликин, любимая моя женушка: Что же с нашим сыном, как проходит его лечение, что говорятврачи, показывала ли ты его профессору, удалось ли наладить необходимый режим его поведения и учебы, есть ли улучшения в состоянии его здоровья? Едешь ли ты на дачу, куда и когда? Во что обойдется тебе дача и будет ли у тебя огород в этом году? Я думаю, что огородом не надо пренебрегать, овощи и картофель нужно запасти в достаточном количестве. Я верю в то, что наш Марик выздоровеет вполне, — сохраняй только спокойствие и не изводи себя тревогой. Но как ты сама чувствуешь себя, моя любимая женка? Твои слова об омерзении, страхе и неприятностях, пережитых тобою на обратном пути, в поезде, — что они означают конкретно? Что бы там ни было с тобой, ты должна сообщить мне все подробности, не стесняясь, — я хочу и должен их знать. Не сказалось ли случившееся в дороге на твоем здоровье? Родная моя, единственно-любимая Лика! Ты — счастье моей жизни, мое сокровище! Я должен знать все про тебя, мне будет легче так жить. Ты вошла безраздельно в мою жизнь, ты — моя плоть и кровь, — я хочу, чтоб у тебя все было хорошо. Ликин! Ты беспокоилась о возможных последствиях нашей близости во время свидания. Как обстоит у тебя с этим делом? Я думаю, судя по тому, как было у нас с тобой… что все в порядке у тебя. А ребят (нам обязательно нужны еще девочка и мальчик) мы еще с тобой сотворим, — не так ли, родная женушка? Еще и еще раз горячо поздравляю тебя и сына с вашим днем рождения! Желаю вам здоровья, счастья и многих лет радостной жизни. И единственное, чего я жажду всей силой своей души, — это быть с вами, моими родными! Я по-прежнему здоров и работаю на старом месте. Привет тебе от Саши и от всех товарищей. От меня привет маме, Самуилу с семьей, всем родным. Жду твоих телеграмм, писем, бандеролей с книгами и газетами. Горячо и крепонько целую тебя и сынку твой Сема
25.111.46 Г. Дорогая Лика! Только отправил утром 23-го письмо тебе, а через 2 часа принесли мне твое письмо от 24.11, отправленное тобой 1.III. Конечно обрадовался письму, как таковому… Я все же не понимаю, какие это такие причины не дали тебе в течение месяца возможности написать мне хоть пару строк? Ты была у меня, но, очевидно, плохо усвоила обстановку, в которой я нахожусь, и определяемое этой обстановкой мое психологическое состояние. Но тебе этого, слава богу, и не понять… 8 ½ лет наложили свой отпечаток… Ты приехала ко мне и принесла с собой не только радость встречи с женой, с любимой женщиной, с другом, но и явилась для меня олицетворением свободного человека, пришедшего «с той стороны»… На меня пахнуло свежей струей воли, нахлынула волна далеких воспоминаний о когда-то прошедшем, а теперь недоступном… И, если я сказал, что полюбил тебя снова, как 16 лет назад, то это было искренно с моей стороны. Это чувство могло возникнуть на той почве, на которой я стою. На ней, кроме репейника, крапивы, да тайги дремучей, ничего не ласкает взора! А цветы, что пробиваются среди них, и те без запаха, не радуют, не веселят… И когда ты появилась, то, естественно, мое чувство всколыхнулось, забилось с новой силой сердце… Что же тут удивительного? Неужели твое чувство (если это не привязанность, не просто привычка?) не получило сдвига, толчка, а протекало также «ровно и без скачков», когда мы увиделись, встретились с тобой? Хотя… что и говорить! Мой вид, и мое состояние, могли вызвать в тебе, свободном человеке, лишь повышенное чувство «жалости», о чем ты откровенно сообщила мне в своем письме: «я не могла видеть твоих слез»… Поверь, что это были первые и единственные слезы мои за все эти годы, высушившие мои глаза. Ты даже упрекаешь меня в том, что я-де «не серьезный муж». Я понимаю этот намек твой!!! 8 ½ лет я прожил без тебя, я не знал все это время и других женщин. И когда мы остались с тобой, разве я, твой муж, не должен был хотеть близости с тобой, разве не естественно было возникновение желания? Хорошо, у тебя были «гости», ты боялась беременности и проч., но, если б ты была серьезной женой, то ты все предусмотрела бы заранее. Но как можно любить и не желать? Как можно 8½ лет не жить половой жизнью и, встретившись с любимым человеком, о котором все это время грезил, не пожелать с ним близости? Что это за «платоническая любовь» возникла вдруг у тебя? И неужели не было тебе радости в нашей встрече? Где же и у кого ты ее еще достанешь? Что же еще может означать упрек в «несерьезности», как мужа? Отсутствие тебя, моей жены, вызывает у меня, здорового вполне мужчины и любящего мужа, вполне естественные физические страдания… Мне их несколько легче преодолеть, ибо я нахожусь в иных, чем ты, условиях. Но, встретившись, разве мы не должны были испить до дна из этой чаши? Мне очень обиден, и тем более не понятен, твой упрек, моя жена! Или ты под моей «несерьезностью» понимаешь другое? То, что я, как муж и отец, не выполняю своих материальных обязанностей, или не являюсь воспитателем сына и другом своей жены? Но как я могу осуществить материальную помощь, когда я, нищий, сам, к своему стыду, вынужден просить и принимать эту помощь? Но я, подчас испытывающий самую крайнюю нужду, не проявлял никогда алчности и не предъявлял к тебе претензий. И, когда ты уезжала, я не забрал у тебя всех предложенных мне денег, ибо я знал, что они потребуются тебе в пути (и действительно они пригодились, иначе бы ты не уехала так быстро). Разве я поступил здесь не как «серьезный муж» или не как друг твой, в равной мере беспокоящийся о тебе? Прости, Лика! Я бы об этом не говорил, но я хочу всесторонне выяснить основания, имевшиеся у тебя, для такого упрека. Что же касается воспитания сына, то я здесь совершенно бесполезен. Все мои советы всегда не только отвергаются, но и зло высмеиваются тобою. За эти годы очень многое изменилось на воле, я лично почти не имею представления о том, как сейчас живут люди, каковы условия, возможности и проч. Кроме того, ты права, я не растил нашего сына, я его совсем не знаю, и я поэтому, могу давать советы, имеющие лишь теоретическое значение, но лишенные, в твоих глазах, практического смысла. Но Марик мне дорог и близок не меньше, чем тебе, Лика! Я его не растил не потому, что не захотел. И не потому, что я, муж и отец, бросил свою семью. И, поэтому, не нужно каждый раз издеваться над моими отцовскими чувствами и корить меня, как недостойного отца и мужа. Но, послушаюсь твоего совета: не буду писать длинных писем. Продолжим потом… Надеюсь, что ты будешь все же находить время для меня и станешь писать чаще. Крепко целую тебя и сына, еще и еще раз поздравляю вас с днем рождения — твой Сема. Привет маме, Самуилу с семьей, всем родным.
31.111.1946 Г. Моя дорогая Лика! Вчера получил 2 бандероли с газетами «Московский Большевик». В одной из них не оказалось 3-х шт., а в другой — 4-х. Всего, вместо 35-ти, пришло 28 газет. Но это надо считать вполне благополучным… Большое тебе спасибо за газеты, — это для меня значительная поддержка. Хочу все же закончить разговор с тобой по поводу твоего письма от 24. И. Тон его и поразил меня и оскорбил. Он, по-моему, мог быть вызван только особым состоянием неудовлетворенности, вызываемой иногда этакую желчную сварливость. У немилого человека все кажется и глупо, и абсурдно, и плохо, и невпопад, и… одним словом, все шиворот-навыворот. Но, неужели я тебе так уж не мил? Или же вся твоя ругань является результатом какого-то преходящего настроения? Ты все отрицаешь во мне, и я сам кажусь себе жутким уродом. Я теперь буду бояться высказать перед тобой то или иное мнение, подать тебе какой-либо совет, — ведь ты считаешь меня не просто глупым, но и «низким» человеком. Ты упрекаешь меня в том, что я рекомендовал тебе примирение с родными, ибо оно, помимо всего прочего, облегчит жизнь, устранит тяжелую неприязнь, омрачающую существование. А почему же ты считала возможным корить меня за мою «непримиримость», за «непокорность» и пр. Ты помнишь, как ты обвиняла меня за то, что я поругался с тем идиотом и мерзавцем, говорила, что надо быть сдержанным, проявлять терпимость и т. п.? Но, я сказал тебе, что это «низко» с твоей стороны? Нет, я этого тебе не говорил, а ты вот сказала мне это! Нехорошо, Лидука, так оскорблять человека. А ведь речь идет здесь о твоем муже и друге, которого ты, как будто бы любишь и будешь любить! Но я вовсе не хочу ругаться с тобой, я слишком люблю тебя и уважаю для этого. Во всем этом деле больше всего тревожит меня твое нервное состояние, чрезмерно напряженное. Ты сама признаешь, что «не можешь себя сдерживать»! Ликин! Надо взять себя в руки во что бы то ни стало. Что бы ты там про меня не говорила, но мне абсолютно не нравятся «ремни» и «подзатыльники», употребляемые в качестве воспитательной меры по отношению к сыну. Этим ничего, кроме плохого, не добьешься. Лучше пусть он остается трижды голодным, а потом, когда захочет есть, скушает все, без разбора и без капризов. Разик-два поголодает, а потом станет все кушать сам, — можешь не сомневаться в этом. Меньше сидите над ним, будет лучше и полезней для него. Его чересчур избаловали, надо это исправлять. А я просил не баловать его еще 5 лет тому назад. Избалованный ребенок никогда не бывает здоровым, — учти это. Ты не представляешь себе, каким счастьем явилось для меня твое сообщение о том, что ничего страшного нет в здоровьи сына. Об этом же, о результатах последних исследований, писала мне также и Паша. Горячо поздравляю тебя с этой великой для нас радостью, моя любимая женушка! Теперь ты должна быть спокойнее и держать себя в порядке. А все же я настаиваю на том, чтобы несколько уменьшить учебную нагрузку Марика. Нельзя переутомлять его, слишком. Паша пишет, что хотела бы взять Марика к себе на дачу. Она надеется, что ты согласишься на это. Я лично не возражаю, считаю, что это будет чрезвычайно полезно для сына по следующим соображениям: 1) Он попадет в новую для него среду, — это подтянет его, дисциплинирует, 2) Я помню о том диком случае с конфеткой для Гоши. Нахождение Марика среди моих родных будет полезно для его сознания в этом вопросе, 3) Он безусловно хорошо поправится. В отношении ухода и заботы о нем, которые будут проявлены к нему, ты можешь не беспокоиться, 4) И ты, и мама также сможете немного отдохнуть в течение лета, приведете себя в порядок; и нервы, и здоровье, и хозяйство, и проч. Попробуй-ка все же послушаться моего совета, я ведь муж твой и отец Марика, и с моим словом ты должна серьезней считаться. Не так ли? Лидик, милая! Бросим-ка ругаться, отставим это до нашей окончательной встречи, а тогда уж, на радостях, и заругаться не грех будет. Люблю я тебя все же крепко, очень крепко. И мне хочется немножко больше нежности и ласки в твоих общениях ко мне. Но уж, конечно, не из жалости… Я здоров, работаю там же, успешно закончил зимний план. Вчера отправил заявление Нач~ку и Прокурору Краслага. Буду писать еще! Есть надежные перспективы на скорое освобождение. Пиши мне часто, прошу тебя об этом. Мой портрет вышлю в ближайшее время. Привет маме, Самуилу с семьей, всем родным. Крепко, крепонько целую тебя, твой Сема. Получила ли ты письмо мое с перечнем краски и проч. Можно ли ожидать?
3. IV. 1946 г. Дорогая моя Лидука! Посылаю Марику мое поздравительное послание, написанное в стихах. Я думаю, что сынка выучит наизусть и хорошо запомнит мои заветы. Эти дни наполнены мыслями о вас, моих дорогих. Как бы хотелось мне быть сейчас с вами! Вот уж отпраздновали б мы твой и Марика дни рождения. Но вместе грустно и тяжело… Меня бодрит уверенность в том, что скоро все же я буду свободен и увижусь с тобой и с сынком. Все последующие праздники мы должны быть вместе, обязательно. Скоро 31. V, 15-летие нашей женитьбы, Лика! Как хорошо было бы нам встретиться к этому дню и отпраздновать его вместе в нашей семье! У нас здесь уже почти тепло. Температура выше 0°, доходит днем до 8—10°, снег бурно тает, — это хорошо. Чувствую себя по-прежнему, только вот ревматизм опять стал мучить, зимой было легче. Работаю на прежнем месте, закончил хорошо зимний план. Ликин! Вышли мне то, что я просил тебя из одежды: брюки, гимнастерку, носки, белье и проч. Сможешь ли ты приобрести и выслать для КВЧ краски, ноты и пр.? А главное, пиши мне возможно чаще. Крепко, крепко целую тебя и сына, твой Сема. Привет от Саши. Мой привет маме, Самуилу с семьей, всем родным.
26. IV. 1946 Г. Дорогая моя Лика! Все же приходится мне ругать тебя… Почему не пишешь так, как мы договаривались с тобой? За 3 1/ месяца имел от тебя всего лишь 2 письма. Еще и еще раз спрашиваю тебя: что случилось? Ведь теперь-то не должно быть никаких причин твоему молчанию. Как твое и Марика здоровье? Судя по твоему и Пашиным письмам, особо серьезного опасаться нет оснований, но нельзя так оставлять, надо беспрерывно наблюдать за его здоровьем. И ты не нервничай, береги себя, Лидука! Мое заявление направлено из Канска в Секретар. Ос. Сов. 5/IV за № 30349/Д. Обратись и от себя с заявлением в тот же адрес. Напиши мне об этом, что тебе ответят? Я крепко надеюсь на то, что в ближайшее время вопрос мой положительно разрешится. 19/IV я получил от Паши посылочку, — пришлась кстати. Как ты устроилась с дачей на лето? С огородом? Как здоровье мамы? Бываешь ли ты у наших? Договоритесь, чтоб вместе хлопотать о моих делах. Горячо поздравляю с 1-м Мая и с Годовщиной Дня Победы. Привет всем родным. Крепонько целую тебя и сынку — твой Сема
Лидик! Я посылал тебе телеграмму, получала ли ты ее и почему не ответила? Телеграммы посылать не разрешают, но, благодаря тому, что я на хорошем счету, с большим трудом мне удалось получить разрешение на ее отправку. Сегодня 4/V, подал на имя Нач-ка Управления Краслага заявление о свидании с тобой и Мариком. Обошел все начальство, обещали поддержать. Ты, со своей стороны, все же хлопочи в ГУЛАГе и пиши сама Нач-ку Краслага. Думаю, что на этот раз свидание получим. Когда приедешь, постарайся остановиться у кого-нибудь на квартире поближе к лагерю, а то до города далеко. Если разрешат свидание на 3 часа, то разобьем его на 3 дня — по 1 часу. Может удастся пробыть не по часу, а значительно дольше, если свидания будут происходить с вечера, 9—10 часов. Меня волнует только вопрос о Марике, как ты с ним доедешь обратно? Здесь еще холодно, потеплее одевайтесь. Ну, целукаю крепонько — твой Сема.
Решеты, 9/V — 1946 г. Дорогая моя, любимая Лидука! Сегодня радостный день для всех нас, для всего народа. И год тому назад я ликовал со всеми, празднуя победу. К этому радостному чувству присоединялась еще надежда увидеться вскоре с тобой, с сыном, с родными… Мы с тобой увиделись… Но не так же, как нам хотелось бы, как это надо было бы после стольких лет разлуки… Что делать? А сегодняшний день омрачается для меня крайним беспокойством по поводу неполучения от тебя никаких известий. Вот уж прошло почти 4 месяца со дня твоего отъезда, а я имел от тебя всего лишь 2 письма… Последнее от 26 февраля!?. В чем дело? Что случилось, родная? Я совсем потерял уж голову, думая да гадая. Я тебе послал много писем, поздравительные телеграммы тебе и Марику послал 3/IV. Неужели ты ничего не получила? Вчера мне передали, что С. Т. Муравин получил от своей матери письмо, в котором она пишет, что ты была у нее и жаловалась на неполучение моих писем. Мне это совсем непонятно… Но, если ты не получаешь моих писем, почему же и я не получаю твоих? Ведь ты же обещала мне писать часто. Почему ты не сдерживаешь своего слова? Ты знаешь какое значение для меня имеет получение писем из дому, — в них вся моя жизнь, связь с жизнью. Нет вестей из дому, нет писем, — и нить теряется, я попадаю в пустоту, в мрак… Мне так тяжело, если б ты только знала!.. Говорят, что вскоре вопрос должен разрешиться в общем порядке. Я думаю, что это именно так, — скоро, возможно до июля м-ца этого года. Мое заявление в Ос. Совещ. отправлено из Управления 5/IV за № 30349/Д, — я уже писал тебе об этом. Обратись и ты, вместе с Пашей, туда же. Постарайтесь повидаться с работниками, рассматривающими и решающими эти дела. Ликин! Я встречал часто в газетах имя Генерал-Полковника Горбатова А.В., — сейчас он избран депутатом в Верховный Совет СССР. Не Ал-др Васильевич ли это? Если это он, то повидай его и поговори с ним обо мне, передав, конечно, ему от меня горячий привет и поздравления. Он сможет помочь нам, — ведь он хорошо знает и меня, и тебя. Ликин, дорогая! Как твои дела, работа и здоровье? Все ли благополучно? Как здоровье Мароника нашего? Смотрели ли его еще врачи, что говорят? Как его учеба, экзамены? Почему он не пишет мне ничего, даже не ответил мне на мои письма? Устроилась ли ты с дачей, где? Паша писала, что очень хотела бы взять Марика к себе на лето, — я думаю, что это было бы очень хорошо. Еще мама с Пашей очень хотели бы видеть тебя с Мариком чаще, а ты очень редко бываешь у них. Но я воздерживаюсь от высказываний, так как ты с моим мнением мало считаешься… От Паши 19/IV я имел посылочку. Если ты сможешь что-нибудь послать или передать для меня, — буду очень благодарен, так как сейчас стало туговато с продуктами. Эти 4 месяца я прожил очень хорошо, без нужды, питался вдоволь, — большое тебе спасибо, Лидука! Как здоровье мамы? Как ее дела? Крепко обнимаю и целую тебя и сына, твой Сема. Привет всем родным. В марте я получил от тебя 2 бандероли — 29 газет «Московский большевик». Вышли еще газет. Вышли мне писчей бумаги, — то что ты привезла — вся вышла. Сейчас не на чем писать. Привет тебе от Саши, Франца, Володи и Герм. Наум.
27. V — 1946 г. Дорогая Лидука! Хоть убей меня, но я не понимаю твоего молчания. Последнее твое письмо было от 26.11 — что это значит? Сколько я писем послал тебе, телеграммы поздравительные, — все осталось без ответа… Паша пишет мне, что «Лидочка говорит, что она тебе часто пишет». Где же они, твои письма? Я знаю, что, когда пишут, то рано или поздно, письма доходят. Чем я тебя обидел, оттолкнул? В чем дело, что случилось? Сегодня освобождается Франц, — за него ходатайствовали. Еще несколько человек уходит сегодня. Это большое событие в нашей жизни, это — начало. Я надеюсь, что в скором времени и до меня дойдет очередь. Большое значение для меня имеет моя работа в куль-тбригаде. Я просил тебя достать и выслать краски, ноты, струны, — получила ли ты то мое письмо и можно ли ожидать всего этого? Прошу тебя приложить старания и достать все по перечню. Повторяю, что это имеет большое значение и сослужит мне на пользу. Ликин! Вышли мне летней одежды и кое-что из продуктов (сейчас здесь трудно стало). Бумагу я всю уже израсходовал, карандашей тоже нет. Если сама не сможешь выслать, передай Паше. Здесь стоит все время очень плохая погода, холодно, ветер, дожди, — лета еще не видать. Я чувствую себя хорошо, работаю там же, — не беспокойся обо мне. Как твои дела, здоровье, работа? Как наш сынка? Окончательно ли выяснено его здоровье, как будет с ним в дальнейшем? Как вы устроились с дачей на лето? Как здоровье мамы, — все ли хорошо? Я очень обеспокоен твоим молчанием. Жду твоих писем. Горячо целую тебя и сына — твой Сема. Привет маме, Самуилу с семьей, всем родным.
Решеты, 19. VI — 1946 г. Дорогая Лидука! Каждую почту ожидаю с трепетным волнением, но, увы!.. От тебя ничего нет… А у меня важные новости. Начали отпускать понемногу «сверхсрочников». Я уже писал тебе, что ушел Франц и еще некоторые товарищи. Сегодня уволилась Роза Львовна, у родных которой ты побывала, — они сообщали об этом. Обо мне пошло второе ходатайство — очень авторитетное! Но, самое главное, что вопрос уже решен «в общем порядке». С 1-го июля т.г. начнут освобождать. Мне Саша сказал абсолютно уверенно, «что в июле, но не позже августа» я буду уволен. Возможно, что меня сразу не отпустят домой поехать, но тебя прошу подготовить для себя возможность поездки ко мне в августе м-це или в сентябре. Обязательно приезжай с сыном, теперь-то я уж сам вас встречу. Боже! Какая это будет радость для меня! Не унывай, Лидука, все будет у нас хорошо. На днях уехал Герман Наумов в Москву — в отпуск, — я передал с ним письмо. Был ли он уже у тебя? Сведи его также и к моим родным, пусть передаст личный привет. Ликин! Вот я все пишу тебе, но у меня из головы не вылезает беспокойная мысль о причинах твоего молчания. Что же случилось? Ты должна мне откровенно сказать обо всем. Как твое здоровье? Что с работой? Не случилось ли чего у тебя? Как здоровье Марика? Проверяли ли его еще и еще раз врачи? Перешел ли он в следующие классы в школе и в музыкальном училище? Сняла ли ты дачу, как устроились на лето? Как здоровье мамы А.Д., как ее ноги, как дела? Я тебе задаю все эти вопросы, а ты должна была бы в каждом своем письме подробно писать мне обо всем. Я немного хворал, сейчас ничего. Работаю все там-же, на газонурке — Завом и бригадиром. Передай привет всем родным. Крепко целую тебя и сына, Ваш муж и отец — Сема.
Решеты, 10. VII — 1946 г. Дорогая Лика! Наконец-то я могу сообщить тебе радостную весть: в самое ближайшее время, в период между 20.III и 10. VIII я буду освобожден. Директива, по которой я задержался, — отменена. 7. VII меня вызывали, объявили о предстоящем освобождении, предложив выбрать место жительства, согласно ст. ст. 38 и 39 Положения о паспортах, т. е. за минусом определенных пунктов и районов. Ввиду того, что в Москве и в Московской области я поселиться сейчас не могу, — я выбрал для себя Сталиногорск, Тульской области. Ехать туда надо с пересадкой в Москве, так что побываю дома. Я думаю, что в Сталиногорске мне легче будет устроиться и, если и ты переедешь туда, то и ты получишь работу, а Марик сможет учиться там в хорошей школе. Но это — потом. Дальнейшие пути выявятся позже, когда я приеду в Москву, а оттуда на место. Во всяком случае, это в 180 км от Москвы, и мы сможем часто видеться. Я не теряю уверенности в том, что впоследствии буду полностью реабилитирован, а тогда уж и в Москву можно будет… Списки с обозначением избранных мест жительства уже отправлены в Канск, и мы ожидаем, что, начиная с 20. VII, документы будут постепенно прибывать. Если не встретится препятствий к выезду в Сталиногорск (а я думаю, что препятствий не может быть), то между 20. VII и 10. VIII я выеду. Об этом, конечно, я сообщу тебе телеграфно. Под некоторым сомнением у меня находится вопрос об избранном мною месте жительства. Если не разрешат в Сталиногорск (Хотя он не входит в «минусы», а потому должны разрешить. Мои опасения вызваны, очевидно, чрезмерным пессимизмом), — то буду выбирать другое место поближе к вам. Однако, самое предстоящее освобождение — уже реальность, а не «параша», как у нас говорят. У меня к тебе две просьбы: 1) срочно, телеграфом, переведи мне 500 рублей, по адресу: Решеты, Красноярской жел. дороги. Почта, до-востребования. Если вышлешь по обычному адресу, то я не успею получить денег, т. к. перевод должен будет пройти длинное оформление через банк и проч. Поэтому вышли до-востребования, а я сам получу деньги в Решетах; 2) я обещал Нач. КВЧКачаловой, что ты вышлешь краски, необходимые здесь для работы художника. Посылал тебе в одном из писем перечень этих красок, но ты этого письма, наверное, не получила. Посылаю тебе вновь этот перечень. Постарайся все это достать, возьми счет на эти материалы на имя ОЛП № 1 Краслага МВД, и вышли наложенным платежом, посылочкой или бандеролью в адрес: ст. Решеты, Красноярской ж.д. ОЛП № I, Нач. КВЧ Качаловой Людмиле Андреевне. Писать мне я уже не прошу, все равно письма не успеют. Но телеграмму о здоровьи твоем, Марика, мамы — пошли мне. Я надеюсь, что ты выполнишь мои просьбы. Крепко обнимаю и целую тебя и сына, твой Сема. Привет маме, Самуилу, всем родным.
И вот новый пакет писем — свидетельств нарастающей драмы. Попытки зацепиться друг за друга, организовав новое свидание, полные планов мысли о будущей совместной жизни в Сталиногорске, где должно произойти Великое Воссоединение Семьи после грядущего Освобождения, только подливают масла в огонь разгорающихся несмотря ни на что чувств. Зная финал, читать эти письма невыносимо, но будем читать… Я. Свершилось!.. В следующем письме отец сообщит, что он «расконвоирован». Мама, скажи что-нибудь! Мама.
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.
Канск, 6. VIII. 1946 г. Моя дорогая, любимая Лидука! 26. VII меня, в составе целой группы вытребовали в Канск на освобождение. Но, ввиду того, что мы не одни, установлена очередность в этом деле, нас, пока что, расконвоировали, живем на острове (вблизи зоны ОЛП), а нас используют на разных строительных работах в городе. Я хожу бригадиром, устаю только от дальней ходьбы — 6 км туда да обратно. Хожу по городу и все кажется, что вот-вот тебя увижу. Отвык я от самостоятельного хождения, и все кажется странным, как будто только на свет родился. Вся эта процедура продлится до 1 или до 15-го сентября. Скорее всего до 1.IX, а наша группа будет распущена в период между 15. VIII и 1.IX. Осталось ждать уже совсем немного, считанные дни. Теперь надо будет решать вопрос о будущем местожительстве. Мне, конечно, будет предложена работа здесь, по вольному найму. Но теперь я вправе решать этот вопрос свободно, без принуждения. Но я никаких решений принимать не буду, пока не увижусь, не посоветуюсь с тобой, пока мы совместно с тобой не решим этого дела. Я намерен сейчас записать какой-нибудь пункт (Сталиногорск или другой) за Москвой, чтоб повидаться с тобой, с родными, а потом будет видно как и куда. Я твердо надеюсь, что в конечном счете, через год-два, а может быть и раньше (а может и позже?), мне будет разрешено проживание в Москве. А пока тебе надо решить вопрос, поедешь ли ты ко мне, где бы я не находился. Конечно, будем выбирать такой пункт, где ты смогла бы получить соответствующую работу, и где Марик смог бы учиться. Если и не в Краслаге, то в системе какого-либо другого лагеря, но мне кажется, что надо будет мне поработать 1–2–3 года. К моему приезду ты должна подумать и решить. Я абсолютно уверен в том, что ты поедешь ко мне, что мы будем вместе. Постараемся выбрать место поближе к Москве, или какой другой в материальном и в бытовом отношениях наиболее благоприятный. Ликин! Если ты перевела деньги в Решеты — запроси их обратно, а переведи сейчас 500 рубл. в Канск, до-востребования, телеграфом — по выходе я их здесь получу. Герм. Наумович, перед моим отъездом из Решет, с трудом дал мне 300 рублей. Он отказался рассказывать мне подробности, но мне кажется, что ты дала ему для меня значительно большую сумму. Когда я спросил, из какого расчета он дает мне эти деньги (сначала он дал 200 р., а потом добавил еще 100), он ответил, что счеты он будет иметь с Лидией Михайловной. Я чувствую, что он что-то тут сжульничал, и жалею, что не было у меня условий, чтобы прижать его покрепче. Но, чорт с ним! Если он остался должен значительную сумму, то сообщи мне сейчас же ее телеграммой, до-востребования, в Канск, и я, по выходе отсюда, подъеду в Решеты получить с него. Ликин, родная, любимая моя женушка! Скоро, скоро мы уже встретимся с тобой, как свободные равные люди, как настоящие супруги и вечные, неразлучные друзья! Но почему же ты так долго мне ничего не писала? Это меня очень беспокоит. Как твое здоровье? Как наш Марик с мамой поправляется на даче? Я здоров, чувствую себя хорошо. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя и сына — твой Сема. Горячий привет маме, Самуилу с семьей, всем родным.
СПРАВКА Выдана гр-ну Шлиндман Семену Михайловичу 1905 года рождения, уроженцу гор. Харькова гражданство СССР национальность еврей осужденного по делу 656 1 УНКВД Хабаровского края 23 июля 1940 года За уч в антисов. пр. орг. к лишению свободы на восемь лет, с поражением в правах______года, имевшему в прошлом судимость: не судим, Что он отбыл меру наказания с 3 декабря 1937 г. по 12 августа 1946 г. С применением ст. ст 38–39 «Положения о паспортах» Из лагеря освобожден 12 августа 1946 года и следует к избранному Месту жительства в гор Сталиногорск Тульской области до ст. Миклец Тульской жел. дороги. настоящая справка выдана: Подпись. Начальник ОУРЗ Подпись.
Антракт
г. Горький, 18.IX — 46 г. Любимая женушка, дорогой сынка! Ехал сюда хорошо. Под утро перебрался на вторую полку и крепко поспал. На вокзале встречал меня В., повез меня к себе домой, а затем отвез в Управление, где уже были предупреждены о моем приезде. И здесь действует Директива об аннулировании вакансий, поэтому большого выбора не было. Я назначен нач-ком деревообделочного завода в Буреполоме, ст. Шерстки. Это — около 300 км от Горького в сторону Кирова. Оклад 850 рубл. + еще какие-то производственные премии, что я выясню уже на месте. Оформление заняло полностью 2 дня. Сегодня вечером еду на место. В. говорит, что через пару месяцев (не больше) он организует мне все, что нужно. И работу подберет другую. Он исключительно внимателен ко мне, заботлив и очень гостеприимен. Я нахожусь у него на квартире. Ожидайте меня в Москве дней через 8— 10. Ликин! Помни все, о чем мы говорили! Марик, сын мой! Еще раз прошу тебя быть послушным и внимательным. Целукаю Вас крепко. Привет маме, Самуилу и всем родным. В. Сема. Лидоник! Как здоровье? Тысячу раз целую тебя. Твой Сема.Но нет, в последний момент, видно, отец перерешил — не Сталиногорск выбрал, а Буреполом, тоже под Тулой, Москва близко, ее столичное дыхание ощутимо… Устроиться бы на работу поскорей, да на электричку в столицу…
Буреполом, 22. IX — 1946 г. Дорогая моя Лидука! Приехал я сюда 19-го. Завтра заканчиваю приемку завода. Предприятие большое, имеет очень важное значение. Во вторник, 24-го, поеду в район, ст. Тоншаево, а от станции еще 12 км в сторону, за документами. Вернусь оттуда 25-го. Квартиры еще не имею, живу в Управлении, в кабинете зам. нач. лагеря. Мой предшественник занимает с семьей отдельную квартиру из 2-х комнат с кухней. Он уезжает через 3 недели — месяц, — тогда мне перейдет его квартира. Весь вопрос заключается в том, будешь ли ты со мной или нет. В последнем случае 2 комнаты мне не нужны. Кроме того, я полагаю, что Володя выполнит свое слово и заберет меня в Горький через 2–3 месяца. Поэтому я требую у начальства сейчас 1 комнату. Как только я ее получу, сейчас же выеду в Москву, чтоб взять тебя на отпуск. Мебель для комнаты начнут уже завтра делать. Думаю, что комнату в течение 10–15 дней, не позже, я получу. Питаюсь в столовой. Тоскую по тебе и Марику. Пиши мне срочно обо всем. Крепко целую тебя и сына, твой Сема. Привет маме, Самуилу с семьей и всем родным. Ликин! Адрес на конверте подпишет товарищ — так надо для отправки. Жду твоих писем с величайшим нетерпением, теперь ведь я уже привык получать их часто, а «привычка — вторая натура». Так что не подводи меня и пиши. Как благодарен я тебе за твои письма — они для меня всё. Но как хочу я поскорее увидать и поцелукать мою мордоньку… О моем здоровьи не беспокойся, все хорошо и будет еще лучше. Чувствую себя хорошо, бодро. За такое состояние хорошее, и физическое и моральное, я обязан тебе одной, моей дорогой женушке. У нас тоже наступает весна; постепенно становится теплее, солнышко начинает припекать. Как хорошо все-таки жить! Тем более, что имеешь такую женушку, такого сына, с которыми нужно еще пожить вместе, вместе еще много, много лет. Ведь правда, Лидука? Еще и еще целует тебя твой Семка.
З.Х.1946 Дорогая Лидуся! Пишу в поезде, возвращаясь из Тоншаево, районного центра, где вчера получил годичный паспорт и военный билет. Документы, таким образом, у меня теперь оформлены. Мой отъезд в Москву задерживается из-за квартиры. В ближайшее время должны освободиться 3 квартиры, — первую из них я получу и сейчас же выеду за тобой. Чувствую себя хорошо, много работаю, очень тоскую. Что у тебя? Как здоровье, дела? Как Марик — учеба, здоровье? Надеюсь получить до отъезда твое письмо. И пусть Марик тоже напишет. Крепко, крепко целую вас — твой Сема. Привет маме, Самуилу с семьей, всем родным.
Буреполом, 14.Х.1946 г. Дорогая, любимая моя Лидука! Вот уж и месяц прошел… Очень мне тоскливо, тяжело без тебя и без Марика. Так хочется поскорее быть с вами, моими милыми, любимыми!.. Я получил твое письмо от 1.Х. От квартиры я отказался. Завтра получаю комнату. Она небольшая, около 10 кв.м., в двухкомнатной квартире, с кухней, на 2-м этаже. В одной маленькой комнате живут две девушки, работающие в больнице. Я беру эту комнату по двум соображениям: 1) другого ничего нет, а ждать больше я не хочу; 2) если, паче чаяния, мы с тобой порешим пожить здесь вместе, то этих девушек легко и просто будет переселить в другое место, а себе оставить всю квартиру, — я так и договорился с майором — Начальником лагеря. Комната не оштукатурена, наружные стены — рубленые, а внутренняя — досчатая, засыпная. Штукатурить сейчас уже поздно, поэтому я решил обить ее досками. Снизу обобью кошмой, а сверху фальцованными дощечками, шириной 65 мм, простроганными в шпунт и гребень. Завтра выйдут 3 столяра и начнут эту работу. Полагаю, что в 4 дня ремонт будет закончен. Да, еще пол хочу покрасить. Постарайся достать в Москве красок, чтоб мы, по приезде, сразу покрасили стены в комнате, — здесь ничего нет, даже белил и олифы нет. Уже делается для меня и мебель. 3 стула, железная кровать, простой и письменный столы, тумбочка, платяной шкаф. Материал — ильма. Мебель будет хорошая, делает замечательный столяр-краснодеревщик. Вся эта мебель обойдется мне, примерно, в 250–300 рублей и будет моей собственностью. При выезде отсюда, запакую и отправлю в Москву. Мебель вся будет готова в течение 5—10 дней, делается у меня в цехе. Я могу теперь уже с уверенностью сказать, что к 25.X приеду. Выеду тогда, когда все будет готово: и комната, и основная мебель — стол, стулья, кровать. До 12.Х питался в столовой хорошо. Хотя и дорого, но сытно. По карточкам: «особая рабочая» мне полагалось мяса 2200 гр., масла — 600 грамм, крупы — 1500 гр. и сахар — 500 гр. Кроме того, я получал карточку «за счет подсобного хозяйства», по которой мне еще полагалось: мяса 8600 гр., масла —1,5 кг. Все эти карточки сдавались в столовую и получалось хорошее питание. За день я платил (с хлебом — 600 гр.) от 12 до 18-ти рублей, в зависимости от того, какое мясо было. С 12.Х «подсобное хозяйство» отменили, осталась только основная карточка, по которой в столовой я и кормлюсь. Я купил на рынке за 25 рублей 1 кг мяса — баранину, сдал в столовую, и мне готовят из него дополнительные блюда. Одного кг мяса мне хватит на 4 дня, потом я куплю еще. Таким образом, день питания теперь мне обходится в 12–13 рублей. Иногда прикупаю 0,5литра молока, в основном я сыт, и, кажется, поправился даже. Если бы я имел свою комнату, то не питался бы в столовой, а варил-бы себе сам. Это было бы сытней и дешевле. Картошка здесь стоит сейчас 2р. за кг. Привезти домой не смогу, так как очень трудно сесть на поезд, имея груз. По дороге в Москву я заеду в Горький на 1–2 дня, чтоб: 1) повидаться с Володей и договориться с ним о дальнейшем; 2) получить подъемные, месячный оклад, в Управлении, на что требуется резолюция Володи, которую, я надеюсь, он даст. Работы у меня много, предприятие не маленькое — 450 ч. рабочих. За этот период я проделал ряд мероприятий, очень одобренных командованием. Кроме выполнения основной программы, у меня ведутся значительные строительные работы по расширению, так как с 1.XI я должен начать массовый выпуск стройдеталей: оконных переплетов, оконных и дверных коробок и полотен для 3000 2-х квартирных домов. Так что предстоит большая работа, надо ее осилить. Это — задание ЦК ВКП(б) и Совета Министров. Люди здесь довольно скучные, правда я ни у кого не бываю, кроме нескольких раз, что был у Нач. ОКС’а инженера Майзелиса — симпатичная семья. Часто, 2–3 раза в неделю, в клубе бывает кино звуковое, я хожу на каждую картину. Смотрел «Клятву», «Руслан и Людмилу», «В 6 часов вечера после войны», «Котовский», «Донбасс». В течение всего времени стояли плохие погоды: дожди, слякоть, холодно и сыро. Несколько раз выпадал и стаивал снег. С 1.XI должна установиться зима. С обмундированием будет обстоять не так хорошо, как я думал. Больше, чем на валенки расчитывать нельзя. Мне обязательно нужны будут: зимняя куртка (полупальто), суконные или ватные брюки. Телогрейка у меня есть дома, надо только будет пришить к ней воротник из такого же материала и хлястик широкий. Как обстоят дела у тебя, моя женушка? Тебе сейчас приходится трудно и с деньгами, и с продуктами. Дополнительные карточки, наверное, и в Москве отменили? Как ты сейчас обходишься? Все надо покупать на рынке? Как же вы питаетесь? Как твое здоровье, моя любимая? Спасибо тебе за внимание и заботу, что ты оказываешь мне. Я имею в виду генеральную уборку, которую вы произвели в ожидании моего приезда. Маронику я пишу отдельно. Конечно, я очень огорчен его неуспехами в школе. Но я думаю, что здесь подействовал мой приезд домой. Мальчик был расстроен, вышиблен из обычной колеи. Может это явилось причиной его рассеянности, невнимательности? Не надо его наказывать, тем более пороть. Бывает, что поделаешь? Как хочется мне к вам, моим родным, любимым! Сейчас уже не пиши мне писем, они не застанут меня. Бываешь ли ты у Паши? Почему нет от них писем, все ли у них хорошо? Ну, пока, моя дорогая! Крепко, крепко обнимаю тебя и горячо целую, твой Сема. Привет маме, Самуилу с Нюней, Люсе, Нюмику и Людмиле, всем родным.
Здравствуй, любимый мой сын! Как видишь, я задержался немного. Но я скоро приеду, не позже 25-го октября. Очень соскучился, конечно, по тебе и по мамочке. Мароник! Я очень огорчен твоей невнимательностью в учебе, результатом которой явились плохие отметки. Двойка по-английскому языку, четверки по остальным предметам — это позор для тебя. Ты можешь и обязан учиться отлично. Все зависит только от тебя самого, от твоего желания, внимательности, дисциплинированности и прилежания. Никаких оправданий тебе быть не может. И в музыке ты отстаешь только потому, что ленишься и невнимателен. До каких пор это будет продолжаться, что мамочка, у которой и без того много забот и дел, должна сидеть с тобой у пианино и следить за твоими занятиями? Неужели ты не можешь самостоятельно готовить уроки? Или только футбол у тебя в голове. Только шалости? Надо быть серьезнее, ты уже не маленький, должен понимать, что ты являешься единственным нашим сыном, нашей опорой и нашей надеждой. Ты — пионер, будущий гражданин великой страны Советов, должен учиться, учиться и учиться, чтоб быть достойным этого почетного звания. Я хочу, чтоб ты улучшил свои успехи в учебе к моему приезду. Ты должен мне обещать это. Передай привет своему товарищу Игорю и учительнице Эсфирь Марковне и Ольге Александровне (так кажется, зовут твою учительницу в школе?). Привет и поцелуй крепонько за меня нашу мамусю. Привет бабушкам твоим, дяде Самуилу и тете Нюне, Люсе, Нюме, тете Паше и тете Розе, Инге и Нине, всем родным. Крепко тебя целую твой папа Сема.
14. Х. 1946 г. Буреполом, 3/XII — 1946 г. Дорогая моя Лидука! Эти две недели, что прошли с твоего отъезда, были для меня напряженными и весьма тяжелыми. Прежде всего, о работе. В последние 2 недели пришлось выжимать месячный план по спецукупорке и пищевым тарам. В итоге, задание по спецукупорке было выполнено, а по остальным тарам на 140 %. Производительность труда рабочих за ноябрь достигла 115,5 %, получил экономию пиломатериала около 200 м3. Я работал, признаюсь, очень много, каждый день до поздней ночи. 30/XI прошло совещание партийно-хозяйственного актива, на которое приезжал из Горького Бармин и Нач. политотдела Сухин. Работа ДОЦ’а за ноябрь получила положительную оценку. На декабрь м-ц мне назначена программа в 1 миллион рублей. Надо будет крепко поработать, чтобы выполнить такой объем. Из-за этой злосчастной «мебели» я также имел неприятность и волнения. Сплетники, которым больше делать нечего, раздули кадило, разговор был даже на партсобрании и т. д. Только благодаря Перельману и Бармину прекратились, наконец, все эти интриги. Я имел с ними длинный разговор и сказал, что в таких условиях работать не буду, прошу освободить меня категорически. Бармин и Перельман всячески заверили меня в том, что мне будут созданыспокойные условия. Что же касается мебели, то я потребовал, чтобы ее переписали на инвентарь, а мне, чтоб вернули деньги, что и сделано. С питанием, по совести, я еще не устроился как следует. Частенько ухожу утром без завтрака, а на ужин тоже опаздываю. За последнее время я стараюсь аккуратно посещать столовую и три раза ем, не голоден, не беспокойся. Камни еще у меня, на днях я получу за них. Белье мне Шура постирала, я заплатил ей 15 рублей. Паня вчера дала мне 60 рубл. от какой-то Симы, сказала, что осталась тебе должна. У Майзельсов я был всего 3 раза, в воскресенье собрались у них с Ефимом, выпили и пообедали. Тебе привет большой от них. Ефим уезжает в Минск и будет в Москве. Если я выполню к 28/XII план, то уверен, что к Новому году приеду домой на пару дней. Очень тоскую по тебе, моя родная! Прости, что не писал, — был очень занят работой и очень расстроен. Теперь успокоился вполне. Как наш сын, здоровье и занятия? Неужели до сих пор не выправился по поведению и прилежанию? Я доволен новой учительницей Ниной Николаевнай, я и ожидал, что она будет лучше. Помнишь, я тебе говорил об этом? Почему Мароник мне ничего не написал? Сегодня получил бандероль, высылай еще. Очень крепко тебя обнимаю и целукаю, тебя и Марика, твой Сема. Привет маме и всем родным.
Буреполом, 25/XII — 46 г. Любимая моя Лидука! Поезда я прождал до 4-х часов ночи, сел буквально в последний момент, заплатил, конечно, штраф 92 руб., по дороге купил билет, но доехал хорошо. Приехал 23-го утром, в 6-м часу, добрался быстро на лошади домой, и сразу на работу. Эти два дня не писал, потому что дел куча, надо выжимать продукцию. За время моего отсутствия работали плохо, сейчас резко повысился выпуск и, я надеюсь, что к концу месяца выйду все же не с плохими результатами. Придется очень крепко работать, но вытянуть. В успехе я уверен, поэтому и буду жать.. Ликин! Больше всего меня беспокоит твое здоровье. Как ты себя чувствуешь сейчас? Прошли ли уже «гости», была ли ты у врача? Если еще не была, то пойди немедленно, нельзя этого запускать ни в коем случае. Очень прошу тебя, Лидука, быть серьезной в этом вопросе. Сейчас же напиши мне подробно, с большим волнением я жду твоего письма. Я забыл некоторые бумаги, отошли их мне в пакете. Лидик, женушка моя любимая! Не знаю, как будет с моей поездкой к Новому Году. Боюсь, что не удастся, так как конец года, и меня могут не отпустить. Я буду говорить с Начальником, попрошу отпустить на 4–5 дней, но разрешит ли он? Только не думай, что я мол, сам не хочу приехать домой к Новому Году. Это вовсе не так, ты должна сама понимать, как мне хочется быть с тобой и с Мариком в этот день. Я хотел бы поздравить тебя, мою жену и друга, с Новым Годом, пожелать нам быть вместе в предстоящем году, Ликин! Нам сейчас очень тяжело, надо это время перетерпеть. Ты можешь не сомневаться в том, что я приму все меры к тому, чтобы получить право на возвращение в Москву, домой. Это — цель моей жизни, я буду этого добиваться! Но, боже мой, не все зависит ведь от меня! Сейчас рано еще решать вопросы, — ты права. Но как я хочу жить с тобой, с сыном, в своей семье! И я устал, и ты устала, мы уж не молоды, а каждый день такой жизни подтачивает наши силы. Нужно, нужно, нам быть вместе, Лидука! А где выход? И когда и как он будет найден? Здесь, в Буреполоме все по-старому. Шуре я отдал несколько мандаринов и лимон, а также картинки для Леви-ка, — они очень благодарны, передают тебе привет. Если я не смогу приехать на Новый Год, то обязательно приеду в январе и привезу мясо и жиры. Если не приеду, — встречай Новый год весело, с бодрой уверенностью в лучшем будущем. Крепко, крепко целую тебя и сына, твой Сема.
Шерстки, 13.1.1947 г. Здравствуй, дорогая Лидука! Наконец-то я получил твое письмо от 2.1 I, оно долго шло, как, очевидно, и мои предыдущие письма к тебе, о которых ты пишешь, что вовсе не получала. Это письмо я передаю с товарищем, едущим в Горький, поэтому оно должно к тебе скорее попасть. Твои опасения насчет моего здоровья — неосновательны. Я здоров, чувствую себя, в основном, хорошо. Правда, только в последние дни немного прихворнул, простудился, очевидно, побаливает горло. Но это ничего. Беспокоиться по этому поводу не надо, — пройдет. Напрасно ты меня упрекаешь, подозреваешь наличие каких-то «убедительных причин» и т. д. Ничего такого нет, можешь быть совершенно спокойна. Работаю очень много, нервничаю, так как вся работа — в больших трудностях состоит. Задание мое по командировке я выполнил, отчитался и рассчитался — доплатил около 400 рублей. 4. II я перевел тебе 400 рублей, получила ли ты их? Все это время я занимался оформлением моего документа, и полностью оформил и получил его на 5 лет. Когда появится возможность (надеюсь, что это будет в ближайшее время), — приеду домой. Сейчас мне срочно нужны деньги — 1 ½ тысячи рублей. Прошу тебя сейчас же, не задерживая этого, взять эти деньги со сберкнижки и телеграфно перевести мне их, — это необходимо мне. Меня очень удручает положение с сынкой. С чего он так расшалился? Может быть не надо слишком строго его наказывать? Как его здоровье? Я думаю, Ликин, что мне удастся обязательно приехать 1–2 апреля. Я уже об зтом говорил. Через несколько дней здесь ожидается приезд Володи. Думаю договориться с ним о моей дальнейшей судьбе. Буду просить, чтоб меня отпустили сейчас же. Теперь я смогу устраиваться в Москве. Это — самое главное, что я уже сделал. А ты думала, что об этом не беспокоился? Глупенькая ты моя женушка! Скоро мы уж будем вместе, и ты сможешь хоть немного отдохнуть от забот и трудов. Крепко, крепко обнимаю и горячо целую тебя, твой Сема. Привет маме, всем родным.
Первый раз отец приехал в Москву тайно, не имея на то права. Ведь житуха «без ста городов» означала тягостное ограничение воли — и это после всего, что пришлось пережить. Он позвонил в парадную дверь, мама открыла с колотящимся сердцем, но — без лишних эмоций, по-тихому надо было прошмыгнуть по коридору как можно более незаметней. Уже в комнате он впервые увидел меня не грудным, а десятилетним мальчишкой. Отец. Я тебя хотел на руки поднять, поцеловать, но ты не дался. Уклонился!.. Я сразу понял, что ты дичишься меня. Мама. Сема заплакал, я заплакала вслед… Я. И бабушка моя тоже заплакала, глядя на эту встречу Одиссея и Пенелопы. Отец. Лика, я люблю тебя. Мама. Ну, пожалуйста, без этих слов. Я. Через час мы пошли с отцом в баню. В Сандуны, в люкс, высший разряд, за восемь рублей. Мама. Марик, не бойся. Это твой папа. Я. Эти мамины слова мне хорошо запомнились. И я их не раз потом повторял про себя: «Марик, не бойся. Это твой папа». Каково, а?.. Восьмирублевая баня волновала меня, — действительно у меня, наверное, был испуганный вид, — ведь до этого исторического дня я ходил в баню только с мамой и бабушкой!.. в женскую!., до десяти лет!.. А тут с человеком, которого назвать вслух «папой» было непросто, мне предстоял этот ошеломительный поход. Все было впервые и все было ин-те-ресно!.. Раньше меня водили совсем в другие разряды — за 20 и за 30 копеек. Причем под мышкой у моих женщин — бабушки и мамы — всегда был таз и завернутый в свое (!) полотенце этакий огромный коричневый кирпич — хозяйственное мыло, им мне и голову мыли, и тело, туалетного не помню. Скребли спину, затем отправляли под кипяток в душ, краны прокручивались и выдавали либо холодный, до ледяного, ливень, либо очень горячий, такой, что терпеть невозможно, — средней температуры не было. А потом начинался главный процесс — стирка. Захваченное из дома белье натиралось коричневым кирпичом в шайке, полоскалось, выжималось и складывалось аккуратно в таз — на все уходило не менее трех часов, ведь в это время входило стояние в очереди. Конечно, по всем законам правильного эротического воспитания десятилетнего подростка, пусть малорослого, как я, в зал, где на мокрых скамьях сидели десятки нагих представительниц прекрасного пола, пускать было абсолютно нельзя, но ведь я тут плескался, демонстрируя свои мальчиковые прелести, тоже не один. Были ребятки и постарше, покрупнее меня. Дети войны — вот как мы тогда назывались. А что это значило? Только лишь то, что зовется бескрайней безотцовщиной. У кого как — в этой семье отца убили на фронте, а в этой посадили. Так жило полстраны. И для ее оставшегося в живых населения банный день превращался в праздник — выходили счастливые, шли домой краснолицые, распаренные, кутали тщательно детишек, чтоб, не дай бог, не простудились по дороге. И вот Семен ведет меня в мужской высший разряд. Кто бывал в Сандунах (а кто там только позже не бывал?!), помнит и эту шикарную лестницу, и лепнину на стенах… Мы чинно разделись. Отец с удовольствием, медленно помог мне расстегнуть штанишки, и с этого мига я почувствовал необычайную новизну своей жизни — во-первых, я повзрослел, во-вторых, понял, что у меня есть отец. Он потер мне спину уже не так, как мама, — по-мужски, злой мочалкой, и я даже вскрикнул: — Папа! — Терпи, сынок! — улыбнулся отец, облил меня с головы до ног целой шайкой волшебной воды, и все преобразилось: мир стал лучше и веселее. Мы — подружились. …Самое невероятное произошло позже. Никто не настучал. В нашей коммуналке все жильцы тотчас пронюхали, что к Лиде «вернулся» ОТТУДА ее муж, которого она ждала, — и ничего не стоило кому-нибудь шепнуть домуправу или дворнику про визит незнакомого «гражданина», к тому же «еврея», к соседке и ее матери, живущим в двадцатиметровой комнате с ребенком (можно было бы при таком развитии событий на эту комнату позариться и потом отнять, — почему бы не?!), — и всё, пиши пропало. Но нет, никто не пикнул. А ведь в коммуналке нашей жили разненькие люди — например, сожитель Вальки, чья дверь в коридоре напротив нашей, ходил в уборную голый по пояс и в галифе. Мент!.. И как мент он, казалось, должен был бы первым доложить «куда следует». Не доложил. Это что значит?.. А то, что в коммуналке нашей, несмотря на всю гигантскую порчу населения в масштабах необъятной страны, была своя мораль, которая по своим, неофициальным понятиям, правила поведением людей, и люди эти, если хотели, оставались людьми. Отец переночевал и смотался, повидав жену и сына. Ушел живой и невредимый. Вроде чепуха, какие мелочи! — а на самом деле факт ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ исключительный. Героизма особого не содержит, но капля благородства тут, поверьте, имеет место быть. Бывало и другое, конечно, совсем: и в кастрюли плевали, и мат-перемат на кухне стоял, и до мордобоя доходило… Этот мент свою Вальку колошматил — стенки тряслись!.. Незабываемы также витиеватые кровавые следы на полу — это наша тихая, больная женским недугом старушка, звавшаяся Меланьей Давыдовной, шагала в длинной, до пят, фиолетовой старинной юбке по коридору от своей конуры до туалета. После ее проходов сразу ссоры — кому затирать?.. Дежурство по квартире несли по очереди, да ведь начинались крики: «Я не обязана!.. Сама наследила — пусть сама и моет!» Да где там она могла сама?! Вдруг как-то затихла, дня три не показывалась наружу. Пихнули ее дверь ногой, сорвали крючок — и что?.. — увидели то, что вроде и не ждали, когда ругались: померла. Нетути Меланьи Давыдовны уж сколько лет, а я ее хорошо помню. Когда она еще здоровая была, шипела, как змея: — Тебе, Лидка, еще три горя будет. Одно с мужем, другое с матерью твоей, а третье с жиденышем твоим этим. Ты еще наплачешься, помяни мое слово. Мама скрипела зубами, молчала, будто вся из железа. А Меланья Давыдовна свое: — Это тебе будет наказание. Спроси, за что?.. Молчишь? Ну молчи, молчи. Я сама тебе поведаю: за то, что ты к Богу не приткнулась и в партию не вступила. Значится, язычница. Не преклонила колени пред Ваалом аль преклонила?.. отвечай не мне — себе. А Ваал судьбы тебя и наказывает. И еще больше накажет… Нет, не будет тебе, Лидка, благодати… Мама в нерве — к бабушке, а бабушка моя была мудрая, успокаивала дочь: — Что ты слушаешь ее, ведьму?.. Не надо эту профессиональную ведьму слушать. Но «ведьма», когда здоровая была, действительно работала в этом образе, видимо, неплохо: к ней постоянно с улицы какие-то клиенты, с которыми наша бравая, когда здоровая была, старушка Меланья Давыдовна играла в карты, жгла свечи — и все было тихо-тихо, если б только потом не эти зловещие кровавые пятна на полу и соседские ссоры, пока она не померла. А еще были добрые, другие, по-настоящему добрые соседи — Тяпкины. Эти жили чистенько и аккуратненько, как только могут жить бедные интеллигентные люди. Не жалуясь ни на что и при этом видя адекватно все, что творится вокруг. Что-то, я бы сказал, чеховское было в их быте, неубиваемо русское, простое и искреннее. Иначе зачем бы им понадобилось помогать нам? Бывало множество раз — приходил я из школы домой, бабушке меня нечем кормить, ну, абсолютно нечем, так эти Тяпкины выйдут на кухню, видят: наша керосинка холодная, сами постучат: — Марик, иди к нам, отобедай, детка! Подкармливали меня!.. А могли бы и не подкармливать. Могли бы отвернуться и не заметить, начхать, голодный я или сытый… Помню я их гороховые супы, их пирожки с повидлом и даже огурчики, нарезанные тонко и лежащие на тарелочке этаким веером. И как такое запоминается? Да еще до сих пор в голове сидит где-то далеко, но всплывает сейчас с поразительной ясностью, лишь воспоминания о нищем, голодном детстве могут так всплывать и так волновать на старости лет.





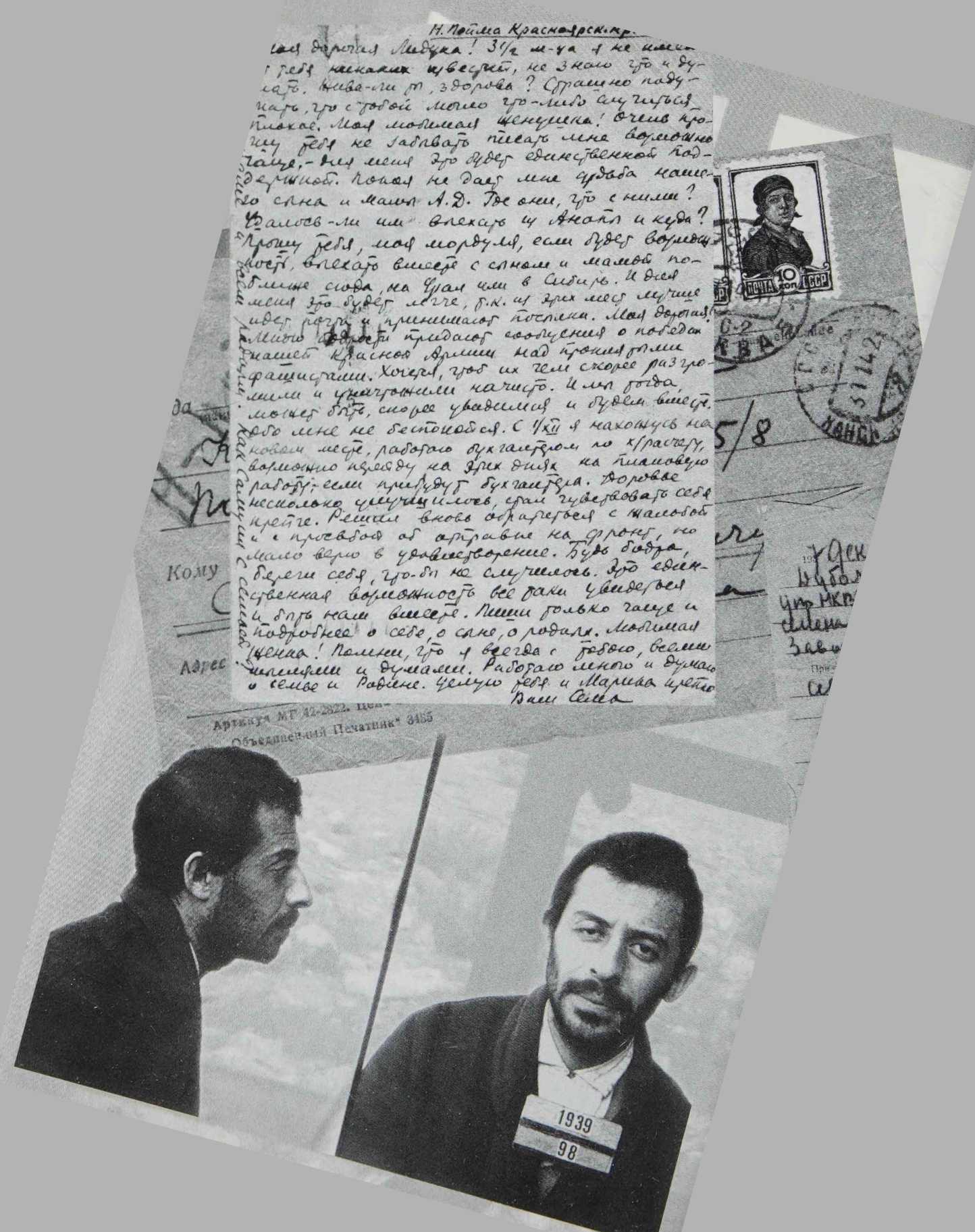







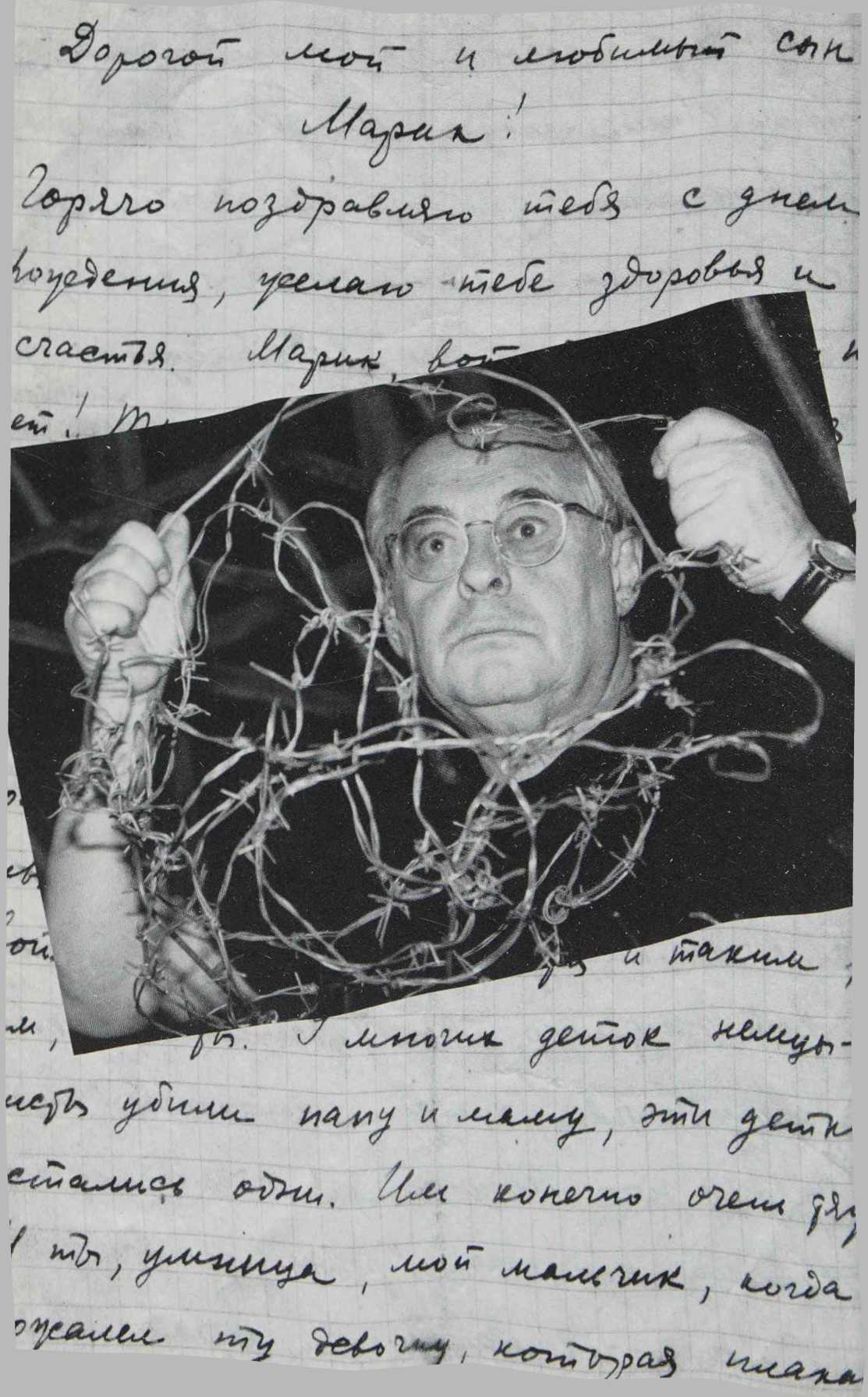
17.1.1947 г. Дорогая моя Л иду ка! Доехал я превосходно. Все же занял верхнюю полку, улегся и проспал до самого Ярославля. Здесь сразу же пересел в другой поезд, также занял вторую полку и проспал до Рыбинска. Сейчас уже на месте, приступил к выполнению своей задачи. Отсюда выеду 19-го утром, в Горький приеду оказывается, рано 20-го числа, а в Шерстки, значит, попаду 21-го. Чувствую себя хорошо. Как ты доехала домой с вокзала? Как здоровье? Любимая моя женушка! Спасибо тебе за прекрасные дни, проведенные мною с тобой. Целую тебя и сына, твой Сема. Привет маме, всем родным. Переборы, 18.1.1947 г. 5 час. веч. Любимая женушка! Дела все закончил. 15 6 ч.45 м. поездом отправляюсь в Рыбинск (это —14 км). На вокзале пробуду ночь, а в 9 ч. 25 м. утра поеду в Горький. Здесь стоит исключительно теплая погода, тает, ноги в валенках промочил насквозь, как ты и предсказывала. Хорошо еще, что в моем распоряжении была здесь лошадь, я все время разъезжал, а то было бы еще хуже. Ночевал в гостинице на дрянной постели. Лег поздно, так как освободился от дел в Управлении только в 2 ч. ночи. Но успел все сделать, все оформить. В самом городе не пришлось побывать, но прошел вчера через него. Город большой, но унылый… Как здоровье твое, самочувствие? Я уже скучаю по тебе и сыну. Будьте здоровы, дорогие мои! Горячо обнимаю и целую вас, ваш Сема. Привет маме, Самуилу, всем родным. Пиши.
Шерстки, 21.1.1947 г. Дорогая моя Лидуська! Вот я и приехал на место, сегодня утром. Доехал хорошо, останавливался вчера в Горьком. Здесь все по-старому, квартира в порядке. Последнюю эту декаду придется, наверное, много работать, чтоб наверстать упущенное. Как только будут у меня деньги, я вышлю тебе 400–500 рублей. Думаю, что это будет к 1-му числу, не позже. Я тебя очень прошу, моя любимая женушка, писать мне чаще, — уж очень тоскливо мне здесь одному. Завтра в клубе концерт, в котором буду петь. Ликин! Если случится купить материал на подкладку моего пальто, то купи, потому что она совсем изорвалась. Получила ли ты мои открытки с дороги? Как ты доехала домой с вокзала? Как здоровье и работа? Как успехи Мароника? Привет маме. Крепонько целую. Твой Сема.
1.11.1947 г. Дорогая Лидука! Вот видишь, каку нас получается? До сих пор от тебя нет ни одной весточки. Я уж послал тебе несчетное количество писем, а ты молчишь… Почему? На каждое мое письмо, или открытку, ты ведь должна отвечать. Мы с тобой так и договаривались, но ты, почему-то, не выполняешь. Я очень беспокоюсь, в чем дело? В ближайшие дни вышлю тебе 400рубл. Как только получишь, сообщи. У меня все по-старому. Работаю много, думаю, что февраль пройдет успешно, много проделано для этого подготовительных работ. Сейчас у нас крепкие морозы. Как вы живете, любимые мои? Как здоровье? Скажи Маронику, чтобы написал мне письмо. Целую тебя и сына крепко, крепко, твой Сема. Привет маме, Самуилу, родным. Мамина косынка попала в чемодан и я ее завез. Будет в целости. Когда приеду — привезу.
Шерстки, 21.11.1947 г. Дорогая моя Лыка! Пользуюсь случаем, что возвращается в Москву Василий Васильевич Иванов, и передаю с ним письмо и живой привет. Он, примерно, расскажет про мое житье-бытье, про работу, про питание. Твое письмо с открыткой Марика от 9.11я получил. Очень удивлен тому, что мои письма так плохо доходят до тебя. Поступил ли мой перевод от 4.IIна 400рублей? Ликин! Я уже писал тебе, что мне необходимы 1 7/ тысячи руб., и я просил тебя взять их со сберкнижки и срочно, по телеграфу, выслать их мне, — я должен рассчитаться. Писал ли я тебе о том, что к 1-му апреля я собираюсь обязательно приехать домой? Я уж имею договоренность, что меня пустят. В тот момент, когда я пишу эти строки, принесли мне твое письмо от 17.11, — очень обрадовался ему. Но зачем ты упрекаешь меня в том, что я сообщаю тебе о каких-то «не существующих письмах»? Право же, я писал тебе и сейчас ты их уже, наверное, получила. Конечно, я ни на минуту не забываю о конечной цели — переезде домой. И я уже многое сделал для этого… Мы ожидали здесь к 20. II приезда Володи, но он отложен до конца февраля. С его приездом полагаю, будет окончательно решен этот вопрос. Я вступил в профсоюз, получил членский билет. Обменял паспорт на 5-ти летний. Лидуська! Очень рад успехами Мароника в музыке. Передай мою сердечную благодарность Нине Николаевне за ее труды. А как он успевает в школе, улучшилось ли его поведение? Ликин! Мне очень тяжело одному, часто меня одолевает такая тоска, что не знаю куда деваться. А, главное, и это самое плохое, я зачастую теряю уверенность в будущем своем, в том, что удастся устроиться по-человечески, дома, в семье. С формальной стороны, как будто все уже в порядке… Достаточно ли этого? Я стал каким-то нерешительным в отношении самого себя. Признаюсь тебе в этом, хотя это и не совсем приятно мне.Вот и открытие — отец мечется, рыпается туда-сюда: где бы достать работу, укорениться в каком-нибудь городе на воле, вытянуть к себе семью, но нет, не удается ему это. Тут Кафка: мир враждебен к тебе, а ты тянешься к нему, просишь: «Прими! Прими!», а он отталкивает тебя, постоянно напоминая: «Ты — изгой, нет тебе места на этой земле, в этом пространстве». Человек спрашивает: а в чем я провинился? почему не могу жить, как все? Ответа нет. И работы — нет. И семьи. Ничего нет. Живи одиноким волком. Остается цель: переждать жизнь — и дело с концом. Странное на первый взгляд бытие, но — реальность. Казалось бы, кончились твои несчастья, ан нет, и на обретенной воле тебе не будет пощады, а будут унижение и новая жизнь «у параши». Уже вроде бы бесконвойный, но в паспорте отметка — враг. Клеймо троцкиста — тут и говорить не о чем. Дайте жить и дайте работать — фига тебе, и ни работы, ни жизни. А в безвыходности — смысл тупика. Ну что ты будешь делать!.. Спасет охота к перемене мест — научись кивать да кланяться, жди ответа, как соловей лета, благодари всех подряд и помалкивай. Надо всюду, где только можно, тыркаться. Может, где-то в щелочку можно проникнуть, за какой-то порожек зацепиться… Вдруг удача?.. Вдруг прорежется полоска света в темном царстве? Используются связи: посоветуйте, порекомендуйте, устройте… Я не подведу, я оправдаю… Только помогите! И отцу помогали. Фамилии, упоминаемые в письмах, дороги мне, хотя и позабыты, как и все то времечко, претендующее зваться эпохой. Люди, завязшие в комковатое тесто послевоенного быта, уставшие от непрекращающейся арестной вакханалии, перемешались на перекрестных жизненных путях — палачи, жертвы, те, кто на воле, и те, кто на эту волю вышел… Отморозки и подмороженные — на общем холоде. В чем открытие для меня?.. После многочисленных отказов получить работу там и сям отец оказывается в Буреполоме Горьковской области — в лагере, на деревообделочном заводе, но уже на вольных хлебах. Красиво, эффектно звучит — Буреполом. Да только и здесь колючка, бараки, режим, ватники… Недорасстрелянные и недопы-танные людские тени. Это от полнейшей невозможности найти что-то другое. Бывший зэк вкалывает с настоящими зэками. Не думаю, что он в непривычном звании «начальника» помыкает ими. Но «устроившись» на этом сомнительном для себя месте, он, безусловно, тяготится своим положением, страдает оттого, что тюрьма не отпускает, не дает реального способа жить без нее. Хочется без нее, проклятой, а никак… И видится в том еще одна угнетающая способность системы — никогда не разжимать щупальца свои, держать КАЖДОГО, повязав с собой даже вроде бы освободившегося, вроде бы могущего осуществить выбор. Нет, не получается. Нет выбора. Ибо наколото недаром татуированным клеймом: «Век свободы не видать». И все же отец нашел в себе силы пойти в отрыв. Буреполом символично носил временный характер, — из тюрьмы, коли вышел, делай ноги поскорей, не задерживайся. Он и не задержался. Да вот от тюрьмы да сумы разве надолго убежишь? Вскоре ЕГО задержали. Опять вопрос: за что?.. И всевечный ответ: а ни за что. Так, безо всякой на то причины. На всё и для всех первопричина была одна — эта сучья сталинщина. А пока… Время стоит недвижимо. Трагедия чуток притихла и в суете сует тонет несчастный человек.
Ликин! Не обижайся на то, что я прошу выслать мне денег. Но это выяснилось дней 10 назад и мне обязательно они нужны. Только бери эти деньги именно со сберкнижки, а не из зарплаты своей. У меня в комнате тепло, топят девушки хорошо, даже слишком душно бывает. Морозы здесь стоят очень крепкие, — весь февраль. С питанием и здесь ухудшилось, все подорожало и, чтоб быть не голодным надо тратить в столовой 25–30 рубл. в день. Я думаю, Лидуська, что тебе лучше перейти работать к Ткачу. Именно теперь надо это сделать, не откладывая. Никаких преимуществ эта работа уже не дает тебе и нечего за нее держаться. Как та комната, что ездила с Розой смотреть? Удастся ли обменять? Плохо у меня со стиркой белья — нет мыла и очень дорого стоит сама стирка. Одел последнюю пару чистого белья, но скоро получка и надо будет отдать в стирку. Конечно, я с собой привезу продукты, когда поеду домой, об этом не беспокойся. Пиши мне чаще, Ликин! Каждое письмо твое радует меня несказанно. И пусть Мароник тоже пишет мне. Крепко, крепко обнимаю и целую тебя и сына, твой Сема. Привет маме, Самуилу, всем нашим родным.
3/IV- 1947 Г. Дорогая Лика! Горячо поздравляю тебя с твоим и Марика днем рождения. Желаю вам много, много счастья и радости, долгих лет хорошей жизни. С моим выездом получилось так: еще 10/Ш я подал заявление т. Перельману. Он наложил резолюцию, разрешающую мне выезд в Москву на 10 дней с 1/IV. Но за это время приехал новый Нач. Лагеря Егоров. Он тоже обещал пустить меня. 27/ III он поехал в Горький, сказав, что вернется 31/111 и пустит меня с 1/IV. Вернулся он только сегодня вечером, но, как я ни говорил с ним, он ни под каким видом, не разрешает мне сейчас выезда. Обещал, при т. Перельмане, пустить меня к 1/V. Вот почему я не смог приехать и даже предупредить тебя заранее об этом. До последнего дня, даже до сегодняшнего я все еще надеялся, что поеду и буду в Москве хотя бы к 5/IV, к дню твоего рождения. Купил я 5 кг. очень хорошей свинины, по 65 рубл., а теперь придется сало перетопить, а мясо съесть, так как испортится. Здесь уже настали совсем теплые дни, снег бурно тает, и в сарайчике мясо уже держать нельзя. Здесь был Майор т. Бармин, и я с ним говорил о том, чтобы он вовсе отпустил меня. Он обещал это сделать к 20/IV, сказал, что постарается к этому времени подобрать работника вместо меня. Я думаю, к 20/IV съездить на 7 день в Горький и окончательно оформить свое увольнение. Если Бармин не выполнит своего слова, то, надеюсь, что с помощью В. я буду освобожден от работы. Я тебе долго не писал, Лидука, заставил тебя беспокоиться, да и сам был не спокоен. Все думаю о будущем, о перспективах дальнейшей моей и нашей жизни. Вот я уволюсь с этой работы. Формально, как-будто, смогу приехать в Москву, устраиваться в Москве. Но я никак не могу отделаться от чувства боязни, опасения. В Москве я, очевидно, не смогу, так как слишком малое время прошло еще со дня моего выезда из Канска. Это будет постоянное волнение, я никогда не буду спокоен. Значит, опять надо устраиваться где-то, вдали от семьи, возможно в Горьком. А как же ты с Мариком? Мне здесь очень тяжело одному. Работы очень много, нервной, напряженной работы. Бытовые условия стали совсем плохи. Карточки я сдаю в столовую, их хватает только на один обед. А ужин и завтрак я покупаю по коммерческим ценам. Чтоб чуть-чуть быть сытым я трачу в день 30 рублей. С 25/III я не имел ни копейки денег и еле дотянул до 2/IV — дня получки. Ем не вовремя, часто остаюсь без питания, когда опаздываю в столовую, задерживаюсь на работе. Да, помимо всего прочего, одному, вообще, тошно, так тоскливо, Лидука… Я ни с кем не встречаюсь, прихожу домой, все один да один. Изорвал костюм военный, надо было заштопать, хорошо здесь одна девушка, Лиля Шарабанова, я с ней подружился, один раз починила мне костюм, подкладку на пальто, сейчас вот еще надо, а неудобно ее просить об этом. Надо принимать какие-то решения нам с тобою. Меня мучает совесть, что не могу жить с вами, с тобой, воспитывать и обеспечивать сына. Формально числюсь мужем и отцом, только связываю тебя по рукам и ногам, а толку что от меня? Из Москвы ты не хочешь выезжать, в глушь забираться. Марика нельзя отрывать от учебы по музыке. Чувствую, что ты не хочешь даже отпустить его на лето ко мне, писала уже, что и Нина Николаевна советует устраиваться на подмосковной даче, чтоб не прерывать музыки. А мне как быть? Как быть нам с тобой? Опять врозь? Если бы это продолжалось ½ года — год, а то ведь, бог знает, когда я смогу переехать в Москву? Я буду вечной обузой для тебя, для сына, для всей семьи. Я так больше не могу, мысль об этом, такое состояние вечно гнетет меня, доводит до отчаяния. Мне кажется, что тебе с сыном лучше будет без меня, если я освобожу тебя от себя! Может быть, ты сумеешь устроить счастливую жизнь для себя с сыном. Надо решать, Лика, надо решать. Или мы должны быть вместе, ты должна быть со мною, там, где буду я, или… надо расходиться, дать тебе возможность устраивать жизнь свою и сына. Мою больную психику уже не переломишь, не излечишь. Я не могу больше быть один, у меня не хватит на это сил. И тебе тяжело, я знаю. Было бы хорошо, если бы ты сумела приехать ко мне хотя бы на несколько дней. Здесь все обсудим и решим окончательно. Возьми отпуск на несколько дней и приезжай. Я буду тебя ждать с нетерпением. Я здоров, правда — проболел несколько дней на ногах гриппом, похудел немного. Ну, да это ничего… Не обижайся на меня, Лидука, прости меня! Целую тебя крепко и сына нашего. Твой Сема. Привет маме и всем родным. Если к тебе зайдет т. Перельман, попроси Володю помочь ему с билетом. Еще раз целую, твой Сема. 1 ½ тысячи я получил и израсходовал на то, что писал уже тебе раньше.
9/VI — 47 Г. Сегодня день твоего рождения. В течение многих лет мы отмечали этот день в своей семье, как день желаний и надежд на хорошее будущее. Теперь тоже хочу тебя поздравить и пожелать здоровья и счастья в жизни. Твое молчание в течение целого месяца после отъезда — я расцениваю, как окончательный разрыв со мной. Говорить о чувстве или каком либо внимании ко мне, как к близкой и дорогой — не приходится. Ты это уже давно утратил. Я не хочу тебя упрекать в том, что ты не интересуешься ни здоровьем, ни успехами в учебе сына, ни его летним отдыхом и проч. Долг вежливости также не напомнил тебе поинтересоваться здоровьем моей матери, которая при тебе так тяжело была больна. Поэтому и требовать элементарного внимания к семье — нельзя. Ясно. Мы тебе — чужие. Мои стремления к созданию нашей семьи в течение всех этих лет — не встретили требуемой поддержки. Некоторое сглаживание обиды, нанесенной тобой, незаслуженные оскорбления не получили должной твоей оценки. Все это только от того, что ты стал другим, а может быть, ты и не был таким, каким я тебя всегда представляла. Я тоже не та. Пишу тебе теперь, не желая получить ответа. Говорить больше не о чем. Единственное, в чем я хочу тебя заверить, это то, что пока я жива — Марик будет окружен повседневной заботой и любовью матери. От тебя требую оформления развода и возможность материального обязательства перед сыном.
Буреполом, 4/VIII — 1947 г. Здравствуй, дорогая Лика! Прошел уже опять почти месяц, как я уехал из Москвы, а вот только сейчас собрался написать тебе. Вернее, собирался я уже много раз, начинал, но… не мог писать… Не потому, что не хотел. Наоборот, каждый день я мучаюсь тем, что нужно и должен написать тебе, а духу не хватает. Я так провинился перед тобой и перед Мариком!.. Не может быть мне прощенья, но я прошу его у тебя: прости, прости меня, дорогая Лидука! Ради всего нашего прошлого, — вспомни, ведь мы с тобой жили дружно и хорошо, так любили друг друга и, несмотря на все постигшие несчастья, так надеялись на хорошее будущее и не оставляли друг друга. Я много тебе наговорил неправильного, неверного, обидного. А еще больше натворил нехорошего. Мне больно говорить об этом. Все кончено с тем, что здесь случилось у меня. Прости, Лидука, прости меня! Я тебе нанес большую рану, огромную боль, но всей своей последующей жизнью я постараюсь исправить, я буду лелеять тебя, мою единственно любимую, мою дорогую! В том, что ты позвала меня в день моего отъезда, в том как ты со мной говорила, в том, что ты передала со мной деньги для мамы, что разрешила, наконец, поцеловать твою руку на прошенье, и, уйдя от меня, несколько раз обернулась и посмотрела на меня, — во всем этом я увидел для себя луч надежды, надежды на прощение, на возможность восстановления нашей семьи. И сейчас, как все эти дни и ночи, твой образ не уходит от меня. Я люблю тебя, Лика, люблю еще крепче, чем прежде! Больше, чем когда-либо, я оценил тебя, мою Лидуську, все твое благородство, твою чистоту, все величие твоей чистой, прямолинейной, неподкупной натуры. Нет, Ликин, пусть я совершил непростительную ошибку, гнусную и подлую ошибку, но ты должна простить меня… Я себе не представляю, чтоб мы, Сема и Лида, смогли разойтись, стать чужими друг другу, оставить нашего сына без отца… Это такой ужас, такой кошмар! Нет, это абсолютно невозможно, моя Лидука, моя маленькая женушка, любимая моя, единственная! Мы столько перенесли с тобой, мы заслужили хорошей, счастливой жизни. А я испортил, испакостил все, наплевал в твою и в свою душу… Но ты прости, прости меня, Лика! Ты должна найти в себе силы, чтобы простить меня. Я верю в тебя, Лидука, ты сумеешь все преодолеть, превозмочь и… простить! Все то, что произошло у меня, нужно забыть, вычеркнуть из памяти, выжечь, чтоб больше никогда не вспоминать. Ты всегда требуешь от меня, чтоб я забыл, не вспоминал о пережитом мною. Я же прошу тебя забыть, не вспоминать о случившемся… Так нужно для всей нашей жизни, для нашего сына! Мы с тобой провели вместе всю нашу молодость, наши лучшие годы, мы посвящали друг другу самые тяжелые годы, и любовь наша, привязанность и верность нашей любви и дружбы поддерживали нас в самых трудных испытаниях. Но не для того же мы преодолели все, чтобы, встретившись живыми, уцелевшими, разойтись!.. Как все это абсурдно и бессмысленно получилось, Лидука! Я знаю, что тебе, моя любимая, очень больно и тяжело, но я не могу удержаться от того, чтоб не сказать, что мне трудно жить, очень трудно и некому сказать об этом. Вот я пишу тебе, мне с каждым словом легче становится, камень отваливается от сердца, ноя чувствую такую неуверенность в том, что ты станешь все это читать, что ты захочешь меня слушать, отвечать мне… Боже, боже, что я наделал, глупый, больной человек! Лидуська, милая, любимая! Если б я смог открыть тебе мою душу, разрезать и подать тебе свое сердце, если б ты смогла прощупать мои мысли, осязать руками веемой переживания, — ты бы увидела и узнала настоящего твоего Семку, искреннего и честного. Я поступил подло, Лидука, но я не подлец! Я сделал нечестно, но я все же остался честным человеком, Лика! Я мучаюсь страшно всем содеянным, — прости меня, Лика! Не наказывай меня слишком сурово, смягчи свое сердце, не гони меня от себя и от сына! Как никогда, я почувствовал и понял, как вы нужны мне оба, как я истосковался по вас, моим родным, любимым!.. Я был у Марика, какой замечательный у нас сын, Лиду-ся! Я много говорил с ним, он многое рассказал мне, он так любит тебя, Ликин! Мы должны воспитывать его вместе с тобою, Лика! И мама меня так хорошо, тепло встретила. Я виноват и перед ней, нашей матерью! Мы с тобой уже взрослые, большие люди, поймем друг друга! Я надеюсь в скором времени выбраться отсюда. Я уже написал все, что нужно, ожидаю возвращения В. из отпуска. До ноября все же придется, очевидно, здесь доработать, так как нужно выполнить годовой план к Празднику. Я очень много работаю, с утра, с 7-ми часов, до поздней ночи. План июня я выполнил на 103,7 %, а июля — на 104,2 %. Весь отдаюсь работе. Как твои дела? На какой ты работе? Когда возьмешь отпуск? Я получу отпуск, если раньше не освобожусь отсюда, с 10/XI. Если ты сочтешь возможным, то и ты подожди до этого времени. Очень прошу тебя ответить. Целую. Т. Сема.
Отец. Когда я узнал, что Марик бросил Гнесинку, сердце мое шелохнулось: может, Лида перерешила не жить со мной и мы воссоединимся. Мама. Сема, ты меня удивляешь — сколько женщин у тебя к этому времени было?.. Посчитай! Отец. Опять ты за свое! Я. Прекратите. Мама, а почему я бросил Гнесинку? Мама. Нечем было платить педагогам. Я. А им надо было платить? Мама. Надо, да. И делать подарки. А кто не делал, тех детей иначе учили. В музыке это недопустимо. Зачем тогда эта музыка?.. Отец. Раньше надо было думать. Мама. О чем? Отец. Потянете или не потянете. Мама. Во как!.. Я на эту школу ишачила, мама моя ишачила — и на тебе!.. «Не потянули»! Да! Учеба в музыкальной школе требовала… Педагоги привыкли, чтобы им… Отец (перебивает). Один я не требовал!.. Я не ишачил! Да придумали эту Гнесинку вы, придумали, чтобы не переезжать ко мне из Москвы!.. Не надо мухлевать! Гнесинка — отговорка. Когда Лида почувствовала, что у нас с ней — всё, расплевались, она тут же отказалась учить сына музыке. Это подло! Мама. Какой же ты демагог, Сема! Я. Мама! Папа! Прекратите! Отец. Дай я договорю! Я. Не дам. (Делаю знак рукой, отец пропадает со сцены.) Мама (с горечью). Он не прав, не прав, не прав… Ты мне веришь?.. Пауза. Я. Я не знаю… Кому из вас верить? Вот это и есть самое страшное. Осуждать родителей — как это легко и как свойственно поверхностно мыслящим детям. Но тут другое: сбитая с дороги любовь уронила человека, одно несчастье породило следующее, затем еще, еще… Рассыпавшиеся черепки уже никогда не будут вазой, семья окончательно разрушилась, а чувство не омертвело, живучее, непреходящее, мучительное… Конец семьи, но не конец любви. Да только разве можно найти тут виноватых?. Кто из них более грешен и в чем?.. Тем, что хотел ДЛЯ СЕБЯ — взаимного счастья, да не сумел его достичь в житейских бурях, вызванных историческими катаклизмами?! Родители, почему вы разошлись и почему не сошлись? — мой к вам вопрос. Ответом — бездонное молчание. Ибо спрятаны в землю их жизни, попранные судьбой и раскроенные апокалипсисом 20-го века. Гнесинка мне все же аукнулась. Пианино, стоявшее в нашем полуподвале, было продано, нотную грамоту я забыл начисто, будто не играл никогда этюды Черни, сонатины Скарлатти и пьески из «Детского альбома» Чайковского… Но со мной остался мой абсолютный слух и желание петь, подобное отцовскому. Так, я напел, спустя много лет, мелодии к нескольким своим спектаклям и тем самым неожиданно для себя сделался «композитором» «Бедной Лизы», «Истории лошади», «Гамбринуса», «Романсов с Обломовым», «Поющего Ми-хоэлса» и других театральных опусов. Невероятно, но факт: моя музыка звучала на Бродвее в спектакле Strider по толстовскому «Холстомеру», — я, правда, ее не слышал, поскольку первые пятьдесят лет жизни был «невыездной». Опять на пути человека та же система, те же унижения и оскорбления. Всё — то же. И хотя не было уже в «совке» того утопления в крови, что во времена Большого террора, но его злая инерция еще долго травила людские жизни, в том числе мою. Однако музыка — звучала.
Буреполом, 4. VIII. 1947 г. Дорогой мой сынуля, здравствуй! Опять ты будешь ругать меня за то, что я долго не писал? Но не будем ссориться и спорить. Я очень занят на работе: встаю ежедневно в 6 часов утра, к 2-м ухожу, заканчиваю работу уже поздно ночью, в двенадцать час. ночи, а иногда и позже. Работа у меня идет хорошо. Июньский план мы выполнили на 103, 7 %, а в июле — на 104,2 %, значительно перевыполнили правительственные задания, что имеем: одно сделали на 116,6 %, а другое — на 142,8 %). План второго года послевоенной сталинской пятилетки мы должны обязательно выполнить досрочно — к празднику 7-го Ноября. На протяжении июля м-ца у нас здесь стояли плохие погоды. Часто шли дожди, холодный ветер задувал все время, — настоящая осень… Но зато теперь опять установились хорошие дни, теплые, солнечные, ясные. Какие погоды у вас, в Москве? Как часто приезжает мамочка к тебе, в Малаховку? Как ее здоровье, работа? Хорошо ли ты поправляешься, отдыхаешь? Как идут занятия с Ниной Николаевной и что ты сейчас играешь? Как проводишь день; что читаешь? Как здоровье бабушки? Слушаешься ли ты ее? Август — последний месяц твоего летнего отдыха, надо покрепче отдохнуть, чтобы с новыми, бодрыми силами приняться за учебу. Как только созреет картофель, я пришлю вам два-три ящика. Бурки тебе и мамуле льются сейчас в мастерской, и валеночки для тебя будут хорошие. Я собираюсь приехать в Москву в начале октября м-ца, после того, как выполню план III-го квартала. Очень соскучился по тебе и мамочке, хотел бы. вас видеть, моих дорогих и любимых. Мароник! Прошу тебя слушаться во всем мамочку и бабушку. От этого целиком зависит их здоровье. Ты достаточно умный и способный мальчик для того, чтоб своим отличным поведением и успехами в учебе приносить только радость нам всем. Нужно помнить об этом всегда и стараться делать только хорошее. Я виноват в том, что долго не писал вам. Сейчас я посыпаю письма и тебе и мамуле. Хотелось бы мне быть с вами! Пока-что нельзя… Обещаю писать вам часто, как можно чаще. Прошу тебя побыстрее ответить мне. С нетерпением буду ожидать твоего и мамочкиного письма. Передай ей мой горячий привет, попроси ее за меня, чтоб она меня простила. Привет передай бабушке. Крепко-крепко целую тебя, моего любимого сына, обнимаю вас, моих родных, твой ПАПА.
Разрыв
Я. Они встретились в Александровском саду. У Ракушки — место свидания влюбленных, во все времена, включая тоталитарные. Мама. Сядем здесь. Садятся на лавочку. Я. Ну и место выбрали!.. Под стеной Кремля. Отец. Здесь красиво (озирается). Никто нам не помешает. Я. Меня при этом разговоре нет. (Скрываюсь за Ракушкой Выглядываю.) Но я все слышу. Как бы. (Скрываюсь полностью.) Мама. Ну. (Пауза.) Что ты хотел мне сказать? Отец. Я хотел… хотел тебе сказать, что по-прежнему люблю тебя. Мама. Не верю я. Отец. Ликин!.. Мама. Что «Ликин-Ликин»?!. Ты изменил мне. Предал меня и Марика. Отец. Перестань. Были такие обстоятельства… Мама. Да не хочу я слышать ни о каких обстоятельствах. Ты поступил грязно. После всего. Ты как последний подонок… Отец. Перестань меня оскорблять. Мама. Я называю вещи своими именами. Отец. Я не вещь. Мама. И я не вещь. У меня есть гордость. Ты, наверное, забыл, что этотакое. Да ты вообще все забыл. Ты… ты… Отец. Ничего я не забыл. Мама. Докажи. Отец. Что доказать?.. Что все эти годы я любил тебя и только тебя?.. И сейчас люблю. Мама. Это слова. А на деле ты не можешь это доказать. Всю жизнь я от тебя слышу только одни слова, слова, слова… Правильно мама моя говорит: что ты его слушаешь, он же сплошное ля-ля-бу-бу. У него язык подвешен, он же из-за своего языка на Камчатке погорел — молчал бы в тряпочку, и вы бы жили всю жизнь спокойно. Отец. Вот я сейчас и буду молчать. Обещаю молчать… в эту… тряпочку. А Александре Даниловне передай… Мама. Да ничего я ей не буду передавать. Отец. Что я ее уважаю. Что я бесконечно благодарен ей за то, что она сделала для Марика… За то, что… Мама. Это мы уже слышали. Отец. Ликин, послушай… Мама. Да ничего я не хочу слушать. Отец. Зачем же ты пришла на этот разговор? Мама. Вот и я думаю, зачем. Отец. Я так понимаю, мы хотим выяснить наши отношения. Мама. А чего их выяснять?., ты бросил нас. Меня и Марика. Ну, посмотри мне в глаза, Сема, и признай, что ты нас бросил. Отец. Признаю. Мама. Воо-ооот! Отец. Тебе от этого легче? Мама. Да какой «легче»?! Я места себе не нахожу. Я ждала тебя 10 лет, Сема. Я надеялась, что ты вернешься, и мы… ты, я и Марик… Отец (угодливо). И Александра Даниловна! Мама. Да. И моя мама. Мы — будем вместе. Отец. Что этому мешает? Мама. Как что?.. У тебя эта девка. У тебя семья. Другая семья. Отец. Нет у меня никакой другой семьи. Мама. Что же у тебя? Отец. Это так. Мама. Как? Отец. Очень просто. Так сложились обстоятельства. Я был один. Но я не мог быть один. Мама. Почему не мог?.. Я же могла. Отец. Ты другое дело. Ты забываешь, что ты была здесь, а я там. А там — это не здесь. Мама. Да, конечно, тебе было страшно тяжело, я представляю. Но и у меня тут не сахар. На моих руках наш с тобой сын и раненая мать… с открытой раной на ноге… Это ты забываешь. Отец. Дай сказать. Мама. Марик поступил в Гнесинскую школу, бабушка на хромой ноге по три раза в неделю водит его пешком на Собачью площадку, он там занимается с лучшими преподавателями, ты знаешь, например, что ему сказала Елена Фабиановна? Отец. Какая Елена Фабиановна? Мама. Елена Фабиановна Гнесина. Отец. Сама Гнесина? Мама. Она сказала Марику: «Покажи, детка, лапку». Он показал. Она тогда сказала: «Лапка хорошая. Без перепонок. Пальцы длинные. На сольфеджио». Отец. Это что значит? Мама. А то, что его направили на проверку слуха. Не всех детей туда направляли. Он там, на сольфеджио, пел. Отец. Что он пел? Мама (не без ехидства). Не «Песню о Сталине»!.. Он пел «Раскинулось море широко». Его поставили на табурет в огромном таком зале, в доме… старинном таком… на Собачьей площадке… и тут выяснилось, что у твоего сына абсолютный слух. Что он весь в тебя. И его взяли тут же в класс фортепьяно. И он там учится. Бабушка водит. Без перепонок — значит, хорошая растяжка. Он будет пианистом. Пауза. Отец. Вот что. Ликин, послушай меня теперь. Не перебивай. Я без ста городов. Ты понимаешь, что это такое? Мама. Нет, не понимаю. Отец. Мне запрещено жить в Москве, Ленинграде, Киеве и в других девяносто семи городах по списку. Иначе — снова захомутают и опять будут кранты по полной. Единственный выход сохранить нашу семью — вам приехать ко мне… Мама. Куда? Отец. Станция Решеты, Тульская область. Лесопильный завод. Я там работаю в плановом отделе. Мама. Опять в плановом?.. Ты всегда в плановом. Отец. Ты меня слышала?.. Ликин, это единственный вариант Другого у нас нет. Пауза. Мама. То есть., ты предлагаешь… бросить Москву… комнату… Отец. В Решетах у нас будет тоже коммуналка, но не в подвале, как в Москве… Жилищные условия — нормальные: печка, колодец, уборная, правда, во дворе, но — привыкнете. Мама. Ты хочешь, чтобы я вот так поднялась с больной мамой и Мариком и переехала к тебе… в эту глушь… ты это предлагаешь? Отец. Да. Я это предлагаю. Мама. Это невозможно. Отец. Но почему? Мама. Я же тебе, кажется, все объяснила. У Марика Гнесинка. Отец. Да! Да! Да! У Марика длинные пальцы. У него перепонки! У Александры Даниловны — больная нога! У тебя к моим родителям свои счеты!.. Лида, ты соображаешь, что ты говоришь?! Что на весах?.. Я вернулся оттуда, откуда не возвращаются! Все эти годы я жил одной мечтой — быть с вами и только с вами!.. И вот, когда это может стать реальностью… Мама. Ты изменяешь мне… ты втаптываешь в грязь все то, что между нами было. Отец. Прости меня, если можешь. Мама (после паузы, в слезах). Не могу. Отец. Тогда по-другому… Скажи, ты все еще любишь меня? Пауза. Мама. Да. Отец. Тогда почему невозможно то, что я предложил? Мама (в слезах). Не знаю. Невозможно, потому что невозможно. Отец (тихо). Будь я проклят, но ты не права. Мама. Не надо было изменять мне. Отец. Опять ты о том же. Я же сказал: прости. В жизни бывает все, Ликин. Мама. Не могу простить. Отец. Еще раз подумай, что ты говоришь. Мама. Ты же меня знаешь. Если я говорю, значит, я подумала. Отец. И что будет? Мама. У тебя есть сын. Отец. А ты? Мама. Меня для тебя нет. Отец. Значит, всё? Пауза. Мама. Значит, всё.Я выхожу из-за Ракушки и стою между мамой и папой. Я смотрю на свою руку, на свои растопыренные пальцы. Мы молчим — все трое. Потом затемнение. Они разошлись. А через четыре месяца отца «захомутали» по новой.
ПРИКАЗ ПО ТРЕСТУ ТРАНСВОДСТРОЙ МИНИСТЕРСТВА: СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ № 253 г Москва 28 сентября 1948 г. Тов. ШЛИНДМАН Семена Михайловича назначить на должность Начальника Снабжения Тульского стройуправления с окладом по штатному расписанию, с месячным испытательным сроком, с заездом в Горьковскую область по личным делам сроком до 10 ноября с.г. ВРИО ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ ТРАНСВОДСТРОЙ: СОБОЛЕВ.Тут антракт кончается. Начинается второе действие, то бишь отсидка № 2. Трагедия разрушения… Вот как это было!
Второе действие
Второе действие — второй арест. Своеобразный «новодел». Что может чувствовать закоренелый, пропахший лагерем зэк, вышедший на свободу, хватанувший ртом этот ее сладкий ветер и снова получивший удар в самое незащищенное место — опять ни жены, ни сына, ни благополучия, ни счастья? Опять замки, колючка да конвои по полутемным коридорам. Выть хочется… Жизнь идет по нисходящей. Испаряются последние надежды, человек гаснет, да и какой он теперь человек, так, обрубок, окурок, растоптанный в грязи… Сталинская «теория второй волны», суть которой состояла в том, что выжившие после Большого террора пронумерованные бедолаги и члены их семей представляют опасность для советского строя и потому их надо по новой засадить, доконать, уничтожить. Даже расстреливать сейчас уже не так важно — сами сдохнут, как голодные собаки зимой на мерзлом грунте. И пошло-поехало вторым кругом, по той же знакомой дорожке, освещенной тусклым тюремным фонариком и с которой уже никогда не сойти, не сбежать. А что делать, судьба такая, одно слово — пропащая…МГБ СССР Управление МГБ по Красноярскому краю ЛИЧНОЕ ДЕЛО № 4779 На ссыльного, ссыльного поселенца Шлиндман Семена Михайловича Зарегистрировано 17 V 1949 г. Архивный № Р-3250 «УТВЕРЖДАЮ» «АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ» НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАМ. ПРОКУРОРА МГБ ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. Подпись ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. Подпись 15 декабря 1948 года 16 декабря 1948 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ на арест Гор. Тула, 1948 года, декабря м-ца 15 дня, Я, оперуполномоченный Управления МГБ по Тульской области, ст. лейтенант ВАСИЛЕНКО, рассмотрев материалы о преступной деятельности — ШЛИНДМАНА Семена Михайловича, 1905 года рождения, уроженца гор. Харькова, еврей, по происхождению из семьи торговца, в 1922 г. исключен из ВКП/б/, образование незаконченное высшее, в 1940 г. судим по ст. 58 к 8 годам ИТЛ. Работает нач. снабжения Тульского участка треста «Трансводстрой», проживает в пос. Металлургов, ул. Рудная, дом 5, — НАШЕЛ: ШЛИНДМАН ранее являлся активным членом право-троцкистской организации, в настоящее время проводит подрывную контрреволюционную работу. ПОСТАНОВИЛ: ШЛИНДМАНА, проживающего в пос. Металлургов, по ул. Рудная 5, — ПОДВЕРГНУТЬ АРЕСТУ И ОБЫСКУ. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УМГБ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ Подпись. «СОГЛАСЕН» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УМГБ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. ПОДПОЛКОВНИК Подпись.
ОРДЕР № 246 16 декабря 1948 г. Сотруднику Управления МГБ СССР I по Тульской области Василенко на производство ареста и обыска Шлиндмана Семена Михайловича Г. Тула пос. Металлургов ул. Рудная дом № 5 Начальник Управления Министерства Государственной Безопасности СССР по Тульской области подполковник нач. отдела «А» УМГБ подполковник: подпись. СПРАВКА: Арест санкционирован 16.XII. 1948 И.о. прокурора Тульской обл. Подпись.
Расписка к ордеру № 246 Арестованного Шлиндмана С.М. принял Дежурный приема арестованных внутренней тюрьмы Подпись. 16 декабря 1948 г. ПРОТОКОЛ ОБЫСКА 1948 года декабря 16 дня. Я, дежурный пом. начальника Внутренней тюрьмы УНГБ по ТО старшина Павлов В присутствии надзирателя [нрзб.] Произвел обыск гр-на Шлиндмана Семена Михайловича. При обыске обнаружено: часы ручные № 036988; ремень поясн. — 1; Ремень брючный — 1; мундштук — 1; шарф — 1; мех. застежка от рубашки; [нрзб.]; пальто д/сез., гимнастерка. брюки, валенки с калошами. Изъятое при обыске в протокол внесено полностью, запись сделана правильно С. Шлиндман. Обыск производил. Подпись.
СПРАВКА ШЛИНДМАН Семен Михайлович арестован 16 декабря 1948 года, содержится во внутренней тюрьме I УМГБ Тульской области. Дело следствием закончено и направлено на рассмотрение Особого Совещания МГБ СССР. Ст. следователь отдела УМГБ ТО ст лейтенант Подпись 18 января 1949 года гор. Тула.
ОПИСЬ личного имущества принадлежащего арестованному Шлиндману С.М. г. Тула, 17 декабря 1948 г. Я, сотрудник упр. МГБ Тульской обл., ст. л-т ____на основании ордера № 246 от 16 декабря 1948, в присутствии Носуля Якова Герасимовича, хозяина квартиры Черновой Антонины Николаевны, проживающей в г. Тула ул. Бакунина, 97, и Сумкиной Марии Михайловны, проживающей по ул. [нрзб.] пос. Металлургов произвел опись личного имущества принадлежащего Шлиндману Семену Михайловичу. При обыске обнаружены следующие вещи: 1. скатерть настольная 1 шт. старая 2. 2 одеяла — шерстяные 3. гимнастерка шерстяная 1 шт. 4. подушка пуховая 1 шт. 5. полуботинки мужские 1 пара старые 6. сапоги хромовые 1 шт. 7. костюм летний трико 1 шт. 8. фуражка зимняя 1 шт. поношенная 9. перчатки кожаные 2 пары 10. шелковая верх, рубашка 1 шт. 11. галстук 1 шт. 12. носки мужские 6 пар 13. подворотнички 9 штук 14. платки носовые 8 шт. 15. белье нательное 2 пары 16. чемоданов 2 шт. 17. [нрзб.] 1 шт. 18. сапоги резиновые 1 пара 19. полотенец 3 шт. 20. бот дамский резиновый 1 шт. 21. сахар 2 кг 22. крупа манная 2 кг 23. бритвенный прибор 1 шт. 24 чайные чашки 2 шт. в опись внесены все вещи обнаруженные при обыске. Никаких жалоб и неправильностей обыска со стороны понятых и хозяина квартиры не заявлено. Жалоб на исчезновение вещей не заявлено. Вышеперечисленные вещи сданы на хранение хозяину квартиры Косуля Якову Герасимовичу. Опись произвел сотрудник Упр. МГБ Подпись. Понятые: подписи.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Допрос начат 17 декабря 1948 года в 13 час. 10 мин. Окончен 17 декабря 1948 года в 17 час. 50 мин Вопрос: Вы арестованы за проведение враждебной работы против Советского государства после отбытия срока наказания. Намерены ли вы следствию рассказать правду, не дожидаясь изобличения? Ответ: Я следствию говорю правду. Никакой вражеской работы против Советского государства после отбытия срока наказания не проводил. Вопрос: Ответ: Когда и за что вы были арестованы? Третьего декабря 1937 года по 58-7 и 11 РСФСР. Вопрос: Ответ: Когда вы были осуждены? В июле 1940 года на 8 лет ИТЛ. Вопрос: Где отбывали срок наказания? Ответ: Г. Канск, Красноярского края Краслаг. Вопрос: Полностью отбыли срок наказания? Ответ: Да, полностью. Вопрос: Когда освобождены из заключения? Ответ: Из заключения я освобожден 12 августа 1946 года. Вопрос: Где находится справка об освобождении? Ответ: Справка об освобождении из заключения вместе с военным билетом мною сдана в 5 отделение милиции г. Тула для [нрзб.] паспорта. Вопрос: После освобождения из заключения какой район вы избрали для постоянного местожительства? Ответ: Г. Сталиногорск, Московской обл. Вопрос: Почему? Ответ: В г. Москве проживают мои родственники, поэтому я хотел проживать недалеко от них. Вопрос: Ответ: Только поэтому? Да, других намерений у меня не было. Вопрос: Расскажите, где вы проживали и чем занимались после отбытия срока наказания, т. е. с 12 августа 1946 г. по день Вашего ареста? Ответ: В конце августа 1946 года прибыл в гор. Москву к своей жене Котопуло Лидии Михайловне проживающей по ул. Петровка дом 26 кв. 50, где прожил до 16.IX —46 года. Проживая в г. Москве я встретил своего родственника (мужа троюродной сестоы) Генерал-майора Владимирова, работающего Начальником Управления МВД по Горьковской области, к которому я обратился с просьбой об устройстве на работу. 16 сентября 1946 года я прибыл в г. Горький, где согласно указания Владимирова меня оформили на работу в качестве начальника Деревообрабатывающего цеха Буреполомского лагеря УИТЛ и К УМВД Горьковской обл. где я работал до 1/VI — 47 г. а с 1./VI — 47 г по 2/II — 48 г работал в том же Лагере Начальником производственной части 1-го отделения. 2 февраля 1948 г я был переведен в г. Арзамас на должность Начальника [нрзб.] ИТЛ № 1 УИТЛК УМВД Горьковской области, где работал до 15/ VII — 47, a 15/VII — 47 оттуда был уволен из-за невозможности дальнейшего использования в связи с моей судимостью. После этого я прибыл в г. Москву зашел в трест «Масложирстрой» где мне дали назначение в г. Славянск, Сталинской области, на должность Начальника Планового отдела Славянского Стройуправления треста «Масложирстрой», где я работал с 30/IX по 23/ X — 48 г. согласно приказа треста «Масложирстрой» МПП СССР. Я был уволен в связи с судимостью. И прибыл в г. Москву, где обратился с просьбой об устройстве на работу в трест «Трансводстрой» Минтяжстроя СССР. В конце октября 1948 года я получил назначение в Тульское стройуправление треста «Трансводстрой» на должность Начальника отдела снабжения, где работал по день ареста, т. е. до 16/Х. Вопрос: При устройстве на работу в УИТЛ УМВД Горьковской области Вы рассказали Владимирову о своей судимости по ст. 58-7 и 11 УК? Ответ: Да, о моей судимости он знает все и подробно, я ему об этом рассказал при нашей встрече 10 сентября 1946 года. Вопрос: На основании каких документов и где Вы получили паспорт? Ответ: Таншаевском РО МВД по Горьковской области на основании военного билета и справки Буреломского Лаготделения от 7/11 — 47 года. Вопрос: Почему в вашем паспорте не указано ограничение по ст. 38–39 положения о паспорте? Ответ: На этот вопрос я ответа дать не могу, потому что паспорт оформлял Комендант Буреполомского лагеря УИТЛК УМВД Горьковской области [нрзб.] Владимир, почему он не сделал данной отметки, не знаю. Вопрос: [нрзб.] знал о Вашей судимости? Ответ: Не знаю. Вопрос: После того как Вы получили паспорт от [нрзб.] и зная о том, что у Вас в паспорте не указано ограничение на жительство Вы говорили об этом? Ответ: Нет об этом я ему не говорил. Вопрос: Значит Вы умышленно скрыли об этом? Ответ: Нет. Никакого злого умысла у меня не было. Вопрос: Тогда как же Вас следует понимать, зная о том, что у вас в паспорте не указано ограничение на жительство Вы не сообщили об этом органам милиции? Ответ: Органам милиции я не сообщил и не собирался сообщать потому что паспорт был получен не лично мной, а комендантом Буреполомского лагеря УИТЛК УМВД Горьковской и для меня совершенно неизвестно почему при выдаче паспорта не была произведена отметка об ограничении Вопрос: Скрыв об отсутствии в Вашем паспорте отметки об ограничении на жительство Вы нарушили положение о паспортах. Признаете в этом себя виновным? Ответ: Да, в нарушении положения о паспортах я себя виновным признаю полностью. Допрос окончен 17/XII — 48 г. в 17-00 Записано правильно, мною прочитано в чем и расписываюсь: С. Шлиндман Допросил Ст. следов. 1 отд. [нрзб.] УМГБ ТО Ст. л-т Егоров.
Я. Бывает, история раздражает. «Окаянными днями», террором или праздниками в честь удавшегося насилия. Бывает, история подавляет. Исчезновением гармонии, добра и света. Ее провалы темнят время, в котором новая, наступающая жизнь оборачивается единственно суетой, бессмысленным существованием. События в момент их свершения как бы изначально теряют свое значение и выглядят совершенно пустыми. Кажется, всё зря. Это первый признак распада. Мама. В такие периоды не хочется ничего, прежде всего — жить. Если несправедливости так много и она столь неподвластна влиянию добра, зачем мы вообще являемся на свет божий?.. И почему Бог бросает нас в бездну горя, забывая, что мы, люди, — слабые существа, и нам нужна поддержка в бедах, а не равнодушие? Отец. Где ты, Бог?.. Православный, иудейский, хоть какой-нибудь!.. Вот я, перешибленный влёт полуинвалид, полусумасшедший, в нищете, в депрессии, лишенный всего и вся, одинокий и голодный, грязный и худой, не знавший секунды счастья, бессемейный бывший красавец, никому не нужный, ни во что больше не верящий — зачем еще дышу?.. Зачем цепляюсь за жизнь?.. Проклятье! Мне переломали не год, не два… Мне жизнь переломали. Всё, что только возможно, переломали. Мне переломали семью. Предварительно переломали любовь — единственно крепящую душу зэка силу. Когда меня второй раз взяли, я понял, наконец. Это всё. Другого не будет. История поставила меня у параши. Навечно. То есть навсегда. Не будет мне уже другой жизни. Век свободы не видать… История загребла меня своим паршивым веником и кинула на помойку. Какая же ты сука, история!.. И какой же я дурак, что тебе верил, тебя когда-то приветствовал! Я. Ты считаешь, тебя предали? Кто? Отец. Меня предали все. Я. Не молчи, мама. Ответь ему. Молчит. Ты же его мучаешь. Молчит. Он же там психовал. Мать подняла голову. Мама. А я тут не психовала? Я. Ты другое дело. Ты жила в Москве — городе, где сотни возможностей, тысячи искушений… А у зэка — воспаленное воображение, ему каждый божий день что-то такое чудится… Мама. Что? Я. Ну… этакое. Мама в этом месте врезалась со своим (ахматовским) комментарием. Мама.
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
Моя любовь тебя к любви обяжет
И вечною весной окрасит жизнь мою.
Пускай моя рука с твоей рукой нас свяжет
И солнечным лучом погладит жизнь твою.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Арестованного ШЛИНДМАН Семена Михайловича От 20 декабря 1948 года. Вопрос: Охарактеризуйте свои родственные связи? Ответ: Я имею следующих родственников: Мать — ШЛИНДМАН Софья Марковна, 1876–1878 г. рождения, уроженка г. Горы-Горки Могилевской области БССРЮ, проживает г. Москва 2-ой Самотечный переулок дом 7 кв. 19. Сестра — ВЕБЕР Полина Моисеевна, 1901 г. рождения, урож. г. Орша — БССР, проживает г. Москва 2-ой Самотечный переулок дом 7 кв. 19, работает врачом. Сестра — ШЛИНДМАН Рахиль Моисеевна, 1901 г. рождения, урож. г. Орша — БССР, проживает: г. Москва, Шмидовский проезд дом 12 корп. 6 кв. 639. работает врачом в поликлинике Краснопресненского района г. Москвы. Жена — КОТОПУЛО Лидия Михайловна, 1910 г. рождения, урож. г. Анапа, Краснодарского края, проживает: г. Москва, ул. Петровка 26 кв. 50 работает инженером в проектно-конструкторском бюро промкооперации. С мая 1947 г. нахожусь с ней в разводе. Жена — ШАРАБАНОВА Лидия Ивановна, 1924 г. рождения, урож. г. Горький, проживает — пос. Буреполом, Таншаевского района Горьковской области, работает инспектором I спецотдела Бурепо-ломского УИТЛК УМВД по Горьковской области. Дядя — РОБЦЕР Самуил Маркович, 1887 г. рождения, урож. г. Горы-Горки Минской области БССР, проживает: г. Москва, Большая Бронная дом 24 номер квартиры не помню Работает заведующим трикотажной секции «Мосторга». Вопрос: Расскажите о родственниках первой жены? Ответ: Моя первая жена, с которой я нахожусь в разводе, из родственников имеет: Мать — ГУБАНОВУ Александру Даниловну, примерно 1890 г. рождения уроженку г. Анапы, Краснодарского края, проживает: г. Москва, ул. Петровка, дом 26 кв. 50, домохозяйка. Вопрос: Расскажите о родственниках второй жены, с которой вы проживали до ареста? Ответ: Моя жена ШАРАБАНОВА Лидия Ивановна имеет следующих родственников: Отец — ШАРАБАНОВ Иван Николаевич, примерно 1898 г. рождения, уроженец Горьковской области, проживает в поселке Буреполом, Таншаевского р-на Горьковской области, работает начальником планового отдела Буреполомского лагеря УИТЛК УМВД Горьковской области. Мать — ШАРАБАНОВА Мария Петровна, примерно 1900 г. рождения, уроженка Горьковской области, проживает пос. Буреполом, Таншаевского района, Горьковской области, домохозяйка. Брат — ШАРАБАНОВ Валентин Иванович, примерно 1922 г. рождения, уроженец Горьковской области, проживает на Дальнем Востоке, но где именно сказать не могу. Должен дополнить, что с ШАРАБАНОВОЙ Лидией Ивановной я проживал с сентября 1947 года без юридического оформления бракосочетания. Вопрос: Кто из ваших родственников имеет судимости? Ответ: Из моих родственников имеет судимость отец второй жены ШАРАБАНОВ Иван Николаевич, который был осужден в 1933 году на 3 года ИТЛ за растрату. Вопрос: Расскажите, кто из ваших близких друзей и знакомых проживает в г. Москве? Ответ: Из моих близких друзей в г. Москве проживает АНШЕЛЬС Самуил Моисеевич, примерно 1890 г. рождения, проживает по ул. Бережковская Набережная дом 42-а кв. 39, работает начальником отдела труда и зарплаты Главспецстроя Минтяж-строя СССР. Знаком с ним с 1933 года по совместной работе в Главстрое Наркомпищепрома СССР. В октябре 1948 г. АНШЕЛЬС посодействовал мне в устройстве на работу в Тульское Управление Трансводстроя. Больше из близких знакомых в г. Москве у меня нет никого. Вопрос: Не является ли АНШЕЛЬС Вашим единомышленником по троцкистской организации? Ответ: В троцкистской организации я никогда не состоял и АНШЕЛЬС, насколько мне известно так же троцкистом не является. Вопрос: Вы проживали в г. Ленинграде? Ответ: Нет, в г. Ленинграде я никогда не проживал и знакомых там у меня никого нет. Вопрос: С кем из однолагерников, отбывавших вместе с Вами срок наказания, Вы имели переписку? Ответ: Переписки из однолагерников, отбывавших вместе со мною срок наказания я ни с кем не имел. Вопрос: Проживая в пос. Буреполом Таншаевского района Горьковской области, с кем Вы поддерживали близкие связи? Ответ: Проживая в пос. Буреполом я ни с кем близкие связи не поддерживал. Вопрос: Кто Вам содействовал в устройстве на работу в Славянское Стройуправление «Масложир-строя»? Ответ: Будучи в Москве я зашел в трест «Масложирстроя» и обратился к директору треста КАЧАЙЛОВУ Евгению Николаевичу, который дал указание о приеме меня на работу и направлении в г. Славянск. Вопрос: Вы до этого были знакомы с Качайловым? Ответ: Нет, до этого КАЧАЙПОВА я совершенно не знал. Вопрос: Расскажите о своих близких друзьях, проживающих в г. Славянске? Ответ: В г. Славянске из близких друзей я никого не имею. Вопрос: Когда Вы приехали в г. Тулу? Ответ: Вопрос: 2 ноября 1948 года. У Вас есть кто-либо из знакомых, проживающих в г. Туле? Ответ: Нет, в г. Туле из знакомых у меня никого нет. Вопрос Вы ранее состояли в ВКП(б)? Ответ: Да, с декабря 1921 по апрель 1922 года являлся кандидатом в члены ВКП(б). Вопрос: За что Вы были исключены из ВКП(б)? Ответ: Точно сказать не могу, но кажется за отказ от работы на заводе или как несовершеннолетнего. Записано правильно, мною прочитано, в чем и расписываюсь. Подпись. ДОПРОСИЛ: ст. следователь I отд. След. отдела УМГБ ТО Ст лейтенант ЕГОРОВ. СПРАВКА: Подлинник протокола допроса находится в следственном деле № 7022 Верно: Ст. следователь Следотдела УМГБ ТО Ст. лейтенант ПодписьНовый допрос — завтра — в день рождения товарища Сталина!.. Система работает с большим подъемом, делая вождю бесчисленные подарки.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Я, ст. следов. 1 отделения [нрзб.] УМГБ по ТО Ст. л-нт_________допросил в качестве арестованного Шлиндмана Семена Михайловича. Допрос начат 21/XII — 48 г. в 12-40 Вопрос: При аресте у Вас была изъята записная книжка на 40 листах. Скажите кому она принадлежит? Ответ: Мне, Шлиндману Семену Михайловичу. Вопрос: Расскажите содержание произведенных Вами записей в этой книжке. Ответ: В изъятой у меня при аресте записной книжке записано ряд адресов учреждений гор. Москвы и отдельных ответственных сотрудников этих учреждений, к которым я обращался в отношении устройства на работу. Вопрос: Сколько времени Вы проживали в г. Москве после освобождения из заключения? Ответ: После освобождения из заключения в гор. Москве я проживал около десяти дней в сентябре 1946 г. в последующие годы в гор. Москву я ездил несколько раз и проживал там по два-три дня. Вопрос: Вы знали о том, что в гор. Москве проживать Вам было запрещено? Ответ: Вопрос: Да, знал. Значит Вы умышленно нарушали положение об ограничении Вам жительства? Ответ: Никакого злого умысла и злоупотреблений в нарушении ограничения у меня не было. В гор. Москву я ездил исключительно с целью устройства на работу. Вопрос: Только ли за этим? А не являлось ли Ваше посещение гор. Москвы с враждебными целями? Ответ: Никаких враждебных целей у меня нет и не было. Вторично заявляю, что в гор. Москву я ездил с целью устройствана работу и кроме того, работая в Буреломском лагере УИТЛК УМВД и Арзамасском ИТЛ № 1 УИТЛК УМВД по Горьковской области я дважды ездил в гор. Москву в служебную командировку в 3-е упр. Гл. упр. Лагерей МВД СССР. Вопрос: Где Вы останавливались в г. Москве? Ответ: У своей сестры и матери проживающих по 2-муСамотечному пер дом 7 кв. 19 Вопрос: С кем из своих единомышленников по троцкистской организации Вы встречались после освобождения из заключения и где они проживают в настоящее время? Ответ: В троцкистской организации я никогда не состоял и никаких единомышленников по троцкистской организации у меня нет. Допрос окончен 21/XII — 48 в 15–35 Записано правильно, мною прочитано в чем и расписываюсь: С. Шлиндман допросил: ст. следов. 1 отд-ния Следотд УМГБ ТО ст. л-нт: Подпись.
АКТ Гор. Тула 1948 года декабря 23 дня. Мы, нижеподписавшиеся, ст. следователь I отделения Следственного отдела — ст. лейтенант________ И следователь Следственного отдела УМГБ ТО ст. лейтенант________составили настоящий акт в том, что на основании постановления от 23 декабря 1948 года уничтожили путем сожжения записную книжку и переписку на 107 листах, принадлежавшие арестованному ШЛИНДМАНУ Семену Михайловичу. Ст. следователь I отд. След. отдела Ст. лейтенант Подпись. Следователь I отд. След. отдела Ст. лейтенант Подпись
«УТВЕРЖДАЮ» НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА МГБ ПОДПОЛКОВНИК Подпись I 23 декабря 1948 года. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предъявлении обвинения гор. Тула 1948 года декабря 23 дня. Я, ст. следователь I отделения Следственного отдела УМГБ Тульской области — ст. лейтенант________ рассмотрев следственное дело №-7022 и приняв во внимание, что ШЛИНДМАН Семен Михайлович достаточно изобличается в том, что являясь членом контрреволюционной троцкистской организации проводил вражескую работу. На основании изложенного — ПОСТАНОВИЛ: Руководствуясь ст. ст. 128 и 129 УПК РСФСР ШЛИНДМАНА Семена Михайловича привлечь в качестве обвиняемого по ст. 58-7 и 11 УК РСФСР, о чем объявить ему под расписку в настоящем постановлении. Копию постановления в порядке ст. 146 УПК РСФСР направить прокурору. Ст. следователь I отд. След. отдела Ст. лейтенант Подпись. «СОГЛАСЕН» Нач. I отд След. отдела УМГБ ТО Капитан Подпись. Настоящее постановление мне объявлено 23 декабря 1948 года С. Шлиндман.
«УТВЕРЖДАЮ» НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УМГБ ТО ПОДПОЛКОВНИК Подпись 23 декабря 1948 года. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Гор. Тула 1948 года, декабря 23 дня. Я, ст. следователь I отделения Следственного отдела УМГБ Тульской области — ст. лейтенант________ , рассмотрев следственное дело №-7022 по обвинению ШЛИНДМАН Семена Михайловича по ст. 58-7 и 11 УК РФСР, НАШЕЛ: При аресте ШЛИНДМАНА и произведенном у него обыске по протоколу от 17 декабря 1948 года изъяты следующие документы: 1. Паспорт серия II — ДЖ № 690145 на имя Шлиндмана С.М. 2. Профсоюзный билет № — 1853417 на имя Шлиндмана С.М. 3. Воинский билет № 378934 4. Приказ №-253 по тресту Трансводстрой 5. Личный листок по учету кадров 6. Фотокарточки — 6 штук. 7. Деньги в сумме три рубля 20 копеек. 8. Облигации Государственного 2 % займа 1947 года на сумму 400 рублей. 9. Записная книжка и разная переписка на 107 лист. Учитывая, что изъятая записная книжка и переписка на 107 листах для следствия ничего существенного не представляют и не имеют никакой ценности, руководствуясь ст. 69 УПК РСФСР — ПОСТАНОВИЛ: Перечисленные выше документы с №-1 по №-6 приобщить отдельным пакетом к следственному Делу. Деньги в сумме трех рублей 20 коп. и облигации Государственного 2 % займа на сумму Руб. четыреста — сдать в ФИНО УМГБ ТО, а записную книжку и переписку на 107 листах уничтожить путем сожжения, на что составить акт. Ст. следователь I отд. След, отдела Ст. лейтенант Подпись. «СОГЛАСЕН» Нач. I отд. След. отдела УМГБ ТО Капитан Подпись.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА обвиняемого Шлиндмана Семена Михайловича от 23.XII — 48 г. Вопрос: Вами зачитано постановление о предъявлении обвинения от 23.XII — 48 г. Вы обвиняетесь в том, что являясь членом контрреволюционной троцкистской организации проводили вражескую работу против Советского Государства. Понятно, в чем Вы обвиняетесь? Ответ: Да, понятно Вопрос: Признаете себя виновным в предъявленном Вам обвинении по ст. 58-7 и 11 УК РСФСР? Ответ: Виновным в предъявленном мне обвинении по ст.58-7 и 11 УК РСФСР не признаю. Вопрос: Почему? Ответ: Потому что в троцкистской организации я никогда не состоял и никакой вражеской работы против Советского Государства не проводил. Вопрос: Напрасно Вы пытаетесь скрыть о своей вражеской работе против Советского Государства. Следствие требует дать правдивые показания по данному вопросу. Ответ: Я следствию говорю только правду и еще раз повторяю, что никакой вражеской работы против Советского Государства я не проводил. Вопрос: За что Вы были осуждены в 1940 году? Ответ: За участие в антисоветской право-троцкистской организации существовавшей до 1937 года в г. Петропавловске на Камчатке. Но виновным в этом я в то время себя не признал. Допрос начат 23.XII — 48 г. в 20-45Допрос окончен 23.XII — 48 в 22–00 Записано правильно, мною прочитаноВ чем и расписываюсь С. Шлиндман. Допросил: ст. следов. 1 отд Следотд. УМГБ ТО Ст. л-нт Подпись.
Дополнительные собственноручные показания в порядке ст. 206 УПК РСФСР арестованного Шлиндмана Семена Михайловича Свой арест и предъявление мне обвинения во вражеской деятельности против Советского Государства по ст. 58-п.п. 7 и 11 — считаю несправедливым и ничем необоснованным, так как я никакой вражеской работы против Советского Государства не проводил и в мыслях своих никогда не имел таких намерений. Будучи без работы, я, зайдя в Гпавспецстрой Мин-тяжстроя СССР (Москва, Ветошный пер.), случайно увидел работающего там Аншельса Самуила Моисеевича, с которым был знаком по прежней работе в Главстрое Наркомпищепрома СССР. Он направил меня в трест «Трансводстрой», где Нач. Конторы Техснабжения Данков и в Отдел Кадров предложили мне работу в Тульском Стройуправлении, в качестве Нач. снабжения. На мое замечание о том, что мне в Туле нельзя проживать, в Отделе Кадров Трансводстроя мне ответили, что Тульское Стройуправление помещается не в самой Туле, а в поселке Криволучье, за городом, где мне проживать можно. Прибыв на работу 12.XI. 1948 г., я 13.XI отправил ценным письмом свой паспорт и военный билет в г. Славянск коменданту Славянского Стройуправления «Масложирстрой» Лобову Петру Павловичу, чтобы он отметил паспорт и снял меня в Славянске с воинского учета, а документы после этого прислал бы обратно мне ценным письмом. (В Славянске я не отметил выезда и не снялся с военного учета, так как был направлен в распоряжение Треста и не знал, куда я поеду на работу). 18. XII. 1948 г. меня, по телефону, вызвали в 5-е отделение Милиции и взяли с меня подписку о выезде из г. Тулы в течение 5-ти дней, т. е. до 23. XI. 1948 г. С ходатайством Нач-ка Стройуправления Транс-водстроя Ахачинского и личным своим заявлением я обратился в Паспортный отдел Тульской Облмилиции с просьбой разрешить мне проживание в поселке Криволучье. В паспортном отделе мне сказали, что результаты будут сообщены в 5-е отделение и в Стройуправление Трансводстроя, впредь до чего я могу проживать и работать. 23 XI — 1948 г. в 5-м отделении Милиции мне сказали, что выезжать, так как разрешения не поступило. В тот же день, 23. XI — 1948 г., я обратился в УМГБ по Тульской области к Начальнику Отдела подполковнику Мокринскому и его заместителю майору Майорову, рассказав им подробно о себе, о прошлой судимости, и просил разрешить мне проживание в пос. Криволучье. Подполковник Мокринский и майор Майоров обещали договориться с УМВД по Тульской области и сказапи, что разрешение мне будет дано. При этом, подполковник Мокринский установил со мной связь по проведению агентурной работы, так как я с сентября [нрзб.] я не скрывал своей прежней судимости, сам обратился в органы МГБ и, если бы мне подтвердили, что мне нельзя работать и проживать в Туле, я бы здесь не оставался, а выехал бы немедленно из Тулы. Но, наоборот, Паспортный Отдел Тульской облмилиции, за подписью капитана милиции Румянцева, сообщил в 5-е отделение милиции и в Тульское Стройуправление Трансводстроя о том, что мне разрешено проживать в Туле до 1-го февраля 1949 года. Когда 9. XII. 1948 года поступили по почте ценным письмом мои документы из Славянска, то я сейчас же сдал их в Паспортный стол 5-го отделения милиции. Я был прописан временно, до 1. II — 1949 года, но паспорт был оставлен в Милиции для замены, так как в нем отсутствовала отметка об ограничении по ст 38–39 положения о паспортах. В дополнение к данным мною по этому вопросу показаниям, подтверждаю, что никаких корыстных целей или злого умысла я не имел и ни в какой мере не пользовался своим паспортом, в связи с отсутствием в нем пометки об ограничении. Своей судимости я нигде не скрывал, что можно проверить по личному моему делу в УИТЛК УМВД по Горьковской области, по моим анкетам в отделах кадров Буреполомского ИТЛ и Арзамасской ИТК № 1 УИТЛК УМВД по Горьковской области, а также по моим анкетам в отделах кадров треста «Масложирстрой» Министерства Пищевой промышленности СССР, в Славянском Стройуправлении «Масложирстроя», в тресте «Трансводстрой» Минтяжстроя СССР и в Тульском Стройуправлении треста «Трансводстрой», где я работал до дня ареста. Я нигде не скрывал своей судимости. Если бы я чувствовал за собою какую-нибудь вину, или хотел бы использовать в злостных целях свой паспорт, то я еще 18. XI — 48 г., когда 5-е отделение милиции отобрало у меня подписку о выезде в 5-ти дневный срок из Тулы, когда документы мои еще находились в Славянске, я бы тогда мог бы сразу уехать из Тулы. Но я никакой вины за собою не имею, никакой корысти не преследовал, а хотел только устроиться на работе, перевезти себе семью и жить скромно и честно, ничего не скрывая. И когда паспорт прибыл по почте из Славянска, я сам сдал его в 5-е отделение милиции для прописки и для обмена на другой паспорт. Мне предъявлено обвинение по ст. 58, п.п. 7 и 11 УК РСФСР во вражеской троцкистской деятельности, которую я, якобы, проводил после отбытия срока наказания. Вновь и вновь я категорически заявляю, что никакой вражеской троцкистской или какой-либо иной антисоветской деятельности я никогда и нигде не проводил и в мыслях даже не имел этого. Вновь и вновь повторяю, что ни в какой антисоветской право-троцкистской организации я никогда не состоял. Обвинение в этом, по которому решением Особого Совещания при НКВД СССР от 23/XII — 1940 г., я был заключен на 8 лет в ИТЛ, — необоснованно и зиждется на лживых измышлениях. Я отбыл в заключении 8 лет, 8 месяцев и 9 дней, но я невиновен. По выходе на свободу, я вынужден был разойтись со своей первой женой, так как жить в Москве не имел права и не мог оторвать ее от работы и квартиры в Москве, а сынишку от учебы в музыкальной школе им. Гчесиных. Я потерял свою первую семью — жена вышла замуж за другого. Я обрел другую семью и весь отдавался работе и семье, вел скромную и честную жизнь простого человека. Я даю честное слово никогда не ездить ни в Москву и ни в один какой-либо другой большой город, найду себе работу в какой-нибудь глухой провинции, и буду там тихо и скромно жить и работать. Я понимаю, что мне нет доверия из-за прошлой судимости. Но я ни в чем не виноват перед Родиной, перед Советским Государством. Я прошу от всего своего сердца: разберитесь с моим делом, снимите с меня проклятое и позорное клеймо троцкиста — врага народа, — я никогда им не был и не буду, — дайте мне возможность работать и жить со своей семьей. В моем старом деле имеются все документы и материалы, достаточные для установления моей невиновности. И после отбытия срока заключения я никакой вражеской деятельностью не занимался Я хочу и буду жить честно, как все советские граждане и когда потребует этого Родина пойду со всеми защищать ее против врагов, не жалея жизни своей, — это моя клятва, клятва простого советского человека. С. Шлиндман. 24. XII. 1948 г.
ПРОТОКОЛ Об окончании следствия 1948 г. декабря 24 дня. Я, ст. следов. 1 отд-ния Следотд УМГБ-To ст. л-нт________рассмотрел след ственное дело за № 7022 по обвинению Шлиндмана Семена Михайловича в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7 и 11 УК РСФСР. Признав предварительное следствие по делу законченным, а добытые данные достаточными для пере-дания суду, руководствуясь ст. 206 УПК, объявил об этом обвиняемому, предъявил для ознакомления все производство по делу и спросил, желает ли обвиняемый чем-либо дополнить следствие. Обвиняемый Шлиндман Семен Михайлович ознакомившись с материалами следственного дела заявил, что с материалами следственного дела на 34 листах ознакомился полностью и написал дополнительные показания на 4 листах. Ознакомление с делом производилось с 12–35 до 16–35 м. С. Шлиндман. Ст. следов. 1 отд. Следотд УМГБ-ТО Ст. л-нт. Подпись. Пом. прок. по спец, делам. Подпись.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 Особого Совещания при Министре Государственной Безопасности союза ССР От 16 февраля 1949 г.
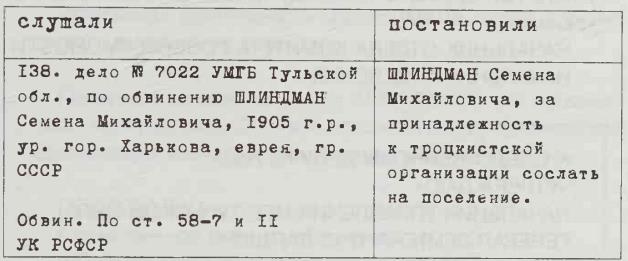 Нач. Секретариата Особого Совещания.
Подпись.
Нач. Секретариата Особого Совещания.
Подпись.
В Комитет Безопасности При Совете Министров СССР от Шлиндмана Семена Михайловича, — г. Москва-К6, 2-ой Самотечный пер., д. № 7, кв. 19 ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу возвратить мне мои личные документы о трудовом стаже и образовании, отобранные у меня при арестах: 3. XII. 1937 г. в г. Петропавловске на Камчатке и 16. XII. 1948 г. в г. Туле. В случае, если документы эти не сохранились, прошу выдать мне соответствующую справку. С. Шлиндман 25. X. 1954 г.
СПРАВКА 25 ОКТЯБРЯ 1954 Выдана гр-ну ШЛИНДМАН Семену Михайловичу, 1905 года рождения, урож. гор. Харькова, в том, что изъятые у него при аресте в 1937 году личные документы не сохранились. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
К СЛЕДСТВЕННОМУ ДЕЛУ № 7022 «УТВЕРЖДАЮ» НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МГБ ТУЛЬСКОЙ ОБЛ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ К. ЛАПШИН 24 января 1949 года ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ: ШЛИНДМАНА Семена Михайловича в преступлении, предусмотренном ст. 58-7 и 58–11 УК РСФСР. УМГБ по Тульской области 16 декабря 1948 года был арестован ШЛИНДМАН Семен Михайлович. Произведенным по делу расследованием установлено: ШЛИНДМАН с 1934 года являлся активным членом контрреволюционной троцкистско-воедительской организации, существовавшей на Судоремонтном заводе в гор. Петропавловске на Камчатке. По заданию организации проводил подрывную деятельность в планировании строительства Судремзавода. Будучи начальником Планового отдела треста «Камчатстрой», занимался дезорганизацией производства путем задержки составления производственных квартальных планов. Сознательно срывал проведение премиально-прогрессивной оплаты труда, саботировал стахановское движение, чем создавал недовольство у рабочих. За указанные преступления ШЛИНДМАН Особым Совещанием при НКВД СССР 23 июля — 40 года был осужден на 8 лет ИТЛ. Срок наказания отбывал в Краслаге МВД СССР, откуда был освобожден 12. VII — 1946 г. По существу предъявленного 23. XII — 1948 г. обвинения ШЛИНДМАН виновным себя не признал. Вражеская деятельность ШЛИНДМАНА после отбытия срока наказания не установлена. Принимая во внимание, что ШЛИНДМАН, как активный член контрреволюционной троцкистско-вредительской организации является общественно опасным лицом — ПОЛАГАЛ БЫ: Следственное дело по обвинению — ШЛИНДМАНА Семена Михайловича, 1905 г. рождения, урож.г. Харькова, еврея, из семьи торговца, служащего, в 1922 году исключенного из кандидатов в члены ВКП(б) за отказ работать на заводе, образование незаконченное высшее, судимого в 1940 году по ст.58-7 и 58–11 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ, срок наказания отбыл, до ареста работал начальником снабжения Тульского Стройуправления треста «Трансводстрои», проживал: Криволучье, пос. Металлургов, ул. Рудная дом №-5, Направить на рассмотрение Особого Совещания МГБ СССР для вынесения решения о применении к нему ссылки на поселение. Ст. следователь I отд. След. отдела Ст. лейтенант ЕГОРОВ «СОГЛАСНЫ» Нач. I отд. След. отдела УМГБ ТО Капитан ФЕДОТОВ НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕН. ОТДЕЛА УМГБ ТО ПОДПОЛКОВНИК КУЗНЕЦОВ. Обвинительное заключение составлено 19 января 1949 года в г. Туле СПРАВКА: 1) ШЛИНДМАН С.М. арестован 16/XII — 1948 г., содержится во внутренней тюрьме УМГБ ГО 2) Справка по арх. следственному делу и копия выписки из протокола Особого Совещания приобщены к делу отдельным пакетом. Ст. следователь I отд. След. отдела Ст. лейтенант ЕГОРОВ
Выписка из протокола № 9 Особого Совещания при Министре Государственной Безопасности Союза ССР От 16 февраля 1949 г.

Нач. Секретариата Особого Совещания. Подпись. С постановлением Особого Совещания МГБ Ознакомился. Подпись: С. Шлиндман. 1 марта 1949 г. Постановление Особого Совещания объявил: Нач. отдела «А» УМГБ Тул. области Подполковник. Подпись. 1 марта 1949 г.
На этот раз все молниеносно. Оформление беззакония чисто условное — череда бумажек скучна, как серый быт. Появляется новый персонаж — Яков Герасимович Носуля, державший квартиранта, «опасного» для советской власти. С ним отец затеял нудную тяжбу по возврату изъятой собственности — зачем?.. А затем, что захотелось вдруг досадить системе «по мелочам», захотелось от бессилия в главном «покачать права» из-за ерунды. Протест жалкий, что и говорить, ведь собственность — смех один, а вот и нет, я вам, суки, ничего не оставлю, ничего не прощу. Знак борьбы, не сама борьба (она бесполезна, бессмысленна, бесперспективна), а только мелкий укус напоследок, перед уходом в тоскливую жизнь ссыльного. В чем отец «изобличается»?.. Что за «вражескую работу» он вел?.. Какой, к черту, троцкизм в 48-м году?.. Не надо утруждать себя ответами на эти вопросы. Это лишнее. На Камчатке в 37-м схватили невиновного и хотя бы предъявили бредовые обвинения типа срыва «стахановского движения» — вот просто отец стоял там на стройке и с утра до вечера срывал (!), а тут вообще никаких дел, не то что доказательств, даже для блезиру, даже для видимости… Взять и сослать. Без разговоров. Даже допросы, учиненные отцу, теперь абсолютно формальны, чистая бюрократия. Ново только то, что называется положением ссыльного. По сравнению с положением лагерника оно другое. Свобода на цепи.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 4779 Начальнику отдела «А» УМГБ по Красноярскому краю: Гор. КРАСНОЯРСК Сообщаю, что Шлиндман Семен Михайлович — 1905 г.р. мною принят 30 мая 1949 г. Ссылку-высылку будет отбывать в Абанском районе. Начальник РО МГБ ст. лейтенант Подпись 30 мая 1949 г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 4773 30 МАЯ 1949 ГОДА Мне, Шлиндману Семену Михайловичу — 1905 года рождения, проживающему в Абанском районе, Абан, заявлено, что я не имею права никуда выезжать (хотя бы временно) из указанного мне места жительства без разрешения органов МГБ и обязан периодически лично являться на регистрацию в место и сроки, которые мне будут указывать органы МГБ. Об ответственности за нарушение подписки по ст. 58–14 УК РСФСР предупрежден. Личная подпись С. Шлиндман Подписку отобрал начальник Абанского РО МГБ старший лейтенант. Подпись.
НАЧАЛЬНИКУ АБАНСКОГО РО УМГБ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С. Абан Просим объявить находящемуся на поселении в с. Абан Абанского района гр-ну ШЛИНДМАН Семену Михайловичу о том, что в числе его личных вещей на его бывшей квартире в пос. Криволучье оставлено его бывшему квартирохозяину за долги следующие вещи: одеяло шерстяное — 1 шт., сахар и манная крупа. Сапоги резинов Отданы по месту его прежней работы, как принадлежащие предприятию. Все остальные вещи были сданы ШЛИНДМАН и, по заявлению квартирохозяина, на квартире больше никаких вещей не осталось. Кроме того, сообщите ШЛИНДМАНУ, что в отношении ручных часов, денег и облигаций займа дано указание начальнику тюрьмы о высылке по назначению. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА «А» УМГБ ТУЛ. ОБЛ. ПОДПОЛКОВНИК. Подпись. НАЧ. 1 ОТДЕЛЕНИЯ КАПИТАН. Подпись.
Начальнику отдела «А» УМГБ по Тульской области От поселенца Шлиндман Семена Михайловича ЗАЯВЛЕНИЕ Несмотря на В/заверение в том, что к моменту прибытия на место поселения личные деньги и ценности уже будут переведены и вручены мне, до сих пор я ничего не получил. Из Тулы я выбыл 8/ IV, а в с. Абан, Красноярского края прибыл 29/V. 1949 г. Я уже обращался к Вам с заявлением, но результатов пока что никаких нет. Прошу В/распоряжений и указаний: Начальнику Тульской тюрьмы № 1 МВД о немедленном переводе мне: а) денег, в сумме 300 рублей по квит. № 361 от 3. III. 1949 г. б) облигаций 2 % Гос. займа на 400 рублей, по квит. № 2504 от 5. II. 1949 г. в) часов ручных — по квит. № 2442 от 3. II. 1949 г. Начальнику Тульского Стройуправления Треста «Трансводстрой» о переводе мне следуемых денег по зарплате с 28.X. по 16. XII. 1948 г., авансовому отчету и окончательному расчету. Начальнику внутренней тюрьмы МГБ о высылке мне недоставленных вещей согласно моим заявлениям от 4.IV.1949 г. 29. VI.49. С. Шлиндман.
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ МГБ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. От гражд. НОСУЛЯ ЯКОВА ГЕРАСИМОВИЧА прож. Пос. Криволучье, ул. Рудная дом № 11 ЗАЯВЛЕНИЕ На Ваше требование о возвращении вещей принадлежащие бывшему моему квартиранту тов. ШЛИДМАНУ, при этом возвращаю одно шерстяное одеяло, в отношении остальных вещей, как-то сахара и манной крупы, которые оставлены у меня за долги. Одновременно прошу Вас взыскать с тов. ШЛИДМАНА за проживание у меня в доме 2,5 месяца по 150 рублей в месяц, за выпитое им молоко по ½ литра каждый день 100 рублей, за стирку белья и уборку его комнаты за это же время 100 рублей. Одновременно сообщаю, что оставлены в его комнате койка, стол, простынь, матрац, наволочки и подушку, резиновые сапоги были взяты комендантом строй. треста где он работал. ДОМА ВЛАДЕЛЕЦ: НОСУЛЯ.
5/VII — 50 г. Сема! У Марика возникли такие вопросы, ответить на которые я не могу. Поэтому я посоветовала ему написать тебе письмо. Адрес твой нам неизвестен. Если считаешь возможным, то напиши ему в Хосту. Я с Мариком отдыхаю тут до 20-го августа. Адрес: Сочи-Хоста, Краснопартизанская ул. д. 5 Щедрину Ф.Р. для Марика. Лида. Только крайняя необходимость заставляет меня снова, уже во второй раз обращаться к тебе. Очень прошу сообщить мне свой более точный адрес, куда я бы смогла тебе написать или указать возможность встречи. Хочу заранее предупредить, что обращение мое к тебе не будет связано с какими-либо материальными претензиями, Л.
с. Абан, 28/VIII — 1951 г. Твое письмо, Лида, я получил сегодня. Ты пишешь, что обращаешься ко мне вторично, но первого письма я не получал. Пиши мне по адресу: Красноярский край, Абанский район, с. Абан, до-востребования. Возможно, что через 10–15 дней я получу разрешение на выезд в командировку в г. Красноярск. Это будет самым удобным случаем для нашей встречи с тобой. Ни в какое другое место, по каким-либо другим причинам, кроме служебных, я выезжать из Абана возможности не имею. Если ты считаешь необходимым встретиться со мною, готовься к поездке в Красноярск, о своем выезде туда я тебе заранее сообщу. Если же я в Красноярск не смогу поехать (это выяснится в течение ближайших 2-х недель), то встретиться с тобой мы сможем только в Абане. Но напиши, что случилось? Не с Мариком ли что? О Марике прошу сообщить мне все подробно. Сема. Отвечаю тебе, конечно, не потому, что ты «успокоила» меня насчет материальных претензий. Ни от тебя и ни от Марика я никогда не собирался укрываться, — все что в моих силах и возможностях я готов сделать.
РАСПИСКА Мне, Шлиндман Семену Михайловичу, 1905 года рождения, объявлено, что я выслан в ссылку в Красноярский край и место поселения мне определено с. Абан Абанского района, откуда выезжать без разрешения органов МГБ не имею права. Я предупрежден, что за побег с места постоянного поселения буду привлечен к уголовной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года, мера наказания которым, за то преступление, предусмотрена 20 лет каторжных работ. Подпись: С. Шлиндман 16 февраля 1952 года Расписку отобрал комендант Абанского РОМГБ ст. л-т Подпись.
Р.С.Ф.С.Р. В управление МТБ по ИК Исполнительный Комитет КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА Депутатов трудящихся Управление по делам Сельского и колхозного Строительства Абанского района 31 марта 1950 г. Техник-строитель Шлиндман Семен Михайлович находится в служебной командировке в гор. Красноярске по служебным делам. Управление сельстроя при исполкоме райсовета ходатайствует перед Вами о разрешении проживания технику — строителю Шлидман С.М. в гор. Красноярске до 3-го апреля 1950 года. Начальник управления Краисельстроя при крайисполкоме. Подпись.
В Управление МГБ по Красноярскому краю 3/IV — 1950 г. Техник-строитель Шлиндман Семен Михайлович по поручению Исполкома Абанского Райсовета и по решению общего собрания членов колхоза им. Буденного представительствует от колхоза в Народном суде 3-го участка Сталинского района гор. Красноярска по делу гражданского иска колхоза им. Буденного, в сумме 252 тысячи рублей, к красноярской Крайконторе «Главсельэлоктро», по поводу выстроенной колхозной гидроэлектростанции. В результате неправильного проектирования и грубых отклонений и дефектов, допущенных «Край-сельэлектро» в процессе производства строительномонтажных работ, гидроэлектростанция бездействует, а колхоз понес огромные убытки. Суд уже начался 1-го апреля 1950 года, но отложил дальнейшее рассмотрение для производства экспертизы по имеющимся документам. В этой экспертизе принимает участие от колхоза Шлиндман С.М., — заменить его некем, так как он — единственный специалист в Абанском районе, полностью знакомый со всеми материалами по строительству нашей гидроэлектростанции. Просим разрешить пребывание Шлиндман С.М. в г. Красноярске до Юто апреля 1950 года. Председатель колхоза им. Буденного. Подпись.
Начальнику Абанского РО МГБ Народный суд 3-го участка Сталинского района г. Красноярска 11-го апреля 1950 года своим решением присудил ко взысканию с красноярской краевой конторы «Главсельэлектро» в пользу колхоза им. Буденного 184139 рублей, а также обязал контору «Главсельэлектро» выполнить, за ее счет, все работы по устранению недоделок и нарушений в строительстве гидроэлектростанции колхоза им. Буденного и обеспечить к 15-му июля 1950 года пуск Эл/станции на полную ее проектную мощность. Контора «Главсельэлектро» подала в Красноярский Краевой Суд кассационную жалобу на решение Нарсуда. Слушание дела в гражданской коллегии Крайсуда назначено на 28-е апреля 1950 г. Представителем колхоза в суде, уполномоченным на это решение Общего собрания членов колхоза им. Буденного от 13-го марта 1950 года, является техник-строитель Шлиндман Семен Михайлович — единственный специалист, всесторонне изучивший и подготовивший все материалы по делу нашего иска, в связи с недоброкачественным строительством электростанции. Участие т. Шлиндмана С.М. при разбирательстве дела в Крайсуде — совершенно необходимо и обязательно, так как только он может дать соответствующие объяснения Крайсуду по существу иска колхоза и в опровержение мотивов, изложенных в кассационной жалобе «Главсельэлектро». Ввиду изложенного, Правление колхоза им. Буденного просит Вас выдать разрешение на выезд Шлиндмана Семена Михайловича в г Красноярск сроком с 25-го апреля по 30-апреля 1950 г. 24/IV — 50 г. Председатель Колхоза им. Буденного. Подпись.
Начальнику УМГБ по Красноярскому краю от с/поселенца Шлиндмана Семена Михайловича, — с. Абан, Советская ул., дом № 5 ЗАЯВЛЕНИЕ Из 43-х месяцев, что я нахожусь на поселении в с. Абан, только 16 месяцев я имел работу. На протяжении последних полутора лет все мои попытки устроиться на работу не давали успеха. Причиной этому — сложившиеся обстоятельства, известные руководству Райотдела, от меня независящие. Без работы естественно, я жить но могу, а в Абане все возможности исчерпаны. В июле 1951 года мне было предложено переехать на жительство в Уяр. В связи с этим я подготовился было к такому переезду: распродал некоторое имущество, корову, картофель и пр. Однако переезд этот не состоялся, так как Вы не дали на него согласия. Теперь я вновь обращаюсь к Вам с просьбой разрешить мне такой переезд в г. Уяр или же в какой-нибудь другой город по В/усмотрению (мне лично желательно было бы в Канск, Ачинск, Минусинск или Красноярск). Одновременно со мною прошу разрешить переезд и моей жены Клемт Ольги Константиновны, являющейся первоклассной портнихой, также не имеющей работы в условиях Абана. Прошу не отказать в моей просьбе, так как оставление меня в Абане, поставит меня в невыносимые условия. С. Шлиндман 15. XII.1952 г.Отец. В ссылке — тягомотина. В лагере ты ждешь — освобождения, а в стране Нод, где я был Каином, ожидания нет, пустыня сзади, сбоку и спереди… Я. Врачи говорят: пустыня хуже одиночной камеры. Депрессия от беспредельности. Отец. Беспредельности одиночества и нищеты. В одиночестве, я заметил, поначалу хорошо живется, поспокойней, но потом вдруг чуешь: что-то не то, пустой чай в кружке становится кислый, носки деревенеют, будто я их на морозе сушил, лампочка тускнеет по вечерам, десны чешутся, руки трясутся, пуговицы от гимнастерки каждый день отлетают, галоши теряются, сам себе кажешься двойником… И правда, в зеркале на тебя смотрит какой-то чужой обросший окаянный человек, морда кирпича просит. Жизнь травы веселее моей. Мама. Это старость почувствовал. А каково мне было стареть да болеть? Я. У мамы обнаружилась щитовидка. Вдруг, ни с того ни с сего, мама начала стремительно худеть, глаза выкатились базедовым ужасом, былая красота сделалась воспоминанием фотокарточек начала 30-х годов… Кто тебя лечил? Мама. Меня лечили будущие «врачи-убийцы в белых халатах». Профессор Шерешевский, профессор Николаев… Славные, добрые люди. Профессионалы. Я. У мамы вырос огромный зоб. На нее страшно было смотреть… под подбородком пухла смерть. Мама. Николаев сделал мне операцию. И — о чудо! — зоб пропал. Я начала поправляться. И через какое-то время узнала, что моих спасителей арестовали. Врачи-вредители. Отец. Им повезло. Все же им короткая вышла отсидка, пока нашего любимого вождя не помыли в морге. 5 марта 1953 года — день официальной кончины вечно живого вождя и учителя народов мира. Но медицина установила, что удар и полная потеря сознания случились 3 марта, — с этого дня, можно сказать, началась та самая «перестройка», которая впоследствии до того потрясла Советский Союз, что он в одночасье возьми и рухни. Знал бы Великий Стратег, чем все это кончится! Хоронили его в день тяжелый — понедельник, 9 марта. Ура! В школу не надо идти!.. «В знак траура» занятия были отменены по всей стране. Это — с одной стороны. А с другой — день скорби и печали. По кому?.. Ну, конечно, прежде всего по великому кормчему. Но я-то жил во дворе меж Петровкой и Неглинкой. А Неглинная улица в двухстах метрах от Трубной площади. И вот на этой самой Трубной площади, как известно, и произошла страшнейшая трагедия, унесшая жизни пятисот с лишним людей. Они погибли в давке, стоя в очереди к Дому Союзов, где был выставлен для всенародного прощания открытый красный гроб с подушкой, на которой валялась мертвая голова бывшего Властелина. Толпа принесла себя в жертву, и бездыханный Вождь с наслаждением принял это последнее жертвоприношение. Мама категорически запретила выходить из дому в эти дни. Иначе я увидел бы гору трупов неподалеку от нашей Обидинки — оцепление грузило их на военные ЗИСы (их производил автомобильный завод имени Сталина — символично, не правда ли?) и отправляло прямо в кладбищенские сараи, где мертвецов быстренько раскладывали по дешевым гробам и раздавали приехавшим родственникам. Ни одно средство массовой информации не сообщило о трагедии. Но слухи тут же поползли от тех, кто знал, что это не слухи. До сих пор на Трубной нет не то что памятного обелиска в честь погибших, но даже крохотной мемориальной доски. А ведь это был бы хороший знак в честь сталинских верноподданных. Впрочем, ПОСМОТРЕТЬ на мертвого Сталина хотели все. И я в том числе. «В гробу я его видел»! Два раза! А мог и в третий пойти, но сам не захотел, надоело толкаться. Как же это удалось? А дело в том, что мы, мальчишки из 170-й школы, знали все проходные дворы между Петровкой и Пушкинской и могли появиться в очереди, избежав многочасового стояния (движения) в ней, аккурат у Столешникова переулка. Отсюда до Дома Союзов и его Колонного зала совсем ничего, рукой подать — и мы рванули туда честной компанией, проникли, можно сказать, запросто… Поэтому, наверное, решили повторить подвиг. Азарт дураков-подростков. Однако во второй раз чуть было не оказались в положении тех, кто погиб на Трубной площади. Задние ряды нещадно напирали на передние. И если кто-то заплетал ногу, случайно падал, встать уже не имел возможности — по нему шли толпой, и тут ее не остановишь, кричи не кричи. Я оказался в толпе как раз у пятидесятого отделения милиции по прозвищу «полтинник». Это было низкое здание за спиной Института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, рядом с прокуратурой. Его, это здание, потом снесли, но оно осталось в нашей памяти, поскольку сюда таскали с Бродвея — то бишь с правой, если смотреть от Кремля, стороны улицы Горького — стиляг и хулиганов моего юного поколения. Здесь их стригли наголо (у милиционеров для этого была специально заведена машинка), а после этой унизительной парикмахерской процедуры давали под зад и выпускали… Кто не соглашался потерять «кок», тот сидел в кутузке денек-другой-третий… Если это не помогало, длинноволосого юношу били по морде и по печени — и тогда его строптивость куда-то пропадала вместе с шевелюрой. Но эти «уроки свободы» в послесталинской Москве (лично я однажды такой урок получил именно в том самом «полтиннике») являлись скорее этакими приключениями на уличном уровне, чем уроками. Однако помнятся до сих пор. А тогда, в день всенародного прощания с великим вождем, я был со страшной силой прижат к кузову грузовика — их стояла целая сотня вдоль всей Пушкинской улицы, чтобы сузить человеческую реку, текущую к центру откуда-то издалека, казалось, из всей необъятной совдепии. Косточки мои затрещали, но каким-то чудом тщедушное мое тельце (хорошо, что тщедушное!) крутанулось пару раз в людском круговороте и понеслось вперед приподнятым над асфальтом, ноги совсем не касались его: сжатый со всех сторон, я как бы парил в направлении к мертвому Сталину, — толпа несла, несла меня, окутанного массой таких же идиотов, как я, и, наконец, опустила… я стал перебирать ногами по земле, почувствовав ее твердость, и понял, что спасен. Как говорится, пронесло. В третий раз встречаться с мертвым вождем не захотелось. Подростковый азарт пропал. Великое счастье быть в едином порыве с массой стало испаряться. Но идиотизм толпы уже предъявил серьезную угрозу жизни.
Начальнику Управления МВД по Красноярскому краю от Шлиндмана Семена Михайловича с/поселенца, проживающего в с Абан, по Советской ул., дом № 5. ЗАЯВЛЕНИЕ 10/1-1953 г., будучи у вас на личном приеме, я докладывал Вам о сложившихся для меня обстоятельствах и невозможности получения работы по специальности в Абанском районе. Эти неблагоприятные обстоятельства сложились не по моей вине, а в результате известной вам специфики. Мне непонятно, почему, оказавшись в этих условиях, я предоставлен самому себе и должен выходить из тяжелого положения только своими силами, слишком ограниченными для этого? В течение последних двух месяцев я пытался предлагать свои услуги различным организациям для работы в каком-либо другом районе ссылки, но получил лишь сообщения об отсутствии у них вакантных должностей. Я не могу больше жить без работы, нет у меня ни сил, ни средств выдержать и дальше эту ужасную безработицу. Поэтому я вновь вынужден беспокоить и настоятельно просить вас о выдаче мне разрешения на переезд в г. Канск, где я буду обеспечен работой, согласно прилагаемому письму Канской МРК «Главсельэлектро». Одновременно со мною прошу разрешить переезд также и моей жене Клемт Ольге Константиновне. С. Шлиндман 20. IV. 1953 г.
Начальнику Управления МВД По Красноярскому краю Полковнику Ковалеву от с/поселенца Шлиндмана Семена Михайловича, с. Абан, Советская ул., 5. ЗАЯВЛЕНИЕ Канская Межрайонная Строительно-монтажная Контора «Главсельэлектро» предложила мне работу по специальности в качестве инженера-экономиста и юрисконсульта, и своими письмами от 12/IX и 16/Х. 1953 г. просила Вас о разрешении моего переезда на жительство в г. Канск. Мною было подано Начальнику Абанского РОМВД капитану Попову заявление от 17/IX. 1953 г. о разрешении мне переезда в г. Канск вместе с женой, с/ поселенкой Клемт Ольгой Константиновной, В Абане я нахожусь в совершенно безвыходном положении, — здесь я буквально погибаю без работы. В мои 48 лет я уже стал инвалидом второй группы, тяжело болен стенокардией, ангионеврозом, хроническим бруцеллезом и гастритом. Я нуждаюсь в постоянном квалифицированном наблюдении со стороны врачей-специалистов и в лечении физиотерапией, чего здесь, в Абане не имеется. В Абане я окончательно пропаду, а проживая в г. Канске, я буду работать по своей специальности и приносить пользу Гэсударству. Прилагая к этому копию справки РайВТЭК о моей инвалидности по второй группе, убедительно прошу Вас удовлетворить ходатайство о разрешении моего и моей жены Ольги Константиновны, переезда в г. Канск. Приложение: Справка РайВТЭК ср. 225 № 085772 С. Шлиндман 23. X. 1953 г.
Начальнику Абанского РО МВД капитану Попову П.И. от с/поселенца Шлиндмана Семена Михайловича, с. Абан, Советская ул., 5. ЗАЯВЛЕНИЕ Вчера мне вновь был объявлен отказ Краевого Управления МВД в переезде на жительство в г. Канск по причине того, что Канск не является, якобы местом для расселения ссыльно-поселенцев. Это, конечно, и без того известно Но известно также и то, что в г Канске проживают сотни ссыльных и ссыльно-поселенцев. Известно, что только из Абанского района на жительство в г. Канск, как и в гг. Красноярск, Ачинск, Абакан, пос. Решоты, Н.-Ингаш и друг, места, не предназначенные для расселения с/поселенцев выехали десятки ссыльно-поселенцев, имеющих, примерно, такие же установочные данные, что и у меня. При этом, однако, не все они являлись специалистами, не все, тем более, находились в таком же тяжелом положении, как я, о чем Вам известно лучше, чем кому бы то ни было. Таким образом, приведенная мотивировка отказа в моем переезде носит сугубо формальный, а в отношении персонально меня, просто бездушный характер. Одновременно с отказом в моем переезде, Краевое управление обратилось к вам с просьбой об оказании содействия в моем трудоустройстве. С такой просьбой я обращался к Вам бесчисленное количество раз Нет здесь такого предприятия и учреждения, в котором я не обивал бы пороги по поводу работы. Но все безрезультатно… Нет для меня в Абане работы сколько-нибудь подходящей и посильной, не говоря уже о работе по специальности. 38 месяцев я без работы. Ужасно об этом подумать… А каково переживать такую чудовищную безработицу? Я потерял здоровье, превратился в инвалида, — все это плоды безработицы. Кому нужно, чтобы квалифицированный специалист пропадал без работы в то время, как он может еще принести пользу Советскому Гэсударству? В г. Канске меня принимают на работу по специальности в Канскую Межрайонную строительномонтажную Контору «Главсельэлектро», в СибСМУ, на Литейно-механический завод и друг. Какой смысл держать меня обязательно в Абане? Разве только, чтобы похоронить меня здесь?.. Но кто дал такую установку насчет меня и на каком основании? Я хочу жить. Для этого я должен работать. Без работы нет жизни Нет работы в Абане, — переводите меня в Канск, в Красноярск, в любой город, где я получу обеспеченную работу. Кроме работы я нуждаюсь в лечении физиотерапией, которой в Абане нет. Тем более мне нужно переехать в Канск. Очевидно все же Краевое Управление МВД полагает, что можно мне предоставить работу в Абане. Прошу Вас проинформировать Управление об истинном положении дел, то есть, что работы для меня нет иневозможно устроить меня на работу. Прошу Вас поддержать мое ходатайство о разрешении переезда на жительство в г. Канск, так как это единственный выход из создавшегося положения Обращаюсь к Вам, как к должностному лицу, непосредственно осуществлявшему надзор. На протяжении всего времени я считал себя обязанным всегда обращаться к Вам с моими ходатайствами. По Вашей рекомендации я обращался именно в Краевое Управление МВД, а не в Министерство или в высшие правительственные органы, так как УМВД вполне правомочно разрешать эти вопросы в пределах края. Еще раз обращаюсь к Вам, и через Вас к Начальнику краевого Управления МВД с настоятельной просьбой разрешить мне и моей жене, Клемт Ольге Константиновне, переезд в г. Канск на постоянное жительство. С. Шлиндман 25 XI. 1953 г.
Начальнику Отдела Управления МВД по Красноярскому краю подполковнику Середницкому. От с/поселенца Шлиндмана Семена Михайловича, — с Абан, Советская ул., 5. ЗАЯВЛЕНИЕ Вчера комендант Абанского РО МВД обьявил мне Ваш новый отказ в переезде моем на жительство в г. Канск. Приведенная Вами формулировка является сугубо формальной. Не мне Вам сообщать о том, что в Канске, в ряде исключения из общего правила, проживает значительный контингент ссыльных и ссыльно-поселенцев, в том числе многие, переехавшие туда по разрешениям краевого управления МВД, из Абанского района. почему же нельзя сделать такого же исключения и для меня? Поймите, что я 38 месяцев не имею работы. Нет ее в Абане по моей специальности, нет и какой-либо другой, сколько-нибудь подходящей и посильной для меня работы. Можете быть уверены в том, что я не упустил бы ни одной малейшей возможности получить работу, если бы она представилась. Вы предложили Начальнику Абанского РО МВД оказать содействие в моем трудоустройстве. Но капитан Попов уже неоднократно пытался устраивать меня на работу, и его попытки оказались безуспешными, — нет работы… Что же, я должен безропотно погибать здесь, в Абане? А я хочу жить. Ваш отказ лишает меня возможности жить, он равносилен смертному приговору. В эту злосчастную ссылку я прибыл относительно здоровым человеком, а теперь, в мои 48 лет, я уже инвалид 2-ой группы. Это — результат такой длительной безработицы, вдребезги расстроившей нервную систему и сердечную деятельность. Я заболел стенокардией, врачи предписывают мне спокойствие. Но можно ли быть спокойным, не имея работы, не имея средств к существованию? Я болен ангионеврозом, вызывающим частые приступы стенокардии. Я нуждаюсь в физиотерапевтическом лечении, которого в Абане нет. Вы не должны держать меня в Абане. 16.XII. 1953 г. исполняется уже 5 лет моему поселению. Дайте же мне возможность жить и работать. Речь идет о человеческой жизни. Пока я еще дышу, я не отстану, я буду продолжать, настаивать, буду требовать, — я не хочу погибать бессмысленно. Из имеющихся у Вас ходатайств Канской Межрайонной Строительно-монтажной конторы «Главсельэлектро» Вы видите, что я еще нужный специалист, могу быть полезным и на таком важном участке, как сельская и колхозная электрификация. Работу мне предлагают и другие предприятия. В Канске — непочатый край работы по моей специальности. Я знаю, что главное исцеление мое от всех моих болезней — это работа. Право на труд, обеспечиваемое конституцией СССР, это не какое-то беспредметное право, а как гласит статья 118 Конституции, «право на получение гарантированной работы…» Я вынужден прибегнуть к этой цитате, ибо фактически я оказался лишенным священного и незыблемого права на труд в сложившихся для меня в Абанском районе неблагоприятных условиях. Еще и еще раз настоятельно прошу Вас разрешить мне и моей жене Клемт Ольге Константиновне, переезд на постоянное жительство в г. Канск. Прошу Вас не задерживать положительного решения, так как мне очень тяжело. Будьте справедливы и гуманны, — от Вашего решения зависит вся моя жизнь. С. Шлиндман 25. XI. 1953 г. Вновь прилагаю нотариально заверенную копию справки Абанской РайВТЭК о моей инвалидности, а также заявление моей жены, Клемт Ольги Константиновны. С. Шлиндман.
В Управление МВД по Красноярскому краю от с/поселенки Клемт Ольги Константиновны, — с. Абан, Советская ул., 5. ЗАЯВЛЕНИЕ В связи с ходатайством моего мужа, Шлиндмана Семена Михайловича, о разрешении переезда на жительство в г. Канск, прошу одновременно с ним разрешить и мне переезд в г. Канск для совместного проживания там с мужем. В городе Канске и я смогу найти себе применение по моей специальности художника-модельера дамского и детского платья. 25. XI.1953 г. Клемт.
Начальнику Абанского Районного Отделения УМВД по Красноярскому краю капитану Попову ПИ. от с/поселенца Шлиндмана Семена Михайловича, проживающего в с. Абан, по ул. Советской, дом № 5 ЗАЯВЛЕНИЕ Вам известно, что на протяжении вот уже трех лет я не имею работы. Все мои попытки получить работу по специальности, или хотя бы просто посильную для меня работу, успеха не имели. Тяжелую же физическую работу я выполнять не могу, так как болен бруцеллезом, миокардиострофией, хроническим гастритом (катаром желудка) и выпадением прямой кишки, что подтверждается прилагаемой справкой врачебно-контоольной комиссии от 10/IV. 1953 г. за № 330. С 14-летнего возраста я привык работать. Теперешнее мое положение безработного, помимо тяжелых материальных условий, создает для меня также и невыносимые моральные мучения Я изголодался по работе. Труд является моей насущной потребностью, без удовлетворения которой я жить не могу, превращаюсь в рухлядь, никчемную развалину. Между тем я являюсь квалифицированным инженером-экономистом и юрисконсультом. Работая по своей специальности, я мог бы принести пользу Советскому Гэсударству, да и сам обеспечить себя. Я вполне еще работоспособен, энергичен и полон стремления плодотворно работать. Статья 118 Конституции Союза ССР предоставляет мне право на труд, «То есть право на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством». Однако, дальнейшее содержание мое на поселении в Абанском районе, где окончательно я не могу устроиться, лишает меня этого законного и естественного для всех советских граждан святого права на труд. Неоднократно я обращался в различные организации Красноярского края (Красноярскстрой, Крас-ноярсклеспромстрой, Крайместпром, Крайуправление промышленности стройматериалов, Красноярсклес и др.) с просьбой о предоставлении мне работы по специальности в одном из предприятий, расположенных в местах ссыльного поселения. В ответ я неизменно получаю сообщения об отсутствии вакантных должностей. Учитывая наличие в районах ссыльного поселения достаточного числа специалистов, рассчитывать на получение работы там мне также не приходится. В г. Канске, куда уже переехали на жительство некоторые с/поселенцы из Абанекого района я могу получить работу по специальности во многих учреждениях и предприятиях. В частности, предоставляет мне работу Канская Межрайонная Контора «Глав-сельэлектро», выдавшая мне гарантийное письмо и обратившаяся к Начальнику УМВД по Красноярскому краю с ходатайством о разрешении моего переезда на жительство в г. Канск. Исходя из всего изложенного выше и ссылаясь на письмо Канской Межрайонной Строительно-монтажной Конторы «Главсельэлектро» от 12 сентяября 1953 г. за № 7-9-21, прошу о выдаче мне в установленном порядке разрешения на переезд в г. Канск для работы в «Главсельэлектро». Одновременно прошу разрешить переезд со мной также и моей жене, Клемт Ольге Константиновне. С. Шлиндман. 15. IX. 1953 г.
Инж. — Экономисту ШЛИНДМАН Семену Михайловичу. С. Абан, Красноярского края, Советская ул., № 5 Канская Межрайонная Контора «Главсельэлектро» подтверждает, что Вам будет предоставлена работа в МРК в качестве Инженера-экономиста и Юрисконсульта. Одновременно с этим нами возбуждено Ходатайство перед Нач. УМВД по Красноярскому краю о разрешении Вашего переезда в г. Канск. ДИРЕКТОР КАНСКОЙ МРК «ГЛАВСЕЛЬЭЛЕКТРО» П. Маркин.
Первое впечатление от этих документов — отец уже не боец. Надлом личности очевиден. Это уже совсем другой человек — по-другому живущий, по-другому, я бы сказал, поющий песенку своей жизни. Нет, он не развалился до конца, но как-то, видимо, сузился, скукожился, заперся в своих проявлениях. Жизнь по инерции — нормальное, бесконечное, каждодневное, серое существование ссыльного — без перспективы, без зигзагов и ярких пятен. Одиночество вопиющего в пустыне столь затянулось, что встал вопрос: зачем вопить, коль бесполезно вопить. Нельзя сказать, что он сдался, но какая-то оторопь берет меня, когда он с присущей ему упертостью ведет новые великие войны с КГБ — сначала за то, чтобы ему вернули одеяло, пропавшее при аресте, потом за то, чтобы его переселили в Канск с женой, где у него, безработного и голодающего ссыльного, появится работа. Душераздирающая переписка. С одной стороны, маленький человечек, изнывающий от своих повседневных нищеты и пустоты существования, а с другой — государство, этот голем бесчеловечности, безразличия к доходяге. Опять кто кого? Отец. Глупости всё!.. Просто я понял, что жизнь потеряна и уже НИКОГДА, понимаешь ли ты это слово — никогда! — не буду на свободе. Никогда не вернусь ни к жене, ни к сыну. Никогда вот тебя… понимаешь?., не увижу тебя никогда! Я. Смирись, гордый человек, — это, да? Отец. Да нет же… Читал я твоего Достоевского!.. Он всё правильно говорит, но только все это литература, а в жизни не так. Я. А как? Отец. В жизни… в какой-то момент начинаешь любить свой застенок. Ты не щурься… потому что понимаешь: другой жизни у тебя уже не будет — тогда живи, ковыляй и утрись тем, что есть. Твоя доля. И тут не важно — смирился ты там или не смирился. Всё тебе становится по-хую, то есть, прости, по-фигу. И собственная жизнь, и гордость — негордость… Ты вроде сам от себя отделяешься и живешь, уже сам себя не видя со стороны, будто параллельно той настоящей жизни, которой тебя почему-то лишили, и уже неинтересно знать, почему. Вдруг чувствуешь: всё, конец. А завтра вдруг этот конец имеет продолжение, и послезавтра… Скука жмет, ни земли, что зовется родиной, ни Бога на небе — никого и ничего. И уже эта бодяга тебя не волнует, ты ведь в эту бодягу погружен, как в ванну с азотной кислотой… И ты в ней тонешь и растворяешься… разложение неизбежно. Я. Бодяга — это что, я не понял? Отец. Жизнь становится бодягой, чего ты не понял, сынок?.. Жизнь! Я. Ужасно. Отец. В том-то и дело, что нет. Как сказал твой любимый Достоевский: «Ко всему-то человек привыкает!» Я. И к застенку? Отец. И к застенку. Когда нет выхода, жмешься по углам. Я. Выходит, ты привык к своей несвободе и приспособился к ней?.. И это ты, который выдержал все допросы и пытки, все этапы и унижения?.. Ты, герой!.. Какой ты герой?!. Отец. А чего еще было делать?.. Закон тайги: с волками жить, по-волчьи выть. Я. Ужасно. Ужасно. Ужасно. Отец. А попривыкнешь — вроде ничего. Жить можно. Я. Я о тебе лучше думал. Отец. Потому что дурак, не знаешь, что и как бывает на свете. Вот ты сказал «не боец». А чтоб выжить, надо было перестать быть бойцом, надо было заховаться в берлогу, исчезнуть с вида, зарыться, заспаться… В микроба надо было превратиться, в последнюю вошь… И прогнать от себя подальше и разум, и чувства… главное, разум!.. Потому что он мешает, ибо хочет осилить то, что случилось с тобой и со всеми; он спрашивает: «Почему да за что?» А уже спрашивать не надо, ты насекомое, не человек, а насекомое ни о чем не спрашивает… Вот и живи, как насекомое. И жизни радуйся, как насекомое. А убьют тебя, как насекомое, значит, и это справедливо — ты ведь уже не человек. Был человек, а стал не человек. И этим все сказано-доказано. Я. Сказано — не значит доказано. Отец. Вот-вот!.. Поэтому лучше молчать в наше время. Все равно ничего не докажешь. Я. Сталин. Отец. Что — Сталин? Я. Это Сталин сделал из нас насекомых. Рабов. Отец. Да он сам был насекомое. Хотел всех себе уподобить. Я. И у него получилось. Кое с кем. Отец. А вот и нет. Если б у него, как ты сказал, «получилось», мы бы с тобой не разговаривали сейчас. Я. Ты забываешь, что… сейчас… Отец. Я мертвый, а ты живой, да?.. Нет, сынок, вот здесь, в твоем театре, мы оба — живые. Разве не так? Я. Папа… не уходи. Только не уходи! Папа! Отец. Я буду с тобой всегда, когда ты меня позовешь. Зови чаще! (Исчезает.)
АВТОБИОГРАФИЯ Я, Шлиндман. Семен Михайлович, родился 9-го июня 1905 года в городе Харькове, в семье служащего. Отец мой, Шлиндан М.Е., служил приказчиком в торговой фирме Ш.Б. Липовского до 1920 года, после чего работал в различных государственных и кооперативно-промысловых организациях, а с 1924 г. до 1926 г. занимался мелкой торговлей. Отец работал до 1938 года в Ленпромторге завмагом, а в 1938 году по старости и болезням работать уже не смог и умер в г. Москве 17/VI. 1940 г. Я до 1920 года учился в Гимназии Общества 2-ой группы преподавателей в г. Харькове. Потом перешел в 1-ю советскую Политехническую школу-коммуну, в которой и закончил в 1921-м году среднее образование. В 1921 году поступил учиться в Харьковский Институт Народного Хозяйства, экономическое отделение, где учился до 1926 года. Одновременно с учебой я начал работать и работал в следующих организациях: В 1920—1921-м гг. — в ЦК КСРМУ зам. зав. экспедицией; В 1922 г. — учеником слесаря на заводе Электросила N91 (б. В ЭК); С мая 1922 г. и до 1924 г. — инспектором бюро жалоб НКРКИ УССР при органах ЧК Украины и Крыма и инспектором Центрального Бюро Жалоб НКРКИ УССР; С 1924 г. — коммерческим доверенным Акц. Общества «Укрларек» в г. Харькове; 1926–1927 г. — коммерческим доверенным и ст. экономистом Ткацкой фабрики им. Алексеева в г. Москве; XI. 1927— XI. 1928 г. — на действительной военной службе в команде одногодников при Владивостокской военно-пехотной школе им. Коминтерна; 1929–1930 г.г. — ст. экономистом Стромсинди-ката — Союзстроя ВС ИХ и зам. Директора Строительства Чернореченского Цементного завода; 1931–1932 г. — ст. инспектором Главного управления Капитального Строительства Наркомзема СССР; 1933–1935 г. — Ст. экономистом и нач. отдела труда и зарплаты Главстроя Наркомсната — Нар-компищепрома СССР; Х.1935 г. — XI.1937 г. — нач. планово-производственного отдела Всесоюзного строительномонтажного треста «Камчатстрой» Наркомпище-прома СССР. З/ХП. 1937 г. арестован в г. Петропавловске на Камчатке и по ст. 58, п.п. 7 и 11, по решению Особого Совещания при НКВД СССР приговорен к 8-ми годам заключения в ИТЛ. Срок отбывал в Краслаге МВД до 12/VIII. 1946 года. С 18/IX. 1946 г. до сентября 1948 г. работал по вольному найму в Буреполомском ИТЛ УИТЛК УМВД по Горьковской области в должности нач. производственно-плановой части 1-го отделения Лагеря. С 12/XI. до 16/XII. 1948 г. работал зам. Нач. Тульского строительно-монтажного управления треста «Трансводстрой» Главспецстроя министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. 16/XII. 1948 г. был арестован в г. Тула и направлен на поселение в Красноярский край, в Абанском районе которого проживаю с 29/V. 1949 года. С 25/Х. 1949 г. до 1/XI. 1950работал техником-строителем Абанского Райотдела сельского и колхозного строительства. Май-июнь 1951 г. — заведывал шахтой артели «Канский шахтер» в с. Абан. С июля 1951 г. был занят работой по внедрению судебного иска колхоза им. Буденного, Абанского района, к Красноярской Краевой конторе Главсельэлектро о 218862 рубл. С 4/11. до 6/IV. 1952 г. работал техником-нормировщиком Абанского Химлесхоза. В с. Абан проживаю по Советской ул., дом № 5. С первой моей женой Котопулло Лидией Михайловной разошелся в мае месяце 1947 года. При ней, в г. Москве по ул. Петровка, дом № 26, кв. 50, проживает мой сын, Марк Семенович Шлиндман 15-ти лет. Моя мать, Шлиндман Софья Марковна, 76-ти лет, проживает в г. Москве, по 2-му Самотечному пер., дом № 7, кв. 19. С. Шлиндман 20. Х.1952 г.
…В школе я был самый маленький и самый худенький в классе. Нет, еще двое были такие же, как я, — Рубичев и Нурик. Когда нас выстраивали в линейку по росту, мы трое стояли всегда последними: каждый год менялся порядок — в 5-м классе Нурик, я, Рубичев… В шестом — Рубичев, Нурик, я… в седьмом я, Рубичев, Нурик… Кто-то из нас подрастал быстрее, кто-то медленнее. Высокорослые были где-то там, далеко, на правом фланге… Во время переменок они нас, маленьких, били. Каждый «длинный» мог подойти сзади и пнуть ногой. Это было очень обидно. Потому что хотелось ответить, но было страшно. И тогда я дал себе клятву. Я сказал себе: — Они бьют тебя, потому что чувствуют себя сильнее. Ты не должен это терпеть. Ты должен суметь дать сдачи. Ты должен показать им, что ты их не боишься. Легко сказать, сделать трудно. Но я решил — значит, надо попытаться, а там — будь что будет… Хотя бы один раз надо постоять за себя. Я не думал, что стану героем в собственных глазах. Но я хотел доказать самому себе, что могу ответить ЛЮБОМУ обидчику. Я достал бритву и надрезал себе палец. Кровью я натер кулак, точнее, свой кулачок. Я торжественно произнес вслух слова, которые заставил себя произнести, войдя в школьный туалет, когда там никого не было. Я сказал: — Клянусь, что дам сдачи, не думая о последствиях. Я повторил эту фразу трижды для пущей убедительности. При этом я осознавал, что реакция на мое действие будет — меня каждый «длинный» мог отлупить… Вот почему я приказал себе: твой ответ должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕАДЕКВАТНЫМ — ты должен ударить в три, в пять раз сильнее, чем ударили тебя. И ты при этом не должен думать о «последствиях»… Ты бьешь со всей силы, на какую только способен — только правильно попади! — бьешь сразу, ни секунды не теряя, будешь раздумывать — значит, нарушишь КЛЯТВУ.. Слово «клятва» было завораживающим… Клялись молодогвардейцы, клялся сам товарищ Сталин в одноименном фильме, теперь клялся — я… О-оо, это было серьезное испытание. После клятвы я не спал ночь. Ворочался и что-то шептал себе под нос… С утра клятва начала действовать, и мне оставалось одно — ждать, когда меня кто-нибудь тронет. О школа послевоенных лет!.. Сколько здесь было самого жестокого хулиганства, сколько драк и стычек… «Пойдем стыкнёмся!» — говорили мы в те далекие времена. Шли на «задний» школьный двор, бросали портфели на снег и боевито выставляли друг против друга сжатые дрожащие кулачки… Но тут было другое. О драке не могло быть и речи. В драке я приговорен к поражению. Клятва выводила меня на совершенно другой уровень — мне не важно было доказать, кто сильнее. Априори сильнее был мой противник. Мне важно было доказать самому себе, что у меня есть достоинство. И всё? И всё. Ну, тогда жди. Жду. Сами понимаете, ждать мне пришлось недолго. Как сейчас помню — был урок географии. Где-то минут за пятнадцать до конца урока я получаю увесистый «шелобан» в затылок. Это Мишка Е. решил поразвлечься. Ну ладно бы ударил книгой, ручкой, на худой конец… А то «шелобан»!.. Хороший такой, звучный… И, главное, болезненный. И не столько для затылка, сколько для моего самолюбия. Мгновенно клятву надо было привести в действие. Если раньше я на такой «шелобан» просто отмахнулся бы, то теперь… Теперь я откинул парту, встал во весь свой маленький рост, повернулся назад и… со всего размаху влепил Мишке по морде кулаком. Это видел весь класс. Кроме училки географии. Она в тот момент, к счастью для меня, оказалась в проходе между партами спиной к произошедшему. Она, конечно, обернулась, но не успела ничего увидеть, так как я уже сидел за своей первой партой. Мишка тоже не подал вида, я услышал за собой только, как он тихо, но напряженно сопит. Дальнейшие пятнадцать минут были для меня сущим адом. Я с ужасом ждал звонка, после которого должно было наступить Мишкино возмездие. Я сжался в комок и представил себе, как он возьмет меня за шкирку могучими руками и начнет сначала мотать из стороны в сторону, потом протащит носом по полу к стене и начнет мною бить в эту стену — так, что краска будет осыпаться. А все будут смотреть на эту жуткую картину кружочком и гоготать… От страха я чуть не умер. Эти пятнадцать минут продолжались, как мне показалось, часа два… Вот сейчас, сейчас… сейчас зазвенит проклятый звонок и… начнется! Я забыл о своей клятве, я обо всем на свете забыл… Я только чувствовал за своей спиной эту жуть — Мишкино присутствие и угрозу стереть меня в порошок. Не тут-то было!.. Прозвенел звонок, и Мишка, как ни в чем не бывало, ни слова мне не сказав, прошмыгнул в школьный коридор. Больше меня никто никогда в школе не трогал. Ни одного шелобана за все оставшиеся годы. Урок на всю жизнь. Правда, не урок географии… В спектакле «Песни нашей коммуналки» я рассказывал о своем счастливом детстве (у всех детей той лучезарной эпохи детство было исключительно счастливым благодаря лично товарищу Сталину), проведенном в квартире, где жили 83 человека, в полуподвале. Естественно, один кран на всех, называемый рукомойником. Один туалет. Ф-фу, извините за французское слово, оно неточное. У нас был не туалет, а уборная. И тоже одна на всех. Что, естественно, не совсем. По утрам здесь выстраивалась длинная очередь детей и жильцов. Кому в школу, кому на работу… Часто дети пропускали вперед взрослых (всё наоборот). А почему? А потому что взрослым нужнее. В школу можно еще как-то опоздать, а на работу — ни-ни. За опоздание на 3 минуты — выговор, на 20 минут — тюрьма. Строгий сталинский закон. А что делать?.. Пораньше ложиться, пораньше вставать. Казарма. И вставали часа за два до начала работы. Чтобы успеть. Хорошо, если есть метро. Но если автобус или троллейбус — это уже тяжелее. Риски большие. Самое надежное транспортное средство — трамвай, всегда увешанная людьми его подножка — символ моего (нашего!) детства.
Раз на остановке
Трамвай я поджидал,
Трамвай казался раем,
Но в рай я не попал.
И лишь кусок подножки
Я взял на абордаж.
На чей-то дамской ножке
Я поместил багаж.
Мы летим, ковыляя во мгле,
Две старушки повисли на мне,
А пока я летел,
Мой карман опустел —
Очищен чей-то заботливой рукой.
Слышно «ай!», слышно «ой!»,
Кто-то носом тормозит по мостовой…
Кока-колу я пить всегда готов!
Кока-кола — напиток для богов.
Кока-колу вкушал еще Форсайт.
Пейте коку! Пейте колу!
Доброй ночи!., Гуд найт!
Среди асфальта и бетонных стен,
Среди гудков и городского шума,
Стиляга Боб влюбился в манекен
С витрины ГУМа! ГУМа! ГУМа!
Министру внутренних дел Союза ССР Сергею Никифоровичу Круглову От Шлиндмана Семена Михайловича, с/поселенца, 1905 г.р., — Красноярский край, Абанский район, с. Абан, Советская ул., дом № 5. ЖАЛОБА Пять лет, с 16/XII. 1948 г.: я нахожусь на бессрочном ссыльном поселении, назначенном мне в связи с судимостью, отбытой мною с 3.XII. 1937 г. по 12. VIII. 1946 г. по ложному и клеветническому обвинению Я абсолютно верю в предстоящую мою реабилитацию, потому что только так может по-справедливому решиться мой вопрос. Но пока что я должен жить и хочу жить. Для этого мне нужно иметь элементарные условия: обеспеченную работу и необходимую медицинскую помощь. 38 месяцев я хожу без работы и нету меня никаких перспектив к ее получению. Ди кии и бессмысленный факт в нашей советской действительности, но, к сожалению, все же факт… Я издергался, теряю последние остатки здоровья и сил, каждый день приносит мне нескончаемые муки. Шутка ли сказать: свыше 3-х лет без работы!.. Я — инвалид второй группы, но я могу и должен работать по специальности, чтобы не умереть голодной смертью. Нету меня других источников к существованию. Труд является для меня жизненной потребностью и необходимостью. Здесь, в с. Абан, я оказался фактически лишенным священного права, гарантируемого конституцией СССР, права на труд, — нет здесь для меня сколько-нибудь подходящей и посильной работы, не говоря уже о работе по специальности инженера-экономиста и юрисконсульта. Я болен стенокардией, ангионеврозом, хроническим бруцеллезом, нуждаюсь в серьезном лечении, в частности в физиотерапевтическом лечении, которого здесь, в с. Абан, нет. Нет здесь и врачей-специалистов по сердечным и нервным заболеваниям, чье постоянное наблюдение и помощь мне необходимы, нет здесь и специального бруцеллезного лечения. Все эти обстоятельства привели к резкому ухудшению моего здоровья, сделали меня инвалидом, влачащим жалкое существование. Мое положение в селе Абан совершенно безнадежно, здесь ждет меня лишь скорая смерть. Такой участи я не заслужил, она ничем не оправдана. Никому не нужно превращение ссылки в мою преждевременную могилу, — мне ведь только 48 лет. Между тем и для меня есть спасение Спасение ~ в переезде моем на жительство в г. Красноярск или г. Канск, а еще лучше в г. Абакан или г. Минусинск, находящиеся в южной части Красноярского края, где климатические условия несколько мягче и более благоприятны для моего здоровья В любом из этих пунктов я безусловно буду иметь обеспеченную работу по специальности, что является, самым главным, а также получу постоянную квалифицированную медицинскую помощь. Несколько раз я обращался в УМВД по Красноярскому краю с просьбой о разрешении моего переезда на жительство в г. Красноярск или в один из других городов Красноярского края. Ходатайство о разрешении моего переезда в г. Канск возбуждала Канская Межрайонная Строительно-монтажная Контора «Главсельэлектро», предоставляющая мне работу в качестве инженера-экономиста и юрисконсульта (см. прилагаемые копии писем от 12.IX. 1953 г. за № 7-9-21 и от 16.Х. 1953 г. за № 5216, адресованных Нач. УМВД полковнику Ковалеву). Начальник отдела УМВД по Красноярскому краю Середницкий отказал мне в переезде, формально ссылаясь на то, что гг. Канск и Красноярск не являются местами ссыльного поселения. Однако известно, что в Канске, как и в Красноярске, проживает немалое число ссыльно-поселенцев. Только из нашего Аба некого района за последние 1–2 года переехало на жительство в Красноярск, Канск, Ачинск, Абакан и другие города Красноярского края несколько десятков ссыльно-поселенцев с такими же, примерно, установочными данными, что и у меня. Почему же мне, больному человеку, не разрешается переезд, когда известно, что только в нем спасение моей жизни? Изложенные обстоятельства и вынудили меня обратиться к Вам, уважаемый гражданин Министр, с настоящей жалобой и просить Вас разрешить мне срочный переезд на жительство в г. Красноярск или же в г. Канск, а если сочтете возможным, то в г. Абакан или в г. Минусинск. Одновременно со мной прошу разрешить переезд и моей жене, с/поселенке Клемт Ольге Константиновне, заявление которой прилагается к этому. Прошу Вас не отказать в моей просьбе. Приложения- 1) Нотариально заверенная копия гарантийного письма Канской МРК «Главсельэлектро» от 12.IX. 1953 за № 7-9-21 о предоставлении работы. 2) Копии писем Канской МРК «Главсельэлектро» от 12.IX. 1953 за № 7-9-21 и от 16.Х. 1953 г. за № 5316, адресованных нач. УМВД по Красноярскому краю полковнику Ковалеву. 3) Нотариально заверенная копия справки сер. 225 № 085772 от 22. X. 1953 г., выданной ВТЭК Абанского Райсобеза об инвалидности; 4) Заявление Клемт Ольги Константиновны о разрешении совместного переезда. Всех приложений — на 5 листах. С. Шлиндман. 3.XI. 1953 г.
Инж. — экономисту ШЛИНДМАН Семену Михайловичу. с. Абан, Красноярского края, Советская ул., № 5. Канская Межрайонная Контора «Главсельэлектро» подтверждает, что, в случае Вашего переезда на жительство в г. Канск, Вам будет предоставлена работа в МРК в качестве Инженера — Экономиста и Юрисконсульта. Одновременно с этим нами возбуждено ходатайство перед УМГБ по Красноярскому краю о разрешении Вашего переезда в г. Канск. ДИРЕКТОР КАНСКОЙ МРК «ГЛАВСЕЛЬЭЛЕКТРО» П. МАРКИН
Министру внутренних Дел Союза ССР Сергею Владимировичу Круглову От Клемт Ольги Константиновны, с/поселенки, 1906 г.р. — Красноярский край, Абанский район, с. Абан, Советская ул., дом № 5. ЗАЯВЛЕНИЕ В связи с ходатайством моего мужа, Шлиндмана Семена Михайловича, о разрешении ему переезда на жительство в г. Красноярск или же в г. Канск, прошу одновременно разрешить и мне совместный с ним переезд на постоянное жительство. В новом месте жительства, в городских условиях, и я смогу найти себе применение как художник-модельер дамского и детского платья. В селе Абан работы по моей специальности нет. 18. XI. 1953 г. Клемт.
1954
ХАРАКТЕРИСТИКА Ha cc/noc Шлидман Семен Михайлович 1905 года рождения который находится под гласным надзором Абанского РО МВД с 1949 года установленный режим выполняет, административных взысканий не имеет, не работает. Компрометирующими материалами не располагаем. Комендант с/к Ст. л-нт. Подпись. I. 54 г.РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 159 1. Фамилия Шлиндман 2. Имя, отчество Семен Михайлович 3. Год рождения 1905 г. 4 Место жительства ул. Революции № 47 5. Место работы Унр 297 6. На учете в данной спецкомендатуре состоит с 10/11 — 54 г. Ссыльнопоселенец Фото Образец подписи С. Шлиндман
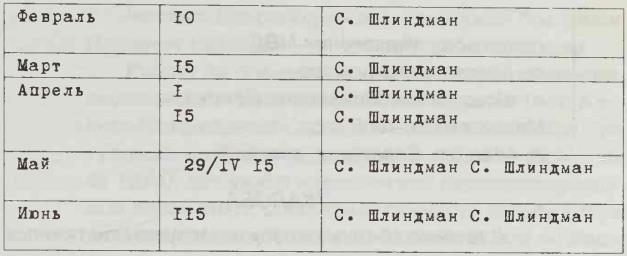
В Управление МВД по Красноярскому краю от Клемт Ольги Константиновны, с/поселенки, 1906 г.р., — проживающей в с. Абан, Красноярского края, по ул. Советской, дом № 5. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу разрешить мне переезд на постоянное жительство в гор. Канск совместно с моим мужем Шлиндман Семеном Михайловичем. Клемт 11.1. 1954 г.
СПРАВКА Выдана Абанским исполкомом райсовета депутатов трудящихся Шлидману Семену Михайловичу в том, что за неимением вакантных мест использовать его по специальности в Абанском районе нет возможности. Зам. Председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся К. Юрин
Начальнику Управления МВД по Красноярскому краю от с/поселенца Шлиндмана Семена Михайловича, 1905 г. р., — с. Абан, ул. Советская, дом № 5 ЖАЛОБА В течение 16-ти летя несу незаслуженное тяжелое наказание за несовершенные мною преступления. Дело мое рассматривается сейчас в Прокуратуре Союза ССР, и проводимые Центральным Комитетом Коммунистической Партии Советского Союза и Правительством СССР меры по обеспечению обьективного и справедливого разбирательства по жалобам советских граждан дают мне уверенность в предстоящей полной моей реабилитации. Нужно мне обязательно дождаться этого счастливого момента, когда я буду возвращен в великую семью свободных советских людей. Но беда моя в том, что я нахожусь в слишком тяжелых условиях, в которых дальше невозможно: 1. На протяжении 40 месяцев я не имею работы и нет никаких перспектив к ее получению (см. прилагаемую справку Исполкома Абанского Райсовета от 18/1. 1954 г. за № 16). Нет работы по прямой специальности, нет и другой какой-либо посильной для меня работы. 2 Я заболел стенокардией (грудной жабой) и хро-нич. бруцеллезом, признан инвалидом 2 группы (см. справку сер. 225 № 085772 от 22/К. 1953 г.). Болезнь не позволяет мне заняться каким бы то ни было физическим трудом. По своей специальности я смог бы с успехом работать. Отсутствие работы ставит меня не только в тяжелейшие материальные условия, лишая единственного источника средств к существованию, но добивает меня морально, психически, и нет у меня больше сил находиться в таком бессмысленном для советского человека состоянии. Человек без работы — это, что дерево без земли. И я начну работать — почувствую себя здоровым. Работу по специальности, в качестве инженера-экономиста и юрисконсульта предлагает мне Канская Межрайонная Строительно-Монтажная Контора «Главсельэлектро» (см. письмо от 22/1. — 1954 г. за № 1654), которой я известен как квалифицированный специалист, способный принести пользу в деле сельской электрификации. Адресованным на Ваше имя письмом за № 1655 от 22/1. 1954 г., Канская МРК «Главсельэлектро» ходатайствует перед Вами о разрешении моего переезда в г. Канск. Это единственное мое спасение в настоящее время. И, в то же время, единственное средство восстановить мое законное право на труд, гарантируемое Конституцией Союза ССР. Прошу Вас учесть изложенное и разрешить мне и моей жене, Клемт Ольге Константиновне, переезд на жительство в г. Канск для работы по специальности. Приложение: упомянутое на 4 листах. 26.1 1954 г. С. Шлиндман.
Нач. отдела УМВД по Красн. краю полковнику Середницкому от с/поселенца Шлиндмана Семена Михайловича, с. Абан, Красноярского края, Советская ул., 5. ЗАЯВЛЕНИЕ Состояние моего здоровья тяжелое, я признан инвалидом 2 группы. Физически работать не могу, по специальности же, или какой-либо другой посильной для меня работы я не могу найти. Вследствие этого я продолжительное время не имею работы, что, в свою очередь, еще больше усугубляет мои болезни. По специальности я инженер-экономист и юрист, хорошо знаю строительное дело. По найму работал с 14-ти летнего возраста. Срок заключения отбывал в Краслаге. С ноября 1940 г. до ноября 1941 г. находился в Канском ОЛП, работал десятником Стройчасти по строительству жел. — дор. Ветки от ст. Канск до рейда Канского ОЛП. С ноября 1941 г. до ноября 1942 г. — работал экономистом на 7 л/п Нижне-Пойменского отделения Краслага. С июня 1943 г. до августа 1946 г. работал на 1 ОЛП Краслага мастером порубки, зав. Шпалзаводом, культбригадой 1 ОЛП. После освобождения из Краслага я работал по вольному найму в УИТЛиК УМВД по Гэрьковской области в должности Нач. Производства 1-го отделения Буреполомского ИТЛ. Я хочу работать и не могу жить без работы. Прошу Вас учесть мое состояние и, в виде исключения, разрешить мне и моей жене, Клемт Ольге Константиновне, переехать на жительство в г. Канск, где я буду обеспечен работой по специальности. С. Шлиндман. 27. I. 1954 г.
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 21 Действителен по десятое февраля 1954 г. Шлиндману Семену Михайловичу 1905 года рождения, разрешен выезд из Абанского района в г. Канск, Красноярского края, и обратно, который к месту назначения долженследовать только через ________ При уклонении от указанного маршрута настоящий лист теряет силу, а владелец его подлежит задержанию. По прибытию к месту назначения Шлиндман С.М. обязан немедленно явиться на регистрацию, а по возвращении маршрутный лист сдать в орган МВД. НАЧАЛЬНИК АБАНСКОГО РО МВД ПОПОВ. 6 февраля 1954 г.
СПРАВКА Дана Шлидману Семену Михайловичу в том, что он является главой семьи. Семейное положение: Жена — Клемт Ольга Константиновна 1906 г.р. Справка дана для предъявления по месту жительства. Пред. Сельсовета. Подпись Секретарь. Подпись.
Начальнику отдела Управления МВД по Красноярскому краю полковнику Середницкому от с/поселенца Шлиндман Семена Михайловича, — г. Канск, Московская ул., № 59, кв. 4. ЗАЯВЛЕНИЕ По разрешению Управления МВД я переехал на постоянное жительство в г. Канск. На днях приступлю к работе по специальности. Однако не могу ничего окончательного предпринимать ни в отношении устройства на работу, ни, тем более, в отношении бытового устройства, виду отсутствия жены, оставшейся еще в Абане. Прилагая к этому справку Абанского сельсовета от 8/11. 1954 г. о моем семейном положении, убедительно прошу Вас ускорить выдачу разрешения на переезд в г. Канск, к месту постоянного посепения, моей жены, с/поселенки Клемт Ольги Константиновны. Прошу при этом учесть также и то, что по состоянию своего здоровья я нуждаюсь в помощи и уходе. С. Шлиндман. 10.11.1954
РАСПИСКА Мне Шлиндману Семену Михайловичу 1905 года рождения, проживающему гор. Канск Канского района Красноярского края объявлены: постановление СНК СССР № 35 от 8/1 1945 года «О правовом положении» и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28-го ноября 1948 года, я предупрежден в том, что выселен на спецпоселение навечно, без права возврата к месту прежнего жительства и за самовольный выезд (побег) с места обязательного поселения буду осужден на 20 лет каторжных работ. Подпись С. Шлиндман 10 февраля 1954 г Расписку отобрал комендант Канского Г О МВД Фролов.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЗАМЕН ПАСПОРТА Выдано Шлиндман Семену Михайловичу 1905 года рождения в том, что он является спец-поселенцем и проживает в гор. Канск Канского района Красноярского края. Действительно по 15 февраля 1955 г. только на территории гор Канск Красноярского края. Начальник Канского ГО МВД Подпись.
КОПИЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4н — 04432/54 ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР в составе: Председательствующего генерал-майора юстиции МАТУЛЕВИЧА полковника юстиции СТУЧЕК, и членов: полковника юстиции РЫБКИНА, рассмотрев в заседании от 26 мая 1954 ПРОТЕСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СССР на постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1940 года, которым по ст. ст.58-1 «а», 58-8, 58-7. 58–11 УК РСФСР осужден — ШЛИНДМАН Семен Михайлович к заключению в ИТЛ сроком на 8 лет и на постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 16 февраля 1949 года, которым ШЛИНДМАН С М. осужден к ссылке на поселение, заслушав доклад тов. РЫБКИНА и заключение пом. Главного Военного Прокурора — генерал-майора юстиции КРАСНИКОВА, об удовлетворении протеста, УСТАНОВИЛА: По выводам обвинительного заключения ШЛИНДМАН обвинялся в том, что он являлся участником контрреволюционной право-троцкистской, шпионско-диверсионной организации, существовавшей на Камчатке, в интересах которой проводил подрывную деятельность в области производственного планирования строительства судоремонтного завода. Будучи начальником планового отдела треста «Камчатстрой», путем несвоевременного составления производственных квартальных планов, занимался дезорганизацией производства. Кроме того, ШЛИНДМАН сознательно срывал проведение в жизнь премиально-прогрессивную оплату труда, а также саботировал стахановское движение на заводе и тем самым создавал у рабочих недовольство к советской власти и Коммунистической партии. За указанные преступления ШЛИНДМАН Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1940 года осужден к заключению в ИТЛ сроком на 8 лет, а постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 16 февраля 1949 года в связи с тем же делом сослан на поселение. Генеральный Прокурор СССР в протесте ставит вопрос об отмене указанных постановлений Особого Совещания в отношении ШДИНДМАНА и о прекращении делопроизводством по следующим основаниям: Обвинение ШЛИНДМАН в принадлежности к антисоветской организации было основано на показаниях ранее арестованных участников право-троцкистской организации, существовавшей в тресте «Камчатстрой» КИРИЛЛОВА, КРУТИКОВА, МИТНЕВА, АНДРЕЕВА, КОНОВАЛЕНКО и других лиц, позднее осужденных к расстрелу. Указанные лица, назвав на допросах фамилию ШЛИНДМАН как одного из известных им участников право-троцкистской организации, не указали времени и обстоятельства вступления его в эту организацию, а также не указали в чем конкретно выразилась эта его преступная деятельность. Один из участников той же организации КРОТ-КЕВИН, будучи допрошенным 1 февраля и 7 июля 1938 года, а также на очной ставке с ШЛИНДМАН, уличал последнего в принадлежности к указанной организации. Однако на допросе 4 декабря 1938 года КРОТКЕ-ВИЧ от этих показаний отказался и пояснил, что он ни в какой контрреволюционной организации не состоял и состоял ли ШЛИНДМАН в контрреволюционной организации ему неизвестно. Допрошенные по делу свидетели — бывшие сослуживцы ШЛИНДМАНА — СКЛЯНСКИЙ, ФЕДОСЕЕВ, ДВОРЦОВ и другие показали, что в период работы ШЛИНДМАНА в должности начальника планового отдела действительно производственные планы составлялись и спускались на объекты с большим запозданием, однако о причастности ШЛИНДМАНА к какой-либо контрреволюционной организации и его вредительской деятельности они ничего не показали. По делу дважды были созданы экспертные комиссии, заключения которых противоречат друг другу. Так, первоначально созданная из специалистов того же треста «Камчатстрой» экспертная комиссия по материалам дела пришла к заключению, что вся производственная деятельность ШЛИНДМАНА была направлена на развал строительства и к срыву правительственных сроков пуска в эксплоатацию государственной важности объектов. Повторно назначенная экспертная комиссия в составе специалистов других ведомств пришла к заключению, что ШЛИНДМАН «недооценив своих знаний и способностей, взялся за работу не по плечу и просто не справился с ней», /л.д.244–258/. Сам ШЛИНДМАН вину свою категорически отрицает. Никаких других данных, уличающих ШЛИНДМАН в контрреволюционной деятельности, в деле не имеется. Перепроверить поверхностные показания КИРИЛЛОВА, КРУТИКОВА, МИТНЕВА, АНДРЕЕВА, ЧАЙКОВСКОГО и КОНОВАЛЕНКО в связи с осуждением их к ВМН в данное время не представляется возможным. Соглашаясь с доводами, изложенными в протесте прокурора, Военная Коллегия Верховного Суда СССР, - ОПРЕДЕЛИЛА: Постановления Особого Совещания от 23 июля 1940 года и от 16 февраля 1949 года в отношении ШЛИНДМАНА Семена Михайловича отменить, дело о нем в уголовном порядке за недоказанностью обвинения прекратить и от ссылки ШЛИНДМАНА освободить. Подлинное за надлежащими подписями. С подлинным верно: Судебный Секретарь Военной Коллегии Капитан Поляков.
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 415 Действителен по третье июля 1954 года Шлиндман Семен Михайлович 1905 года рождения, разрешен выезд из гор. Канска в гор. Красноярск Красноярского края и обратно, который к месту назначения должен следовать только через ст. [нрзб.] при уклонении от указанного маршрута настоящий лист теряет силу, а его владелец подлежит задержанию. По прибытии к месту назначения Шлиндман С.М. обязан немедленно явиться на регистрацию, а по возвращении маршрутный лист сдать в орган МВД КОМЕНДАНТ КАНСКОЙ СПЕЦКОМЕНДАТУРЫ ГРАЧЕВ. 28 ИЮНЯ 1954 ГОДА.
РАСПИСКА Мне, Шлиндману Семену Михайловичу проживающему в Канском районе 30 июня 1954 года вручена справка об освобождении. Намерен выехать к избранному мною месту жительства г. Москва С. Шлиндман
Конец второго действия
Второй антракт
г. Канск, 6/VII — 1954 г. Дорогой Марик! В течение почти 17-ти лет меня считали тяжелым государственным преступником, совершившим якобы тягчайшие преступления против нашей Советской Родины. Тебе было только 8 месяцев, когда меня арестовали. Около 9-ти лет я находился в заключении. После 2-х лет весьма относительной свободы, когда я не имел права жить в городах и даже появляться в Москве, я вновь был арестован в 1948 году и отправлен в ссылку на поселение пожизненно в Красноярский край. Там я пробыл 5 :/ лет, в деревне, не имея права выйти без разрешения за ее пределы. Страшное клеймо, положенное на меня, и ужасное преследование, которому меня безпрестанно подвергали, как врага Народа, неизбежно повлияли и на судьбу моей семьи. Чтобы спасти наш дом, тебя и мать от разорения и тяжелых несчастий, я пошел на разрыв. Разрыв тот был грубым, нехорошим, вызывал со стороны всяческого осуждения, но тем легче было его осуществить, тем проще было нам разойтись. Все это когда-нибудь разъяснится вполне. А пока сообщаю радостную весть: Определением Военной Коллегии Верхсуда СССР от 26/V. 1954 г. я полностью реабилитирован во всех предъявлявшихся мне обвинениях, все с меня снято, дело прекращено недоказанностью обвинения, все вынесенные ранее в отношении меня приговоры и постановления отменены, я из ссылки на поселение освобожден и следую к избранному месту жительства в г. Москву. Приеду в начале августа м-ца и увижу тебя, родного своего сына. Возвращаюсь в Москву с надеждой, что между нами будут восстановлены отношения родной крови. Родной мой мальчик! Теперь уж твой отец не явится для тебя позором. Свою фамилию, фамилию своего отца, можешь носить гордо и смело, — она честна и ничем не за-пятнанна. Кончив школу, иди в Институт без опаски, без оглядки, — стыдиться своего отца не придется тебе никогда. Люби свою Советскую Отчизну, свой Народ, будь предан великому делу Ленина, нашей Партии, Правительству. Из всех тяжелых испытаний, которым меня подвергли действительные заклятые враги Коммунизма, фашистские наемники Берия, Ежов и их подручные, я вышел с непоколебимой верой в Правду и Справедливость Коммунистической Партии и нашего Советского Правительства, абсолютно преданным делу Коммунизма человеком. Желаю здоровья и успехов, жду с нетерпением нашей встречи — твой отец.
 За работниками, находившимися в местах заключения и полностью реабилитированными, непрерывный стаж работы сохраняется вне зависимости от того, вернулись ли они на прежнее место работы или поступили в другое предприятия /учреждение/. Перерыв, вызванный арестом, в трудовой книжке не отмечается.
При внесении в трудовую книжку реабилитированного работника записи об увольнении администрация предприятия /учреждения/, в котором он работал до ареста, обязана отметить датой увольнения день обращения работника за получением трудовой книжки. При этом причиной увольнения указывается соглашение сторон /пункт «а» ст. 44 КЗОТ/.
При выплате указанным работникам заработной платы за время вынужденного отсутствия на работе, но не более чем за 2 месяца, следует исходить из того должностного оклада, который они получали ко дню ареста. Компенсация взамен отпуска этим работникам не полагается.
Зам. зав. юридическим
Отделом ВЦСПС /О. Полякова/
За работниками, находившимися в местах заключения и полностью реабилитированными, непрерывный стаж работы сохраняется вне зависимости от того, вернулись ли они на прежнее место работы или поступили в другое предприятия /учреждение/. Перерыв, вызванный арестом, в трудовой книжке не отмечается.
При внесении в трудовую книжку реабилитированного работника записи об увольнении администрация предприятия /учреждения/, в котором он работал до ареста, обязана отметить датой увольнения день обращения работника за получением трудовой книжки. При этом причиной увольнения указывается соглашение сторон /пункт «а» ст. 44 КЗОТ/.
При выплате указанным работникам заработной платы за время вынужденного отсутствия на работе, но не более чем за 2 месяца, следует исходить из того должностного оклада, который они получали ко дню ареста. Компенсация взамен отпуска этим работникам не полагается.
Зам. зав. юридическим
Отделом ВЦСПС /О. Полякова/
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ Москва, Калужское шоссе, 66, Дворец труда (При ответе ссылайтесь на наш номер) Юридический отдел 25 октября 1954 г., № 55-157985 ШЛИНДМАНУ С.М. Москва-Кб, 2-й Самотечный пер, дом 7, кв. 19 В дополнение к своему письму от 13 сентября с.г. за № 137838 Юридический отдел ВЦСПС сообщает: Главрыбстрой Министерства рыбной промышленности СССР имеет право зачеркнуть в Вашей трудовой книжке запись об освобождении от работы по пункту «а» ст.44 КЗОТ и записать в ней, что Вы переведены на работу в «Охотрыбстрой». После внесения в трудовую книжку указанной записи надлежит считать, что трудовой стаж, дающий Вам право на получение льгот, предусмотренных Указом от I августа 1945 г., исчисляется с I августа 1945 года. Зав. юридическим отделом ВЦСПС /Дворников/ Круглая печать Управления делами ВЦСПС
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ШЛИНДМАН СЕМЕНА МИХАЙЛОВИЧА В течение 1950-51-52 г.г. юрисконсульт тов. Шлиндман Семен Михайлович выступал по поручению и доверенности Сельхозартели им. Буденного, Абанского р-на, Красноярского края, в качестве представителя колхоза в судебных органах и экспертных комиссиях по делу иска к Красноярской Краевой Строительномонтажной Конторе «Главсельэлектро» о возмещении убытков, понесенных колхозом в результате недоброкачественного строительства Гидроэлектростанции и мельницы, выбывших из строя вскоре после сдачи их в эксплуатацию. Выполняя поручение колхозников, тов. Шлиндман проявил исключительную настойчивость, энергию и упорство в защиту законных интересов колхоза. Добросовестно и тщательно изучив проектные материалы, всю строительную документацию, данные бухгалтерского учета, тов Шлиндман СМ квалифицированно и авторитетно вскрыл и доказал в комиссиях экспертов и в судебных органах необоснованность технического проекта нарушения технических условий, допущенные 8 процессе строительства и монтажа, выявил ущерб, причиненный колхозу, и юридически обосновал предъявленные колхозом претензии. Добившись присуждения колхозу 184 тысяч рублей в возмещение убытков и восстановления Гидроэлектростанции и мельницы, за счет Подрядчика, тов. Шлиндман СМ. оказал общественную помощь колхозу в укреплении его финансовой и хозяйственной мощи. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗА им. БУДЕННОГО: /Иванов/
СССР КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при Совете Министров СССР 25 октября 1954 г. № 21 гор. Москва СПРАВКА Выдана гр-ну ШЛИНДМАН Семену Михайловичу, 1905 года рождения, урож. гор. Харькова, в том, что изъятые у него при аресте в 1937 году личные документы не сохранились. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Начальник отделения
СССР МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 10 сентября 1954 г. № 02-ЦА/495 Архивная справка г. Москва, Кузнецкий мост, 21 Дана Центральным Архивом Министерства промышленности продовольственных товаров СССР гр-ну Шлиндману С М. в том, что согласно документальным материалам, хранящимся в Центральном Архиве Министерства значится, что он работал в Главном Управлении Капитального Строительства Наркомпищепрома СССР с 21-го июля 1933 года по 29-го сентября 1935 года в должности руководителя группы труда и зарплаты. Освобожден с работы ввиду откомандирования на работу по строительству Камчатского судоремонтного завода. Основание: личная должностная карточка на гр. Шлиндмана С.М. и штатные расписания. Начальник Ц Архива МППТ СССР /Крупский/ Ст. инспектор /Трусова/
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР 28 августа 1954 г. № 4Н-04432/54 Москва, ул. Воровского, д. 13 СПРАВКА Дело по обвинению ШЛИНДМАНА Семена Михайловича пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР 25 мая 1954 года. Постановления Особого Совещания от 23 июля 1940 года и от 16 февраля 1949 года отменены и дело за недоказанностью обвинения в уголовном порядке прекращено. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИЦИИ /А. ЧЕПЦОВ/
ПРОКУРАТУРА Союза Советских Социалистических республик ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 9 июля 1954 г. Красноярский край г. Канск, ул. Революции Москва, Кирова, 41 Д. 47 № 2/6Г-58286-38 Гр. ШЛИНДМАН Семену Михайловичу На Ваши заявления от 3 июня 1954 года и 12 июня 1954 года сообщаю, что по протесту Генерального Прокурора СССР Военная Коллегия Верховного Суда СССР своим определением от 26 мая 1954 года уголовное дело в отношении Вас прекратила за недоказанностью обвинения с освобождением Вас из ссылки. Определение Военной Коллегии 19 июня 1954 года направлено начальнику УМВД Красноярского края для объявления Вам. ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВП МАЙОР ЮСТИЦИИ (ШКАРУППА) 8. VII.1954 г.
СССР КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при Совете Министров СССР 25 октября 1954 г. № 21 гор. Москва СПРАВКА Выдана гр-ну ШЛИНДМАН Семену Михайловичу, 1905 года рождения, урож. гор. Харькова, в том, что изъятые у него при аресте в 1937 году личные документы не сохранились. Начальник отдела комитета госбезопасности Начальник отделения
Третье действие
Отец. Меня освободили в канун двадцатого съезда — перемены пошли с 5 марта, чтобы потом покончить с лихолетьем по-серьезному и двинуть историю к новой жизни. Когда жахнул двадцатый съезд, я понял: у них дело пахнет керосином, будут нашу кодлу отпускать — и вся недолга. Я. Ваша «кодла» — миллионы людей. Отец. А по каждому — вертухаи теперь должны были назад откачивать. Прокуратуру закидали тоннами наших прошений, я сам настрочил последнюю жалобу на имя Маленкова и Микояна — длиннющую, как моя отсидка. Но уже не она помогла. Пошла кампания — как сажали пачками, так пачками повело освобождать. Я. «Эпоха позднего реабилитанса», как тогда говорили, началась. Отец. Честно говоря, я, когда отмазался, сам не поверил — думал: ну, опять на время, тик-так — и опять захомутают, опыт уже был… Но чуток осмотрелся — дело понеслось серьезное, начали выпускать широко, без балды, ворота открылись… на зонах вздрогнули, взбодрились… Неужели канули окаянные годы?! Неужели вправду теперь будут гнать правду, одну только правду?.. Верилось с трудом. Но ведь произошло!., ни хрена себе история пошла! — только успевай удивляться в завале. Я. Спасибо Хрущеву? Отец. Э нет, это не мы, ТАМ отбывшие, а вы будете кланяться, благодарить: мол, если б не Никита, все было бы по-старому!.. А мы подарки судьбы принимали молча, настороженно, по-тихому. Как должное, можно сказать. Я. Честно скажи: вы трусили по-прежнему? Отец. А хоть и трусили… В тот момент другого и быть не могло!.. Раньше трусили — так почему сейчас все должно иначе быть?!. Мы к трусости за эти годы ПРИВЫКЛИ — вот это надо понять. И если вдруг тебе, всю жизнь трусившему, вдруг говорят: всё, кончай, ты теперь другой человек, СВОБОДНЫЙ, иди на все четыре стороны, — это не всем в масть, может, кому-то и не в пандан, свобода тебя давить начинает, не знаешь, с какого боку ты к ней, а с какого она к тебе. Это, сынок, тяжесть большая — свобода, не легче, чем несвобода, вот в чем дело. Я. Ты это испытал? Отец. Не один я. Вот представь: ты по полной реабилитирован, а жилья нет, семьи нет, денег нет, работы нет… А ты — свободен, как птица с подрезанными крыльями, попробуй, полети!.. Не летится. Я. Ну, семья, положим, у тебя была. И даже не одна, а несколько… Выбирай, с кем жить дальше будешь! Отец. Я и выбирал. В Польшу ехать?.. Это вообще всё перечеркнуть — и тебя, и маму твою!.. Не ехать — всё тут уже разбито вконец, враскосец пошло — как жить?., где?., с кем?.. Лида меня не простила, не приняла, не приютила… Даже наоборот, показала на дверь!.. Вроде победа, но — Пиррова, радости никакой. Оставалось одно — нестись по воле волн, жить так — будь что будет, как выпадет — так пусть и выпадет, ничего САМ не крути-вороти, а то самому же и придется по новой расхлебывать… Я. Какая-то рабская позиция. Отец. Ну, правильно, рабская. А я уж давно допер: наша такая выпала судьба — быть рабом — до самого конца, до самой смерти. Что на воле, что в неволе. Это моя стезя — расплата. Вот я и расплачивался. Я. Расплата?.. За что? Отец. А за всё. За глупость нашу — за юность комсомольскую, безбашенную, за веру неистребимую в утопию, в товарища Сталина, в ИДЕЮ революции как спасительную и распрекрасную, — вот за все это мое еврейство, черт бы его побрал! Я. Ничего не понимаю. Ты что такое говоришь? Отец. То, что думаю. Сейчас. После смерти!.. Я заслужил то, что со мной случилось. И все мы заслужили. Поколение мое несчастное заслужило свои несчастья. Я. Вот так так!.. Может, ты еще скажешь, что и «Сталин был прав»? Отец. Не знаю. Я. Ну, тогда мы расходимся. Твои несчастья ничем нельзя оправдать. Отец. Слушай меня. Я прожил свою жизнь, как мог. Да, я был раб. Точно. А что оставалось?.. Теперь ты попробуй по-другому. Твое время. И что?.. Сломаешь шею. И ничего не добьешься. А я… а мы… выжили, несмотря ни на что. Факт, что мы с твоей мамой — хоть и врозь! — а выжили! Победили! Я. Этот твой товарищ Сталин залез к вам в постель, разрубил вашу жизнь в куски — и это ты называешь «победили»?!. Всю жизнь я ношу — вынужденно! — не твою фамилию и не твое отчество — это то, о чем вы мечтали, когда приехали на Камчатку строить свой злосчастный судоремонтный завод?.. Всю жизнь — «врозь»!.. Всю жизнь — папа, мама, я и Сталин!.. Одна «семья»! Всю жизнь…В ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» от БАКУЛИНА Михаила Владимировича, проживающего в гор Москве, по 4-й улице Октябрьского поля, д. 14, кв.7. ЗАЯВЛЕНИЕ Ставлю Вас в известность, что гр. ШЛИНДМАН Семен Михайлович с 1921 года учился в Харьковском институте народного хозяйства на факультете экономики промышленности, который окончил в 1925 году. Я учился в том же институте с 1923 года на юридическом факультете и закончил его в 1926 году/диплом № 724 от I5/VII–I930 г. Подпись М. БАКУЛИН Заверено нотариальной конторой Первой города Москвы
Я. Ты такая радостная сегодня. Мама. Папу освободили. Я. Спасибо Никите Сергеевичу. А ты откуда узнала? Мама. Он в Москве и уже позвонил. Сразу. Я. И что спросил? Мама. «Могу ли я повидать сына?» Я. И что ты ответила?., конечно, да? Мама. Нет. Я. Как «нет»? Мама. Я сказала, что спрошу у тебя. Я. Ну? Мама. Вот, я спрашиваю. Я. Ты же его мучаешь. Тебе приятно его мучить. Мама. Это он меня мучает всю жизнь. Я. Ну, положим, его жизнь только начинается. Я имею в виду, на свободе. Мама. А моя завершается. Хотя жизни не было и нет. Я. Ты сама виновата, что пошла на разрыв. Мама. Я была права, а он был не прав. По отношению ко мне. Я. Вы оба были и правы, и не правы по отношению друг к другу. Мама. Если бы он хотел, то… (Осеклась.) Я. То что? Мама. То сейчас… (Снова осеклась.) Я. Что сейчас?.. Вернулся бы к нам? Ты это хочешь сказать? Мама (с усмешкой). Прошлое возвратилось — значит, будущее наступило. Я. Не унывай, мамочка, еще не вечер. (Обнимаю маму.) Мама. Во всяком случае, у меня сегодня самый праздничный день. Я. День Победы? Мама. В каком-то смысле. В другом. Я. Я тоже ощущаю грандиозный подъем. Так он… приедет к нам? Мама. А как ты думаешь? Я. Я жду. Мама (весело). А я как жду! Зазвучала музыка. Веселая и одновременно грустная. Бывает такая! Мама. Когда Сема вернулся, он не сразу пришел к нам. Я. Почему? Мама. Вот и я спрашиваю себя: «Почему?», но ответ был один — он испугался прийти. Я. Почему? Мама. Ему было стыдно. Я. Перед тобой? Мама. Перед тобой. Я. Ну уж… Папа, мама говорит, что тебе было стыдно передо мной. Из-за белой стены появляется отец. Папа. Слушай ее больше. Мама. Сема, не груби. Папа. Да что ж такое!., когда меня реабилитировали, я взлетел выше облаков. Я думал: все поломано у меня с Ликой, но… ведь мы живы, и всё в наших руках. Я знал, что Лика на меня обижена, что она ревнует, психует, играет со мной в кошки-мышки… Но мне казалось, что все еще можно преодолеть, что еще не все потеряно — и я вернусь, и буду еще счастлив — с ней, с Мариком… Ведь и я, и она знали друг про друга, что нет и не будет нам жизни врозь — только вместе, только втроем… И вдруг меня встречает лед и холод. Я чуть с ума не сошел. Мама. Ты говоришь так, будто ничто нам не мешало. Будто между нами не было пропасти. Папа. Хорошо. Была. Но тогда объясни мне свой подарок. Мама. Какой подарок? Папа. Вспомни, что ты мне подарила при первой встрече в 55-м? Мама. Что? Папа. Ты подарила мне галстук. Модный. Китайский. Потрясающий. Мама. Ну, подарила. И что? Папа. Зачем ты мне его подарила? Мама. Я хотела… сделать тебе приятное. Папа. Ах, все-таки хотела?.. Почему ты хотела? Мама (нежно). Семик, ты… неужели ты так глуп, Семик, чтобы не понимать, почему. Папа. Почему? Мама. Потому что… я и сейчас тебя люблю. И сейчас без тебя не могу. Ты — камень на сердце моем, мое тяжелейшее ярмо, ты самое большое несчастье моей жизни. Папа. А я, дурак, думал, что счастье. Мама. И счастье тоже. Папа. Так счастье или несчастье? Мама. То и другое. Папа. А ты для меня — только ты. Другого нет. Мама. Врешь. Папа. Ну как мне тебя убедить, что не вру. Что я тоже люблю тебя!!! Только тебя. Пауза. Мама. Врешь. Папа. Вот твой галстук. Возьми его обратно. (Вынимает китайский галстук из кармана. Пауза. Мама вся сжалась.) Марик, ты носи. Он мне не нужен. Я. Спасибо. (Протягиваю руку за галстуком.) Мама (свирепо). Не смей его брать. Это мой… подарок твоему отцу! Папа. Лика, ты — сумасшедшая. Мама. Сгинь!.. Сема, лучше сгинь!.. Пропади!.. Не могу тебя видеть!.. (Видение отца исчезает.) Я. Мама, тебе легче? Мама. Нет. Я. Тогда зачем ты его прогнала? Мама. Вот я сижу и думаю: зачем?.. И нет ответа. Прогнала — и всё. А действительно — зачем? Перемена света. Я. Папа… Непривычно мне было это слово произносить. Особенно в первое время. Я на него смотрел молча, наблюдал, можно сказать. Отец. Что смотришь? Я. Поговорить хочу. Отец. Поговори. Я. Спросить тебя хочу. (Пауза.) Папа… били тебя там?.. Ясно, били. А как били, папа, можешь мне рассказать?.. (Пауза.) Не молчи. Мне нужно знать, папа. Отец. Меня били по яйцам, а они у меня железные. Я. Иголки под ногти совали? Отец. Это устаревшее средство. Я. Какое же новое? Отец. Щипцами отдирают ноготь от мяса в положение «на попа». Называется «модельная стрижка ногтей в парикмахерской НКВД». И гуляй. Я. Еще что? Отец. Простой удар в рыло. Примитивно, но эффективно. Следователи спорили, кто больше зубов выбьет с одного удара. Я. Игра такая? Отец. Во-во. (Показывает стальные зубы.) Это я уже в ссылке вставил. В Абане друг-стоматолог был. Гамлет Степанович Месхишвили. Тоже ссыльный. Я. У вас там Интернационал, что ли, образовался? Жена новая у тебя была — полька какая-то… Отец. Ольга Клемт. Она портниха была хорошая. Я (язвлю). Мама тоже шила очень хорошо. Отец. Ты зря на нее катишь. Она хорошая женщина была. Я. У тебя плохих быть не могло. Отец. Злость неплодотворна. Хоть ты постарайся меня понять. Я. Ладно. Чем же она тебя обворожила?.. И вообще… как туда попала? Отец. Причина — еще та!.. Когда наши освобождали Польшу, шли напролом. А в ее доме, как на грех, немцы устроили штаб. Ну, ее сразу и загребли как хозяйку за сотрудничество с немцами. Будто она могла противиться им!.. Они просто видят: хороший дом стоит — вот и заняли!.. А что она могла сделать?.. Получила Сибирь на 10 лет, и здесь, на поселении, когда мы с твоей мамой разошлись, я с ней сошелся. Верней, не с ней, а с ее коровой. Я. Это как понимать? Отец. А вот понимай, если захочешь. Я голодный, дохожу, мне скоро кранты, это ясно… И тут она, хоть и полька, а своя, интеллигентная женщина, портниха, труженица, руки золотые… У нее корова при доме… И дом, надо сказать, опять же, хороший, ну, не такой, конечно, как в Польше, но все же. Я. Откуда дом у ссыльной поселенки? Отец. Она обшивала всех жен начальников. И они ей платили наличманом. За все — за шубы, за платья, за кофты… сотни заказов были. Она одна как целое частное ателье работала. Построила за год дом, завела корову… Я. И мужа-еврея. Отец. Почему — еврея?.. Просто мужа. Я. Который их обеих доил. Отец. Почему обеих?.. Только корову. Зорькой ее звали. Это я. А она — Зоськой. Я. То есть — работник в доме. Мужик, так сказать. Отец. Ну, да. Конечно. Еще и мужик. А ты бы как на моем месте поступил? Я. Не знаю. Отец, Так знай: она меня с того света вытащила. Она и эта Зоська. Если б не они, я бы точно концы отдал. А ты катишь. Прямо как твоя мама. Вместо того, чтобы понять. Год 1958-й. Я уже взрослый, студент Университета. Вдруг получаю письмо, заставившее меня вздрогнуть. Нет, не анонимка. Подписано человеком, которого я едва вспомнил. Ну, конечно же, я не ответил, не вмешался — личная жизнь отца, как всякая личная жизнь, неприкосновенна. Я не имею права о чем-то спрашивать и уж тем более читать ему мораль. То, что в письме было названо «старческим угаром», заставило меня лишь улыбнуться, и всё. И, конечно, я не показал письмо маме. Не такой я был дурак, чтоб ей такое показывать!.. Папа, живи, как хочешь! Мама, живи, как можешь! Вы оба — любимые мои, самые дорогие люди на свете…
Марик, ты должен выручить своего отца, он совсем одурел на старости лет. Дело в том, что он влюбился в зав. дет. садом, ужасная женщина Трофимова Раиса Ивановна. Обалдел до того, что в марте взял с книжки 900 рублей для того, чтобы выслать тебе, а сам купил Раисе кулон за эти 900 рублей. С Ольгой Конст. они разошлись, и она уезжает в Варшаву совсем. А Семен Михайлович женится на Раисе. Допустить этого нельзя. Думаю, что старческий угар пройдет быстро и его место с вами дома. Подумай, Марик, что предпринять, но выручить его надо. Напиши этой паршивой Раисе, чтоб она от него отстала. Что у него есть семья и его место возле жены, которой он многим обязан, и сына. Адрес Р. И. Трофимовой: Калининград, ул. Томская, д. 7 кв. 7. Ничего не пиши ему о моем письме, сделай все это нежно. Меня ты, наверное, помнишь: вы были у меня, когда ты приезжал. Зиновьев Г.Н.
Перемена света. Входит отец. С бутылкой водки и шампанским. Я вручаю ему букет цветов.
Я. С возвращением! (Обнимаю отца.) Отец. А мама где? Я. Она ушла. Придет попозже. Отец. Понятно. Я. Что тебе понятно? Отец. Захотела оставить нас с глазу на глаз?.. Ох, Лида!.. Я ж тебя знаю и вижу насквозь. Я. Мама тебя ждала. Отец. Н-да. Я. Ты не веришь? Сомневаешься? Отец. Да нет, просто я живу… сегодняшним днем. Я. Ты вернешься к нам? Отец. А ты этого хочешь? Я. Да. И потом… мне жалко маму. Отец. И мне жалко… (короткая пауза), что все так получилось. Я. Может, есть шанс поставить всё на старые рельсы? Отец. Я с них не сходил. Я (обрадованно). Так что мешает? Отец. Видишь ли, сыночка… Хотя какой ты «сыночка»… Ты уже большой, тебе сейчас… Я. Девятнадцать. Отец. Хороший возраст. Хотя я был в девятнадцать — полный идиот. Я верил в то, во что категорически не надо было верить. Я. В идею коммунизма? Отец. Видишь ли, сама по себе идея коммунизма совсем не плоха — братство, равенство, свобода — чем плохо?.. Но на практике произошло что-то другое. Я. До тебя это дошло? Отец. Слишком поздно. Но я продолжаю верить. Я. В идею коммунизма? Отец. Только в идею. Я. Теперь я понимаю, откуда слово «идеалист». Отец. Знаешь что, сынок. Я тебя прошу об одном — будь осторожен. Ты комсомолец. Я. Да. Отец. Очень хорошо. Я. Чего хорошего? Отец. А что плохого? Я. Все врут. Но я верю, продолжаю верить. Отец. Во что? Я. В социализм с человеческим лицом. Отец. Хм… Как ты сказал? Я. Могу повторить: в социализм с человеческим лицом. Это не мой термин. Я его вычитал в журнале «В защиту мира». Отец. Ты его читаешь? Я. Да. Это международное издание. На разных языках. Там совершенно иначе все преподносится, не так, как у нас. Отец. Например, что? Я. Например, Карл Маркс… Знаешь, это он сформулировал впервые: «казарменный коммунизм». Представляешь, сам Маркс, сам!.. Будто про нас. Отец. Сказано точно. Но увлекаться этим особенно не стоит. Я. Мы — дети двадцатого съезда. Слышал такое выражение? Отец. Именно дети. Придется взрослеть. Я. Что ты имеешь в виду? Отец. Вот ты поступил в Университет, на факультет журналистики, да?.. Но там ведь надо идти в ногу. Я. С кем? Отец. С партией. Ты решил вступить в партию? Я. Если предложат, вступлю. Отец. Зачем? Я. Чтобы изнутри можно было что-то изменить. Если большое количество честных молодых людей вступит в партию, партия преобразится. Отец. А если не преобразится? Я. Такого не может быть. Отец. Ну, почему не может?.. Вдруг вас кто-то назовет вредителями. Я. Меня?.. С чего? Отец. Да ни с чего. Ни с того ни с сего. Я. Этого никогда уже не произойдет. Время другое. Отец. Понятно. Я. Что тебе понятно? Отец. Что ты — патриот. Это хорошо. Но чем… какими делами — не словами! — ты сможешь это подтвердить? Я. Я? Отец. Да, ты. Лично ты. Я. Тебе интересно? Отец. Очень интересно. Я. Я вот… скоро на целину поеду. У нас студенческий целинный отряд собирается. Отец. Отряд? Я. А что тебя смущает? Отец. Ну как-то звучит странно… «Казарменный коммунизм» получается. Я. Да?.. Ты прав. Я об этом не подумал. Отец. Нет, нет… Это хорошо, что ты на целину… узнаешь жизнь… увидишь, как ОНО… на самом деле. Это хорошо. Но в партию не торопись. Сначала жизнь узнай, а потом… сам решишь. Своей головой Я тут не советчик. Я. Я понимаю. У тебя своя жизнь, у нас своя. То, что было, не повторится никогда. Никита Сергеевич… Отец. Ладно. Хватит об этом. Мама когда придет? Я. Я думаю, с минуты на минуту. Отец. Вот. А мы с тобой так и не поговорили. Я тебе главного не сказал. Я. Говори. Я внимательно слушаю. Отец. Марик… Марк… Услышь меня, пожалуйста. Я. Слушаю. Слушаю. Говори. Отец. Мы с мамой давно разошлись. Ты носишь не мою фамилию. У тебя другое отчество. Но ты был и остаешься моим единственным сыном. Но… у меня другая семья. Я говорю с тобой как с взрослым человеком. Я… Я. Значит, не вернешься? Отец. Пока нет. Я. Что значит «пока»? Отец. Пока значит пока. Я. Ты знаешь, что мама тебе верна?.. Что она и сейчас без тебя жить не может. Отец. 10 лет назад я попросил у нее прощения. Фактически она прогнала меня. Ты был тогда маленький. Учился в Гнесинке. Я. И недоучился. Пришлось бросить музыкальную школу, потому что педагогам надо было платить, делать подарки — так было принято, а денег не было и бабушкина нога… В общем, что я объясняю — с музыкой давно покончено. Отец. Таак. Но у тебя отчим. Все у нас развалилось к черту, вся жизнь пошла под откос. Я. Папа, могу я у тебя спросить? Отец. Давай. Я. Зачем ты женился на этой польке? Пауза. Отец. Знаешь, я лучше уйду. Я. Я задал вопрос. Отец. После… потом… сегодня не могу. Я тебе позвоню. (Уходит.) Я (в зал). Он ушел, а через пять минут явилась мама. Входит Лидия. Она в хорошем настроении. Мама. Сема!.. Семик!.. Ты где?.. Вы поговорили?.. Марик, а где папа? Я. Папа ушел.
Пауза. Затемнение.
На целину я съездил. Поехал туда романтиком, а вернулся «антисоветчиком». Я сам про себя это понял и очень удивился произошедшему внутри преображению. Что же произошло? Казалось, все должно было быть наоборот — движимые патриотической идеей комсомольцы (я в их числе!) «покоряют» целинные земли и помогают Родине собрать новый великий урожай. С тем и ехали в казахстанскую степь. Булаевский район. Под Петропавловском, но другим, который не на Камчатке… Вагон-теплушка, спим на матрацах, вот жизнь! Мама. Я тоже хотела, чтобы мой «маменькин сынок» познал жизнь за пределами Садового кольца. Но я предупредила его: «Марик, ты там будь осторожен, чтоб эти подвиги твои тебе же боком не вышли». Я. Мама!.. Что ты имеешь в виду? Мама. А то, что вся эта ваша целина — несчастный случай.
Вот так она сказала. Разумеется, тихо, чтобы никто, кроме меня, не слышал. Как в воду глядела. Да, именно так. Я съездил на целину одним человеком, вернулся другим. Что-то произошло, перелом, я стал на мир смотреть уже без телячьего восторга. Ибо то, что я увидел на целине… Впрочем, поначалу все шло без потрясений, на высоком душевном, я бы сказал, патриотическом подъеме. Мы ехали в теплушках (как будто по этапу), но очень радостно, по-комсомольски весело, наша искренность не знала границ. Вспоминаю стенгазету, выпущенную в пути — под названием «Мама, не рыдай!», — и полет нашего поезда на крыльях идиотического энтузиазма с остановками-концертами на полустанках — из Москвы прямиком в казахстанскую степь. Вот в этой самой степи и случилось мое перерождение. Сначала жили в палатках, потом в землянках, рыли котлован для «овощегноилища», как кто-то пошутил. Затем я работал копнильщиком на комбайне — это был труд потяжелей, но и эта пыльная, в общем, работа не погасила мой внутренний одержимый пыл. И вдруг зачем-то (уж не помню, зачем) нас — троих студентов из отряда журфака — послали в районный центр Булаево, километров за сто… Мы сели в кузов грузовика и двинулись по грейдеру, чем-то похожему на вытоптанную в траве дорогу, за горизонт, в путь. Через какое-то время остановились как вкопанные. Страшная картина аварии явилась моим глазам. Посреди степи… Перевернутый грузовик. И — трупы, раздавленные кузовом. Один — шок! — без головы. Вернее, голова рядом, потому что борт грузовика пришелся как раз на шею молодого человека и отделил его голову от туловища. Крови почти нет!.. В Булаеве, куда мы полетели в понятном настроении, сообщили о случившемся, и нас тут же вызвали в штаб целинного отряда. Нам было велено молчать об увиденном. Строжайший приказ. В самой грубой форме: — Отрежьте языки. С нас взяли подписку «о неразглашении». Разговаривали с нами, как будто мы какие-то преступники, владеющие военной тайной. Кто проговорится, будет исключен из Университета. А в чем дело?.. Почему такие предупреждения? Потом выяснилось, что среди погибших… англичанин. И это как раз тот самый парень, оказавшийся под бортом перевернувшегося на грейдере грузовика. И надо же… Я знал его сестру Инессу Гиббонс — студентку филфака, которая пела в самодеятельности со сцены нашего клуба в концертах, где и я участвовал. Помню, с каким успехом она исполняла на английском традиционную новогоднюю песенку «Джангл-беллс» — теперь вот я не смогу к ней даже подойти и посочувствовать ее горю. Инесса и ее брат были, по слухам, детьми члена ЦК английской компартии, и учиться в Москву их, наверное, послал папа, видный деятель рабочего движения. Меня потрясло лицемерие нашего официоза. Давление, которое ни с того ни с сего было на нас оказано, возмутило меня до глубины души. Бессердечие и ничего, кроме бессердечия! Я не на шутку психанул из-за очевидного несоответствия несчастного случая и реакции на него, чтоб все было «по-тихому», чтоб «никто ничего», чтоб все было «шито-крыто». Это ли «советская мораль», где человек человеку «друг, товарищ и брат»?! Что-то тут не сходилось. Что-то тут было не то. Дальнейшие целинные впечатления лишь подтвердили возникшие сомнения. Где-то к концу сбора урожая оказалось, что продукты на исходе, жрать нечего. Отряд получал на каждого урезанные пайки, вместо обеда — чай, ужин временно отменили. И всё бы ничего, если бы в «штабном вагончике» в это же самое время наше комсомольское начальство не питалось по своему особому меню — там у НИХ были и колбаса, и консервы, и белый хлеб!.. — Почему? — спрашивали мы, «работяги». — Почему такое неравенство? Наконец угроза голода для оставшихся без пищи в голой степи спала. Какой-то совхозник привел в расположение отряда корову и простодушно сказал: — Нате. Ешьте. Это был тоже шок. Для студентов-журналистов, согласитесь, было непривычно не то что убить корову и разделать ее на мясо, но даже просто подоить ее… Тем не менее голод заставил, дело было сделано с помощью самого большого ножа, принесенного с нашей походной кухни. Помню этот грустный коровий глаз, который смотрел на нас прощальным взором, — жертва со связанными ногами лежала на боку, на уже пожелтевшей осенней траве, и, наверное, всё понимала. А когда ей полоснули ножом по горлу и хлынула горячая кровь, меня поразил наш комсомольский вожак, который первым кинулся к бывшему животному с железной кружкой и подставил ее под струю. И тотчас стал пить… — Ты чего? — спросил я, потрясенный. — Гемоглобин, дурак! — ответил он. И был прав. Витамины в нашем положении были полезны. Но все равно мне стало противно, как-то не по себе. Конечно, кто я был тогда?.. Городской мальчик, студентик, маменькин сынок, можно сказать. И такие эпизоды целинной жизни сильно подрубили мой романтизм, они, конечно, не для слабонервных, но в конце концов, зачем же мы ехали нацелину?.. За опытом, о котором в Москве и не мечталось, — реальность тут была совсем другая, и подвела она меня, юношу, не знавшего настоящей жизни, к каким-то неожиданным выводам. Главное, сделалось понятно, что все лозунги и догмы этой самой жизнью при первом же серьезном столкновении с ней опрокидываются, превращаются в пустоту. Я вернулся с целины и стал думать, стал сверять пропаганду и жизнь, историю и правду, — и это был мой первый шажок к свободе, без которой так легко задохнуться.
Копия: Исх.№ 6-179 13. VI.61 г. ОТЗЫВ Тов. ШЛИНДМАН Семен Михайловича, начальника отдела труда и зарплаты Балтстройтреста Калининградского Совнархоза (бывш. трест «Балтрыбстрой» Минрыбпрома СССР), знаю на протяжении четырех лет, из них три года, с декабря 1954 г., как бывший Управляющий трестом по совместной работе. Тов. ШЛИНДМАН С.М. является серьезным, опытным и квалифицированным специалистом в области планирования производства строительно-монтажных работ и вопросов труда и заработной платы. Выполняя порученную работу, проявляет широкую и полезную инициативу, энергичен и трудолюбив, дисциплинированный, честный и добросовестный работник. Политически грамотен, правильно воспринимает и проводит в своей работе политику Коммунистической партии и Советского правительства. Умеет глубоко и разумно анализировать хозяйственно-производственную деятельность строительно-монтажных управлений и предприятий, вскрывать недостатки, разрабатывать и настойчиво осуществлять мероприятия по их устранению. Как руководящий работник, тов. ШЛИНДМАН С.М. обладает хорошими организаторскими способностями, в общении с коллективом рабочих, инженерно-технических работников и служащих вежлив, требователен, проявляет чуткость и внимательность к их запросам, нетерпимо относится к случаям нарушений трудового законодательства. Работа тов ШЛИНДМАНА С М положительно ощущалась в коллективе треста. Тов. ШЛИНДМАНУ С.М., наряду с выполнением своих основных обязанностей, поручалось осуществление функций оперативного контроля и регулирования вопросов материально-технического снабжения и работы автотранспорта треста, с чем он успешно справляется. В январе 1955 года тов. ШЛИНДМАН С.М. был назначен на должность начальника отдела подсобных предприятий треста, где он показал себя способным хозяйственником. За полгода своей работы по руководству подсобными предприятиями тов. ШЛИНДМАН С.М. добился перевыполнения производственной программы, рентабельности этих предприятий, много сделал для улучшения их работы. Тов. ШЛИНДМАН С.М. — активный общественник, избирался в местный комитет треста, читал лекции на семинарах конкретной экономики, про-водил политинформацию и привлекался партийными органами г. Калининграда в качестве лектора по вопросам планирования и организации труда и зарплаты в строительстве, является Председателем Калининградского областного Оргбюро Всесоюзного Научно-Технического общества строительной индустрии. В быту тов. ШЛИНДМАН С.М. морально устойчив и выдержан. Начальник калининградского областного отдела строительства и архитектуры облисполкома В. Юдин. 4 декабря 1958 г. г. Калининград верно: Начальник отдела кадров треста ЩЕКИНГАЗСТРОЙ (В. Баринов) Круглая печать Треста «ЩЕКИНГАЗСТРОЙ» 13. VI-61 г.
Уважаемая Лидия Михайловна! Я прошу прощенья, не хочу Вам приносить никакого беспокойства. Но сама жизнь и история, так, очевидно, хочет. Прошу Вас убедить себя, что напрасно Вы так настроены ко мне. Вы меня не знаете. Но вот женщина, которая была в ссылке, сослана на всю жизнь, встретила Сему. Полюбили друг друга, в несчастьи прожили 10 лет. Мы были сосланы на всю жизнь, это было страшное горе. Я тоже мать. Такое сердце как и у Вас. Я ни в чем не виновата, что так судьба сложилась для меня. Очень хотела бы с Вами поговорить, Мне больно как матери за отца Марика, у которого нет чувства человеческого. Продать пальто — 1200 руб. и купить кулон вот этой распутной женщине. Я знаю, что Вы победили. Вы мать, и для Вас Марик дорог. Мать это не отец. Много Вам пришлось трудных минут. Но Вы можете гордиться своим сыном и положением, а Сема несчастный и легкомысленный человек. Но что ж, так, наверное, должно быть. Я буду в Москве 20 августа, позвоню с Вашего разрешения. С уважением к Вам Ольга Конст. 14 авг. 1958 г.
Эпилог, или Последний разговор
Отец умер раньше мамы — в 1967-м. Мама пережила отца на девять лет и ушла из жизни в 1975-м. 67-й — год пятидесятилетия советской страны. Тот праздничный шабаш, который был устроен новым Ильичем по этому случаю, был поистине беспределен. Вовсю запахло сталинским ренессансом — суд на Синявским и Даниэлем предварял танковую расправу с Чехословакией. В тот роковой для себя день отец из Тулы решил ехать по делам в Москву. Утром он принял горячую ванну, в которой пролежал не меньше часа. Видно, сказалась зэковская тяга к удовольствию, выпадающему на свободе как подарок судьбы. Но когда он вылез из воды, почувствовал себя плохо. Крайне плохо. Тем не менее он Сел в машину и двинулся в путь. По дороге его физическое состояние ухудшилось, он дважды терял сознание на короткое время. По приезде в Москву шофер сразу отвез его в 52-ю больницу, где у него работал знакомый врач. Отец не имел сил даже сказать своему водителю два слова: «Вези к Паше» или «Вези к Розе». Ведь обе его родные сестры были великолепными действующими докторами. В приемный покой отца внесли на носилках. Места в палате ему не нашлось. Не приходя в сознание, он умер на больничной койке в коридоре. А у себя дома (отдельная крохотная квартира-кооператив на улице Волгина) мама вырастила кактус и произнесла фразу, которую я запомнил.Мама. Этот цветок живучее нас. Я. И добавила уж совершенно меня сразившее. Мама. Теперь я вдова.
Она сказала это так просто и так трогательно, что я заплакал. А она, бесслезная, долго стояла у окна на кухне и смотрела в упор на тьму подступающей ночи. Мы только что вернулись с кладбища. Общих поминок не было. Сестры отдельно, мама и я отдельно.
Мама. Помой руки. Я. Зачем? Мама. Так надо. Посидим. Мы присели за кухонным столом. Я. Мама… мамочка… я тебя очень люблю. Очень-очень. Мама. Это ты к чему сказал?.. Хочешь меня поддержать? Или хочешь, чтобы и я заплакала?
Она была из железа. Я забыл, что она из железа.
Я. Я к тому, что жизнь не кончилась. Будем жить. Мама. А как? Я. Я с тобой. Мама. Ерунда. Ты вырос эгоистом. Чудовищным эгоистом. У тебя своя жизнь… театр… твоя жена, дочка… А у меня ничего. Ровным счетом. Жить незачем. Теперь и я мертвец. Может, это и к лучшему.
Затемнение. Через девять лет — разговор продолжился на той же кухне.
Я. Хорошо. Я плохой сын, не уделяю тебе должного внимания, не звоню, не прихожу, но это ведь ничего не значит!.. Не количеством же звонков измеряется мое к тебе отношение!.. Мама. Почему же?.. Может быть, и количеством. Я. Обещаю тебе звонить чаще. Мама. И от тебя — слова, слова… Я свои раны привыкла заживлять сама. Я ни с кем сейчас не общаюсь, нигде не бываю, перестала сама кому-либо звонить, сижу тут на верхотуре, на своем 12-м этаже, — и каждый вечер мне хочется броситься с балкона. Как жаль, что я не пьющая!.. С водкой, наверное, было бы легче. Нахлестаться — и спать. А я в полном одиночестве сижу, одеревенев, перед этим дурацким телевизором и смотрю программу «Время», будь она проклята!.. Единственное развлечение в моей жизни!.. Такое большое советское счастье! Я. Я тебя сто раз приглашал в театр — ты не ходишь. У меня премьера в БДТ — «История лошади» — все с ума сходят. Мама. Я слышала. Я. Это надо видеть. Давай поедем вместе в Ленинград, я куплю билет… Мама. А я что, сама не в силах купить себе билет? (Это она в своем репертуаре.) Я. Ты пенсионерка. И мне, в конце концов, хочется сделать тебе приятное. Мама. Это ты правильно сказал — в конце концов. Я. Не придирайся к словам. Так поедем? Мама. Осенью. Или зимой. Сейчас будет лето, и я буду копать на даче. Я. Копать! (В зал.) Дачный участок в Купавне в поселке Госстроя, где мама проработала старшим инженером, — 8 соток, домик, собранный из дощечек от обувных ящиков (целый грузовик я пригнал в подарок от папы моей жены), огород из четырех грядок и трех плодоносящих яблонь — вот тот итоговый предел совслужащего, к которому он шел всю свою жизнь. Бедная моя мама! Мама. Ничуть не бедная. Знаешь, какой у меня крыжовник. С одного куста — целый таз. Я. Ну, это уже почти Чехов. Мама. Приедешь — я тебе насыплю. Я. Приеду. Вскопаю. Мама. Переночую и уеду на месяц опять. Да? Я. Мама, ты же знаешь, у меня дела. Мама. У меня тоже. Вот, выбрали председателем дачного кооператива. Я. На кой тебе?.. У тебя же сердце больное. Мама. Дорога вся в колдобинах. Хочу асфальт положить, деньги собираю — никак собрать не могу. Колодец тоже надо вырыть — без воды питьевой наши участки. Бегонии — три куста — у забора посадила. Они красивые, когда цветут. Я. Поздравляю. Мама. Надо же хоть чем-то себя занять. Думаю вот в Анапу на экскурсию съездить. На автобусе. Я. Может, тебе денег дать? Мама. На что мне деньги? Я. На экскурсию по родным местам. Мама. Сама справлюсь. Накоплю. Я (неуверенно). Так что… тебе, выходит, ничего не нужно? Мама. Мне — нет. Я кактус. Все вроде как-то ничего у нее было. Только грустно почему-то. И вроде не старушка еще. И общественной работой занимается. Асфальт, колодец… крыжовник, грядки… Бегонии у забора… Анапа в перспективе… Какая чертовски наполненная жизнь, однако! 27 августа мама неожиданно умерла. Она схватилась за сердце, стоя с лопатой на грядке, «скорая» приехала через два часа, отвезла ее в одноэтажную больничку на станцию Электроугли, и там мамы не стало.
Белая стена вдруг начала осыпаться. Экран рухнул на пол.
Я (кричу). Мама!.. Стихи мне на прощание прочти!., какие-нибудь. Мама (застыв в луче света).
Когда бегонии цветут,
Быть постарайся тут как тут,
Чтоб избежать агонии,
Когда цветут бегонии.
Я. Папа! Отец. Я здесь. Я. Мама! Мама. Меня нет. Отец. Видишь, она не хочет со мной разговаривать. Я. Мама, это так? Мама. О чем мне с ним говорить? Я. Если вам не о чем между собой, спросите меня о чем-нибудь. Например, что я делал все эти годы, кем был и кем стал, и чего мне все это стоило. Конечно, у вас была своя жизнь… трагическая и чудовищная… но все-таки в ней был… если и был смысл, то прежде всего в том, что вы родили меня, и моя жизнь — это уже моя, другая, жизнь со своими потерями и победами, крушениями и возвышениями. Иногда мне кажется, что вы смотрите на меня и знаете обо мне всё. Но это мистика, чепуха — вы ничего не знаете, ни-че-го. Отец. Мне нечего на это возразить. Мама. И все-таки мы живем в тебе, продолжаем жить в тебе. Я. Хотя бы сейчас соединитесь. Это моя самая большая мечта. Отец. Мы сошлись в тебе. Мама. Согласна с Семой, но… пусть он не думает, что я его простила. Отец. Сейчас это уже не имеет большого значения. Мама. Бессовестный!.. Ты так ничего и не понял в наших отношениях! Отец. Это ты не поняла. И сейчас не понимаешь! Мама. Что же я не понимаю?.. Что ты сделал меня одинокой?.. Что ты обманул меня, растоптав наши чувства, нашу любовь, наконец?.. Что ты обрек свою семью на разрыв, испортив всё — жизнь свою, мою и жизнь Марика, оставив его без отца?.. Отец. Зачем ты обвиняешь меня в том, что я не делал. Всё, что произошло, — не моя вина, а ты оказалась глухая к моей беде… к нашему общему несчастью… Мама. Я глухая?.. Вот благодарность за то, что я вырастила тебе сына — ты и представить не можешь, чего мне это стоило! Отец. Зато ты хорошо представляешь, что мне пришлось пережить. Мама. Будь проклята эта жизнь!.. Будь проклято всё, что нам выпало в этой жизни. И ты тоже будь проклят… Я. Ох, мама! Мама, остынь!.. То есть, прости, я не в том смысле! Отец. Лика, но я же люблю тебя! Мама. Даже здесь, на том свете, я слышу этот твой голос!.. Но я не верю тебе!.. Не верю! Вот оно, главное. Разбито всё. Искорежено и сожжено. Отец. Я хочу застрелиться! Даже сейчас я… Мама. Мне от этого будет не легче. Я умерла еще там, в той жизни, которая называется нежизнью и которая никак не может кончиться даже здесь, на том свете. Отец. Сын попросил нас об этой встрече. Я не мог не явиться. Мама. Меня нет. Но складывается впечатление, что меня никогда и не было. И вообще нас не было никого. Я. Было. Отец. И прошло. Я. Помнится. Мама. И забыто.
Часть вторая Чай со страхом
Как я был греком…
Много раз я делал попытки написать автобиографию. Но всегда чего-то не хватало, чтобы поставить точку. Бывало, пишешь-пишешь, а на следующий день всё устаревает. Появляется что-то новое — надо опять его отражать… Какая-то жуткая канитель. В конце концов я решил, что жизнь нескончаема. Моя во всяком случае. И потому, что бы я ни написал, это будут отрывки из обрывков. Например, какое-то время своей советской жизни я был греком. По паспорту. А паспорт — серьезный документ, которому нельзя не верить. Известен, к примеру, случай, когда паспортистка в милиции ошиблась и в графе «национальность» написала слово «еврей» через два «р». То есть получилось, что все евреи как евреи, а этот несчастный всю оставшуюся жизнь был «евррррей». Потому что эти его два «р» слышались как четыре минимум. Представляете, какое счастье он испытывал, особенно в сталинские времена. В те же годы, рассказывают, другая паспортистка в той же графе опрометчиво написала «иудей», поскольку еврейский человек, к которому она обратилась с вопросом «что писать», с юморком, достойным лучшего применения, сказал в милицейскую форточку: — Я иудей. Она так и записала. По слуху. Тогда этот еврейский человек, поняв в ужасе, какую злостную ошибку он совершил, стал требовать немедленного исправления. Паспортистка испугалась не меньше и что-то подтерла во второй букве, что-то приписала, и получилось в результате слово «индей». К ее удивлению, еврейский человек стал прыгать от счастья и, схватив свой отныне редкий паспорт, бросился бежать из советской милиции с криком (про себя): «Прощай, проклятое прошлое!.. Здравствуй, новая жизнь!» И вот теперь мой, не менее жуткий, случай. Дело в том, что моя мама — гречанка. Наполовину. Она родилась в г. Анапе, где есть красивые «Греческие ворота», через которые каждый, кто проходит, становится немножечко греком. Вот и я в своей жизни что-то подобное испытал — стал, можно сказать, временным греком. Я не виноват, так само получилось. Ну, грек так грек. Хоть и временный, а все же лучше, чем еврей, даже с одним «р». А причина в чем?.. В том, что родился я в 1937 году. 3 апреля. Прибавьте 16. Получается — что?.. 1953!.. Итак, 4 апреля 1953 года я должен был идти в советскую милицию, чтобы получить то, что потом мог доставать из широких штанин, ибо узкие брюки были запрещены («какой ты русский в брючках узких?» — помнится, спрашивал впоследствии поэт поэта). Я, между прочим, тогда учился в школе, в девятом классе. Месяц назад умер товарищ Сталин, на столе которого, по слухам, уже лежал план депортации всех московских евреев на свою внеисторическую родину Биробиджан… И главная доносчица по делу врачей Лидия Тимашук еще ходила с продырявленным лацканом для ордена Ленина — оставалось еще несколько недель до того момента, как эту награду родины за антисемитизм какая-то уже другая родина у нее отберет. Но самое главное, при всем при этом мой отец в это время сидел. Собственно, он сидел уже давно, с декабря 1937 года, и в тот момент никто в мире не мог предположить, что скоро расстреляют Берию, поскольку до сих пор больше расстреливал он. К тому же жил я с мамой и бабушкой в коммунальной квартире, в полуподвале, где по полной программе происходила полужизнь. Это было время, когда единственным человеком, который говорил с народом без бумажки, был Вадим Синявский. И вот в этой обстановке маме моей никак нельзя было растеряться. На ее руках, на ее ответственности был шестнадцатилетний юноша, жизнь которого надо было обезопасить на веки вечные или хотя бы на недельку-другую вперед. И мама сделала это, потому что была самой лучшей в мире мамой — моей. Она, как сейчас помню, посадила меня в день рождения за стол под низким абажуром и, глотая комок в горле, выдохнула: — Что хочешь, сын, но евреем ты не будешь. Я не спросил, почему, ибо знал единственно правильный ответ: потому. Однажды, по прошествии этих лет, я задал маме невинный вопрос: — Мама, а какой чай вы тогда пили? Мама ответила. — Чай со страхом. И испытующе посмотрела на меня. Я понял одно, что «чай со страхом» — знак того времени, символ, обобщение — чего? Несладкой жизни. Кошмара. Сталинщины. И правда: мама моя всю жизнь была испуганным человеком, храбрости которого можно было подивиться. Когда отца взяли 3 декабря 37-го года (арест осуществлял энкавэдэшник с щедринской фамилией Дуболазов), его сначала посадили в каком-то сарае на окраине города. Мама подползла к сараю и, дождавшись, когда краснозвездный охранник отвернулся, бросила в открытую форточку еду для голодного мужа (это было на пятый день после ареста), — ближайшая подруга мамы тут же на нее донесла, и маму на следующий день исключили из комсомола с изумительной формулировкой: «За помощь врагу народа». Так что «чай со страхом» имел первопричины. Его аромат хорошо запоминался. Тем более что отцу дали «вышку», но не расстреляли единственно потому, что человек из НКВД, подписавший смертную казнь отцу, сам к тому времени подлежал репрессиям и, чтобы избежать их, дунул в Китай (об этом человеке упоминает А. И. Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГе») — поистине в общем котле варились и жертвы, и палачи, и у этого котла вовсю плясала крышечка. Надо сказать, мама с папой очень любили друг друга, но еще больше они любили социализм, иначе зачем им, молодым инженерам, выпускникам Московского инженерно-строительного института, понадобилось сразу по его окончании вспорхнуть и полететь в такую даль, на край земли, в страну гейзеров и вулканов — на Камчатку. Там, под Петропавловском, находился судоремонтный завод, и они строили его с вылезавшим из ушей энтузиазмом. Они были плоть от плоти страны, звавшей свое население на подвиги, от которых рябило в глазах. Построить судоремонтный завод значило гораздо больше, чем испортить судоремонтный завод. Ведь это был удар по Антанте, которой уже не было, и смелый бросок в индустриализацию, которая уже была. Надо было поучаствовать в чем-то огромном, заодно и меня родить. И то и другое получилось. Правда, по ходу дела возникли кое-какие помехи. Где-то в начале августа была арестована первая группа ИТР, строивших этот самый венец социализма — судоремонтный завод. Папа, к счастью, не попал в их число, а то бы… Мама тоже избежала их участи, поскольку состояла в этот момент в положении кормящей матери. Впрочем, дальнейшие события показали, что эти и подобные причины не являлись серьезным основанием для отмены террора в одной, отдельно взятой за одно место стране. Гром грянул со стороны океана. И менно оттуда послышалась песня, которую на рассвете нестройным хором пели молодые инженеры — москвичи и ленинградцы. Они стояли на барже и в общем революционном порыве тянули «Интернационал». Затем раздались выстрелы, тела энтузиастов сбросили в воду — и это была еще одна победа в деле строительства социализма на его пути к коммунизму. Как тут было не напугаться?.. «Чай со страхом» испили миллионы людей, мама моя держалась стойко всю жизнь, но картина расстреливаемых в открытом океане на барже людей, как сказал бы Чехов, достойна кисти Айвазовского и потрясает не на шутку. Так что, сидя тогда под абажуром на семейном совете, мама была абсолютно права, ибо знала зверя в лицо, не понаслышке. Я же был совсем юный идиот, который не нашел ничего лучшего, чтобы возразить: — Я согласен, но с одним условием. Фамилию «Розовский» давай оставим. Не могу же я быть Марк Котопуло. Мама поморщилась, но кивнула. Главное для нее (да и для меня) было в том, чтобы в графе «национальность» значилась любая национальность, лишь бы не «еврей». Это не гарантировало мне жизнь, но во всяком случае давало щелочку, в которую можно было бы хотя бы попытаться пролезть. «Еврею» можно было и не пытаться. Сейчас эта история, я понимаю, выглядит довольно дикой, но, поверьте, в апреле 1953 года у меня и мамы не имелось других вариантов, чтобы выжить (о том, чтобы жить, мы и не помышляли). И вот на следующий день я твердым шагом иду в милицию за паспортом и громким голосом называю Элладу страной своего национального происхождения. Дальше в моей жизни из-за этого поступка было много смешного. Уже само сочетание «Розовский Марк Григорьевич, национальность — грек» вызывало улыбку. Все нормальные люди понимали, что здесь что-то не так. Знаменитый анекдот о том, как Абрама били «не по паспорту, а по морде», — это как раз про меня. Правда, меня не били. Потому что знали — я и ответить могу. Это у меня от отца — он и в лагере сохранил достоинство. А когда его, прошедшего через всё — карцеры и пытки, — уже полностью реабилитированного, работавшего под Тулой в строительном тресте уже без былого энтузиазма, оскорбил какой-то выродок словами: — Мало вас, жидов, Сталин сажал’ — отец тотчас шмякнул ему кулаком по харе, да так, что выродка увезли в больницу. Этот антисемитик не понимал, что перед ним стоит закоренелый зэк, отсидевший в ГУЛАГе 18 лет, — с такими нельзя по-плохому, можно только по-хорошему. Конечно, был скандал, отца могли снова взять за «рукоприкладство на рабочем месте», но обошлось — ограничились «товарищеским судом», на котором вынесли порицание тому и другому — и виновнику, и потерпевшему. Однако запомнилось: зэкам палец в рот не клади — есть шанс остаться без руки, не то что без пальца. Конечно, сохранять свою гордость всем нелегко. Но быть евреем в советские времена никому не пожелаю. Недаром в те годы популярен был анекдот: на арену цирка выходит шпрехшталмейстер и объявляет: — А сейчас — смертельный номер!.. Человек-еврей!.. Ужасно смешно. В том смысле, что не так смешно, как ужасно. В Университет я — худо-бедно — поступил: там, слава Богу, я не попал в «процент» лиц нежелательной национальности. Значит, мамин проект сработал. Но уже по окончании Университета — началось. Во-первых, меня стал «кадрить» КГБ. Он, конечно, многих «кадрил», поскольку интересовался каждым. На факультете журналистики выращивались будущие «подручные партии», и надо было вести отсев: кто годился для работы «под рукой», а кто не годился… Кого можно было «захомутать» в ряды, а кого нельзя. Важно было попасть в «поле зрения». А поскольку вне этого поля не было никого, каждый имел свой чудовищный шанс. Вот и меня позвали поначалу в газету «Советская Россия». Там со мной побеседовали и с ходу предложили: — Полгода учите язык. Еще полгода — пишете для нас фельетоны и заметки на международные темы. Дальше — заграница. Спецкором в стране пребывания. Ну, и… — И что? — И выполнение спецзаданий в строго конспиративном режиме. Я ахнул от такого предложения. С одной стороны, мне предлагалась крайне выгодная в советское время карьера. С другой — прямым текстом — шел набор в организацию из трех букв, от которых меня просто тошнило. Я что-то такое промямлил про театр, которым уже в то время руководил. — Какой еще театр? — удивился представитель редакции. — Да вот… не могу бросить… Эстрадная студия МГУ «Наш дом» называется. Представитель редакции помрачнел: — Я думал, Вы — серьезный человек, — сказал он. — Я подумаю, — сказал я, чтобы не слишком его огорчать. — Тут думать нечего, — отрезал товарищ из «Советской России». — Мы Вам предложили то, что другим не предлагается. Поэтому закончим разговор, как будто его не было. Это меня устраивало. На меня смотрели как на несмышленыша, не ведающего, что он творит. А я тоже испытывал счастье быть полнейшим дураком в глазах чересчур умного человека. И всё было бы хорошо в этом тайном разговоре, если бы не последняя фраза, которую не удержался бросить мой несостоявшийся работодатель: — С вами, евреями, не сговоришься! Видимо, я сверкнул глазами в этот момент, потому что он резко захохотал и явно дружески захлопал меня по плечу, выпроваживая из кабинета. Действительно, со мной им было сговориться трудно. Но не потому, что я еврей, а по совсем другой причине — Контора Глубокого Бурения (так в простонародье звали эту организацию) никак не соответствовала ни моим мечтам, ни памяти о моем отце. Больше меня ТУДА никогда не приглашали. Но меня волновал все же вопрос: а почему они позвали именно меня?.. Ведь вроде никакого повода я им не давал?! Один всезнающий коллега дал объяснение, которому, пожалуй, можно поверить: — У тебя же был творческий диплом! В самом деле, темой моего диплома было: «Юмористические репортажи и фельетоны». Отметкой стала «пятерка». — Им нужно было твое перо. Профессиональных, ядовитых, с чувством юмора публицистов у них дефицит. Вот они тебя и захотели видеть у себя. — Но они предлагали еще кое-что, — попробовал возразить я. — Это была приманка. Успокойся. Еврея они на эти дела никогда бы не взяли. Ха!.. «Успокойся!..» Да я и так спокоен. Уж сколько лет прошло с того разговора, а я смеюсь над собой: а что было бы, если бы я принял тогда ТО предложение?! У меня была бы совсем другая судьба, абсолютно не похожая на то, что со мной в этой жизни произошло, биография. Да, история не терпит сослагательного наклонения. За это мы и не терпим историю. Нам живется — как получается. Поэтому живется не нам. Впрочем, я всегда был убежден, что сотворить свою судьбу должен я сам. Для этого я приказал себе раз и навсегда: делай только то, что ты хочешь. А что не хочешь, тоже можешь делать, но нехотя. А лучше не делать вовсе. В этом случае ты, конечно, чаще будешь безработным. Зато будешь испытывать счастье свободы от подневольного труда. Честное слово, мне это удавалось всегда. И особенно приятно было вообще ничего не делать — в этом случае свобода вырастала до таких космических размеров, что освоить этот космос не стоило никаких усилий. И все-таки важно было устроиться на работу, при всем нежелании работать в каком-нибудь штате. Я пошел работать на радио. О-о-о, я и знать не знал, что это такое. Кажется, Ильф написал в записной книжке о том, что человечество пять тысяч лет мечтало об изобретении радио — и вот радио есть, а счастья всё нет. Во время учебы в Университете я грешил некоторыми халтурами в редакции сатиры и юмора Всесоюзного радио — и вот, пожалуйста, иди со своим дипломом, работай редактором. Легко сказать, иди. Еще надо, чтоб тебя взяли. Оказывается, редакция сатиры и юмора принадлежала Главной редакции пропаганды — только у нас, в советской державе, могло быть такое сочетание. Надо сказать, мне это сразу не понравилось. Хотелось бы, чтобы сатира и пропаганда были вещи несовместные. Но мало ли чего хотелось?! И вот я вхожу в огромный кабинет председателя Госте — лерадио товарища Кафтанова. Он сейчас будет со мной знакомиться, и, если я ему понравлюсь, меня возьмут в святая святых — туда, откуда громогласил Левитан и раздавались куранты с последующим гимном на всю страну. Пропаганда — это вам не хрен собачий. Это высший уровень лояльности, секретности, партийности и работоспособности. По всем четырем пунктам я не прохожу. Остается пятый пункт. И из-за него сейчас будет весь сыр-бор. Кабинет длинный, как дорога в никуда. Но мы с Валентином Ивановичем Козловым — главным редактором сатиры и юмора Главной редакции пропаганды Всесоюзного радио — эту длину преодолели. Садимся в кресла, очень-преочень низкие, так что наши носы едва достигают кромки стола. А за столом — гигант, туша, равная весу трех человек, сидит в кресле, широченном до неприличия — будто два стула вместе сбиты, и эта живая гора — главный начальник всех звуков, которые слышатся круглые сутки на всей территории Советского Союза и за его пределами. Э, да эта гора вовсе не живая. Эта гора… спит. Ну да, точно спит, глаза закрыты, нос сопит. А мы где-то под ним, внизу, оттуда на него смотрим. Стол — пуст. Абсолютно. Ни одной бумажки. Только письменный прибор перед моим носом, и в его бронзовом стакане — букет необычайно остро заточенных карандашей… Если вдруг безумец схватит один из них и ткнет кому-нибудь в горло, смерть жертвы будет неизбежна. Но кому, зачем и для чего тыкать?! Этими карандашами спящий сейчас Кафтанов, наверное, вершит судьбы передач — кому в эфир, кому на полку, в архив… Валентин Иванович начинает беседу. Представляет меня. Дескать, знает с хорошей стороны. Способный, мол, молодой журналист с ярко выраженной наклонностью к юмору, имеет с десяток радийных публикаций, диплом — «пятерка», причем диплом «творческий», а это значит, что я — человек пишущий, к тому же политически грамотен, морально устойчив… В общем, вся эта мура. К моему удивлению, Кафтанов на протяжении всей речи Козлова продолжает спать, даже глаза не приоткрыл. Пауза. Козлов закончил. Кафтанов молчит. Наконец, этот монстр зашевелился и — раз! — сунул руки куда-то себе под стол и вынул оттуда папочку с тесемочками. Развязал. Уткнулся в анкету мою секунд на тридцать и вдруг, открыв долгожданный прищур, спрашивает: — А почему Вы грек? — У меня мама — гречанка, — говорю я, желая, как уже объяснял, одного — понравиться. Возникает еще одна пауза, еще секунд на двадцать. Козлов успевает что-то такое сказать про передачу «Веселый спутник», что ей не хватает редактора, ведь передача-то теперь еженедельная… — А папа у вас кто? — неожиданно спрашивает Кафтанов. — А папа — инженер, — говорю я и тотчас понимаю, что сморозил что-то страшное. Ибо вижу, как Валентин Иванович Козлов вдавился в кресло с еле сдерживаемым хохотом. И тут происходит нечто потрясающее. Кафтанов просыпается — вмиг! — поднимается во весь свой преогромный рост, — я вижу, как лоб его покрылся испариной, а лицо сделалось красным то ли от стыда, то ли кровь ни с того ни с сего ему в голову ударила, — но он мне протягивает через весь стол свою лапу и говорит фразу, ради которой мы, собственно, и пришли: — У меня нет возражений! Все это происходило в 1960 году. Что было потом? Были шестидесятые, вот что было. Между прочим, на радио я проработал целый год, подтверждая правоту Ильфа, — без счастья, и все же не жалею об этом опыте, столь же важном, сколь ненужном. В журнале «Юность», куда я перешел на должность редактора отдела «Пылесос», моей анкетой не интересовались. Благо, брал меня на работу сам Валентин Катаев. Ему хотелось оживить отдел сатиры и юмора после Леонида Ленча, считавшегося назначенным в этом жанре на место свергнутого Михаила Зощенко. Назначение провалилось — Ленча никто не читал, никто не уважал. Все смеялись над тем, что в его рассказах никогда не было ничего смешного. Благодаря этому его считали классиком советской сатиры и юмора. Однако подлинными классиками этого жанра стали Горин, Арканов, Жванецкий, Иванов, Шендерович… Я горжусь тем, что первых двух я напечатал в «Юности» впервые — и впервые на этих страницах Офштейн стал Гориным, а Штейнбок Аркановым. Это к вопросу, «почему я грек». Кстати, историю с Кафтановым описал Владимир Войнович в одном своем романе. Благодаря этому свидетельству, Жириновский со своим «папой-юристом» становится плагиатором, ибо украденная им у меня шутка несомненно украдена у меня. К тому же еще мой одноклассник Рафа Готов однажды удачно пошутил, сказав в компании, что «Розовский совершил путь из евреев в греки». А я добавил: — Волоком. В дальнейшем мои злоключения из-за паспортной записи продолжались. Взять хотя бы мою историю поступления на Высшие сценарные курсы Госкино СССР — в 1963 году. Поступить туда было не просто. Мне — особенно. Именно из-за пятого пункта. Дело в том, что набор на эти курсы был конкурсный, однако имелась и строгая разнарядка: от каждой советской республики по одному студенту. Исключение для Украины — двое, и для Грузии — столько же. К ним приравнивались Москва и Ленинград, одновременно представлявшие РСФСР. Это делало мои шансы нулевыми. Ну как я со своим грекоеврейством мог рассчитывать, что меня возьмут «от Российской Федерации»? Взяли. Моему ликованию не было предела. Я сам не верил, что такое может быть!.. Наверное, сработала рекомендация, полученная мною и моим другом Юрием Клепиковым от Михаила Калатозова и Сергея Урусевского. Эти великие люди бывали на спектаклях «Нашего дома» и даже приглашали нас к сотрудничеству, делая фильм «А, Б, В, Г, Д…» по сценарию Виктора Розова. Фильм, по-моему, так и не вышел, но хорошие, теплые отношения остались. Была еще и поддержка со стороны Юрия Нагибина, написавшего маленькое предисловие к нашему с Юрой сценарию, опубликованному в журнале «Искусство кино». Я тогда не понимал, что в слове «кинотеатр» мне больше по душе будет вторая его часть. Мне хотелось писать сценарии, а чтобы их ставили, надо было попасть в этот закрытый со всех сторон мир — мир советского кинематографа. И вот — такая удача! Когда я увидел себя в списке принятых, мое сердце подпрыгнуло, а голова закружилась от нахлынувшего счастья. Как раз в этот момент ко мне подошла женщина из приемной комиссии и спросила: — Вы Марк Розовский? — Да, а что? — Вам надо поговорить с Михаил Борисычем. Что-то екнуло у меня внутри, но я не подал вида. Вообще-то каждому еврею в момент удачи нельзя расслабляться — никогда не следует верить до конца, что уже «всё в порядке» и ты — король. Всегда надо оставлять для себя некоторую возможность полнейшего поражения, ибо мы должны быть приучены к тому, что удар судьбы может быть получен в любой, самый неподходящий миг, и мы обязаны быть в вечной боеготовности принять то, что нам суждено, и попытаться в следующую секунду как-то извернуться, спастись, выжить, а еще лучше — сделать свалившиеся на тебя неприятности основанием для борьбы с ними и победы над ними. Такова уж наша природа: «Будь готов к худшему!» — «Всегда готов!» И только в этом случае тебя ждет что-то хорошее. В конце концов. Ну, пусть не сейчас, а в будущем. Вот на чем зиждется наш искрометный еврейский оптимизм — на готовности в любой момент испытать что-то неожиданное, что-то даже очень гадкое, мерзкое, иногда даже опасное для жизни… А мы все равно неубиваемы. А мы все равно сохраним достоинство. Что бы ни случилось, что бы ни произошло. Вот почему я вошел в кабинет Михаила Борисовича Маклярского — директора Высших сценарных курсов — с понурой головой, дрожащим от волнения сердцем, но чрезвычайно бодрым видом. Поздоровался. Молчу. Михаил Борисович уставился на меня. Понимаю, что изучает. — Поздравляю Вас, — говорит. — Спасибо. — Будете учиться в мастерской Коварского и Исаева. — Большое спасибо. Но чувствую, не ради поздравлений он меня вызвал, не ради моих благодарностей. Сейчас, вот сейчас что-то скажет… И точно, говорит: — А Вы вообще знаете, кто я? Вообще-то я, конечно, знал, кто такой Маклярский, и потому на всякий случай удивленно поднял брови: мол, не понимаю, о чем это он. Но Михаил Борисович опытный волк, его на мякине не проведешь. — Вы вообще-то что-нибудь слышали про меня? Да слышал я, слышал… Что? А то, что Михаил Борисыч не только автор сценария «Подвиг разведчика», но и сам разведчик, правда, бывший. Это значит, другим словом, кагэбэшник. И, естественно, не бывший, а настоящий. Потому что бывших кагэбэшников не бывает. Как раз по этой причине — поскольку понимаю, с кем разговариваю! — отвечаю Михаилу Борисовичу с безмерным простодушием и наивностью: — Нет… Вроде ничего не слышал… — Ах, не слышали?.. Точно не слышали? Нарывается. Хочет, чтобы я ему правду сказал… Ну, пожалуйста, мне ничего не стоит. — Ну… Говорят, Вы вроде этот… генерал госбезопасности! — выпаливаю я. Михаил Борисыч прямо зарделся, засветился весь, засверкал: — Правильно говорят!.. И я знаю, что говорят… Секрет Полишинеля!.. К чему он все это?.. Куда клонит?.. Сейчас будет ясно. Сейчас — пойму. — Ну, так вот, — говорит Михаил Борисович Маклярский. — Если Вы, Марк, об этом слышали… об этом знаете… почему Вы меня держите за такого дурака? Вопрос, надо сказать, поставил меня в тупик. Но директор не собирался слушать мой ответ. Он продолжил: — Ишь, хохмач!.. Журнал «Юность»!.. Пылесос какой!.. Я ведь тоже о Вас кое-что знаю. — Я что-то не понимаю, о чем вы, Михаил Борисович? — попробовал я врезаться в этот его монолог. Но директор вовсю разошелся, смеясь и то и дело как бы подмигивая мне: — Да я о том, что… ишь, сатирик-юморист, нашел, с кем хохмить… Вы, наверно, думаете, что я анкеты не читаю?.. Нет, читаю… Вы, наверно, забыли, с кем имеете дело. Я по должности обязан… Я ведь не только сценарист, драматург… Вы когда документы только подали, я сел и все анкеты прочитал… Иначе я был бы не я — Вы соображаете, что Вы натворили?! — А что я натворил?! — мне было тяжело его слушать, потому что я действительно не знал, что я натворил. — А то, что Вы написали в анкете своей… Что за хохмы такие?.. — Какие хохмы? — А такие… Вы написали, что Вы — грек. Только тут я понял, из-за чего весь сыр-бор. Тотчас залез в карман, вынул паспорт и положил молча на стол генералу KГБ в отставке Михаилу Борисовичу Маклярскому. Наступила тягостная минута его замешательства. Никогда в жизни я не видел у человека такого удивления, если не сказать, потрясения, как в тот момент у нашего уважаемого автора детективов в кино. Что он, бедный, тогда испытал, этот классик жанра, опытный боец невидимого фронта, разлюбезный директор по прозвищу Макляра, я, конечно, догадался, но надо отдать ему должное — он не просто улыбнулся и даже не засмеялся — он расхохотался так, что его стол задрожал и стены затряслись. Из глаз посыпались слезы смеха. Редкие по своей ценности, изумительные по своей искренности. — Марк Розовский — грек!.. Нет, вы подумайте… он — грек!.. Грек!.. О-хо-хо-хо-хо!.. Значит, это не хохма!.. Не розыгрыш!.. А я думал, Вы решили всех нас разыграть!.. Меня разыграть!.. О-ха-ха-ха-ха-ха!.. Меня!.. Ой, кто бы мог подумать?! Грек!.. Марк Розовский — грек! Он еще несколько раз повторял это заклинание, а я все ждал, когда же, наконец, он спросит наподобие Кафтанова; — А почему вы грек? Но надо отдать ему должное. Он не спросил. Ведь он был кагэбэшник и мог сам узнать в любую минуту всё, что его интересовало. Он был, повторяю, настоящий. А бывших кагэбэшников не бывает. Смех Маклярского запомнился на всю оставшуюся жизнь. Он резанул меня не меньше, чем если бы кто-то назвал меня «жидом». Но я понял уже тогда, что его оглушающая сила больше характеризует не меня, а, если хотите, ту систему, от имени которой надо мной смеялся директор. Эта система звалась «социалистической» и имела твердокаменное основание — советскую власть. Мы тоже рождались «во чреве мачехи» — советской власти, которую кто-то по-домашнему, по-кухонному прозвал «Софьей Власьевной» — это была, несомненно, шифровка дурью, образом, звавшим к иронической уважительности (все-таки зло имело имя и отчество!), и притом каким-то отталкивающим, каким-то мерзким. В воображении нашем «Софья Власьевна» рисовалась как несомненная ведьма (нынче) и пламенная революционерка (в прошлом). Разговоры с «Софьей Власьевной» велись долгие и тягомотные, поскольку выяснять, «кто прав, кто виноват», под водочку с закусочкой можно было до бесконечности, и на обсуждение вопроса «что делать?» времени уже не хватало. «Софья Власьевна», как всякая молодящаяся старуха с партийным стажем, упирала на свою связь с честными большевиками типа легендарного Цурюпы, падавшего от голода во время голода, — «вот какие наркомы нам сегодня нужны!» — но тут же скатывалась в пропасть негодяйства, ибо всегда среди нас находился какой-нибудь знаток истории, напоминавший о какой-нибудь записке Ленина с коротким, как пулеметная очередь, словом «расстрелять». «Софья Власьевна» была дама явно непригожая, но другой советской власти над нами не было. Приходилось с ней считаться. Ибо время рассчитываться еще не наступило. Или наступило, но не для всех. Героями-диссидентами были единицы. Рожденные «во чреве мачехи», мы были все как один выкидышами этой Системы, не желавшей нас приголубить-приласкать, а лишь жарившей всех подряд на сковородке своей идеологической «сучности», делая из нас яичницу. Не хотелось как-то этому поддаваться. В 57-м году мне было двадцать лет. В условиях социалистической системы возраст — микроскопический. Недоразвитость проявлялась во всем — в безмозглом романтизме и прекраснодушном стиляжничестве, увлечении ранним Маяковским и беспорядочном сексе с теми, кто движется влегкой расклешенной юбке… Именно в этот момент вдруг сделалось тошно от бессмысленного времяпрепровождения, и я услышал зов трубы — той самой, что и по сей день последовательно оглушает меня. Мне безумно захотелось всерьез заняться театром. О «Софье Власьевне» я не думал тогда, хотя сразу понял, что в театральный вуз мне, с моей еврейской внешностью, не поступить. Хоть и был я дурак дураком, а все же соображал, что ни в какой ГИТИС меня не примут, хоть ты тресни. Часами я разглядывал себя в зеркало и приходил к неутешительному выводу: на Рыбникова не похож, играть «рабочего паренька» мне вовек не дадут, и пусть я не имею ярко выраженного шнобеля, но МХАТА и Малого не видать мне как своих ушей. Оставалась эстрада. Для таких, как я, лишь этот рискованный жанр мог приоткрыть щеколду и, может быть, если повезет, — о счастье! — впустить в себя. На эстраде работал бог. Мой всевышний, которому я давно поклонялся. Его звали Аркадий Райкин. Мое преклонение перед ним было безгранично. Я знал наизусть все его миниатюры и разыгрывал их дома в ожидании, что кто-то из домашних меня заметит и назовет гением. Мое тщеславие оказалось попранным, поскольку меня таковым никто не называл. Но я не отчаивался — подражая Райкину, я подражал высшему, нет, самому высшему, потому что выше Райкина если и был кто-то, то этот кто-то звался Чарли Чаплин. Я сходил с ума от желания переплюнуть Райкина. Однако этот младоидиотизм не имел никаких возможностей для самоутверждения. Пылать мало. Надо было что-то уметь. И притом — срочно, ибо юность не терпит, когда что-то важное откладывается на завтра. Мне хотелось побед на сцене, и — немедленно. «Но ты же еврей!» — тотчас приходила в голову отрезвляющая и какая-то до боли правдивая мысль. «Ну и что?.. На эстраде много евреев! — думалось в ответ. — Я буду не хуже». «Ты не будешь. Тебе никто не даст. Тебя никто не знает. И ты пока ничего не умеешь». «Что за комплексы?.. Не умеешь — учись. Попробуй что-то свое. Сделай попытку. Надо попытаться сделать что-то самостоятельное». После этих слов труба пела еще громче и изворотливей. Я жил во власти этой мелодии. Потому и сделал вполне логичный шаг — в сторону клуба МГУ, где меня встретили два потрясающих человека: руководитель эстрадного коллектива Георгий Яковлевич Вардзиели и директор Савелий Михайлович Дворин. Им суждено было сыграть существенную роль в моей жизни — они первыми открыли мне дверь в искусство, погладив по головке и предоставив возможность творить. При этом оба давали мне советы по теме «как жить» на основании своего житейского опыта, диалектично перетекавшего во вселенский. Оба были моими «рэбе», пришедшими в пространство моей души, росшей в безотцовщине и потому, наверное, чутко нуждавшейся в получении каких-то внутренних опор со стороны мужского дружелюбного воздействия. Я как-то очень быстро приник к этим очень разным людям, признав за ними старшинство по части мудрости и выстраданного опыта. Редкий случай, когда хотелось их «слушать» — наверное, это и есть то, что мы так часто зовем «уважением». Недаром Дворина мы звали «папой Савой», а Гоги Вардзиели — большой рыжий грузин с чисто еврейской внешностью — производил впечатление человека-солнца Глаза его сверкали всегда, он лучился так, что я и сегодня, по памяти, физически ощущаю распространяемую им вокруг этакую тотальную радость.Красивое слово «инфаркт миокарда».
В нем слышится громкий рык леопарда! —
В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гете и Золя.
А вокруг от Ивановых
Разрывается земля! —
Отчим и семья Розовских
Некоторое время назад я прочитал ошеломившую меня книгу. Называлась она «Семья Розовских» и имела подзаголовок «Люди необыкновенной судьбы». Издана в Израиле, в издательстве «Компас», на русском языке. Снабжена множеством фотографий. Автор — некто Александр Гак, бывший сотрудник Музея революции, ученый-архивист, кандидат исторических наук… В этой книге рассказывается трагическая и романтическая история семьи моего отчима — Григория Захаровича Розовского, чью фамилию я ношу благодаря формальному усыновлению с 1953 г., как раз с момента получения паспорта в 16 лет. Кабы знал я, к какому роду оказался присоединен!.. Все сплошь революционеры. Пламенные и неподкупные. Старые большевики-ленинцы. Те самые, которые пели «Интернационал» и всю жизнь боролись «за землю, за волю, за лучшую долю»… «Либертэ! Фратернитэ! Эгалитэ!» — как прекраснозвучны эти слова. Как на самом деле ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ эти лозунги Французской революции! И как легко воспринять их душой и сердцем, еще не зная ни о грядущем Большом терроре, ни о голоде и войнах, ни о том, что никакие сами по себе светлые идеалы и идеологемы не восторжествуют, если «счастье человечества» будет строиться не то что на слезинке какого-то ребенка, а на омытом кровью фундаменте непрекращающегося, неостановимого насилия. «Цель оправдывает средства» — вот с чего начинается любой беспредел, жертвами которого окажутся в обязательномпорядке и сами палачи. А всему виной — несправедливость жизни, гнусное и мерзкое несоответствие реальности и представления о том, каковой она должна быть. Ох уж это «должна»!.. Хочется изменить проклятую реальность к лучшему, но как, каким образом?! Мои предки — родственники по линии отчима, — может быть, и не задавались вопросами ответственности за свои деяния перед Богом, но перед самим собой каждый из них был праведен и чист, это точно. А началось все с Иосифа Розовского, про которого можно прочесть… в романе Льва Николаевича Толстого «Воскресение»! Даю здесь этот отрывок полностью, дабы показать, откуда пошли эти корни, взрастившие целую семью больных людей с диагнозом «профессиональное революционерство». «— В тюрьме, куда меня посадили, — рассказывал Крыльцов Нехлюдову (он сидел с своей впалой грудью на высоких нарах, облокотившись на колени, и только изредка взглядывал блестящими, лихорадочными, прекрасными, умными и добрыми глазами на Нехлюдова), — в тюрьме этой не было особой строгости: мы не только перестукивались, но и ходили по коридору, переговаривались, делились провизией, табаком и по вечерам даже пели хором. У меня был голос хороший. Да. Если бы не мать, — она очень убивалась, — мне бы хорошо было в тюрьме, даже приятно и очень интересно. Здесь я познакомился, между прочим, с знаменитым Петровым (он потом зарезался стеклом в крепости) и еще с другими. Но я не был революционером. Познакомился я также с двумя соседями по камере. Они попались в одном и том же деле с польскими прокламациями и судились за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на железную дорогу. Один был поляк Лозинский, другой — еврей, Розовский — фамилия. Да. Розовский этот был совсем мальчик. Он говорил, что ему семнадцать, но на вид ему было лет пятнадцать. Худенький, маленький, с блестящими черными глазами, живой и, как все евреи, очень музыкален. Голос у него еще ломался, но он прекрасно пел. Да. При мне их обоих водили на суд. Утром отвели. Вечером они вернулись и рассказали, что их присудили к смертной казни. Никто этого не ожидал. Так неважно было их дело — они только попытались отбиться от конвоя и никого не ранили даже. И потом так неестественно, чтобы можно было такого ребенка, как Розовского, казнить. И мы все в тюрьме решили, что это только, чтобы напугать, и что приговор не будет конфирмован. Поволновались сначала, а потом успокоились, и жизнь пошла по-старому. Да. Только раз вечером подходит к моей двери сторож и таинственно сообщает, что пришли плотники, ставят виселицу. Я сначала не понял: что такое? какая виселица? Но сторож-старик был так взволнован, что, взглянув на него, я понял, что это для наших двух. Я хотел постучать, переговориться с товарищами, но боялся, как бы те не услыхали. Товарищи тоже молчали. Очевидно, все знали. В коридоре и камерах весь вечер была мертвая тишина. Мы не перестукивались и не пели. Часов в десять опять подошел ко мне сторож и объявил, что палача привезли из Москвы. Сказал и отошел. Я стал его звать, чтобы вернулся. Вдруг слышу, Розовский из своей камеры через коридор кричит мне: «Что вы? зачем вы его зовете?» Я сказал что-то, что он табак мне приносил, но он точно догадывался и стал спрашивать меня, отчего мы не пели, отчего не перестукивались. Не помню, что я сказал ему, и поскорее отошел, чтобы не говорить с ним. Да. Ужасная была ночь. Всю ночь прислушивался ко всем звукам. Вдруг к утру слышу — отворяют двери коридора и идут кто-то, много. Я стал у окошечка. В коридоре горела лампа. Первый прошел смотритель. Толстый был, казалось, самоуверенный, решительный человек. На нем лица не было: бледный, понурый, точно испуганный. За ним помощник — нахмуренный, с решительным видом; сзади караул. Прошли мимо моей двери и остановились перед камерой рядом. И слышу — помощник каким-то странным голосом кричит: «Лозинский, вставайте, надевайте чистое белье». Да. Потом слышу, завизжала дверь, они прошли к нему, потом слышу шаги Лозинского: он пошел в противоположную сторону коридора. Мне видно было только смотрителя. Стоит бледный и расстегивает и застегивает пуговицу и пожимает плечами. Да. Вдруг точно испугался чего, посторонился. Это Лозинский прошел мимо него и подошел к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа: широкий, прямой лоб с шапкой белокурых вьющихся тонких волос, прекрасные голубые глаза. Такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было все его лицо. Страшное, осунувшееся, серое лицо. «Крыльцов, папиросы есть?» Я хотел подать ему, но помощник, как будто боясь опоздать, выхватил свой портсигар и подал ему. Он взял одну папироску, помощник зажег ему спичку. Он стал курить и как будто задумался. Потом точно вспомнил что-то и начал говорить: «И жестоко и несправедливо. Я никакого преступления не сделал. Я…» В белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожало, и он остановился. Да. В это время, слышу, Розовский из коридора кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лозинский бросил окурок и отошел от двери. И в окошечке появился Розовский. Детское лицо его с влажными черными глазами было красно и потно. На нем было тоже чистое белье, и штаны были слишком широки, и он все подтягивал их обеими руками и весь дрожал. Он приблизил свое жалкое лицо к моему окошечку: «Анатолий Петрович, ведь правда, что доктор прописал мне грудной чай? Я нездоров, я выпью еще грудного чаю». Никто не отвечал, и он вопросительно смотрел то на меня, то на смотрителя. Что он хотел этим сказать, я так и не понял. Да. Вдруг помощник сделал строгое лицо и опять каким-то визгливым голосом закричал: «Что за шутки? Идем». Розовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и, как будто торопясь, пошел, почти побежал вперед всех по коридору. Но потом он уперся — я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал и плакал. Потом дальше и дальше, — зазвенела дверь коридора, и все затихло… Да. Так и повесили. Веревками задушили обоих. Сторож, другой, видел и рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Розовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да. Сторож этот был глуповатый малый. «Мне говорили, барин, что страшно. А ничего не страшно. Как повисли они — только два раза так плечами, — он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи, — потом палач подернул, чтобы, значит, петли затянулись получше, и шабаш: и не дрогнули больше». «Ничего не страшно», — повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался. Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания. — С тех пор я и сделался революционером. Да, — сказал он, успокоившись, и вкратце досказал свою историю. Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою дезорганизационной группы, имевшей целью терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, продержали два года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив ее бессрочной каторгой. В тюрьме у него сделалась чахотка, и теперь, в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если бы у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое — на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел. История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде». Что сказать? Толстой, конечно, писал художественное произведение. Его роман впечатлял и впечатляет правдивостью сюжета и характеров, а документальная история казненного за ни за что еврейского мальчика по имени Иосиф — вроде бы вставная новелла, но до чего же сильна и непреложна в ней основная для русского писателя мысль: страдание и гибель маленького человека есть результат всеобщего безбожия, потеря каких бы то ни было нравственных подходов и норм. Ну, действительно, и об этом пишет Александр Гак: «После длительных поисков, среди подшивок старых газет и книг мне удалось найти некоторые дополнительные сведения о Розовском, жизнь которого трагически оборвалась в Киеве. Он жил в бедной семье с матерью и младшим братом. Его судили за отказ назвать лиц, передавших ему нелегальную листовку. Суд состоялся в Киеве 21 февраля 1880 года. Казнь через повешение — таков был суровый приговор. Киевский генерал-губернатор М. И. Чертков утвердил его, и в возрасте 20 лет Розовский был повешен! Дальше трагедия разрасталась, словно снежный ком. В тот день, когда свершилась казнь, младший брат Розовского, как сообщалось, выбросился из окна. А их несчастная мать, не перенеся гибели двух любимых сыновей, лишилась рассудка». Я думаю, не стоит удивляться тому, что после всего случившегося все дальнейшие Розовские целым поколением ринулись в революцию. Несправедливая, до кощунства жестокая, по сути аморальная, бесчеловечная беспредельно казнь мальчика буквально подняла и погнала Розовских на борьбу. Конечно, она была лишь поводом. Причины глубже — в историческом унижении и оскорблении народа — и еврейского, и русского. В книге А. Гака подробно рассказывается про всех и в отдельности — кто кем был до Октября, во время Октября и после Октября. Но самое жуткое в этих судьбах — полнейшая сегодняшняя забытость имен людей, восставших, как герои, живших, как великаны, и сгинувших, как будто их и не было на свете. Мой непрямой родственник, чистейший из чистейших киевский еврейский юноша, не сдавший своих друзей-подпольщиков и увековеченный на страницах романа Льва Толстого как герой — Иосиф Розовский повешен был 5 марта. 5 марта 1953 года сдох Сталин, лежа на ковре в луже собственной мочи. Какой промежуток между этими событиями?.. Какая мясорубка истории? Ведь Сталин посадил и уничтожил практически всех старых большевиков-ленинцев. Мои Розовские оказались в их числе. Но сначала… Сначала они прошли через царские тюрьмы… …Соломон Розовский. Первый арест в Киеве в 1900 г. За участие в рабочей сходке. Затем арест в Луганске за участие в стачке и третий арест там же с пересылкой в Екатеринославскую военную тюрьму. В 1905 году — новый арест, в Риге, побег, подпольная жизнь в Витебске. Участник знаменитой Таммерсфорсской конференции, на которой при поддержке мимикрирующего Ильича созидалось единство большевиков с меньшевиками и принималась резолюция по аграрному вопросу (кровь коллективизации и голодоморы реакционного крестьянского класса, видимо, тогда уже тайно планировались!), и шла крутая борьба с бернштейнианством… Жаль, пришлось прервать дискуссии из-за начавшегося в Москве декабрьского вооруженного восстания — надо было срочно кочегарить пекло. В 1920 году вместе с Л. Красиным Соломон едет в Лондон в составе советской делегации для налаживания экономических связей и заключения договора с Советской Россией. В 1924 году Соломон Розовский умирает в возрасте 45 лет, удостоившись некролога в «Правде», панихиды на Красной площади и захоронения на Вагань-кове рядом с могилами Николая Баумана и легендарного матроса Железняка (Анатолия Железнякова). Надорвав здоровье в тюремных казематах, Соломон Розовский верой и правдой служил своему Ильичу, который, между прочим, оставил после себя историческую записку (впрочем, все его записки исторические!), датированную 21 декабря 1921 года: «Товарищ Семашко! Доктор Гетье просит меня принять меры к лечению Розовского (лучше бы всего за границу в Германию). У него болезнь сердца и ухудшение зимой». Итак, сам Ленин — какой все-таки гуманист!., не только называл интеллигенцию «говном» и предлагал расстреливать людей пачками! — заботится о здоровье своего сподвижника, однако в полной мере это не удалось — кончина Соломона была в буквальном смысле преждевременной, его близкие друзья — такие как Ф. Дзержинский, Н. Подвойский, М. Литвинов, А. Цюрупа, А. Луначарский — под звуки партийного реквиема «Вы жертвою пали…» составляли тот самый букет, в котором что ни цветок, то с запахом. Против фракционности и оппортунистов всех мастей. …Роза Розовская. По мужу — Богрова. А муж — брат того самого Дмитрия Богрова — убийцы П. А. Столыпина. Убийцу как преступника-террориста тоже повесили, но эта казнь по понятным причинам уже никого не шокировала. Он был эсер и просто следовал программным установкам своей партии — убивать носителей власти во имя высшей справедливости. Что касается Розы, то она шла «другим путем» — вступила в РСДРП еще в 1912 году. В 17-м вела пропаганду в солдатской массе и среди матросни, прямо как Лариса Рейснер — прототип женщины-комиссара в кожанке и с маузером из «Оптимистической трагедии». Роза, кстати, тоже имела литературный дар. Ее книжечка-исследование персидской литературы вышла в начале 30-х годов — «Камни поют», подписана псевдонимом О. Гюль, но это, как теперь бы сказали, было хобби. Подружка Елены Стасовой, Роза — агитатор и партийный труженик старой закваски, имела основную работу в советском аппарате. Трижды ее избирают членом ВЦИКа. Трижды! Многократно оказывалась на пожелтевших фотографиях рядом с В. И. Лениным, бок о бок с Я. М. Свердловым, Л. Б. Каменевым, В. А. Аванесовым, Демьяном Бедным, А. С. Енукидзе… Знамя, которое возвышается над их головами в развернутом виде, символизирует своей статикой революционный порыв — эта фотография, где маленькая Роза запечатлена в полутора метрах от Ильича, умилительна до слез — ведь в 1936 году бедную революционерку берут сначала на три года, а потом через три года еще на пятнадцать (!) лет как врага народа. И ее «камни» теперь поют совсем другие, отнюдь не персидские песни… Пайкм сменяются «пойками». «Я отбывала срок в холодных заполярных лагерях Воркуты, в Сиблаге… Прошла множество тяжелых этапов и тюрем, нажила разные болезни, из которых самые мучительные для меня — грудная жаба и частые приступы невралгии. Зимою почти беспрерывно болею. Некому во время болезни оказать мне помощь, нет средств, нет возможностей создать нормальные бытовые условия. Неужели 13 лет кары недостаточно зато выдуманное, приписываемое мне преступление, которого я не совершала?» — вопрошала эта соратница Ленина в одном из писем «ОТТУДА», героиня Октября, проведшая в сталинских застенках немалую часть своей победной жизни. Для меня она была «тетей Розой», и я помню ее молчаливо сидящей в кресле в пустой комнате после реабилитации в 56-м году с неподвижным взглядом полубезумных глаз, со всклокоченными седыми волосами… Вот она какая, «О. Гюль»!.. Еще немного, еще чуть-чуть — она таки протянула до 59-го и тихо ушла из жизни «с большим сомнением в целесообразности своего прежнего участия в борьбе “за светлое будущее”», как пишет историк Александр Гак. Похоронена Роза Захаровна была в одной могиле с сестрой своей Сильвой, умершей за десять лет до нее, в году 1949-м. Я ездил на Ваганьково, искал могилу — не нашел… Обратился к администрации кладбища. Объяснили коротко: — Срыта. …Сильва Розовская (она же Сильвия), будучи с юных лет окрыленной теми же бунтарскими идеями, начинала издалека — из-за границы. Поучившись в Берлине в Академии иностранных языков, она приехала к брату в Петербург и тотчас попалась на выполнении какого-то простого задания в руки жандармов. При этом она у них на глазах… съела записку, которую несла в дом, где в это время шел обыск. Незавидный аппетит! Юную подпольщицу избили и посадили в Литовский замок. Месяц — не срок, и вскоре Сильвия, получив боевое крещение, перебирается в Швейцарию — любимое место русских Нечаевых — Бакуниных, которые еще под пером Ф. М. Достоевского возникали в образах Верховенского — Ставрогина, а теперь под новыми кличками и фамилиями окружали юную еврейку-правдоискательницу для России. В 1916 году она возвращается в Петроград, ее тут же опять арестовывают. К сентябрю 17-го года Сильвия созревает как большевичка и вступает в РКП, «чтобы плыть в революцию дальше» (В. В. Маяковский). Она делала всё, что нужно и не нужно, — распространяла, конфисковывала, снова конфисковывала и снова распространяла… Осуществляя контроль над работой хлебных и продовольственных магазинов, она сама падала от голода и бессонницы. Честная, чистая как кристалл. Живое воплощение революционного идеала. В 1919 году ушла на фронт. Естественно, добровольцем. Естественно, санитаркой. Естественно, по окончании краснозвездного боевого триумфа вернулась уже не в Петроград, а в Москву — новую столицу нашей покрасневшей (не от стыда) Родины, и начала вовсю трудиться в аппарате ЦК РКП (б). Всё естественно… Даже то, что, как сказано в ее характеристиках и справках, она была «стойкой коммунисткой, беззаветно преданной делу пролетарской революции» и «правильно проводившей генеральную линию партии». Непонятно одно: как ее не арестовали вместе с другими старыми большевиками? Впрочем, есть объяснение. Не успели. Сильвия умерла преждевременно, в 52 года, от цирроза печени. Список сестер-революционерок, боюсь, будет бесконечен (мы сейчас как раз застряли на его середине). Теперь очередь Берты Розовской… …Берта Захаровна, в отличие от других своих сестер, с революцией имела несколько другие связи. Прямо скажем, половые. Ибо — была женой самого, пожалуй, знаменитого революционного моряка-балтийца Павла Малькова. Это он, Павел Мальков, командовал сводным отрядом матросов, бравших в бескровном насилии Зимний. Это он, Павел Мальков, подавлял Кронштадтский мятеж, и успешно — был замечен, оценен, вознесен… Первый комендант Смольного. Затем первый комендант Кремля… Его путешествие из Петербурга в Москву было не зряшным. Это он, Павел Мальков, по железному постановлению ВЧК лично расстрелял полуслепую женщину по имени Фанни Каплан — эту классовую вражину, эсерскую гниду и подлую тварь, поднявшую свою террористическую руку «на нашего Ильича» в августе 1918 года. Это он, Павел Мальков, ухаживал за квартирой Ильича в Кремле, заботился о заготовке дров и бензине для автомашины вождя. Мировая революция воздаст ему по заслугам: Павел Мальков с 1947-го по 1953 год будет арестован, но не добит. По выходе из сталинских застенков он напишет правоверное воспоминание о своем доблестном труде в качестве коменданта Кремля, опустив в нем все «черные» факты и моменты кровавой истории и выпятив все «доброе и положительное» в ней. Еврейка Берта, с которой он, Павел Мальков, познакомился ДО РЕВОЛЮЦИИ, была и осталась верным спутником, точнее, спутницей его прямой и одновременно кривоватой жизни. Когда он работал в Кремле, они жили в Кремле. Когда его посадили, она жила неизвестно где. Когда его выпустили, она жила с ним опять-таки по неведомому НИКОМУ из родственников адресу. Может показаться, Берта была таким же ревмонстром, как и ее муж. Отнюдь нет. Вот она запечатлена фотографом в г. Вильно в царское еще время — белый кружевной воротничок, добрая, благонамеренная девушка с задумчивым выражением на лице. А вот еще снимок: 1911 год. Харьков. Городской праздник «День ромашки». Берточка в нарядном платье и шляпке, украшенной соответствующими празднику цветочками. Ну, вот главная многоговорящая деталь: через плечо еврейской девушки лента с надписью: «Для борьбы с детской смертностью». В руке ее кружка для сбора пожертвований. Корзина с ромашками укреплена на ленте — идиллия полная, хочется расплакаться… Но слезы, которые наворачиваются на наши глаза, не могут затмить всю ту боль беспризорщины, которая выплеснулась на российские города и веси в годы революции именно благодаря этой самой революции. Помощь детям-сиротам и детям, гибнущим от туберкулеза, несомненно, была нужна и в те далекие времена, однако чувствительная душа, видевшая «язвы капитализма», оказалась косвенно замешанной в такой мясорубке истории, в которой благотворительность, к сожалению, уже ничего не решала. Решали другие механизмы и инструменты — Берта Захаровна видела их не с галерки, а, можно сказать, из первого ряда. И — молчала всю жизнь. Но могла ли, впрочем, не молчать?.. Павел Мальков пережил свою супругу на 15 лет. А вот он-то как раз многое мог рассказать. Почему-то именно он видится мне в блоковской шеренге из «двенадцати», что шли «державным шагом» да под «кровавым флагом» к светлому будущему. Да что теперь сетовать — это время ушло, обретя сегодня других, более ответственных свидетелей. Несчастье в том, что несчастья были главным содержанием реальной жизни тех людей, которых так волновала проблема счастья всего человечества. …Елизавета Захаровна Розовская. Сестра Лизы. Эта девушка тоже вроде бы неплохо вышла замуж. За иностранца! Фриц Платтен, вот кто стал ее избранником'.. Секретарь швейцарской социал-демократической партии!.. Известный деятель Коминтерна!.. Но это все чепуха по сравнению с тем, что этот самый Фриц сделал лично для Ленина. Во-первых, он его привез через Германию в том самом пломбированном вагоне, выйдя из которого третьего апреля 1917 года вождь сразу с места в карьер начал делать переворот, крича на вокзальной площади с броневика, что для того, чтобы захватить власть, надо срочно браться за оружие. Сегодня, он сказал, рано, а завтра будет поздно. Или что-то в этом роде… В общем, озвучил свои «апрельские тезисы», которые я сдавал раз пять на различных экзаменах по марксизму-ленинизму. Я тогда не знал, что моя невольная родственница Елизавета Розовская в том же историческом апреле собственными ушами слушала эти самые «апрельские тезисы» в авторском исполнении во дворце Кшесинской. Захват власти, горячо рекомендованный Ильичом, который, между прочим, до того момента почти десять лет отсутствовал в России по причине своей эмигрантской судьбы, между прочим, осудил старший товарищ Ленина по партии Г. В. Плеханов, назвавший «тезисы» очень нежно — «бредовыми речами». Но, как точно подметил в своей книге Александр Гак, «для молодой Лизы Розовской это уже не имело существенного значения». А жаль. Послушайся партия своего теоретика марксизма, наша, да и мировая история, может быть, пошла по другому сценарию, но, видно, партия, а вместе с ней Лиза Розовская имели на тот «текущий момент» другого «авторитета». Каменев и Зиновьев так же не сумели остудить пламенных борцов, и они быстренько сляпали октябрьский переворот. Не во имя мщения за когда-то невинно убиенного мальчика Иосифа, не во имя того, чтобы осуществить лозунг «мир — народам, земля — крестьянам» (ни мира, ни земли — ничего из провозглашенного, как известно, люди не получили!), — всё было сделано только лишь во имя заполучения ВЛАСТИ, и всё дальнейшее — только во имя ее сохранения любой ценой. Лиза Розовская встретила Фрица Платтена в квартире Берты — сестрички умели превращать общие интересы в дружбу, а дружбу — в любовь. Жить для мира, не для дома — целая философия, а философия объединяет. Через год Фриц и Лиза зарегистрировали свой брак. Между прочим, в протестантской церкви. По желанию Платтена. Хоть мы, коммунисты, и атеисты, но — «если нельзя, но очень хочется, то можно». Примерно в это же время Фриц Платтен совершает подвиг. Это второй по счету его поступок в адрес Владимира Ильича. Дело было так. Ленин со своим (нашим) Фрицем ехал по улицам Москвы. Поскольку охраны тогда было мало, «джипов» и бронежилетов еще не изобрели, да и бдительность прихрамывала, вождь мирового пролетариата беспечно и демократично катил в открытой машине. А что это значит? Это значит, государственная (в прямом смысле) машина простреливалась со всех сторон. Вождь, вероятно, об этом не задумывался. Он думал о мировой революции. Мы точно, конечно, об этом не можем знать, но предположить можем. Поскольку в машине, повторяем, едет наш Фриц, наш, простите за выражение, Платтен. И вот раздаются долгожданные выстрелы. То есть их, конечно, никто не ждал. Но с другой стороны, можно было и ожидать любой подлянки, если помнить, что машина — открыта и с востока, и с запада, и с севера, и с юга… Что делает Платтен? Он грубо хватает Ленина за шкирку и пригибает его голову к своим коленям. А пули — вжик, вжик… Так и свистят. Тогда Платтен — вот уж герой Советского Союза! (ну хорошо, не герой, поскольку еще не 22-й год, Советского Союза еще нет, СССР пока не создан, 1918-й на дворе, а «незабываемый 1919-й» даже еще не наступил!) — встает в полный рост и… закрывает Ильича своим телом!.. И при этом получает ранение в руку!.. То есть буквально проливает кровь за революцию. Я вот пишу сейчас эти строки, и, знаете, если честно, меня берет возмущение: ну ладно Платтен, он свое получил (об этом чуть позже!), но я-то… я-то как дальний, хоть и нечаянный родственник этого героя Платтена тоже ведь мог что-нибудь всю жизнь получать — ведь получали же члены семьи что-то за своего главного члена, отличившегося в какой-нибудь борьбе за какое-нибудь тогдашнее правое дело?.. Получали! А я ничего не получал. Обошли, собаки. Пусть я не родной им всем и тому Платтену ни богу свечка, ни черту кочерга, но если все получают, почему меня не присоединить?! Не присоединили, пламенные революционеры, коммуняки несчастные. Мой родственник, хоть и Фриц, Ленина для вас спас. А вы… Несправедливо это. Но я сейчас не буду права качать. У кого их качать?.. У Зкяанова?.. Советской власти уже нет. Не накачаешь. Хотя, с другой стороны, гимн восстановлен, люди (многие) голосуют за коммунистов, пусть справедливость и в отношении меня восторжествует. Были «дети лейтенанта Шмидта»… Пусть будет и Марк Розовский — дальний родственник Фрица Платтена. А? Не будет. Ибо знаю и понимаю: Коминтерн, придуманный большевизмом для свержения мирового капитализма, был отчетливо преступной организацией, действующей легально и нелегально по указке и на деньги Кремля. Насилие — не слово, а концепция революционерства, программная доктрина движения, в которое оказались вовлечены людские массы, состоящие из вполне конкретных личностей. Служение этим красным от крови идеологам подобно наркотикам приводило к самоуничтожению, поскольку издавна известно, что революция — это та самая мать, которая пожирает своих детей. Им хотелось идеалы свободы соединить с диктатурой пролетариата. Но свободы не получилось, а диктатура возникла как-то сама собой. Платтен — типичный западный ортодокс коммунизма, его психологию понять нетрудно: делаю всё, что нужно, для победы ленинского разрушительного дела во всем мире — «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…». Может быть, сам Платтен и не понимал, что является частичкой агентуры международного отдела ГПУ-НКВД, но от этого не легче. Деятельность Коминтерна, рассекреченная сейчас, в те времена была почетным выполнением интернационального долга, истовым служением якобы рабочему классу, на деле — всей этой бесчеловечной утопии. Елизавета Розовская работала в аппарате ВЦИКа, затем по требованию Я. М. Свердлова перешла в Управление делами Совнаркома. И было тогда красной красавице 18 лет. Вот и фото. Редкое. Ленин с группой сотрудников Управления делами Совнаркома. Лиза в первом нижнем ряду. Рядом — А. С. Аллилуева, сестра Нади, жены Сталина, далее В. Д. Бонч-Бруевич, ну, и вождь собственной персоной, его секретарша Л. А. Фотиева и другие… В 1920 году Лиза с Фрицем вылетела в Швейцарию. Со спецпоручением. Секретным. Из Госхрана (Государственного хранилища ценностей) моей «тете» было выдано дорогостоящее бриллиантное чудо, реализовав которое, а проще сказать, забодав за большие деньги, Лиза и Фриц получали немалую финансовую помощь по линии Коминтерна для активизации сонных революционных сил в Швейцарии. Однако по дороге случились приключения. Самолет летел в Женеву через Берлин и на территории папской Польши, с которой в 20-м году воевала Советская Россия, был обстрелян. Пришлось вынужденно приземлиться и попасть в плен. Полгода в польской тюрьме сплотили сладкую парочку и еще более укрепили их в убеждении, что мировой пожар просто необходим. Драгоценности удалось сохранить, и секретное поручение Ленина было выполнено. Швейцарская компартия получила свое, а Лиза, видимо, на часть от этих бешеных денег гуляла по Швейцарии еще три года. Нет сомнения, кабы Лиза знала, какие миллионы Коминтерн выделяет на разжигание мировой революции, прожитые ею с Платтеном суммы показались бы ей карликовыми взносами, но факт остается фактом — моя бедная тетя Лиза жила в Швейцарии неплохо. Иначе зачем бы ей пристало разводиться со своим Фрицем — спасителем, нет, спасателем Ленина. В результате она оказалась в Париже, где отголоски военного коммунизма, смененного на НЭП, были менее слышны. В 1925 году, после работы в парижском отделении ВОКСа (Всероссийского общества культурных связей с заграницей), Елизавета Платтен-Розовская вдруг хорошо запела и вернулась в Россию, чтобы петь какую-то арию в опере Россини «Вильгельм Телль» — где бы вы подумали? — а вот где: аж на сцене Мариинского театра!.. Но «недолго музыка играла». В 1937 году артистку оперы, имевшую швейцарский паспорт, арестовывают прямо у дверей Иностранного отдела МИДа. 16 месяцев тюрьмы для нее — это семечки (если тюрьма царская или польская), а вот 37-й год в тюрьме НКВД для нашей певицы, только что певшей Джильду в «Риголетто», — это что-то посерьезнее. Все-таки ей удается выкарабкаться из дисгармоничного капкана — видно, артистический опыт помог нашей Лизаньке вспомнить, что она еще и бывалая разведчица типа Мата Хари: сразу после освобождения наша интернационалистка дует в Ригу, а оттуда самолетом в ту же, такую чужую Швейцарию, ставшую вдруг опять родимой. Аэропорт Цюриха помогает ей перевести дух. Вскоре сюда доносится печальная весть: ее бывшего мужа, героя-ленинца, раненного в миг спасения великого вождя, когда он заслонил своим телом его тело, кое уже давно лежало в это прекрасное время в святом советском месте — Мавзолее, — НКВД хватает, пытает и отправляет гнить и погибать в лагерях ГУЛАГа. Преданный Ильичу Фриц Платтен послушно гниет и погибает — где? — одному Богу известно! — где-то на солнечных пляжах Воркуты, вдали от своей угнетаемой эксплуататорами Швейцарии. Тут вроде бы история тети Лизы и ее мужа-коминтеровца заканчивается. Ан нет… Елизавете Захаровне Розовской до смерти хотелось на родину. Павел Мальков, оставшись один после ухода любимой жены Берты, приложил старание и содействовал новому Лизиному возвращению — для этого надо было восстановить советское гражданство. Восстановили. В 1959 году она не без сомнений в правильности этого шага возвращается в Москву. Но тут выясняется, что ее здесь особенно никто не ждал. Живя в одиночку в малогабаритной квартирке на Ленинском (!) проспекте, Лиза получала скромную пенсию, и всё. Ни тебе статуса «старой большевички», ни тебе льгот и привилегий, без которых ее существование давалось унылым бедствованием. Лиза делает смелую попытку восстановиться в партии, чтобы жить в интернате для ветеранов, где чистенько и регулярно кормят, можно смотреть телевизор, а по субботам — стариковские танцы под радиолу «Ригонда»… Отказ. Бюрократия советского пошиба встала стеной, отказав в восстановлении в партии за давностью лет. Что касаемо интерната, то и в этом вопросе сразу обнаружился тупик: надо было сдать предварительно свою квартирку и уже потом устраиваться поближе к собственной панихиде в новом гнездышке. Расчетливая Лиза от такого варианта отказалась. Попробовала было зарабатывать уроками пения, как она это делала в последние швейцарские годы, да не вышло — учеников не нашлось, стара стала бывшая солистка советской императорской сцены. Осталось одно — умереть. Что и сделала Елизавета Захаровна Платтен-Розовская в 1972 году — тихо, достойно, как и подобает интеллигентной старухе, прожившей весьма бурную, ни на что не похожую жизнь. Сколько еще сестер?.. Много. Мария… Евгения… Циля… Рахель… И Софья. Начну справа налево, по-еврейски. …Софья, она же Софа, Соня, Сонечка — имела партийную кличку Высокая. Между прочим, у футуриста В. Маяковского партийная кличка та же — Высокий… 24 июня 1941 года, то есть на третий день войны, Вильно-Вильнюс был захвачен немцами. Тотальное уничтожение ВСЕХ ДО ЕДИНОГО евреев и цыган — основа основ гитлеровской доктрины — прямиком осуществлялось с неукоснительной немецкой точностью: Соню расстреляли вместе с мужем Израилем Гершате-ром, двумя взрослыми дочерьми, одна из которых приняла фашистскую пулю вместе с мужем и малолетним ребенком… Таким образом, «еврейский вопрос» решался окончательно как бы с двух сторон — Гитлером и Сталиным, — и попробуйте мне доказать, что всё было иначе… …Рахель. Старшая из сестер. Никаких сведений о ней не имеется. Разве что мужем ее был Захар Соломонович Полеес, который, будучи стариком, умер в 1942 году в эвакуации. …Циля. Окончив в 1905 году киевскую гимназию, стала педагогом и… подпольщицей. В РСДРП — с 1907 года. Обыск. Арест. Обыск. Снова арест. 10 месяцев Циля проводит в печально знаменитых и действующих по сей день «Крестах» — петербургской тюрьме, которую вполне можно было бы сделать музеем наподобие Петропавловки. Затем новые аресты — сколько?.. Легко сбиться со счета. Потому уже и не считаем. Муж — Изя Мазель — часто сидит в застенках, в тех же тюрьмах, за те же ревдела… Февраль и Октябрь Изя с Цилей встречают на Украине, где разбушевавшаяся история предлагает им то гетмана Скоропадского, то Раду, то Директорию, то Петлюру, то Махно… Но впереди всех на лихом коне возникает генерал Деникин в окружении — кого бы вы думали?.. Деникинцев, правильно. Эти самые незатейливые деникинцы волокут моих родственников по отчиму в штаб, где разговор короткий: «Расстрелять». И тут все происходит, как в самом важнейшем для нас искусстве — советском кино: Циля, воспользовавшись моментом, позвонила по телефону в соседнее село, где стояли красные. И что же? Утром «НАШИ» (!) атакуют деникинский штаб — и Циля на свободе! Но «хеппи-энда» по полной программе не произошло: Израиля Львовича Мазеля белогвардейцы все же успели расстрелять. …Теперь Евгения. Женя. Всезнающий Александр Гак называет ее «бойкой девчонкой». И у нее трагическая судьба: где похоронена — неизвестно. Зато известно, что репрессирована она была по так называемому «Ленинградскому делу» — там, на бескрайних просторах ГУЛАГа, пропадает ее жизненный след. Муж ее — известный в довоенное время ленинградский архитектор Сергей Павлович Макашов (с нынешним генералом Макашовым ничего общего, однофамильцы) — подыхает в блокаду от голода и дистрофии. Правда, где-то затерялась судьба их дочери, носившей в 60-е годы фамилию — Башкирова. Но где она?.. Есть ли у нее дети — мне неведомо. …Наконец, Маня… Мария… Сведений о ней — ноль. Был человек — нет человека. С трудом удалось выжать лишь два момента: она была «волевой натурой» и умерла в 1950 году. Подвергалась ли она репрессиям? Может, да. Может, нет. Молчание — золото. И теперь уже вряд ли кто-то сумеет нарушить эту зловещую тишину и собрать воедино сдутую историей, прокрученную в ее мясорубке, человеческую пыль. Всего в семье Розовских было тринадцать детей. Как и полагается, еврейская семья должна быть многочисленной. Маму звали Нехама. Отца — Захаром. Он был верующим евреем, знавшим иврит, читавшим Тору и ходившим в синагогу. Он умер в Минске в 1921 году. Нехама — в 1933-м в Вильно. Нехама как раз являлась двоюродной сестрой того самого повешенного мальчика по имени Иосиф, про которого написал в «Воскресении» Лев Толстой. Этот мальчик Иосиф мне снится по ночам. Мне кажется, он нас всех видит. И он поет… Ведь он любит петь. В этом смысле я на него похож. Мне даже кажется, что у нас одно лицо. И я спрашиваю его во сне: — Ну и что, Иосиф, ты обо всем этом думаешь? Он не отвечает. Он как бы предлагает думать нам… Только тело его слегка качается под тюремным потолком. Итак, революция как акт поначалу частного мщения за казнь одного маленького Розовского («око за око»), желание единственно возможной компенсации утраты, железное сопротивление «веку железному» — всё это оборачивается гибелью почти всего фамильного клана, и — финал: полный проигрыш «веку-волкодаву». Все эти вызовы эпохи вертели судьбами людей, искавших высоту идей по причудливым траекториям, зигзагообразным и ломким, никогда не прямым. Можно осуждать присущий этим людям чудовищный максимализм, и я не хочу стелить соломки под их столь явные (теперь!) заблуждения. Сегодня нам легко говорить о расстреле человеческих потенциалов, об отсутствии тихого смирения как основополагающего закона бытия, о бесовском воинстве, вобравшем в свои ряды миллионы утраченных, канувших в бездну индивидов, о пустоте благодеяний, принесших на землю столь много кровавых зверств и гибельных катаклизмов, но было бы непростительно и глупо отвергать саму психологическую подоплеку неизбывной веры в утопию. «Праведники», хотевшие спасти мир, не спасли ни мир, ни себя в этом мире. Пафос разрушения кружил над их головами, в которых зрели и вызревали мысли о переустройстве всего и вся, ведь в НАШЕМ будущем не будет зла! «Из честных людей получаются честные носороги» (Э. Ионеско), да и всё же честные всегда лучше нечестных. Жирные чиновники, деляги от политики, «паханы», влезшие во власть, — это не они. Их всепоглощенность будущим с его триумфом справедливости сделала из них по-детски беззащитных человечков, раздавленных ходом истории. «Но всё перемалывает время», — сказано Гоголем ОБО ВСЕМ, а не о чем-то, что мы можем посчитать выборочно, минуя те или иные лица, стертые уже из памяти и позабытые как якобы ничего не значащие и никому не интересные. «Людей неинтересных в мире нет» — сказано не мной, и мне нравится то, что сказано поэтом. Сестры — одна другой лучше, теперь братья… Теперь, собственно, об отчиме, чью фамилию и благодаря которому отчество «Григорьевич» ношу. Отметим сразу: Гриша Розовский в своем семейном революционном выводке был белой вороной. Всё в нем — в его личности, характере, увлечениях, страстях, размышлениях — направлено совсем в другую сторону. Уточним: даже противоположную. Вот ведь как распоряжается Всевышний судьбами своих «муравьев» — у него для них своя «политика противовесов»: Григорий Захарович Розовский, усыновивший меня и в связи с этим получивший звание моего «отчима», диаметрально позиционировал себя как человек, далекий от политики, — раз, имеющий в жизни совсем другие интересы — два. Он ни с кем и ни за что не боролся. С Лениным не фотографировался и в анкетах честно писал по всем пунктам: «не был… не состоял… не участвовал». Правда, ходил подлый слушок, будто Гриша в 14 лет командовал каким-то полком, но я думаю, это были досужие домыслы кого-то из боевых сестер — их фантазии вполне объяснимы, поскольку романтика требовала героики, где обязательно есть нечто поэтическое, а революционное миросознание должно менять жизнь к лучшему в полном согласии с иллюзиями, ради которых стоит жить и страдать. Все Розовские были натуры цельные, из породы негнущихся, умеющих мечтать и делать свою мечту. Вопреки всему. Григорий Захарович, как мне помнится, имел в этой жизни три увлечения. Первое — уважал маму, свою сослуживицу по работе, вечно хотел ей помочь. И мама его уважала, не более того. Их брак был фиктивным, жили они раздельно — мы у себя на Петровке, он у себя на Новокузнецкой. Но общались. Второе — он любил голубей. Он их гонял профессионально, держа у окна в клетках в своей квартире на Новокузнецкой улице. И третье увлечение — шахматы. Он играл в эту игру на уровне мастера, но звание (спортивное) имел пониже — кандидата в мастера. Шахматы и голуби — вроде бы два сумасбродства, но они грели быт, наполняли жизнь до краев, давали отчиму счастье. Вообще-то «отчим» — слово какое-то дурное. Как и «мачеха». Сразу представляются какие-то злые люди, плохо относящиеся к чужим детям. Ничего даже близко похожего на такое отношение к себе я не имел. Более того, мы с ним подружились. На почве тех же голубей и шахмат. — Подержи!.. Хочешь подержать? — говорил он мне, вручая в руки белоснежную птицу, и она тотчас начинала ворковать, будто разговаривала со мной о чем-то своем. Все-таки я был дворовый мальчишка, и мне было ИНТЕРЕСНО с ТАКИМ необычным человеком. Это сейчас я не могу толком отличить сизаря от королевского, венценосного от почтового, а тогда разбирался во всех тонкостях, разумеется, с подачи Григория Захаровича. Вместе мы посещали Птичий рынок. Покупали. Продавали. Торговались. Заводили знакомства. Голубятники Москвы — а их в те послевоенные времена в городе и пригородах было великое множество, и все фанаты, все теоретики и практики! — Григория Захаровича знали, — ну не все, но многие! — и он этих многих консультировал, общался с ними как знаток. Если бы глянуть со стороны на это, наверное, было смешно: Григорий Захарович носил пенсне, имел лысину и очень сильные, неправдоподобно сильные руки, умевшие плотничать, токарничать, пилить, строгать, забивать гвозди, что-то ввинчивать и отвинчивать… Ведь все голубиные клетки в доме он сделал своими руками. В прихожей стояли огромный станок и стол с множеством инструментов — молотки, кусачки, ножницы, режущие жесть, напильники, тиски, пилы и пилки… Так вот, этот человек с видом рафинированного интеллигента запросто болтал и находил общий язык с голубятниками-блатарями, с пахучими и грязными продавцами живого крылатого товара. Он умел на разные лады свистеть в два, три и четыре пальца и, выйдя во двор, оглашал его своим умением — забавная незабываемая картина, когда этот на вид профессор становился полновластным хозяином голубиной стаи. Голубей надо было кормить по науке. Следить за их здоровьем, настроениями, характерами. Их надо было выпускать на волю — двойками, тройками, стаями… И делать это по режиму, в регулярном ритме. Чтобы они возвращались!.. Но бывали случаи — редко, но бывали! — когда отчим сидел мрачнее тучи и смотрел в одну точку. В такие моменты — не подходи, убьет!.. Депрессия!.. Что случилось?.. Можно не спрашивать. Голубь не вернулся! Трагедия почище шекспировской. Он не пил. В ротспиртного не брал. Но умел залить горе. Буквально залить. Кипятил чайник. Ставил таз. Наклонял над ним голову. — Полей! — говорил он мне. Я ужасался: ведь кипяток же!.. — Я о чем прошу?! — гневно говорила опущенная к тазу голова. Я слегка брызгал на лысину из чайника. — Еще! Я лил еще. — Еще!.. Еще!.. Харррашшшо! Лысина отчима, едва-едва не обваренная, но красная до предела, прыгала перед моим носом. — Полотенце! — командовал он. Я кидал на лысину приготовленное мамой полотенце, обрядовое действие имело логику — после омовения следовало обтирание и далее — общий смех, окончательно снимающий напряжение. — Теперь в шахматы!.. — предлагал я. — Сыграем? — Вслепую! — отвечал он с азартом. Это значило, что я сидел за доской и передвигал фигуры и пешки за него и за себя. Он только произносил: слон эф-пять бьет пешку цэ-четыре!.. Он, конечно, выигрывал, даже не глядя на доску, запоминая безошибочно меняющееся расположение своих и моих шахмат, но ему доставляла удовольствие эта игра на память, на воображение, если можно так выразиться. Высший класс. Демонстрация кибернетического мозга, но в то время кибернетика была лженаукой. — Сдавайся! — говорил он мне. — У тебя положение безвыходное. Я продолжал играть. — Это неуважение к сопернику. Учись сдаваться!.. Не нравилось мне это «учись сдаваться», честно скажу. Тогда отчим, доведенный моим упрямством, раздраженно объявлял: — Через три хода гебе мат! — Ну и что?.. Пусть будет мат, но я играю. Я играл. — Не будь дураком. Это закон такой неписаный — не доводить до мата. Учись сдаваться. Я до сих пор, дурак, не научился. Так и слышу в ушах этот голос: «Учись сдаваться!..» «Учись сдаваться!..» Йо-хо-хо!.. — Мат! — говорил мне отчим наставительным тоном. — Ты даже мат не видишь. — Вижу. — Ну, тогда собирай шахматы. Кто проиграл, тот собирает. А вот этому неписаному закону я следовал. Что делать, если проиграл?! Мама называла его за глаза «чудаком» или «милым чудаком». По-чеховски… Россия — страна героев и антигероев. И те и другие — сплошь «чудаки»… Но он хоть и был «чудак», но отнюдь не прост. В этих его странностях и чудачествах проявлялось скрытое неприятие всего, что происходило вокруг. Шахматы и голуби для Григория Захаровича — это что-то вроде башни из слоновой кости. Это жизненные принципы, позиция вроде бы антигражданская, но на самом деле супергражданская. Легальный уход от реальной жизни с ее катаклизмами и мерзостями требовал от человека найти тайную лазейку. Но такую, чтоб никто не придрался. Не обвинил в аполитичности или, не дай Бог, в противостоянии режиму. Голуби воркуют, взлетают, кружат, а ты знай себе посвистывай… Шахматы тренируют мозг, заставляют решить головоломки, отвлекают от надоевшего быта, а ты знай себе поигрывай… Улёт — как результат своеобразных наркотиков… Чем не способ выжить при тоталитаризме?! Но как при этом обустроить личную жизнь?! Это самое трудное, поскольку вносит в программное одиночество ветер перемен. Мама всю жизнь любила только одного человека — моего отца. Но когда Григорий Захарович умер, сказала: — Жаль. Он был хороший человек. Я ему благодарна. И мне, и всем было понятно, за что, за кого. Мама прижала меня к себе, как маленького, хотя мне в ту пору исполнилось восемнадцать лет. — Вот за кого. За сына. И я присоединяюсь к ее словам. Усыновленный, с другой фамилией (не такой уж явно еврейской, как Шлиндман), я получил другую судьбу, хочешь не хочешь. В добавление рассказа о многочисленной семье Розовских следует вспомнить младшего брата Григория — Леню, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он погиб в бою с немцами в 41-м году где-то под Смоленском у поселка Ярцево. Место захоронения Леонида Захаровича отсутствует. А воз еще один Розовский-сын — Иосиф Захарович — был похоронен с почестями, которые в 1927 году полагались для ритуальных прощаний с партгосдеятелями и профессиональными революционерами. Заслужил!.. Член РСДРП с 1902 года. Партийная кличка — Осип. Один из коллег Осипа П А. Козлов, член РСДРП с 1898 года, вспоминает о нем: «Во время восстания 1905–1906 годов принимал видное участие в работах как легальных, так и подпольных организаций, входил вместе со мной в состав «пятерки», ставившей ультиматум рижскому губернатору…» Что это за «ультиматум» такой был?.. Нам это не дано выяснить, да и теперь вряд ли кто-то будет проявлять к этому интерес в стране, вошедшей в НАТО. Но мне, дотошно интересующемуся своими предками по линии отчима, все же любопытно было узнать, что Иосиф Захарович Розовский семь (!) раз избирался членом Петроградского совета — с 1918 по 1924 год. Это вам не хухры-мухры. Таких людей звали «рабочие лошади революции». Они свое отпахали. Работали не за деньги, а за честь и совесть… Время сталинских кадров, которые решили и порешили всё, пришло чуть позже. А эти — еще жили и работали по другим принципам. Служа ложной идее, заблуждались, конечно, но нам ли, нынешним, погрязшим в новейших коррупциях и беспределах, их судить и осуждать?! В этой связи вспоминается еще одна «святая» женщина — Анна Давыдовна Розовская. Она была супругой Соломона Розовского, с которого начат этот рассказ о «семье». Время намешало в судьбе Анны Давыдовны, пожалуй, все свои крайности и признаки, по которым можно опознать как его позор, так и его триумф. «В 1911 году Анна Давыдовна, — пишет Александр Гак, — работала вместе с Еленой Стасовой в финансовой комиссии ЦК РСДРП, занималась вопросами пополнения прожорливой партийской кассы». Затем наша Анечка — секретарь Сущевско-Марьинского райкома, а в 1919 году занимает ответственные должности в отделе пропаганды и агитации в Московском горкоме партии. Опять же — служим верой и правдой коммунистической идее, и как заслуженный знак этой деятельности — фотографируемся рядом с Лениным. Ну как после этого не пойти на работу в ГПУ?.. Пошла. Революцией мобилизованная и призванная. «Обнаружила исключительную административноорганизационную инициативу, высшую степень добросовестности в исполнении возложенных на нее обязанностей и исключительную преданность делу». Знаем мы эту «добросовестность» и «преданность»’.. Ведь характеристику А. Д. Розовской подписал не кто-нибудь, а сам Уншлихт, зампред ВЧК-ГПУ, известный (в наше время) палач. Ох, Анечка… Ну и наворотила ты, наверное, всяких дел в этом ГПУ!.. А потом, видно, устала так, что бросила в один прекрасный день эту свою сомнительную службу. И стала… тем же врагом. Того же самого народа. Получила в 26-м году докторский диплом и начала яростно и честно (по-другому не могла) лечить людей. Новый муж (Соломон-то уже давно умер) Григорий Михайлович Данишевский — известнейший на всю страну организатор здравоохранения — после 37-го года попадает в ГУЛАГ, где пишет научную работу под горько-ироничным названием «Акклиматизация человека на севере». Ее издают в Медгизе в 1955 году, не зная, что автор-зэк все еще сидит там, где ему совсем ненадобно сидеть. Анечка все это время пишет письма «дедушке» М. И. Калинину, пытаясь доказать невиновность мужа. Надоела своими письмами. И вот уже и ее загребли до кучи и отправили, проявив гуманизм, в тот же лагерь, где успешно «акклиматизировался» выдающийся врач Григорий Данишевский. Анна Давыдовна ушла из жизни в 55-м, но беды продолжали ее преследовать и после смерти. Дело в том, что в 37-м был арестован ее сын Миша, Михаил Соломонович Розовский. За что? А за то, что учился в одной школе с сыном Л. Каменева и дружил с ним. Миша Розовский провел в ГУЛАГе 18 лет, вышел на свободу больным человеком и поселился в Воронеже ~ городе, в котором, как известно, зазияла «яма Мандельштама». Там, в момент глубокой депрессии, он и повесился в своей комнате на оконной раме. Произошло это уже в 63-м году, когда мамы его, Анны Давыдовны Розовской, восемь лет как не было на свете. Укатали сивку крутые Горки Ленинские… Что сказать напоследок? Да, я не родной всем этим людям. И они мне неродные. Мы — родственники по документам, а не по крови. Это так. Но — оказавшись в смертоносном круговороте истории, они, Розовские, живые и мертвые, сделались ее выразительными носителями и знаками. Все биты-перебиты, всем досталось, живого места нет… Я испытываю к ним глубокое сочувствие и сопереживаю их трагическим судьбам. Формально я принадлежу к этой многострадальной и много натворившей семье, ведь я ношу фамилию «Розовский». И привык к своему ненастоящему отчеству — Григорьевич. Потому что и я, как и все мы, жертва всей этой ката-васии, случившейся так давно. А всё почему? Не надо было этого еврейского мальчика Иосифа вешать, вот что я вам скажу!.. И великий русский писатель Лев Николаевич Толстой со мной бы согласился.Наша «победа» — на две трети «беда»
23 октября 2002 года. В Театре «У Никитских ворот» только что закончился спектакль «История лошади». Между прочим, там звучат такие стихи:Мироздание, чье же ты слово,
Если нет у творца твоего
Ничего беззащитней живого
Беспощадней живых — никого?!.
* * *
Снова и снова пытаюсь дозвониться до Ланы. Никакого результата. Наконец, нахожу Сашкин сотовый, набираю ее номер раз тридцать — все бесполезно, связь отрублена. Нет, не только я набираю, Таня тоже постоянно набирает, я за рулем. Подъезжаем к повороту на Дубровку — первый кордон милиции, и ГАИ отсылает нас к улице Мельникова, но и там дальше — нельзя, оцепление. Ставлю машину, пытаюсь пройти, автоматчики в бронежилетах и касках стоят живой стеной. — У меня там дочь. Разрешите пройти. — Нужен пропуск. — Кто дает пропуск? — Штаб. — Как пройти в штаб? — Нужен пропуск. Нормальная ситуация. Абсурд. И самое интересное — всем понятно, что абсурд. Но против него в России — не попрешь. К нему, к абсурду, мы давно уж привыкли. Но одно дело, когда ты наблюдаешь абсурд со стороны, и совсем иное — когда ты внутри, когда абсурд давит на тебя со всех сторон и ты чувствуешь свое бессилие, свое ничтожество перед глобальным житейским идиотизмом. И все же я пытаюсь воздействовать логикой: — Как же я могу получить пропуск в штаб, если вы не пускаете меня в штаб, который дает пропуск? — А это вопрос не к нам, — следует не менее логичный ответ. — Нам сказано: только по пропускам — мы и выполняем. Итак, проникнуть нахрапом не удалось. Надо искать обходные пути… Моросит мерзкий дождь. Темень. Толпа около оцепления растет — прибывают родственники заложников. Каждый делает бесполезную попытку пробраться поближе к зданию, где терпят бедствие их родные. Никто из официальных лиц к нам не выходит. Информации о происходящем — ноль. Отсюда истерики, паника и… слухи, слухи. Кто-то говорит, что там сто чеченцев, из них — сорок женщин, все — смертники. Начинили здание взрывчаткой и ждут только приказа бен Ладена. Звучит не слишком правдоподобно, но после 11 сентября можно поверить в любую жуть. Кто-то пускает «мульку»: на крышах близстоящих домов — чеченские снайперы… — Зачем? — Чтобы расстреливать нас одновременно с заложниками. Другая версия в толпе: — Сейчас сюда приедет Путин. Тогда и начнут стрелять. — Как же, как же!.. Приедет тебе сюда Путин!.. Он из Кремля будет всем руководить. — Не руководить, а на переговоры. — Какие переговоры?.. С бандитами?.. Он на это не пойдет. — Тогда все наши погибнут. — Вместе с не нашими! — Значит, будет штурм. — Тогда тем более все погибнут. — Значит, не будет штурма. Началось. Всенародное обсуждение вопроса «будет — не будет штурм» началось в первые часы террористического акта. И сразу обозначился тупик. Оба варианта чреваты трагедией. Следовательно, из двух зол будут выбирать наименьшее. Но где гарантии того, что… Нет никаких гарантий! Это мне стало ясно уже около оцепления — в первую же ночь. Дождь продолжает сыпать из черноты небесной. Под ногами лужи, рассекаемые колесами бронетранспортеров и машин «скорой помощи», которые то и дело подъезжают к зданию. Доченька моя, где ты, что с тобой сейчас?! Я затерян в толпе. Но какая-то девушка узнает меня: — Я из «Эха Москвы»… Марк Григорьевич, поговорите, пожалуйста, в прямом эфире с Сергеем Бунтманом. — А что я ему скажу?.. Я же ничего не знаю. — Скажите, что считаете нужным. Я вас соединяю. — И протягивает мне телефон. Я говорю Сергею лишь одно: что моя дочь там. И что я в шоке. Боюсь, как и все, взрыва. Боюсь гибели всех заложников, сидящих на пороховой бочке… — Что, по-вашему, нужно делать? — спрашивает меня ведущий «Эха Москвы». — Не знаю, — растерянно говорю я. — Главное, надо спасти людей. Что другое я мог сказать?..* * *
Война в Чечне?.. Нет, война в Москве. Теперь она приблизилась к каждому из нас и дышит нам в нос мерзким дыханием смерти. Мы все, стоящие здесь, только что были разъединены и не знакомы и вдруг в общей беде оказались абсолютно близкими и отныне зовемся общим именем. Мы теперь не толпа, не случайная компания очень нервных людей, мы — «родственники заложников». — У террористов одно требование: остановить войну в Чечне. — И ничего больше? — Ничего. Странно, я не террорист, но мне хотелось бы точно того же: чтобы война в Чечне закончилась. Однако я не собираюсь ради этого кого-то взрывать. — Сволочи!.. Они играют жизнями невинных людей! Да, но и в Чечне гибнут отнюдь не только боевики. Самашки, Старые Атаги, Первомайск и Буденновск, Басаев, Буданов, отрезанные уши и головы, беженцы и слезы матерей с обеих сторон… Сразу и не скажешь, кто тут — в каждой смерти — больше прав, а кто больше виноват. Война — зло. Террор — злодеяние. Нет оправдания ни тому, ни другому. В моей голове сумбур — от дикого волнения и самого неприятного чувства, которое только и может быть у мужика в момент беды, от чувства бессилия. Что бы ты сейчас ни сказал, тебя не услышат. Что бы ты ни сделал, это сейчас никого не спасет. Меня охватывает бешенство от невозможности повлиять, лично повлиять на ситуацию.* * *
Предпринимаю еще одну попытку проникнуть в штаб. Нахожу офицера, которому вроде бы подчинено оцепление. Стараюсь говорить спокойно. Мол, я отец девочки и могу предложить себя в заложники вместо дочери. Чеченцы на это пойдут, я для них стою дороже, чем жизнь ребенка. При этом я могу выполнить любое тайное задание штаба. Офицер смотрит на меня как на идиота, потом чуть насмешливо (а может, мне показалось, что насмешливо) говорит: — Отойдите в сторонку, гражданин. Мысленно выругавшись, отхожу в сторонку. Всё правильно. Так и есть. Нас всех отсылают «в сторонку» от этой чеченской войны. До нас она «доходит», лишь когда наши дети оказываются в гробах — цинковых или обыкновенных. И при этом нас бесстыдно называют «гражданами». Кто мы?.. «Граждане России!»… — Отойдите в сторонку, граждане России!.. Снова решительно подхожу к офицеру. — Может быть, пустите?.. Может быть, доложите начальству?.. Поймите, я должен… извините, я Марк Розовский, я должен во всем этом участвовать… И снова офицер с той же тихой твердостью объясняет: — Ничего не надо, господин Розовский. Там «профи», там специалисты… Они знают, как действовать. Они знают, что и как. Без вас обойдутся и примут правильное решение. Вы не волнуйтесь. Эти последние слова я запомнил, и они мне тоже показались символичными. Но — потом, уже после штурма.* * *
Дождь настучал по асфальту целые моря. Мы с Таней продрогли, забежали на заправку, где я купил бутылку коньяка «для сугреву», и вместе со стайкой молодых журналистов заковыляли «огородами-огородами» поближе к зданию с другой стороны, но и там наткнулись на не менее жесткое оцепление и… на помощника президента Ястржембского, подскочив к которому, услышал: — Все дети освобождены и находятся в автобусе. Ваша жена освобождена (имелась в виду моя бывшая жена Лана) и находится в штабе с Нечаевым (имелся в виду ее нынешний муж, бывший министр экономики России, ныне — президент финансовой корпорации, так что у него, к счастью, имелось больше возможностей проникнуть в штаб). Я возликовал, но ненадолго. Набрал телефон Андрея Нечаева и, наконец, услышал сообщения, так сказать, из первых уст: да, Лана освобождена спецназом (больше никаких подробностей), а Сашка ни в каком автобусе, а продолжает быть «там». Захлебываясь в словах, я прошу: — Лана, я в ста метрах от вас, попроси Андрея, чтоб он вышел и провел меня в штаб. Я могу быть полезным, скажи, кому нужно… от кого зависит… — Не надо, нет. Ничего этого не надо. И — гудки. Связь прервана. Конечно, Лана не в себе: она на свободе, а дочь под угрозой смерти. Но она физически — географически — ближе сейчас к Сашке, чем я! Моя же отдаленность, бездарное и бессмысленное стояние у оцепления, мое все возраставшее чувство бессилия перед надвигающейся и каждую секунду могущей произойти бедой — все это топтало мне душу, все приводило в состояние тяжеловесной депрессии. Где выход? Нет выхода. Наверное, эти подонки и стремились вызвать в нас ощущение полнейшей раздавленности. …Неожиданно со стороны захваченного здания послышались автоматные очереди, что-то ухнуло… Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!.. Затем все смолкло. Снова тишина — зловещая, невыносимая. Значит, штурм, слава Богу, не начался. Значит, гибель людей пока не неотвратима. Остаток бессонной ночи мы с Таней провели дома у телевизора — вместе со всей страной, прыгающей с канала на канал в поисках другой картинки и другой информации о произошедшем. Этот психоз только начинался — одно и то же бесчисленное количество раз. Но — не оторваться… А закрою глаза — и передо мной Сашка, Сашенька, Сашулька, ее глаза, ее улыбка и — слышу явственно, до умопомрачения — ее голос: — Па-аа-апа, когда у тебя следующий «Пир во время чумы»? Мы всем классом решили пойти…* * *
…В Чечне я никогда не был. И, наверное, не буду. Как-то не тянет. Но если все же приеду, обязательно вскину голову и постараюсь разглядеть тамошнее небо поподробней. Неужели оно другое?.. Неужели не такое, как наше, — вместо облаков камни, вместо голубизны — чернота, вместо круглого солнца — квадратное? Не верится. И люди там вроде бы такие же, как мы: двуногие, двурукие, голова на плечах, сердце слева… Это внешне. Внутри не сходимся. То, что в их головах, нам не подходит. То, что в сердцах, нам не понятно. Сколько христианину не объясняй слово «джихад», он, неверный, будет твердить свое: «не убий» да «не убий». Сколько иудею не доказывай, что все пути ведут в Мекку, он все равно будет целовать Стену Плача в Иерусалиме. Мы — разные. И потому нелепо требовать, чтобы весь мир жил «по законам шариата». Я, например, не хочу и не буду. Хоть убейте. И не я один.* * *
Семьсот с лишним человек пришли на мюзикл «Норд-Ост». Плюс шестьдесят актеров. Плюс обслуживающий персонал. Плюс пол сотни террористов. Итого — восемьсот с гаком. Человек двести будут штурмовать. Значит, тысяча… И все должны в один миг погибнуть в результате взрыва: дети и взрослые, женщины и старики, вооруженные и безоружные, единственные и неповторимые… Читаю в послании бен Ладена телекомпании «Аль-Джазира»: «Задачей первоочередной важности на данном этапе этой войны должна быть борьба с неверными, американцами и евреями». Саддам Хусейн туда же: осуждаю, мол, террористическую акцию против России, но главные наши враги — это сионизм и американский образ жизни. Раньше были на карте мира так называемые «горячие точки» — Ближний Восток, Афган, Чечня… Теперь «горячей точкой» становится весь земной шар. Уже и в Австралию, тихую и далекую, поступают цинковые гробы… В чем же причина?.. Или причины?.. Нет, первопричина террора как главного бедствия человечества, шагнувшего в третье тысячелетие?.. Нам надо понять, распознать и предъявить миру эту жуткую тайну, эту, если хотите, философию террора как явления. Иначе не спасти нам ни мою дочку, ни тысячу других жизней в «Норд-Осте», ни миллионы заложников, которые хоть и не находятся в зале, а все равно сегодня таковыми являются, несмотря на то, что им кажется, будто они на свободе.* * *
…Вторые сутки пошли и прошли. Добавили бессонницы, но не убавили тревоги. Телевизор перегрелся, а телефон раскалился от нескончаемых звонков. Друзья и незнакомые люди… Сочувствие, поддержка, проникновенная теплота… Слова, слова, слова… А изменений в лучшую сторону — кот наплакал. Освобождены считаные единицы. Но все вокруг пылают оптимизмом: штурма не будет; говорят, и ясновидящая какая-то пообещала, что все будет хорошо. А может, действительно?.. Время от времени наугад набираю Сашкин мобильный — вдруг отзовется?.. Мало ли что там может быть?.. Вдруг произойдет чудо, и дочка ответит?.. Чуда нет. Есть реальность — восемнадцать смертниц, которых уже кто-то назвал «ходячими бомбами». В любой миг взрывные устройства на их поясах — по 2 кг пластида, начиненного гвоздями и шариками, — сработают, и тогда… Сорок детей, сидящих на балконе, и взрослые, что находятся вместе с ними, взлетят на воздух первыми жертвами и рухнут на головы тех, кто внизу. В братской могиле будет месиво рук, ног, голов и окровавленных камней…* * *
…В пять утра раздался звонок… Трубку схватила Таня. Звонок был оттуда: — Таня, это Саша. Ты, наверное, знаешь, что мы в заложниках. Передай папе, чтобы он собрал друзей и знакомых сегодня утром на Красной площади на митинг против войны в Чечне, иначе нас перебьют. А если митинг будет, нас после 2 часов отпустят… может быть… Нас — это детей из «Норд-Оста». И гудки. Таня не успела ни о чем спросить. Но было ясно — по тону девочки, по скороговорке, — Саша говорит по их указке, не своим голосом и не своими словами… Представился автомат над головой моей дочки… Впоследствии Саша расскажет: — Все дети были на балконе. Спали на полу, между креслами… Со свободных кресел сняли сиденья — они служили нам подушками… И вот мы спим, вдруг выстрел… Это он нас так разбудил сразу всех… — Кто «он»? — Ну, один… У них один такой красивый был… На Рикки Мартина похож. — На кого?! — На Рикки Мартина… Певец такой есть, папа, Рикки Мартин!.. — И зачем он вас разбудил посреди ночи? — Там еще… тетя была. Их. Я заметил: Саша после освобождения не называла «их» террористами, как мы. «Один», «тетя»… Нет, это не «стокгольмский синдром»… Это чисто детское избегание «недетских» слов, интуитивное отторжение от политики, от жути жизни. — И что эта «тетя»? — Она сказала: вы сейчас должны позвонить домой и сказать то, что я вам сейчас скажу. И раздала несколько мобильников. …«Ты, наверное, знаешь, что мы в заложниках» прозвучало совершенно неестественно, а вот «иначе нас перебьют» — слишком убедительно. Что я должен был сделать? Не идти на митинг?.. Пренебречь ночным звонком оттуда, лечь спать и дожидаться, когда «профи» всех освободят, а «переговорщики» до чего-нибудь допереговорятся?.. Еле дождавшись утра, я бросился на Красную площадь. Я летел туда по зову дочери, находившейся на балконе, под которым была взрывчатка, и мне было глубоко наплевать, санкционирован этот митинг или не санкционирован. Мне казалось: раз есть хотя бы один шанс помочь детям, надо использовать этот шанс. «Главное — спасти заложников»? Так давайте спасать не словами, а делом! Митинг так митинг. Да хоть бы что — лишь бы что-то. Тут любое действие — в помощь «главному». Поэтому я очень удивился, увидев «ментов», перегородивших проход на Красную площадь со стороны Васильевского спуска. — Будет санкция — пропустим. Не будет — останетесь здесь. Вместе со мной у подножия Василия Блаженного оказались верные друзья и коллеги — Саша Гельман, Юра Ряшенцев, Миша Козаков, Володя Долинский, множество знакомых и незнакомых продолжали стекаться сюда, но было видно — народу недостаточно, чтобы акция выглядела весомой. Масса журналистов, несколько телевизионных камер… Все крайне возбуждены… Через живой эфир «Эха Москвы» я позвал москвичей прийти на этот митинг. — Сейчас… сейчас прибудет автобус с Дубровки — там родственники заложников… — В настоящий момент Ястржембский решает с московскими властями вопрос о санкционировании митинга. Подождите начинать. Минут через 15 будет известно решение. Ждем. Хотя чего ждать-то… Народу уже собралось достаточно. Кто-то из молодых людей расстелил на асфальте ватманы, на которых оказались начертаны фломастерами импровизированные лозунги. Наконец новость: — Ястржембский сказал: для того чтобы получить официальную санкцию на митинг, необходимо собрать не меньше тысячи человек. Кому сказал? И сказал ли именно так — за это не ручаюсь, но выяснять нет времени. Плакаты подняты. Начинаю говорить первым: — Проклятие войне!.. Проклятие террору!.. Не хочу, чтобы моя дочь умерла в 14 лет!.. Срываюсь на крик, а как, простите, тут не сорваться. Мудрый Александр Гельман выступает не по-митинговому рассудительно: его речь обращена не столько к присутствующим, сколько к телезрителям — и это очень хорошо, если его послушают, если его услышат… Следует еще несколько замечательных выступлений — и вдруг, откуда ни возьмись, какой-то провокатор вылезает с заявлением: — Кавказ — Кавказу!.. Долой русских из Чечни!.. Это ваш Ельцин начал войну… Всех демократов к суду! — Ты кто? — спрашиваю я. — Ну-ка, назови себя. — Я азербайджанский журналист. Врет. Я много раз бывал в Баку, знаю азербайджанский акцент. — Вали отсюда!.. Мы здесь не за тем, чтобы ты тешил свою ксенофобию. Похоже, именно этого господина я видел со спины во время штурма, когда обнаружили «связного» — информатора террористов. Запомнился также улыбчивый милиционер, ходивший в толпе с блокнотиком, в который аккуратно переписывал с плакатов все тексты и лозунги. Несанкционированный митинг (если это можно назвать митингом) закончился. Теперь будем ждать: освободят детей после двух или не освободят…* * *
Не освободили. Радуйтесь, те, кто считал, что не нужно «потакать» террористам. Радуйтесь, «патриота сты», чьи дети сейчас и всегда вне опасности: война в Чечне — чужими руками, чужими жизнями — будет продолжаться до бесконечности, и до бесконечности можно будет трепаться о том, как «черные» не дают нам житья, заполонили всю Россию… Прав был товарищ Сталин, учинивший геноцид чеченскому народу! Бей их! Дави! Будем «чечнить» Чечню и дальше. А они будут «чечнить» нас. Кавказ для Кавказа! Бей русских!.. Бей сионистов!.. Бей! Бей! Бей! …Не освободили. Как, однако же, кое-кому хорошо!.. Как, однако, это выгодно всем — и тем, кто организовал теракт, и тем, кто должен теперь применить силу для освобождения заложников. Руки развязаны, ибо есть веский аргумент в пользу кровопролития: с бандитами нельзя договориться. К вечеру 25 октября я пришел к самому неутешительному выводу: штурм будет, вокруг врут. Подтверждения тому прямо-таки посыпались на мою голову. Во-первых, само «несанкционирование» антивоенного митинга есть не что иное, как нежелание «профи», чтобы им кто-то мешал. Общество следует готовить к применению силы, и всё, что этому противоречит, должно этой «силой» быть отменено. Необходимо совсем иное: внушить обществу в канун штурма, что все «мирные» инициативы провалены, иного средства, нежели «удар по террористам», не осталось. Вот и Жириновский (а в критические минуты к нему полезно прислушиваться, ведь он специально «проговаривается» в таких случаях, готовит нас к самым безумным действиям) в интервью по радио из Ирана накричал в своем обычном стиле: надо пустить газ, затем атаковать. Кто выживет — тот выживет, а кто не выживет… Таких будет меньшинство!.. Значит, по этому сценарию, Сашке моей уготовано «или — или»: оказаться либо в большинстве, либо в меньшинстве… Других вариантов нет!.. Это в лучшем случае. В худшем погибнут все. И этот худший вариант наиболее реален. Второй признак надвигающегося штурма — отмена прямой телетрансляции с места события. Было объявлено, что с утра 26 октября репортажи будут иметь лишь выборочный информационный характер. Третий признак сродни второму: нам сообщили, что террористы намерены начать расстрел заложников с шести утра. Но кто сообщил?.. Столь важное, я бы сказал, самое важное в ходе террористического акта сообщение, по логике злодеев, должны были взять на себя сами злодеи: тот же Бараев был просто обязан лично сказать об этом по телевидению — дабы еще больше устрашить нас и весь мир, не так ли?.. Но он почему-то этого не сделал. Самую страшную информацию мы получили из косвенного источника, без каких-либо подтверждений со стороны террористов. Значит, можно предположить, что искомый повод для штурма готовился вместе со штурмом. Оцепление отодвигали от здания «Норд-Оста» всё дальше и дальше. На 50 м. Еще на 50… Еще на 100… Значит, бой, взрыв, осколки. Чем ближе к утру 26-го, тем громче нам твердили: штурма не будет. А приметы близкой беды множились. То, что штурма не избежать, я ощущал уже просто физически. Освободили помещения для госпиталя, где можно разместить раненых… Где-то промелькнуло сообщение, что спецназ тренируется на точно таком же здании (я знал, что это дворец культуры «Меридиан», где мы не раз выступали). Последним пришло здравое, если не циничное, осознание, что штурм «выгоден», он станет «звеном в общей мировой справедливой борьбе с международным терроризмом». Все складывается чудесно, за исключением того, что в «Норд-Осте» Саша и еще восемьсот потенциальных жертв…* * *
Днем 25 октября позвонили от Савика Шустера: — Приглашаем вас принять участие в сегодняшнем прямом эфире «Свободы слова». Я понял, что это выступление — мой долг. В «предбаннике» студии мы встретили Анпилова с группой товарищей. Они рвались в живой эфир, но встретили отказ: «Мы вас не приглашали». К моему удивлению, анпиловцы не стали возражать и исчезли так же тихо, как появились. Остались приглашенные. Я подошел к Шустеру и попросил: — Нельзя ли не акцентировать, что я отец Саши Розовской?.. Ведь если они там смотрят вашу передачу, это может отразиться на судьбе моей дочери… — Да, может, — сказал Савик, внимательно посмотрев мне в глаза. — Извините. Я хотел бы быть предельно осторожным сегодня. — Понимаю, — сказал Савик. Конечно, мы дули на воду. Я в тот момент и не знал, что в «Известиях» уже опубликован полный список заложников, и Саша, конечно, была в том списке… За десять минут до эфира всех участников передачи предупредили; выбирайте выражения — вас смотрят не только телезрители, но и террористы. Так что «не навреди», «не вспугни», «не раззадорь зверя»… Я воспринял этот совет как чрезвычайно ответственное поручение. Слава Богу, нарастающую опасность штурма в тот вечер чувствовал не я один. Все выступавшие были единодушны: нельзя допустить бессмысленных жертв, войну в Чечне следует прекращать — и вовсе не потому, что того требуют террористы, а потому, что любому народу любая война — поперек горла. Мое выступление в «Свободе слова» 25 октября было и сумбурным, и косноязычным, но я страшно волновался, к тому же не спал уже двое суток. Пришла пора, говорил я, не на словах, а на деле заканчивать то, чего не следовало и начинать. Те, кто держит в заложниках наших детей, совершают насилие. Они сильно заблуждаются, полагая, что насилие можно победить только насилием. Но и мы, к сожалению, разделяем то же самое заблуждение и тем самым загоняем ситуацию в тупик. Одно насилие рождает другое насилие, другое насилие — третье, потом будет четвертое, пятое, сотое… И эта цепочка бесконечна, конец чувствуют только мертвые. Я говорил, что Родина ответственна перед своими детьми. И если она посылала их на бессмысленную смерть в Афганистан и Чечню, то это должно наконец прекратиться. Сегодня, — говорил я, — единственный, мне кажется, способ — прямо, честно, без лишних слов, без демагогии, без разговоров о том, что «главное для нас — человек» (а при этом ничего не делать), — руководству страны принять ответственное политическое решение и вывести «избыточные войска». Я не специалист, я не понимаю, что такое «избыточные войска». Может быть, вывести все войска… Но президент должен выйти к людям, — мне так кажется как просто обыкновенному рядовому гражданину, — и сказать: «Дорогие мои! Сегодня во имя людских жизней, во имя освобождения заложников — детей, женщин и мужчин, я вынужден… подчеркиваю, вынужден!., сделать то, что требуют от меня эти люди»… Я говорил, что, как это ни тяжело, но сегодня друюго пути к спасению всех и каждого лично я, к сожалению, не вижу. Мне скажут, говорил я, ну, что же ты такой «не патриот», как ты можешь такое советовать? Но когда сегодня еврей Рошаль и еврей Кобзон выводят оттуда русских людей — почему-то я не вижу русских «патриотистов» там! Почему я не вижу их?! Да, говорил я, у бандитов, у преступников нет национальности. Но нет национальности и у горя… Последних моих слов никто не услышал — Савик Шустер начал читать душераздирающий список детей-заложников. Но последние свои слова я считаю наиважнейшими. Я сказал, что вся русская культура, вся русская история свидетельствуют о том, что насилием нельзя отвечать на насилие, и если бы за одним столом с нами сидел Федор Михайлович Достоевский, он бы рассказал нам, что такое терроризм и каковы его истоки. Я говорил, что жертвы никогда не приведут нас к главной цели — к концу войны. Ибо… …Нельзя одной рукой держать свечку в церкви, а другой голосовать за смертную казнь, как нельзя считать себя христианином и одновременно кровавить себя невинными жертвами.* * *
И вот то, чего все боялись больше всего, началось. Сердце застучало чаще, дыхание сбилось: замирая от ужаса, мы ждали взрыва. К счастью, этого не произошло. И это была победа. Понеслись — строго дозировано, малыми порциями — информативные сводки, которым жадно внимал весь мир. А между ними — хроника апокалипсиса: солдаты спецназа, выносящие отравленных людей. Их руки болтаются, многие без сознания… Их «складируют» прямо у входа Мертвые?.. Да, несомненно, есть и мертвые. Вглядываемся в ужасающие кадры: перед нами — ад. Нельзя смотреть на эту правду без содрогания. Правду жизни и смерти. А глаза мои ищут в этой кишащей движением толпе Сашу — вдруг увижу?! Вдруг узнаю?! Утро и вся первая половина дня — в психозе: где она? Обзвон больниц бесполезен — оба объявленных телефона заняты напрочь. — Позвони Рошалю, — говорит Таня. — Вы же с ним знакомы. Да, знакомы. Но… — Неудобно, — говорю я. — Удобно. Твоя дочь была в заложницах. Очень даже удобно. Через полчаса выясняется, что Саша в Русаковской больнице. Прилетаем туда. На часах — час дня. Входим в палату. Сашка под капельницей, лицо бледное, опухшее, но глаза — смеются… Жива моя дочка!.. Осталась жива!* * *
…129 погибших… Много это или мало? Сама постановка подобного вопроса — неприемлема. Попробуйте объяснить актрисе нашего театра Виктории Заславской, которая сутки после штурма моталась по моргам Москвы и, наконец, обнаружила своего Арсения мертвым, что ее тринадцатилетний сын входит в это «мало» или «много», — как она это воспримет? К матерям и близким погибших невозможно подступиться с утешительными речами — не только потому, что им тяжелее всех, но потому, прежде всего, что они знают — жертв можно было избежать, штурма могло не быть. Могло бы, если иметь в душе незыблемый постулат: жизнь каждого человека на земле единственна и неповторима. И потому бесценна… А я сегодня — счастливый отец, счастливый безмерно. И безмерно благодарный тому неизвестному солдату, который вынес мою Сашу из здания. Я поинтересовался у Пал Палыча, главврача Русаковской детской больницы, когда точно мою дочь привезли к ним. — «Скорая помощь» с восемью детьми прибыла к нам в 7.15 утра. Троих сразу поместили в реанимацию. Ваша дочь шла сама и даже назвала себя — Саша Розовская. Мы ее спросили, где она прописана, — на этот вопрос она не сумела ответить, сознание у нее в тот момент было мутное, рассеянное… Значит, подвергшись отравлению, «как все», Саша выжила потому, что ей страшно повезло — спецназовец вынес ее одной из первых. Задержись она там на полчаса — час, исход мог бы быть столь же трагическим, как у Арсения и Кристины. Ведь они там были и сидели рядом! — Кристина много плакала! — рассказывала мне Саша потом. — Она вообще была очень возбуждена. — А ты?.. — А я ее держала за руку. Крепко так держала и шептала: «Перестань». Через несколько дней, стоя у могил Арсения и Кристины на Ваганькова, я с горечью и болью представлял себе этих детей на балконе «Норд-Оста». Почему такое выпало на их долю? Почему именно они, наши дети, должны были рассчитываться жизнью за войну в Чечне? За эту проклятую войну, в миг террористического акта сделавшуюся из виртуальной абсолютно реальной… Как же нам должно быть стыдно, неловко жить после них! Всем, всем — и русским, и чеченцам… Арсения я знал с пеленок. Он в нашем театре был такой же, можно сказать, «сын полка», что и Сашка… Вместе все «новогодья», вместе летом на даче, вместе пошли и в «Норд-Ост»… 5 октября Арсений сыграл главную роль — Саню Григорьева в детстве, а жить ему оставалось ровным счетом 20 дней… И вот они лежат в своих гробах в церкви Ваганькова — Арсений Куриленко и Кристина Курбатова. Ранняя смерть сделала их похожими друг на друга, почти близнецами… Их не вернуть уже ни на сцену, ни в жизнь… Слезы льются из глаз людей. И в то же самое время из глаз нелюдей проливаются «крокодиловы слезы». Почему я, счастливейший из счастливейших, говорю сейчас так резко?.. Потому, что до гибели людской, до гибели детской говорил «осторожно», боясь «навредить». Однако нынче следует быть честным и высказаться до конца. Давайте все же попытаемся проанализировать, что все-таки произошло на Дубровке, и сделаем кое-какие выводы.* * *
Никто так и не доказал необходимость штурма как единственного способа сохранения жизни заложников. А факты говорят: план ответить насилием на насилие был принят с самого начала. Убийственный план, в основе которого всевечная позиция безбожников «цель оправдывает средства». «Вечером в пятницу около Дубровки началась передислокация сил, — пишут «Известия» 26 октября. — Наш источник в ФСБ, дежуривший возле захваченного здания, подтвердил эту информацию. “Смотрите ночью телевизор. Через несколько часов все это закончится”, — пообещал он». Как совместить все это с объяснением, что штурм начали из-за расстрела (гибели) двух заложников? Или эта «гибель» планировалась? — спецслужбам необходим был повод для начала штурма: если такого повода нет, его надо было выдумать. «Штурм был вынужденной мерой», поскольку террористы пообещали расстреливать заложников. Это не так. Правда состоит в том, что никакого расстрела не было. А если он был, почему мы не узнали имена расстрелянных? Их надо было бы хоронить со всеми почестями, как героев, павших в борьбе с проклятым терроризмом. Всего этого не произошло. Ибо был не расстрел, а информация о расстреле, имитация расстрела, после которой можно было начинать пускать газ. Нужно было показать злодеев в виде злодеев — вот и показали. Для пользы дела. Той же цели послужила смерть Ольги Романовой — той самой девушки, которая ринулась лично «освобождать заложников». Святая простота!.. Однако каким-то чудом она прорвалась в здание, где ее, пьяненькую, и кокнули… Однако вопрос: кто все-таки виновен в ее смерти?.. Террористы, несомненно. И все же у этого убийства нерасследованная тайна: кто из наших пропустил девушку к зданию?.. Я был на Дубровке в первую ночь и свидетельствую: через стоявшие там оцепления муха бы не пролетела. Значит, подстава?.. Значит, решили: пусть дурочка пойдет, пусть… — нам это на руку, для нас это очень кстати. В подготовку штурма должна входить не только боевая часть работы, но и пропагандистская. Так в угоду главной цели можно принести в жертву чью-то жизнь. Для пользы дела. Хорошо, если эта версия не имеет оснований. Но тогда почему никто и пальцем не пошевелил, чтобы найти и привлечь к ответственности то оцепление, через которое прошла невидимкой Ольга Романова?.. Молчок. Всплеснули ручками и — забыли! В цивилизованном государстве, где власть ответственна перед своим народом, следовало бы провести не обшее расследование, а расследование по каждому погибшему — и не в результате собственно террористического акта, а в результате нашей борьбы с террористическим актом. Но Дума недаром отказалась создать парламентскую комиссию, способную честно выявить обстоятельства трагедии на Дубровке. И это покрывает ее, Думу, несмываемым позором. Селезнев что-то такое успел произнести: мол, Савик Шустер в канун штурма устроил «истерику» на канале НТВ. И невдомек Селезневу, что это все мы, участники передачи «Свобода слова», делали в тот вечер все возможное, чтобы спасти людей, а он, Селезнев, сидя у телевизора, дулся от собственного «патриотизма» и «железной воли». Об «истеричных пораженцах» патриотически заявил в «Известиях» от 30 октября Олег Осетинский. Куда всякий раз ведут нас эти самые «патриотизм» и «железная воля», мы знаем. Проходили: «Мы за ценой не постоим»… И верно: вот только цену назначаютодни, а расплачиваются другие. Неясно вот только, почему после победы на Дубровке, где свои перебили столько своих, в Чечне опять новые трупы да трупы? Чего добились те, кто «без истерики» провозгласил себя победителями? Хороша победа!.. Их сорок, наших 129!.. — Но ведь могло же быть больше! Если бы не газы, погибли бы все. Нет, дорогие. Никто бы не погиб — если бы не газы. А ну как вообще никто бы не погиб — вот куда надо, и ни на миллиметр в сторону! Одно обещание переговоров, даже не сами переговоры, могло бы спасти людей. Одно только обещание переговоров спасло бы всех до единого. Может, стоило бы вспомнить Кутузова, которого отдельные дураки так же упрекали в свое время и в пораженчестве, и в антипатриотизме… Но мы-то «Москвы не отдали». Мы решились на штурм. И что же?* * *
«Нас не поставить на колени», — сказал президент… Сказано хорошо. А еще сказано: «Мы не смогли спасти всех»… Да ведь и не пытались! Как теперь жить-то будем — с чувством вины или без?.. Со стыдом или без стыда?.. Да, ситуация была трудная — из сложнейших. Но именно в таких ситуациях проверяется «наше всё» — дух, культура, патриотизм, совесть, ответственность… Хаос, возникший после штурма, — не выдумка «истеричных пораженцев», а классический пример преступной халатности и безответственности лиц, готовивших контртеррористическую операцию. По точному выражению Жванецкого: у нас «силовики», а нужны «мозговики». В самом деле, чем можно объяснить, почему спасательные работы не были просчитаны нашими «профи»? Конечно, они ожидали, что будут жертвы, но не ожидали их в таком количестве. Вслед за «Альфой», успевшей на входе надеть противогазы, должен был идти санитарный батальон со шприцами в руках. Укол антидота должны были получить все до единого, кто находился в здании. Но даже носилок не было — считаные единицы. Работало всего 80 карет «скорой помощи» — маловато на восемьсот отравленных газом. В 5 автобусов загрузили 100 человек, многие из которых живыми до больницы не доехали. Эти автобусы сразу же прозвали «автобусами смерти». Что творилось в них по дороге — известно одному дьяволу, ранее побывавшему в душегубках Освенцима. Теперь можно всё валить на террористов. Всё, мол, из-за них. Но террористы-убийцы не идут ни в какое сравнение с убийцами, действовавшими с нашей, так сказать, стороны. Все боятся назвать вещи своими именами! Но, повторяю, массового убийства своих своими же — можно было попытаться избежать. Попытаться избежать штурма. Впрочем, собственно штурма и не было. Была стремительная газовая атака, сделавшая бой ненужным. Газа, конечно, подпустили больше, чем надо было. Тому оправдание — вдруг кто-то из «смертников» успеет рвануть взрывчатку. Не рванули. Почему? Это очень серьезный вопрос. Ведь многие заложники, даже большинство из них, заверяли, что слышали выстрелы поначалу, а отключились — потом. У террористов, несомненно, было 15–20—30 секунд, чтобы понять, что наступают их последние минуты. К тому же, находящиеся в разных концах зала, они не могли заснуть все одновременно, секунда в секунду. Ждали команды, которая не поступила?.. Вряд ли, скорее в кульминационный момент смертникам предписывалось самим «проявить инициативу»: каждому фанатику-шахиду предлагалось идти в рай счастливым героем-мстителем. За этим они сюда и ехали!.. И миг смерти для них был бы мигом счастья… Так почему же они не взорвали зал? В конце концов, за эти 15–20—30 секунд они могли уничтожить ползала, поливая по нему из автоматов Калашникова или бросив пяток гранат. Они не сделали этого. Почему? Потому, что предпочли смерть, по их понятиям, мученическую, то есть за идею. Простой суицид им был не нужен, о чем они, между прочим, сразу заявили заложникам: «Мы не хотим вас убивать. Мы хотим, чтобы вы не убивали нас». Странные какие-то террористы!.. С одной стороны, негодяи, подонки, бандиты, захватившие семь сотен ни в чем не повинных людей. С другой — кроме «подсунутой» Ольги Романовой, они, правду говоря, убили — кого?.. Ну, назовите еще имена!.. Была ли у них настоящая взрывчатка? Это вопрос вопросов. Если была, террористы, сознательно отказавшиеся ее применить, заслуживают и получают право именоваться скорее смертниками. Если же взрывчатка была фальшивая, знали ли об этом спецслужбы? Знали? Значит, штурм — преступление. Но ведь если не знали, если думали, что взрыв здания возможен, штурм делался начисто неприемлемым. Неужели газ давал такую твердую уверенность в успехе операции?* * *
Газообразное вещество, которым через вентиляционные трубы дурманили всех подряд — и заложников, и террористов, — назвали фентанилом и сразу стали доказывать, что это не боевое отравляющее вещество, относимое к химическому оружию, а некое наркотическое усыпляющее средство, применяемое в медицине (кстати, почему-то никому из медиков неизвестное). Фентанил, пущенный в зал, сделал свое дело — террористы разделили смертную участь с теми заложниками, кто задохнулся отравой. Первыми ушли из жизни люди, чья сердечно-сосудистая система оказалась не готова к испытанию на прочность. Фентанил выполнил боевую задачу на «отлично» — теперь за дело могли взяться «отличники» стрельбы по спящим. Да здравствует фентанил! Он опробован на людях и показал себя с самой лучшей стороны. Результаты — налицо. Никто не ожидал такого блеска, иначе кто-то должен был подумать, что за несколько минут надо будет вытащить из этого ада восемь сотен человек. Никто не подумал. Опыта подобного не было. Теперь есть. В следующий раз после применения фентанила на штурм пойдет дивизия со шприцами и носилками. А тринадцатилетнего Арсения уже нет и не будет с нами…* * *
Представляется диким праздничек в арабских кварталах после 11 сентября. Однако было бы большой глупостью считать, что эти песни, пляски и вздымание рук чем-то отличаются от нашего «чувства удовлетворения» при виде заснувших вечным сном в картинных позах девушек-шахидок. Смерть — любая, даже смерть врага — не может радовать. А если радует — значит, мы такие же, как и наши убийцы. Наступает эпоха контртеррористических операций, опасных для человеческой жизни ничуть не меньше, чем операции террористические. События на Дубровке учат нас: не дай Бог, случись дальше что-то подобное, заложники будут опасаться своих спасателей не меньше, чем террористов. Возмездие злу — необходимо, спорить тут нечего. Но наше зло должно при этом убывать, а не увеличиваться. Иначе чем мы лучше бен Ладена?! И как бы в борьбе с терроризмом нам самим не вступить — вольно или невольно — на сомнительную дорожку «кровавой мести». Наказывая терроризм, мы хотим утверждать братство людей, а не человеконенавистничество. В том есть и будет главное отличие людей от нелюдей. Но если нами правит асимметричный «ответ», если «акция возмездия» — на уровне Буданова и ему подобных, — лично мне становится стыдно за христиан, за Россию, за себя как гражданина своей страны. Чузство сострадания сегодня во многом растеряно в нашем народе. Жажда крови поразительно легко побеждает души опустошенных людей. И это толкает нас на фронт — в мирное, по существу, время. Отечество в опасности… Да, в опасности — потому что злобе и злобствованию не ставятся пределы. К примеру, закрытие Комиссии по помилованию — это маленькая частность, но очень уж показательная. Мораль не подключается к исполнению закона, потому-то на законы можно плевать, можно «договариваться» с властью, как законы обходить. Приведу одну цитату: «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный могучим семейством, созданный трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы… Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству, высоко сидел на шее русского «дикаря» и призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие… Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил миллионы людей, а среди бела дня спорят: благодетель он человечества или нет?» Это слова, сказанные Иваном Буниным аж в 1924 году и адресованные товарищу Ленину. Гому самому, кто, пытаясь сохранить себя у власти, первым делом после октябрьского переворота уничтожил оппозицию во всех видах, утопил в крови Родину — от Крыма до Владивостока, санкционировал концлагеря для политических противников (в том числе для детей-заложников) и — внимание! — применение удушливых газов против тамбовских крестьян, восставших и не склонившихся перед советской властью. Так что газы — это нам не впервой вдыхать. Фентанил не фентанил, но… Вся наша история, можно сказать, это вдыхание миазмов полной грудью. Мы просто десятилетиями наслаждались трупными запахами — «лес рубят — щепки летят!», «убить человека — трагедия, убить миллион — статистика». Террор всегда был удобен властям — в ответ развязывалось насилие гораздо большего масштаба, государство чуяло «полезность» террора для себя лично и всегда радовалось возможности учинить новое насилие в борьбе со старым. Режим укреплял себя постоянным кровопролитием, и народ — куда ему деться? — шел на заклание.* * *
В середине ноября в «Известиях» появилась статья диакона Андрея Кураева, главная мысль которой: есть люди «равнинные» — это мирные землепашцы, трудяги и нравственно чистые (читай: русские), а есть «горцы» — это те, кто кочует, ворует скот и людей, совершает набеги на «равнинных». Простое разделение, ничего не скажешь. И главное, удобно: «мы» — хорошие, «они» — плохие. Вся Чечня — разбойники и убийцы. Вся Чечня — негодяи и воры. Вся Чечня — криминал и рабовладельческое «племя». Народ-подлец. Народ-боевик. Народ-враг. Ну как тут не сделать вывод о неизбежной, объективно оправданной войне с «разбойниками». Оказывается, не ваххабизм, не терроризм исламских радикалов, не денежно-нефтяные интересы — первопричина войны и террора, а родовой строй Чечни, психология и менталитет «горцев». И читатели в большинстве своем (что и ужасает) немедленно поддержали ретивого церковника. Вот так диакон провозглашает право на насилие «без спецназа», вручает своим «овцам-прихожанам» оружие обороны от чеченцев. Проповедь на проповедь. Фанатизм на фанатизм. Можно ли с таких позиций хотя бы помечтать о конце войны? Да никогда!.. Да и если Чечня нам столь чужая, что ж мы так упорно боремся за объединение с нею, за целостность России?* * *
Мы живем в мире, который не живет в мире. Выражение ненависти сделалось повсеместным. Противостояние — стандартная поза. Все имеют своего любимого врага, которого готовы изничтожать круглосуточно и любыми средствами. Каждый борется с кем-нибудь. И каждому от кого-нибудь есть своя угроза. Современный мир погряз в терроре. Человек звереет. Гуманизм сделался посмешищем. Слыть добрым — значит слыть слабым. Даже в Израиле сегодня многие не понимают тех евреев, которые, видите ли, «дали себя сжечь в печах Освенцима». Слабость не взывает к жалости, как прежде. Теперь слабых бьют — и это нормально. Жестокость — это нормально. Но мало убить врага. Его еще надо испепелить, превратить в ничто. А перед этим хорошо бы унизить, хорошенько оскорбить. Враг тоже хорош. Зная, что я его не пожалею, он в долгу не останется, ответит тем же, но втридорога. Ужас схватки перестал ужасать. Бьются друг с другом группы, кланы, каналы, команды, партии, фирмы, классы, альянсы, мафии, армии, администрации, демонстрации и др. Бьются друг с другом одиночки. И — что, может быть, самое страшное — бьются друг с другом семьи. Дом на дом, улица на улицу, поселок на поселок. Очень хорошо натравливают нацию на нацию. Ксенофобия — на любой вкус. «Наши» враждуют с «не нашими», и попробуй не присоединиться к тем или другим. Кастет, нож — это вчера. Сегодня — танк, автомат Калашникова, пистолет Макарова. Число так называемых немотивированных убийств в нашей стране возросло до такой степени, что общество даже радо этой немотивированности: уж лучше так, чем сознательный кровавый разбой. Между тем это число — показатель нравственной деградации.Даже верующие способны пустить кровь: «Наша вера — лучше вашей, а ваша — хуже нашей. Бей неверных». Бывает: Церковь вовсе не проклинает кровопролитие, а наоборот: кропит оружие святой водой, освящает идущих в атаку. Именем Бога устраивают резню. Именем Бога превращают человека в волка. Именем Бога учат убийству — науке влеплять пулю с любого расстояния или подплывать с миной с любой глубины. Очень любят цитировать Христа: «Я принес вам не мир, но меч», и пытаются нам внушить при этом, что заповедь любви к ближнему отменена. Пора осознать, что у народа цель — жить, а у тех, кто хочет воевать, — наживаться. Около чеченской трубы, игорного бизнеса, московских гостиниц — ни для кого не секрет — круговерть «зеленых», каждодневно подпитывающих войну: покупка оружия, покупка тех, кто готов убивать за деньги. Многократно приходилось слышать от авторитетнейших людей: «Если б мы действительно хотели кончить войну, мы б ее давно уже закончили». Удивительный цинизм. Но никого он не удивляет. Вроде бы всем всё ясно. Однако все остается по-прежнему: риторика риторикой, война войной.
* * *
Терроризму нет оправданий. Но нет оправданий и неумелой непрофессиональной борьбе с терроризмом. Наш «антитеррор» обернулся гибелью 129 живых душ. Их решено списать, вывести из списков недавней переписи населения по причине «смерть от удушья». То гексоген, то фентанил… Что за напасти нового типа?! То своя же торпеда на «Курске»… Не много ли этих «своих», приносящих беду?.. Как что-то жуткое случается, тотчас находятся молодцы, рьяно желающие прикрыть правду — о Чернобыле, о «Курске» ли, теперь вот — о «Норд-Осте»… Для начала путают карты, выпускают множество версий — какая из них «липовая», а какая правда, поди разберись!.. Обыватель и не разбирается. Разбирается гражданин. «Отойдите в сторонку, граждане России»!.. Многие погибшие на Дубровке получили фальшивый диагноз: «Умерла от воспаления легких», «Скончался от стресса»… А через год, через три, через десять лет отравленные заложники, сейчас выглядящие здоровыми, не дай Бог, получат осложнения в организме — будут ли они считаться жертвами теракта? Или всё забудется и останется шито-крыто? У национальной безопасности есть всё — доктрина, деньги, люди, здания, оружие, свой президент… Не хватает маленько морали для осуществления своей деятельности, да ведь этой мелочи и раньше не всегда было в избытке. Ох уж эта «мораль»… Надоело слушать. То им не так, это им не так. Прослушивание телефонных разговоров, говорят, надо запретить. Тыкать ядовитым зонтиком в нужного прохожего, считают, нехорошо. Доносительство в массах осуждают. Секретность рассекретили. Как работать в таких условиях?.. Как обеспечивать? Жаль, в теракте на Дубровке участие мировой террористической мафии не доказано — Мовсар Бараев очень бы нам услужил, если бы немного потрепался по телефону не с каким-то чеченцем в Турции, а с этими Усамой или Омаром, — это был бы от него большой подарок и ФСБ, и ЦРУ.Спецслужбы нашей страны… Здесь главное слово «нашей». Чьей — нашей?.. Той, которая была, или той, какой надлежит быть? Если мы так и будем делать жизнь «с товарища Дзержинского» — значит, вседозволенность по-прежнему окажется подлейшей реальностью нашей истории. Нам всегда будут предлагать безопасность, от которой в недавнее время гибли миллионы. Наши спецслужбы справляются!.. Ждите!.. Сохраняйте спокойствие! Между тем главная деятельность спецслужб состоит в рутинном внедрении в ряды бесчеловечного врага. Много ли среди чеченских боевиков наших тайных офицеров?.. Возможно ли постоянное предупреждение о готовящихся терактах? Насколько серьезны те или иные планы бандитов?.. Если разведка в силах отвечать на эти вопросы, наша безопасность обеспечена. У нас же безо всякой разведки всем известно, что военные в Чечне продают оружие противнику. И это абсурд. Но это и правда, от которой наши слепоглухонемые спецслужбы отмахнулись. Абсурд в том, что этот «бизнес» на крови своих же солдат по сути то же явление позорного аморализма, что газовая атака с непросчитанными последствиями. Пройдет немного времени — кто-то получит ордена, кто-то понесет ответственность за «ошибки». Однако важно другое; для борьбы против терроризма необходима система, не имеющая ничего общего со старой Лубянкой.
Признаемся честно, на протяжении десятков лет мы более чем плодотворно сотрудничали с международным экстремизмом — многие лидеры и известные своей агрессивностью организации пухли от наших тайных и открытых вкладов в их сомнительные режимы и дела. Сегодня на щечках Арафата следы поцелуев множества советских коллег, а в его слабеющих руках бухгалтерские отчеты с росписями, свидетельствующими о нашем давнишнем «присутствии» — зримом и незримом — в партии «ФАТХ», боевом ядре фанатиков ислама. Такие террористические организации как «Хамас» и «Хезболла», провозглашающие и реализующие «джихад», от нас не получили до сих пор не то что отпора, но даже формального официального осуждения. Мы по-прежнему политиканствуем, играя «во все лузы». Мы или выжидаем, когда ждать не стоит, или молчим, когда надо бы иметь мужество сказать правду… Все это вдохновляет террористов на новые подвиги. Когда же дело касается нас, мы, забыв о своих «друзьях», найденных среди волков, начинаем ахать и охать… Тут-то и бывает поздно. Ибо нельзя одним местом сидеть на двух стульях, нельзя целоваться с кем ни попадя. Нельзя врать себе и своему народу.
* * *
Последствия отравлений непредсказуемы. Но можно было предсказать, что у отравлений будут последствия. Да кто ж их считает, эти «последствия»? Те, у кого сила и кому, по поговорке, «ума не надо», о них и не задумываются. К счастью, объявлено, что пересмотра военной доктрины для допуска применения ядерного оружия в ответ на террористическую угрозу не будет. Уже хорошо. Из двухсот спецназовцев, атаковавших театральный центр, никго не пострадал. Это большое достижение тех, кто выполнял свой долг и приказ. К «Альфе» и «Вымпелу» нет никаких претензий. Есть одна благодарность, и преогромная: они сделали всё, что смогли. Вот только… «Тридцать процентов потерь — хороший показатель». Ну да. А если бы пообещали переговоры? Если бы не погиб никто? Но тогда «показатель» не был бы таким «хорошим». Тогда «показателем» было бы «унижение России». Таково главное заблуждение, от которого веет смертью, и только смертью. «Честь государства российского спасена» — это как смотреть и что считать «честью». Если в честном бою наших полегло в три раза больше, чем противника, извините, кто тогда из нас «пораженец»?.. Доводы, что сколько-то там процентов погибших с нашей стороны — «это нормально», совершенно неприемлемы. Вот это и есть «пораженчество». Профессионализм — в том, чтобы попытаться полностью избежать потерь. Это не идеализм. Так и только так следует практиковать. «Государство не должно поддаваться терроризму». Конечно, не должно. Но если вас шантажируют, ответьте тем же — сумейте обмануть террористов. Пообещайте им всё, чего они требуют. Взамен в первую очередь освободите своих граждан. Мстить можно потом. Сначала — освободите. Спасти своих — главная задача государства и военных. Дело чести. И как может идти речь о цене: допустим или недопустим какой-то процент погибших?! Никакой процент недопустим. Ни один наш человек не должен погибнуть. Только так. Все остальное — или плохая работа, или безнравственность. Потери могут быть лишь в том случае, когда все другие способы и методы провалились. Отравление всех подряд предполагало неминуемые жертвы — значит, его надо было отвергнуть. Но другой «сценарий» на Дубровке всерьез не игрался. Повторюсь: предупредить опасность взрыва можно было, пообещав сесть за стол переговоров, даже пообещав вывести войска. Да, это было бы компромиссом, но никак не «унижением России», ибо главная ценность для страны — жизнь ее граждан. Штурма могло бы не быть — так я считал тогда. Теперь, по прошествии времени, убедился: штурма не должно было быть!* * *
…Не прошло и сорока дней с момента гибели первых заложников, а некоторые родственники при поддержке и наущению знающих законы адвокатов потребовали от московских властей сколько-то миллионов долларов (по миллиону за каждого погибшего). Московскую мэрию попытались объявить ответчиком за случившееся. Вроде бы мы можем следовать цивилизованным нормам — во Франции, говорят, именно по миллиону платят за каждый труп, давайте, мол, и у нас это дело провернем… Вдруг «халява» отвалится?… Началась большая шумиха в прессе — имеют ли право они что-то требовать или такого права у них нет. Власти, конечно, испугались — кому захочется отдавать в перспективе 129 миллионов долларов. С другой стороны, дело щепетильное: не захочешь отдавать — прослывешь черствым, равнодушным к горю людскому чиновничеством. Сразу сделалось как-то противно на душе. Конечно, можно понять нуждающихся. Но на «Норд-Ост» ходили не нищие, не «бомжи». Да и московская мэрия — тоже пострадавшая сторона. Что-то тут в этой затее есть аморальное. Желание погреть руки на холодном трупе?..* * *
Жизнь человеческая не может быть картой в игре. Нельзя бороться с террором лоб в лоб. Надо быть хитрым и изворотливым, надо находить в себе силы и для притворства, и для кажущегося отступления. Война — подлость. И на войне как на войне — побеждает тот, кто бьет по чужим. А не по своим. А у нас те же прекрасно знакомые подходы: неважно, сколько мы положили наших, важно, что мы положили «не наших». Только относительно «не наших» приходится сомневаться: ну в самом деле, по столь «ответственному» за этот теракт Масхадову что-то никто так до сих пор и не ударил! А сколько было разговоров!.. Сколько праведного гнева! Сколько пропаганды!.. И ничего. Как была война, так войной и осталась. Трупы множатся, несмотря на то, что «восстановление Чечни идет полным ходом». Значит, выгодна война тем, кто не хочет ее кончать, кто хочет ее бесконечного (от выборов до выборов!) продолжения. По трубе течет кровавая нефть. И пусть себе течет — в чьи-то карманы война спускает денежки, и большие, между прочим. А в заложниках у этой войны кто?.. Не мы ли все? Чечня есть прорва. Но за наш счет. Федеральное финансирование устроено таким образом, что половина денег на так называемое восстановление остается в Москве: заказчики и подрядчики производят дележку и лишь затем другую половину отдают по месту назначения, а здесь начинается новый раздел. Выгода от этого процесса очевидна как боевикам, так и центру. Бюджетные деньги для того и планируются в бюджет, чтобы их разворовывать. Вы взрывайте, а мы будем чинить. Ремонт — одно из самых сверхприбыльных, а потому и сверхдлительных ассигнований — тут каждая волна имеет «откат», и этот прилив — отлив бесконечен. Одни «бандиты» кормят других «бандитов», и всем от этого только хорошо. Так что надеяться на окончание этого чудесного со всех точек зрения процесса под названием «война» просто глупо. Все предусмотрено. Гробы заложены в бюджет. Трупы инвестированы…* * *
…Каждый день знакомые и незнакомые люди спрашивают: — Как дочка?.. Как Саша? И ждут, что я отвечу: «Всё хорошо. Она вполне здорова». И я примерно так и говорю. Иногда добавляю: — Всё в прошлом. Но это не так. Ибо правда в том, что результаты анализов крови скачут — то норма, то плохо… И так может продолжаться еще долго… Последствия сильного отравления непредсказуемы. Они могут проявиться и через год, и через три… И даже позже. Конечно, вся надежда на силу молодого организма… — Это как Чернобыль, — сказал мне один знающий врач. — Никто не знает, как оно может обернуться. Конечно, для Саши самыми тяжелыми — может быть, еще тяжелее, чем дни и ночи на Дубровке, — оказались те три больничные дня, когда, лежа под капельницей, она узнала о смерти Арсения и Кристины. Саша проявила волю, удивившую даже врача-психолога, сказавшего буквально так: — У вашей дочери огромный психофизический ресурс. Не знаю, действительно ли это так, но Саша нашла в себе силы, можно сказать, прямо из больницы поехать в канун похорон в храм Ваганькова на отпевание. Я думаю, четырнадцатилетняя девочка пережила в это время столько, сколько иным взрослым хватило бы на всю жизнь. Сегодня Саша вполне адекватна, ее раненая душа взрослеет и крепнет. Мы не расспрашиваем дочь о том, «что там произошло», — довольствуемся тем, что она сама рассказывает… А она больше молчит. Рассказывать подробно ее не тянет. По крайней мере сейчас… Но, конечно, и забыть она явно не может… Это проявляется в каких-то мелочах, деталях. Вот, к примеру, мы стоим у лифта. А из него — открываются двери — выходит сосед, чудный парень по имени Игнат, студент юридического факультета МГУ. Он отрастил короткую черную бородку и, надо ж такому случиться, — надел камуфляжную куртку… Саша сталкивается с Игнатом нос к носу… Отпрянула, будто обожглась! Другой случай. Вместе с новой подругой своей Алисой Саша смотрит в Театре «У Никитских ворот» премьерный спектакль. По ходу представления в один прекрасный момент на сцене появляется женщина-милиционер, которая при встрече с хулиганом стреляет холостым в воздух. Зрители в этот миг смеются, как по команде. Саша же в момент выстрела — нагнулась и спрятала голову за спинку впереди стоящего кресла. Единственная!.. Никто так больше не прореагировал. Значит, Страх сидит в ребенке-подростке где-то в подкорке и долго, вероятно, еще будет сидеть. И еще: — Саша, а не хочешь, — спрашиваю я ее недавно, — сыграть девушку в моем мюзикле «Парфюмер»?.. — Нет, папа, — твердый ответ. — Почему? — Не хочу играть жертву! Я ахнул. Но спорить не стал. Пройдет какое-то время, и я, конечно, попытаюсь ей объяснить, что при таком решении нельзя быть актрисой. Что это значит заранее отказаться от множества ролей мирового репертуара, потому что героини самых великих пьес сплошь и рядом именно «жертвы»… Но сейчас… Да, время лечит. Жизнь продолжается. Новые чувства, новые переживания неизбежны, и на них вся надежда… Однако можно понять мою Сашку: «жертвами» быть невыносимо. И в театре, и в жизни…Еще полразговорца
Дело, конечно, не в Сталине, а в сталинщине. Совершенно неважно, усатый он был или безусый, рябой или чистокожий, грузин — не грузин, с акцентом он говорил или без акцента и даже какой табак курил — «Герцеговина флор» или что-то иное. Суть в другом — в том зловонии, которое издал этот безбожник, вселив его в народ, в его историю и заразив этим смрадом будущее. Сталин — это Чернобыль на десять поколений вперед. Это наркотик самого низкого пошиба — клей, которым дышим и который лижем. И которым приклеиваешься ко всему, изначально испачкавшись. Сталинщина — та самая сатанинская сила зла, сделавшая людей послушным стадом баранов, не желающих знать правду о себе и продолжающих эту правду или скрывать, или атаковать. 19 миллионов 870 тысяч арестованных и 7 миллионов расстрелянных (с 1 января 1935 года по 1 июля 1941-го) плюс миллионы погибших и загубленных жизней до и после. Но, повторяю, КАЖДЫЙ, кто остался жив, подвергся — волей-неволей — воздействию сталинских гамма-лучей, в результате чего произошло и происходит по сей день катастрофическое для человечества, и прежде всего для россиян, ВЫРОЖДЕНИЕ и ПЕРЕРОЖДЕНИЕ homo sapiens в моральных уродов. Последствия культа личности оказались не менее страшными, нежели сам культ вождя. Все деспоты сначала были узурпаторами. И Сталин тут не исключение. Конечно же, он возник не сам по себе, это не случайный трюк истории, не выпадение из ее многовекового течения — при всех макропроявлениях ужасов и кошмаров бытия. У сталинщины была огромная российская предыстория, имевшая свой генезис деспотизма. Централизованная власть, на которой зиждется Московия, сложилась как необходимость постоянного противостояния атакам с юга и востока, но далее геополитическая реальность огромных территориальных пространств сказалась в полной мере: вместо противостояния началось ВБИРАНИЕ и РАСТВОРЕНИЕ чужого в своем — Русь омонголилась, породнилась с Ордой и сомкнулась с «азиатчиной». Теперь Москва как государство укрепилась и развернулась в противоположную сторону — на Запад, но уже с наступательными угрозами и действиями. Еще Грозный пошел «на Германы». И это ПОСЛЕ Казани и Астрахани. Новое противостояние, по сути, продолжается по сию пору. И Первая мировая, поднесшая нам на блюдечке революцию и фашизм, и Вторая мировая, перекроившая Европу и укрепившая сталинщину, — это непрекращающаяся схватка Востока и Запада, продвижение Востока на Запад, которое сегодня к тому же приобретает характер мирного врастания в европейскую жизнь — как Русь когда-то омонголилась, так Европа ныне омусульманивается. Сталин — образец деспота восточного типа. И сталинщина, блистательно воплощая все прелести «диктатуры пролетариата», всей своей махиной опиралась на свергнутое самими же большевиками имперское самодержавие с его нафталином бесчеловечности, бесправия и безнравственности. То, что на Западе квалифицировалось как дикий криминал, у нас — норма. Тот беспредел, которым другая цивилизация будет ошарашена и шокирована, нами, обалдевшими от повседневности, воспринимается как бирюлька в игре, как информационный повод в очередной новостной программе. Апокалипсис здесь не мешает райским наслаждениям и не влияет на хорошее настроение в приятной компании по вечерам. Отречение от памяти происходит после события. Человек вырабатывает защитную идиосинкразию к любому злодеянию и тем самым становится косвенным участником злодеяния, потенциальным его вершителем. Сталинщина продуцировала именно такого НОВОГО, а по сути, старого человека. Услышим слова Н.А. Бердяева, сказанные давно, аж в 1918 году («Духи революции», сб. «Из глубины»), и поразимся их соответствию и тому, что было, и тому, что есть: «Нет уже старого самодержавия, а… по-прежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, нет старого чиновничества, старой полиции, а взятка по-прежнему является устоем русской жизни, ее основной конституцией. Взятка расцвела еще больше, чем когда-либо… Нет уже самодержавия, но по-прежнему Хлестаков разыгрывает из себя важного чиновника… Нетуже самодержавия, а Россия по-прежнему полна мертвыми душами, по-прежнему происходит торг ими… Личина подменяет личность. Повсюду маски и двойники, гримасы и клочья человека… Всё призрачно. Призрачны все партии, призрачны все власти… Для Хлестаковых и Чичиковых ныне еще больший простор, чем во времена самодержавия». Сталинщина, несомненно, вышла на этот простор и обволокла «клочья человека» своей «призрачностью». Гул Востока накрыл все западные писки. Сталинщина — это власть над обществом и индивидом, сначала сокрушающая этого индивида, стирающая его в порошок, а потом нахваливающая этот порошок за верность себе. Главная пружина этого механизма — пролитие крови, насилие и далее — растление человека враньем, беспримерным по своему масштабу вдалбливанием в мозги и плоть фальшивых лозунгов и идеологем. Сталин создал огромный аппарат внедрения вранья во все области и закоулки человеческой жизни. Сталинщина — всепроникающая сила внешне привлекательной фальши. Лжебог заставил веровать в себя, поправ самые святые человеческие права — на свободу и истинную демократию. И преуспел в этом. Целью верховной власти Сталина было вылепить верноподданного раба, управляемого и организованного в трудовую армию, состоящую из бесконечного количества друг другу подобных нулей. Эта всенародная армада антиличностей обязана была откликаться на любые лозунги и беспрекословно выполнять любые приказы. Однако одного послушания было мало. Следовало начинить каждого нуля пламенной большевистской идеологемой — да так густо заполнить пустоту дребеденью утопии, что человек окончательно переставал быть мыслящим человеком, а становился homo-советикусом, то есть существом особого рода — идейным борцом (это обязательно) за торжество сталинского дела. Чем шире и глобальнее виделся его размах, тем больший фанатизм требовался для осуществления грандиозных проектов. Переустройство жизни сверху донизу не могло быть достигнуто без переустройства внутреннего мира человека — сталинщина врастала в печенки и в сердце нуля, делая его мнимую значимость содержанием жизни. Все дела недаром звались «свершениями», строительство социализма объявлялось священнодействием, которое под мудрым руководством любимого Кесаря творилось в едином порыве масс. Именно этой парадигме противостояла так называемая личная жизнь. Она как-то все время мешала — то ли своей интимностью, то ли секретностью — нашему новому государству «строить и месть в сплошной лихорадке буден». Личная жизнь оставляла человеку щелочку, в которую он мог скрыться от спускаемых сверху пятилеток и войн, поэтому лишить человека личной жизни или хотя бы ограничить ее проявления было одной из задач госсистемы, требовавшей от индивидуума, чтобы он ВСЕЦЕЛО и ДО КОНЦА принадлежал идее с потрохами, чтобы он (она) принес (принесла) всю свою (а если надо, то и не свою!) жизнь на алтарь в виде жертвы вождю. Сталинщина считала: личную жизнь надо присвоить, а лучше бы ее вообще отменить. Однако, как ни силен был Кесарь, как ни лез в дома и коммунальные квартиры, насылал в них «агитаторов» перед выборами (которые, естественно, были лишь «голосованием»), как ни пытался начинить советского человека ненавистью к любви и сексу, далеко не всё по этой части у Сталина получилось. Народ, хоть расшибись, продолжал размножаться. Что делать в этой непростой ситуации?.. Надо подчинить человека по полной программе, запустив в извивы его души исключительно ОБЩЕСТВЕННЫЕ интересы, по возможности разделить полы (отсюда женские и мужские школы), вытравить из искусства какое-то подобие телесных связей (поцелуй на крупном плане в кино надо показывать целомудренно, без участия губ и языка, а лучше вообще убрать, чтоб другим неповадно было), о Фрейде забыть (поскольку Фрейда этого нет и не было), и если у нас есть любовь, то только «Любовь Яровая»… Личная жизнь вредна. Она полна разврата, и мы будем стоять на страже, не пуская к ней граждан Страны Советов (отсюда ночной просмотр итальянского фильма «Дайте мужа Анне Заккео», на котором я побывал десятиклассником, и бешеный успех индийского фильма «Бродяга», который свел с ума советский народ рассказом про любовь парии к красавице Наргис). Да что кино, к тому ж зарубежное? Есенина запрещали!., и за что?.. «Мелкотемье». «Мещанство». «Пошлость». «Аполитичность». И, наконец, «Отсутствие классовой позиции»… «“Шаганэ ты моя, Шаганэ” — звучит красиво, но нам такое Шаганэ не нужно!» Личная жизнь отвлекает и влечет. Нет личной жизни. Нет «переживательной литературе», долой поэзию мелкотравчатых чувств и настроений. В восьмом классе я участвовал в школьном конкурсе на лучшего чтеца. Я выбрал «Письмо к женщине» Сергея Есенина и имел на вечере большой успех, особенно у девочек из соседней женской школы № 635, которых пригласили на первый тур конкурса. Хотя с высоты сегодняшнего времени должен признать, что я, вероятно, был очень смешон, когда проникновенно произносил со школьной сцены:Вы помните, вы все, конечно, помните,
Как я стоял, приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое в лицо бросали мне.
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел катиться дальше вниз…
Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских щей отведал
И стал придворный лизоблюд.
«Т.т. Жданову, Акулову. Недавно стало известно, что один из матросов «Марата» […] остался в Польше. Выходит этот матрос совершил преступление, предусмотренное последним законом об измене Родине. Необходимо сообщить мне незамедлительно: 1) Арестованы ли члены семьи (курсив мой. — М. Р.) этого матроса и вообще привлечены ли они к ответственности. 2) если нет, кто отвечает за проявленное бездействие власти […]. Привет. И. Сталин».Действительно, это был привет товарища Сталина, адресованный лично мне. Ведь я тоже был ЧЛЕНОМ СЕМЬИ «врага народа» — значит, подлежал аресту. В приведенной записке вождь поставил вопрос о цепи, на которой должно было держать не токмо какие-то кружки у бачка, но и людей. Речь в ней шла о кочегаре линкора «Марат», некоем Воронкове, решившем остаться за границей во время визита советских военных кораблей в Гдыню. Дело было в 1934 году. И Сталин, уже державший в уме Большой террор, рыскал глазами по сторонам в поисках его причины. И мелкий случай с Воронковым подвернулся вовремя. Сразу, по прибытии «Марата» в Кронштадт, были арестованы: все матросы, стоявшие с Воронковым в одной вахте, далее — вся машинная команда, затем офицеры и старшины электромеханической части и, наконец, с командирского мостика. Такая вот обширная «семья» оказалась у кочегара Воронкова, совершившего побег в одиночку, а отвечай — все подряд. За что?.. Недосмотрели — раз. Недовоспитали — два. И чтоб другим неповадно было — три. Знал бы товарищ Сталин, что его собственная дочь, Светлана Аллилуева, в 1967 году слиняла в свободный мир, как бы, бедный, испугался: ведь он — ЧЛЕН СЕМЬИ, и ему же по его же закону полагалось бы ни много ни мало — 10 лет! Цепь — это круговая порука. Сталинщина посадила на цепь весь народ сверху донизу. Все сидели прикованные у бачка. А ведь бывало, в нем и воды-то не было!.. Царь постоянно воспитывал нас в духе преданности самому себе. Диктатор капал нам на мозги, начиная с детского сада. В школе и институте висели миллионы его портретов и художественных изображений. Особенно лично меня поражал портрет работы художника Тоидзе, растиражированный настолько, что он снился по ночам народам всей страны. Этакий один сон на всех. Сталинщина создала тот самый китч, ироничное воспроизведение которого современными художниками Комаром и Меламидом сделалось целым направлением в искусстве, получившим по принципу «соединение несоединимого» название «соц-арт». Ведь в этой стилизации под убогий сталинский стиль с его помпезностью и доходящей до самопародии абсурдностью — вся эта безвкусная, бездарная эпоха. Номенклатура требовала: «Сделайте мне красиво!» — и сталинские «клопы» (молодежь, читайте В. В. Маяковского) вовсю старались не подкачать. Лик царя приобрел рекламно-открыточный вид. Это был своеобразный сталинский гламур, во всяком случае глянец ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА вождя был так же далек от реального прототипа, как его белоснежный китель (см. кинофильм «Падение Берлина») от телогрейки зэка (см. нечего, поскольку Большой террор в кино почему-то не показывали). Миф созидался под режиссурой языческого божка — главного героя этого мифа. Как всякий тоталитаризм (Цезарь, Калигула, Ричард, Грозный, Наполеон, Муссолини, Гитлер, Мао, Кастро и др.) нуждался в мифе, так сталинщина должна была обеспечивать свою жизнеспособность грандиозными кампаниями, требовавшими соответствующих вложений в нищей стране. Но миф срикошетил. Сталинщина обернулась полнейшим провалом — и в истории, и в сознании людей. Теперь она — в подсознании, ушла в подполье, из которого ее выводят новые параноики типа Проханова (Зюгановы уже сдулись). Все махровые преступления 20-го века общеизвестны — 60 миллионов погибло в России, 35 за ее пределами. Это общий итог коммунистической диверсии, обрушившейся на мир в недалеком прошлом. Львиная доля жертв на счету сталинщины. Пострадал генофонд всего человечества, но Россия и тут впереди всех, физическое истребление людей переросло в духовную деградацию общества, которому «до феньки» старые жертвы и «по фигу» новые. Сталинщина и раньше опиралась на отребье, на люмпенов, то же теперь — апологетам усатого вождя и сегодня нужны пустоголовые и бритоголовые. Вписать свастику в красную звезду — вот сегодняшняя цель необольшевизма. Иссохшая гнилая ветка ленинско-сталинского учения грузится ныне националистическим багажом. Мразь оживает, подымает голову и дышит нам в лицо новым зловонием со старым запашком. В России нынче миллион двести тысяч заключенных. Это население небольшой страны, но большого города. — Посадить бы всех, да тюрем не хватит! — раздается голос из какой-то щели. — Хватит, — ему отвечает некто, знающий гигантские и необозримые возможности сегодняшней России. Многократно ставился вопрос о суде над сталинщиной. Тщетно. Вместо этого мы получили Сталина под телемаркой «Лицо России», а на станции метро «Курская» втихаря «восстановили» пропагандистскую строчку сталинских времен. Айв самом деле, из песни слова не выкинешь. Только с чем и с кем ТАКАЯ Россия собирается шагнуть в будущее? Да будут прокляты те, кто так позорит Родину. Вы хотите для нее новых трагедий?.. Мало вам, бесстыдники, безбожники, насильники и палачи?.. Пепел отца и мамы стучит в мое сердце. Суд — будет. И он — давно идет. С того самого — первого — мига, когда оборвалась кружка от бачка, потому что полетела цепь. Никто не думал и даже в самом дурном сне представить себе не мог, что не пройдет каких-то там трех с лишком десятилетий, как сталинский царизм (иначе систему не назовешь) начнет трещать по всем швам и рухнет почти бескровно в течение трех суток. Но эпоха Сталина не кончилась. Сталина пытаются реабилитировать, сталинщину — постепенно возвратить. Вот только на этот раз гремучая смесь красного с коричневым будет пострашнее того, что было. Усы и усики, соединившись, дадут неведомую, но вдвойне ядовитую смертоносную заросль. Признаки этих ошеломительных процессов — налицо. Ползучая гидра сталинщины и гитлеризма генерирует себя снова, но в двуединстве. И только новая стабильная демократия может оттащить Россию от смердящего сталинского трупа, вынутого сегодня на поверхность. Оттащим, потому что — хочется верить — мы на свободе, еще на свободе. Для того чтобы свобода все-таки сохранялась, написано это документальное повествование. А пьесу писать не буду. Пьеса — слишком короткое, компактное высказывание. Мне же хотелось выговориться. Это сейчас важнее, чем что-то такое разыгрывать. Мама и папа да простят меня. А что получилось, то и получилось. Мои родители лежат в разных могилах на разных кладбищах. Это сделал Сталин. И я его не прощаю.
ЗАНАВЕС

Последние комментарии
4 часов 28 минут назад
6 часов 59 минут назад
7 часов 7 минут назад
1 день 18 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 56 минут назад