Воспоминания о непрошедшем времени
Моим первым читателям
Вот моя книга

На презентации книги в Гамбурге
(Из речи Р. Орловой в Гамбурге на презентации книги «Воспоминания о непрошедшем времени» в 1985 году)
Вот моя книга. Что я могу еще сегодня сказать о ней? Получается, будто я догоняю поезд, который уже ушел. Но вопросы, которые мне задавали двадцать пять лет назад, относятся не только к прошлому. И сегодня, гак же как раньше, я с жгучим интересом читаю, как другие люди отвечают на эти и подобные вопросы, и сегодня, так же как и раньше, я не нахожу окончательных ответов. Для меня важнее не то, что с нами сделала жизнь, что на нас влияло, нас формировало и деформировало, а прежде всего то, что сохраняется в нас, остается нашим личным, то, что оказывает сопротивление. Я не хочу оправдываться, не хочу ссылаться на внешние обстоятельства. Я одна несу ответственность за свою жизнь, за то, что я сделала и что упустила. Мне было бы больно, если бы мое раскаяние использовалось политически, если бы этим злоупотребляли те люди, которые служили другим кумирам. Строки Данте «иди своим путем, и пусть люди говорят, что хотят» и слова Лютера «на этом стою я и не могу иначе» я часто повторяла в юности, однако едва ли понимала их подлинный глубокий смысл. Сегодня эти слова для меня повеление: стой на чем стоишь, иди своим путем. Для того, чтобы решить, на чем нужно стоять и какой путь именно твой, необходимо быть внутренне свободным. Борис Пастернак говорил: «Никто не может даровать мне свободу, если ее нет во мне самом». Найти свой путь и по нему идти — на моей родине очень трудно. Это и здесь нелегко, хотя здесь совсем иные трудности… Эта книга с любовью посвящена первым читателям первых написанных страниц. Моя привязанность и моя любовь к тем, с кем меня разлучили, за эти пять лет изгнания стали еще сильнее… Двадцать пять лет тому назад в Москве на моем письменном столе лежали несколько разрозненных листов, предназначенных для самых близких. Тогда я точно знала, кому я дам их прочесть, и могла снова и снова что-то изменить. А сегодня вышла книга — вышла по-русски, по-английски и по-немецки, и сегодня я уже не могу ничего с ней поделать[1]. Мне страшно, однако поезд уже отошел.Введение
Эта рукопись началась в 1961 году. — Во что ты верила? — Как ты могла в ЭТО верить? — Во что ты веришь сегодня? Вопросы звучали неотступно, звучали вокруг, звучали в моей душе. И я спрашивала, допрашивала себя. До 1953 года я верила во все, вплоть до «заговора врачей-убийц». Горько оплакивала смерть Сталина. В 1961 году признаваться в этом себе и другим было не только стыдно, но уже и странно. Росли новые поколения. Для них едва ли не бесспорной истиной было: «Верить в такое было невозможно». А я верила. И не я одна. Стремление понять вело, естественно, прежде всего к покаянию. Но сама исповедь стала и путем в мое прошлое, в детство, в юность, к людям, мыслям, событиям, которые уже и не имели прямого отношения к Сталину, к идеологии, к коммунизму. Верования, убеждения тянутся из прошлого, их не изменишь по самому страстному желанию. У них своя логика, своя алогичность, свое органическое существование, свой ритм развития. Эти воспоминания начались в год XXII съезда КПСС, принявшего решение (сразу же забытое) — поставить памятник жертвам «культа личности». В год, когда я прочитала повесть «Один день Ивана Денисовича». Мне тогда казалось, что и моя страна, и партия, членом которой я была два десятилетия, тоже пытается очнуться, разобраться в том, что происходило с ней, что с ней сделали, что она сама сделала с собой. Верила я в то время в «коммунизм с человеческим лицом», еще не зная этого словосочетания. То, что я писала, еще не противоречило ни тому, как я жила, ни тому у как жили все вокруг меня. Но со временем я все больше отстранялась от общей «генеральной» линии. Воспоминания, возникшие внезапно, высыпались угловатыми, отрывистыми, разной формы, не связанными одно с другим. Они возникли не в отстраненности, не на покое, а тогда, когда я жила в самой гуще времени, пронизанная его страстями. В 1961–1962 годах был торопливо записан первый пласт этой рукописи. Она продолжала расти без плана, отчасти и вопреки первоначальному замыслу. Позже я стала пристраивать один кусок к другому, стараясь расположить события в приблизительной хронологической связи (но не в последовательности их осмысления). Однако внутри многих глав снова и снова прокручивались разные временные пласты. В конце каждой главы поставлена дата написания. Сегодня я многое осмыслила — так мне кажется — глубже, чем вчера и позавчера. Но не хочу менять окраску, не хочу «задним умом», задним числом переписывать прошлый опыт. Потому во многих случаях оставляю документальность записи, синхронность времени — строительные леса. Получилось, что здесь запечатлен не только поворот — переход от позавчера к вчера, но и от вчера к сегодня. Оглядываться назад (в тридцатые, да и в шестидесятые годы) трудно, но я заставляю себя оглядываться. Некоторые из окружающих меня людей не сочувствуют тому, что я не могу отделаться от своего прошлого, что оно меня мучает, что ко многим его страницам я испытываю и отвращение. Они говорят: — Ты же действительно искренне верила, не ведала, что творила, в чем участвовала, значит на тебе и нет вины. Как соблазнительно согласиться. Но нельзя. Я обязана жить со своим прошлым, не забывать, совладать с ним. Изменить его не дано, но чтобы преодолеть его — стараюсь увидеть его таким, каково оно было. Долго я не думала о публикации. Слишком все обнажено. То, что я пишу о себе, — дело мое. Но пишу и о других, а это не только мое дело. Потому некоторые главы о живых вовсе изъяла, либо сократила, либо не называю фамилий. И когда я начинала, сомневалась — под силу ли мне хотя бы приоткрыть механизм прошлой веры? Могу ли понять смысл пережитого? Зачем я пришла в мир? Сомнения лишь усилились. Начала с вопроса и кончаю вопросом. Для меня прошлое не пройдет никогда. Не проходит оно и для других, для живущих в мире, созданном нами, так верившими, так заблуждавшимися. 5 воспоминаниях, в опыте одной судьбы читатель, быть может, найдет тропку, ведущую к пониманию времени: и прошедшего, и — что важнее — не прошедшего.1. Поезд Киев-Варшава
Ничего, до ужаса ничего не знаю. Какие там корни, какая генеалогия, не знаю даже имени-отчества своей бабушки, маминой мамы, той бабушки, которая долго жила с нами, умерла, когда я сама уже была замужем. А сейчас стало необходимо узнать. Представить себе, увидеть поезд Киев — Варшава, в котором мои родители отправились в свадебное путешествие. Март 1915 года. Медовый месяц. Летом 1937 года мне исполнилось девятнадцать лет, и мы с Леней пошли в ЗАГС. Моя свадьба. Считали это пустой формальностью. Мы — муж и жена почти два года, но не объявлены, живем каждый у своих родителей. А хотим вместе. Всегда. Вот и надо регистрироваться. Надо еще и для прописки. Отпраздновали и отправились в свое свадебное путешествие. Военно-Сухумская дорога, Клухорский перевал. В тяжелых башмаках, в нескладной одежде, — как далеко было до изящного обмундирования нынешних туристов, — с тяжелыми рюкзаками за спиной. Разве у моих родителей могло быть хоть что-то отдаленно похожее? Они мне казались старыми. В 1937 году моему отцу было 49, маме — 47 лет. Сейчас мне исполнилось пятьдесят семь. Дядя Сея — Моисей Михайлович Авербух — познакомил студента Киевского коммерческого института Давида Либерзона со своей сестрой Сусанной, слушательницей зубоврачебных курсов. Теперь они четверо — мама с папой и дядя с женой — в одной могиле. В медицинский, куда мама стремилась, ее не приняли — процентная норма. А маме на роду было написано стать врачом. Ее фотография, сделанная в Киеве в том же 1915 году. Длинное платье, почти сегодняшнее макси, высокие ботинки на пуговках, волосы ниже талии, распущены. Все круглое — глаза, щеки, подбородок. Фотография стилизована, тогда надо было долго смотреть в аппарат, «делать лицо». Волосы так не носили. Никогда у мамы не было такого искусственного выражения. Впрочем, она вообще плохо выходила на снимках. Но и по этой фотографии видно — добрая. Наивная. Уверена, что все вокруг тоже добрые, что мир открыт для добра. О чем они говорили в купе, что ей обещал тот юноша в очках — лицо тонкое, нос с горбинкой, руки аристократические? Они ехали в Варшаву. Шла война, но до тылов не докатилась. Можно было еще проводить в Варшаве медовый месяц. В маминой семье денег не было; платья ей переходили от старшей сестры, а от мамы — к младшей. Так же и у нас. Первое ненадеванное платье у моей младшей сестры Люси появилось, когда ей исполнилось лет двадцать. Богатой была только свекровь, наверно она и дала папе деньги на поездку — чтобы все было как у людей. В поездке мамины длинные волосы были заплетены в косы, косы уложены короной вокруг головы. В моей памяти она всегда с пучком. Долго-долго сохранялось это главное богатство — волосы. Я ее остригла месяца за два до смерти. Мама очень любила ездить, может быть, с тех пор и полюбила, с того поезда Киев — Варшава, с того ощущения счастья? У них чемоданы и дорожный сак. Моды во всем повторяются, теперь опять начали делать такие саквояжи. У папы, конечно, все завернуто, все аккуратно упаковано, все предусмотрено. И он очень любил ездить. Это у них общее. Куда они ходили в Варшаве? Папа хотел в концерт или в оперу, но мама не понимала музыки. И не делала вид, что понимает. Должно быть, просто бродили по городу. Остановились в гостинице. Я видела подобную гостиницу в Каунасе: старый дом, вишневые плюшевые занавеси, такое же покрывало. Умывальник мраморный, тяжелый белый таз, белый кувшин. А нам с Леней заработанных денег хватило лишь на общий вагон — две верхние полки. В вагоне очень душно. Едва ли не впервые не могу уснуть. Доехали автобусом в город Ежово-Черкесск. Отсюда — в Теберду. Я ни на мгновение не подумала про тот, другой поезд, Киев — Варшава. Как сейчас меня в него тянет. А тогда, в тридцать седьмом, до него и было-то рукой подать: всего двадцать два года. Сколько живых свидетелей, кроме мамы с папой. Собирай, прислушивайся. Но какая могла быть история — общая ли, частная ли, если мир начинался с нас, для нас, для нашего счастья и был сотворен?! Вот и обрывалась нить за нитью, а связывать теперь гораздо трудней; не знаю — возможно ли… В начале сорок пятого года я видела обугленные развалины, называемые Варшава, в артиллерийский бинокль с другого берега Вислы. В 1956 году я ходила по улицам восстанавливаемой Варшавы, но и тогда не вспомнила, что сюда в свадебное путешествие приехали мои родители. В 1916 году у них родился сын, назвали Мишей в честь маминого отца. С врожденным пороком сердца. Умер восьми месяцев. Осталась фотография — мальчик в гробу. Первый черновик моей судьбы — если бы не он, то я… Мама почти никогда о нем не говорила. Все ей стало страшно — и любимый Киев, самый любимый город на свете. Родители переехали в Москву.Уж и не помню, почему мы решили идти в ЗАГС в день моего рождения. Двойной праздник отмечали потом еще три мирных года… А в сорок первом Леня, служивший в армии, получил на несколько часов увольнительную. Только сели за стол — тревога. Бомбежка — первая бомбежка Москвы. Пошли в метро, далеко, тяжело тащить одеяло, маленькую Светку. Потом, до отправки моих родных в эвакуацию, я спускалась с дочкой в бомбоубежище в нашем дворе — в ресторан «Арагви». В сорок втором я 23 июля поехала в Монино, там был штаб АДД — авиации дальнего действия; туда Леня возвращался после полетов. А в сорок третьем я уже стала военной вдовой. Опять поехала в Монино, на кладбище. Вернулась — дома полно цветов, собрались мои друзья, мама испекла пироги. Наверно, и у нее в поезде Киев — Варшава были с собой пирожки, испеченные бабушкой. Все традиции на мне кончились, даже такая вечная, такая всем нужная — печь пироги к праздникам. Дочки, слава Богу, пекут. Не я их научила.

В детстве
Январь 75-го года. Захожу, как всегда, к маме, и, как всегда, тороплюсь. Она не смотрит телевизор. — Раек, посиди со мной, почитай мне Пушкина. Сколько раз она хотела, чтобы я с ней просто посидела, но обычную эту фразу произнесла только один раз. И я этого хотела (вероятно реже, чем она, но хотела). Однако в постоянной занятости, затырканности, разорванности — не получалось. Часто, очень часто расходовала я себя на людей чужих, даже чуждых, а для мамы — единственной, любимой, любящей меня — не хватало. Всегда хватало сил и возможностей, когда она болела, вызывать врачей, хватало денег, хватало еды. Не хватало времени, свободного пространства души — «только для мамы». Того самого, чем столь щедро одаряла нас она, одаряла своих детей и многих других людей. Читаю Пушкина. Она подхватывает строки, строфы. Эти стихи она знает с детства, от своего отца. Как и все, что у нее было, отдавала, и стихи отдавала, одаряла ими других. Своих племянников — она была им нянькой. Потом нас. Потом внуков. Может быть, и в свадебном путешествии она читала папе Пушкина? Теперь я читала ей. И еще не знала, как мало осталось до тех страшных предсмертных мартовских дней, когда внучки будут петь ей:
Котик серенький присел
На печурочке
И тихонечко запел
Песню Юрочке.
У мороза-старика
Есть дочурочка.
Полюбился ей слегка
Мальчик Юрочка.
Но не слышит и лежи
На печурочке,
Сном спокойным сладко спит
Мальчик Юрочка.

С сестрой Люсей
Узнав о том, что папа ей изменил, взяла девочку и ушла из дому. Он долго выпрашивал прощение. И она простила. Мои подруги часто делились с мамой своими сердечными тайнами. И моя бесконечно терпимая мама, почти не признававшая уходов, любовников, любовниц, — «семья есть семья», — не понимала, как можно сосуществовать втроем… Вернувшись из Сухуми из свадебного путешествия, мы с Леней разъехались по родительским домам. Отчасти и по безденежью — последние три дня пути нам уже и на хлеб не хватало, нас кормили соседи. А до стипендии, до разных заработков надо еще просуществовать две недели. И как же тепло было мне в родном доме, как вкусны мамины котлеты, мамины пироги — опять же праздник возвращения. Папа уже был без работы после ареста своего начальника, да и раньше не было у нас полной чаши. Но у мамы железный закон: праздник есть праздник. Папа называл маму «Су!» — это сначала или потом пришло, не знаю. Стучат колеса, движется этот вагон в поезде Киев — Варшава, и два счастливых пассажира не знают, что впереди. Я не слышала раньше стука колес того поезда. А сейчас слышу все громче. 1975
2. На берегу пруда
В Зеленоградской у небольшого пруда сидит девочка. Ей исполнилось пятнадцать лет. Она пришла из дому сюда на берег помечтать. Слова, которые были всем понятны сорок лет тому назад, сегодня надо объяснять — девочка надела самое свое нарядное платье, оно называлось «татьянка» — сарафан с маленькими рукавчиками-буфами. Платье светлое, с цветочками, из шелковистой материи — сатина-либерти. Для девочки это платье ничуть не отличается от нарядов сказочных принцесс. Она ходит босиком. Она перешла в восьмой класс, но еще не перестала играть в куклы, только теперь скрывает своих кукол ото всех.
С матерью Сусанной Михайловной и сестрой Люсей
Утром на столе стояли букеты цветов, потом цветы начали ставить в ведра, а к вечеру вытащили детскую ванночку — в ней купают девочкиного брата. Так и запомнился этот день рождения — ванночкой с цветами. Она сидит на берегу пруда, смотрит в воду, загадывает три желания: прыгнуть с парашютом, вступить в комсомол, поехать на Гавайские острова. Если загадаешь в день рождения, все исполнится! Преодолевая страх, она прыгнет с парашютом, она вступит в комсомол, она никогда не поедет на Гавайские острова. Среди трех ее желаний нет любви, потому что она влюблена и любима. Его все называют Точка — он часто повторяет «точка». Он перешел в ее школу из какой-то санаторной; она при всей наивности ощущает, что не надо спрашивать, почему. У Вити голубые глаза и светлые-светлые волосы, а девочка смуглая, лица почти не видно, все закрыто копной темных кудрявых волос. Сначала Витя был мальчиком ее лучшей подруги, которая и привезла Витю на дачу в Зеленоградскую, а он влюбляется в девочку. — Не смей. Она же моя подруга. Девочка запретила Вите приезжать на дачу, но увидела в окно, что он бродит около дома. А она лежала с флюсом, щеку раздуло, завязали: похожа на зайца, пахнет шалфеем. Разве в таких влюбляются? Мальчик вошел, присел на краешек стула, потом придвинулся поближе и не уходил до самого вечера, до последнего поезда. Безобразная повязка сползла, про зуб она забыла. Мальчик говорил ей, что нельзя заставить себя любить или не любить — это падает на нас откуда-то сверху. Витя потом ненадолго влюбится в другую; ей будет очень больно, но она ничего ему не скажет, она ведь запомнила, что нельзя заставить любить или разлюбить. Он вернется к девочке, но все будет не так, как в то единственное лето. В августе тридцать третьего года родители увезут Витю под Ростов, и он будет каждый день писать письма: «Я люблю тебя до самой березки» — это в «Хождении по мукам» сказано, что «у каждого человека есть дорога, а в конце дороги свой холмик с березкой…» Девочка ничего не знает про могилы. За этот месяц разлуки она вспоминает Витю, но вовсе не думает о нем все время. Вокруг нее много мальчиков. Она кокетничает, радуется, что на нее смотрят.

Приняли в пионеры!
Радуется. Так и положено людям — радоваться. Много-много лет спустя слова о мире как юдоли скорби промелькнут мимо, она их не запомнит. Зимой 34-го года Витя сидел в комнате с матерью и сестрой, читал Лермонтова; оставил раскрытую книгу, ушел в ванную и повесился. Девочку вызвали с урока в учительскую, она слушала и не слышала, она не понимала слов «умер», «покончил с собой». О ком это? Самоубийством кончали герои книг… но не на самом же деле? Я так и не узнала, почему он покончил с собой. Любые «потому что» неточны, недостаточны. Скорее всего это был приступ болезни. Психической. Тогда я в них не верила; пришлось поверить много лет спустя. Витя жил на Мясницкой, 21, напротив того места, где станция метро «Кировская», тогда надо было от нас долго ехать на трамвае. Он лежал на диване, не он, а то, что осталось от него. Такие черные кожаные диваны стояли во многих кабинетах, потом кожа стала трескаться, вылезала «начинка» — вата; во время войны их сожгли или они как-то сразу канули в никуда вместе с «татьянками» и сатином-либерти. Девочка тяжело заболела, родители не пустили ее на похороны, около нее дежурили друзья. На панихиде отчим Вити сказал, что советский юноша не должен так поступать. И помянул съезд партии. Девочку вызывали к следователю на Петровку, 38. Почти все изменилось, а Петровка, 38 осталась. Ее допрашивали, ей было страшно и стыдно, что чужой человек дотрагивается до личного, тайного. Она больше плакала, чем отвечала на вопросы. Она была защищена от зла, потому что не подозревала о его существовании. Следователь спрашивал: «О чем вы разговаривали? А не высказывал ли он враждебных взглядов?» И ей не надо было тогда твердить себе: «О мертвых — только хорошее, о тех, о ком спрашивают в таких местах, — только хорошее». Ведь это естественно, как дыхание. И она была совершенно беззащитна перед злом из-за этой самой наивности. Несколько лет спустя ей без особого труда внушили, что зло — это добро. Она одна пошла на кладбище. Ходила несколько лет. И перестала. Забыла эту могилу. Но это я знаю, что впереди, а девочка сидит на берегу пруда и улыбается. Скоро она побежит на станцию встречать Витю, ей не хочется, чтобы скорее, ей хорошо сидеть так, то опуская ноги в пруд, то поджимая. Все люди созданы для радости, и никто никогда не умирает… 1973—1974
3. Юность
Я родилась и выросла в доме, где было много людей, где всегда кто-то ночевал, кто-то обедал, кого-то лечили, женили, устраивали на работу, провожали или встречали. Наша семья никогда не существовала замкнуто. В дурное не верилось, хотелось прежде всего как-то от него отделаться, если можно — обойти, если нет — закрыть на него глаза. Трезвость отца, видящего людей такими, каковы они были на самом деле, скорее отталкивала. Да и он был так всегда занят работой, что до моих лет двадцати я немного о нем знала и общались мы редко. Мама не допускала существования зла, особенно в ее мире, среди ее друзей, родных. Мир для нее отчетливо делился на «своих», где возможно только хорошее, и «чужих» — там, конечно, возможно всякое. Я была председателем совета отряда, принимала красное знамя района, меня торжественно «передавали» в комсомол. А через два месяца я узнала, что меня не приняли, как дочь служащего. Это называлось «регулирование роста». Тогда укрепилось, видимо, свойственное и раньше ощущение: есть что-то во мне неполноценное, недостаточно твердое. «Интеллигентка». И надо с этим обязательно бороться, вытравлять. Мне было горько, что меня не приняли в комсомол. Но я не только убеждена была, что так и надо, но даже и вопросов не задавала — а почему, собственно говоря, так надо? Когда мою сестру Люсю тоже не приняли в комсомол, и по тем же причинам, она все же спросила меня сквозь слезы — а за что? Переломным был семнадцатый год моей жизни — после самоубийства Вити. В 9-м классе меня во второй раз не приняли в комсомол. Я стала читать еще больше, чем прежде, на хорах Ленинки — Румянцевского музея, — один из самых любимых московских домов до сих пор. Читала Достоевского, Сологуба, Писарева, Леонида Андреева, Фрейда, Бергсона, Шопенгауэра, Ницше… Все это глоталось кусками, образуя немыслимую окрошку. Именно тогда в мою жизнь вошел Блок, чтобы уже никогда не уходить. Читала я и учебники психиатрии, собиралась стать врачом-психиатром. В какой-то момент почувствовала, что сама начинаю терять грань между реальностью и бредом. Вот тогда, собственно говоря, и появились первые вопросы о смысле жизни — еще наивные, детские. Но семена эти долго не давали всходов. Институт (где меня, наконец, приняли в комсомол), снова собрания и походы, снова красное знамя, вечера, и газета, и спектакли — все это заменило внутреннюю жизнь. Неуемная жажда деятельности, прежде всего участвовать, участвовать во всем. Все наше, мое кровное, какие тут могут быть думы, какие сомнения? Я жадно училась, читала все, что требовалось по программе, занималась общественной работой в институте, почти всеми видами спорта. Но этого было мало: мы с друзьями собрались писать историю советской школы, ходили на прием к наркому просвещения Бубнову (впоследствии расстрелянному), к секретарю ЦК ВЛКСМ Косареву (тоже расстрелянному), в «Комсомольскую правду» и в «Литгазету». Писали о взаимоотношениях профессоров и студентов; ездили в подшефный колхоз. Надо было зарабатывать, и мы составляли сборник высказываний Марата; подбирали цитаты для книги «Ленин и Сталин о технике»; писали внутренние рецензии на стихи графоманов. Студенткой третьего курса я начала преподавать в школе в девятых классах. И все казалось мало, надо было больше, надо было уехать из Москвы — здесь слишком обычное существование. А нам необходимо было необычное — перелет, полюс, Комсомольск. Бежать, торопиться, не затеряться в тылу. Ни времени, ни сил не оставалось на вопросы, на жизнь духа. Да и нужна ли она? И душа, едва-едва пробуждавшаяся, крепко и надолго уснула. Между тем отсутствие вопросов вовсе не означало отсутствие ответов. Ответы были — категоричные, решительные, однозначные. Не мною выношенные, не мною выстраданные. Полученные из вторых рук, как готовые формулировки, выводы, законы, заклинания.
1931 год
Однажды на комсомольском собрании в институте я сказала, что нужно изучать враждебную идеологию, иначе как же мы можем всерьез сражаться против нее? Но это были эпизоды, идущие наперекор основному течению жизни и мысли. По характеру и по воспитанию и по самой обстановке домашней я совсем не была подготовлена к длительным, одиноким размышлениям, даже к самому пребыванию наедине. Прошло много лет, прежде чем я поняла, как это необходимо каждому человеку. Я не отворачиваюсь от своей юности. Тогда возникло доверие к миру, ощущение добрых и ясных человеческих связей, то чувство локтя, без которого мне невозможно существовать. Вероятно, тогда и родилась моя вера в бескрайность человеческих возможностей. Если эта вера не родилась со мной… Человек может все. Я была очень счастлива в юности, я прошла университет счастья, не пройдя школы несчастья. Первая настоящая любовь — счастливая, брак — счастливый. Снова и снова укреплялось во мне — так надо, так нормально, человек рожден для счастья. А несчастье, горе — это отклонение, аномалия. В юности я не могла ни понять, ни принять мудрости «Крыжовника»: «Надо, чтобы у двери всякого Счастливого человека стучал бы кто-то с молоточком, напоминая, что есть несчастные». А самой моей героиней была переполненная жизненной радостью Наташа Ростова. И все плохое, что происходило в моей жизни потом, казалось случайностью, отклонением. Я ждала счастья и была неколебимо уверена: все еще впереди. Моя юность не была штюрмерской. Не было потребности протестовать; норма — это когда тебя все любят. В «диких криках озлобленья» я так и не научилась находить радость. Человек, казалось мне, должен жить в мире с собой и со всеми окружающими. Никогда я не готовилась к лютеровскому «здесь я стою и не могу иначе». Я стояла там, где все. Там и была правда. Потребность в успехе, в общественном одобрении — от ранних детских мечтаний — балерина, которой рукоплещут зрители, и дальше, дальше, через всю жизнь, преподавание, лекции, чтоб я нравилась, чтобы ко мне хорошо относились.

9-й класс 27-й школы 12 мая 1935 г. В верхнем ряду третий слева — Леонид Шершер, во втором ряду крайняя слева — Раиса Орлова
В семнадцать лет я прочитала «Капитал» Маркса, но не поняла эпиграфа: «Иди своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». 1961
4. Отец
Я уже почти не могу вспомнить его молодым и сильным. Я помню его старым, выбитым из седла, мягким, нежным. После тридцать седьмого года, после ареста Артемия Халатова, с которым мой отец работал с первых лет революции, он прожил еще двадцать три года. Его не арестовали, не выслали. Однако его первая и главная жизнь в 37-м году кончилась. Мой отец, Давид Григорьевич Либерзон, учился в Киевском коммерческом институте, был из передовых студентов десятых годов, читал Ибсена и Плеханова, Ницше и «Коммунистический манифест» — я находила потом книги с его пометками на полях. Читал Горького и участвовал в студенческих сходках. Самой большой любовью его была музыка, опера. Вот он на старой фотографии в костюме Мефистофеля. Он постоянно напевал оперные мотивы, он знал наизусть целые оперы, ему самому хотелось на сцену. Еще больше — за дирижерский пульт. В последние годы он наслаждался проигрывателем. Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского у меня навсегда неразрывно связан с отцом так, будто я впервые услышала аккорды в его исполнении. Он мечтал и нам привить любовь к музыке, меня учили пять лет играть на рояле. Водил меня отец в консерваторию, но то ли слишком рано, то ли из-за моей бездарности — не привилось. С детства застрял в памяти семейный анекдот о том, как Мишель, младший брат отца, поехал за границу и привез оттуда два цилиндра— один себе, а другой капельдинеру Киевского оперного театра. Мишель для меня существовал сначала в старом альбоме: красавец в театральном костюме, широкая лента через плечо. Вглядевшись, можно с трудом обнаружить черты семейного сходства. Он был партнером Анны Павловой, танцевал в балетной труппе Дягилева в Париже; во время Второй мировой войны перебрался в Америку. Постарев, учил танцоров, ставил ревю. Все мне было в нем неприятно — и то, что уехал за границу (правда, еще в 13-м году, потому что не хотел служить в царской армии; но ведь не пошел же в большевистское подполье, не стал борцом против империалистической войны — просто бежал!). Неприятно было и то, что избрал себе такую странную, не мужскую профессию. И хотя он для нас совершенно нереален, но жизнь он нам портит: папа с какого-то года перестал писать в анкетах, что у него брат за границей, а я писала везде — как это я могу сказать неправду в анкете? И никакими доводами меня не переубедишь. В 1937 году в ИФЛИ — Институт философии, литературы, истории, где я училась, — отобрали несколько студентов, которые лучше других знали французский язык, и начали готовить для поездки в Париж на международную выставку. Работать гидами в советском павильоне. Наш преподаватель твердил нам: «Le premiere phrase doit etre brillante!» (первая фраза должна быть блестящей). Мы учили по-французски речь Сталина о конституции. Не пришлось мне произнести первую блестящую фразу, не послали в Париж на выставку. Быть может, и потому, что на вопрос, есть ли родственники за границей, я ответила: «Есть дядя в Париже». В 1959 году Мишель приехал в Москву с труппой балета на льду. Они с отцом очень нежно встретились после сорока пяти лет разлуки. Мишель воплотил часть отцовской мечты о музыке, аплодисментах, кулисах. Но папино честолюбие простиралось дальше дирижерского пульта — ему хотелось управлять. В двадцатые годы он быстро продвинулся. Иногда мне кажется, что честолюбие, которое и помогало ему, вместе с тем помешало с самого начала твердо определиться, выбрать дело, которому отдашь жизнь. Сначала он был честолюбив за себя, а потом — за нас. Как настойчиво он просил, требовал, чтобы его сын поступил в аспирантуру. Отец был человек очень способный и наделенный истинным талантом труда. Он начал работать мальчиком восьми лет на мельнице. А в тот день, который стал последним, он вышел из дома, направляясь к столяру заказывать нам новые книжные полки. Ему было почти 73 года. Став пенсионером, он томился без дела, раздражался, становился придирчив, нетерпим. Впрочем, совсем без работы он и не был никогда. Только после его смерти я поняла, как много домашних незаметных обязанностей он взял на себя. И работал он всегда красиво, все вокруг него было организовано разумно, аккуратно — его комната, письменный стол, его почерк — ровный, разборчивый, почерк с уважением к тому, кто должен прочесть. Теперь я могу понять (и то, наверно, не до конца), до чего ему было отвратительно наше разгильдяйство. Он входил в комнату к моей сестре, когда у нее собирались друзья, и брезгливо, ни к кому не обращаясь, говорил: «С ногами!» То есть на кровати сидите в ботинках! Она — как и я — обижалась, сердилась, грубила. Я чаще плакала. Смотрела я спектакль Товстоногова «Мещане» и, слушая Бессеменова (Лебедева), вспоминала своего отца. Моя сестра Люся, выйдя замуж, ушла из дому к свекрови, хотя ее муж еще год служил в армии на Дальнем Востоке. Ушла и потому, что хотела быть самостоятельной, но и потому, что устала от нравоучений. А ведь любовь и уважение к работе он всем нам передал. Но передал не проповедями, а примером. Сам он вырос в странной семье, под перекрестным огнем двух прямо противоположных влияний. Своих бабушку и деда с отцовской стороны я никогда не видела, но слышала о них, особенно о бабушке, много. Она была властной женщиной, красивой, хотя мужеподобной. Родила четырнадцать детей. Мать-тигрица. Хищная, работящая, энергичная. Отправила старших отдыхать к морю, испугалась: а вдруг е_е дети голодают? Выехала вслед, привезла сотню яиц, самовар ставила прямо на пляже. Для нее существовали только свои дети. Помню такой рассказ. — Кто это кашляет? — спрашивает бабушка. — Не беспокойтесь, мадам Либерзон, это я, — отвечает товарищ детских игр отца, оставшийся другом до смерти. Бабушка была хозяйкой бельевого магазина, управляла домом, трудилась от зари и до зари — этакая еврейская Васса Железнова. А муж ее маленький, незаметный, истово религиозный (он отмаливал грехи своей богохульницы жены) и пьющий. Она — все в дом, он — из дому.
Отец, Либерзон Давид Григорьевич
Мой отец стеснялся своей семьи, своих родных. Устраивал родственников на работу: к нам они шли со всеми бедами. Попеременно у нас жили, ели, пили. Но при этом ни капли того, что называется родственным теплом, в его отношениях с ними не помню. Мама за себя и за него горевала, радовалась, поздравляла, выражала соболезнования. Когда у нас собирались гости, я слышала неизменные споры: мама всегда пыталась пригласить еще кого-нибудь из родственников, а отец был против. Уважал он только своего старшего брата Якова, одним из первых начавшего заниматься рентгенологией в России. Кто это придумал, что эгоистами растут только единственные дети? В семье отца их было четырнадцать. И у всех множество разнообразных оттенков эгоизма. Абраша — младший, самый больной, самый избалованный, самый незадачливый. В детстве у него обнаружили туберкулез (семейная болезнь), и сколько я его помню, его главная забота была — охранять себя. В памяти шумная сцена — Абраша мечется по огромной нашей квартире, гонится за женой, он хочет ее ударить, а она забивается в угол. Кричат мои родители, кричу я, меня уводят. Оказывается, он приревновал жену к кому-то. Засыпая, я шепчу няне, что никогда, никогда не выйду замуж… Вернувшись из эвакуации 30 апреля 1942 года, мы встретились с Леней после первой и единственной долгой разлуки. Мы вдвоем в нашей комнате в Москве. Мы забыли войну, мы не знали, что жить Лене осталось четыре месяца. Но мы твердо знаем, что у нас всего несколько часов, что после этого он должен возвращаться в часть. Звонок в дверь, и на пороге появляется дядя Абраша. И как всегда требует много внимания, причем сию же минуту. Я возражаю сначала спокойно, а потом все больше распаляясь: — Я потом с тобой обо всем поговорю, у нас с мужем считанное время. Он не слушает никаких резонов. Его заботы, его просьбы всегда важнее всего на свете. Отец тащил его на себе всю жизнь. Со всеми его болезнями, невзгодами. Ругал, но тащил. Для папы было важно, как выглядит — дом, комната, семья, работа, он сам. Он и заботился часто больше всего о внешнем выражении, о результате, о том, что можно показать другим. По профессии экономист, папа первую и главную пору жизни был помощником начальника — в Наркомпроде, в НКПС, в Госиздате, снова в НКПС — переходя из учреждения в учреждение вместе с Халатовым. Должности его совсем не соответствовали его стремлениям: он писал статьи, а подписывал их Халатов. Тем больше росло честолюбие отца. Иногда это честолюбие удовлетворялось. В годы работы в Госиздате он знакомился с известными тогда писателями, снимался с ними (он вообще любил фотографироваться и хорошо выходил на снимках), участвовал в съездах, конференциях, совещаниях. Любил бывать в командировках. Несколько раз ездил за границу. Вершиной его успехов была поездка к Горькому на Капри в 1932 году. Горький знал отца еще с 1920 года, когда действовала созданная Горьким Центральная комиссия по улучшению быта ученых — Цекубу. Отец работал тогда в Наркомпроде, помогал Горькому, выполнял многочисленные его поручения. Потом он работал с Горьким в журнале «Наши достижения». У папы хранились книги Горького с надписями. Я совсем не ценила этого в юности. В одном из писем Горького Халатову есть такая строка: «…Передайте привет товарищу Сталину и Либерзону и Проскурякову…» Как счастлив был папа, когда после посмертной реабилитации Халатова снова можно было достать это письмо и показывать его. Знакомиться, сближаться с отцом я начала очень поздно. Я говорю не о дочерней любви, а о начале дружбы. Так, о поездке к Горькому папа впервые рассказал уже нам двоим — мне и Лене. Раньше я знала только, что он был в Италии. Папа дома бывал редко, не помню в отрочестве сколько-нибудь серьезных разговоров с ним. Когда же он захотел со мной разговаривать, то я вовсе не поспешила ему навстречу. Установить отношения со мной, взрослой, отец не сумел. И спроси меня тогда, кто мне ближе, отец или подруги, я ответила бы: конечно, подруги. Папа считал, что еще не родился тот человек, который был бы достоин его дочери, ревновал к Лене и не скрывал этого. К тому же мое замужество совпало с тяжелейшим периодом его жизни. А тут уж я оказалась глухой и слепой, не понимала его тревог, не разделила его горя. Дружба наша началась во время войны. Отец очень гордился моей ответственной работой в ВОКСе — Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей. Ему импонировало все: иностранцы, приемы, встречи со знаменитостями… Может быть, ему казалось, что я хоть отчасти воплотила его не вполне сбывшиеся мечты об успехе. В эвакуацию они с мамой увезли мою маленькую дочку Свету, писали мне прекрасные подробные ободряющие письма (куда бы отец ни уезжал, он писал нам ежедневно). Родители были рядом со мной в горе, когда Леня погиб. Меня с отцом сблизило мое вдовство. Продвижение отца кончилось, но признать этого он не хотел, не мог. Его натура требовала беспрерывных действий. Он искал другую службу, чтобы использовались его способности и опыт. Впрочем, везде, где он работал, его ценили и любили. Хоть он и был очень требователен, но при этом справедлив, от других требовал того же, что и от себя. Последние годы, перед уходом на пенсию, он заведовал корректорской в большой типографии. Он спускался вниз по лестнице должностей, и все повторялось: раньше он писал доклады Халатову, теперь писал все праздничные речи директору типографии, неплохому, но малограмотному человеку. И в этом отец находил крохи удовлетворения. Туда, в типографию, привезли гроб из больницы Склифосовского, там остался последний кусок его души, вложенной в дело, оттуда его провожали в последний путь. Он не только искал новую службу, он пытался изменить профессию: он писал и настойчиво пытался печататься. Папа был бы великолепным архивариусом, библиографом, сотрудником энциклопедии. Его попыткам печататься я сочувствовала мало, и он очень обижался. Мне не нравилось то, что и как он писал. Я тогда еще не понимала, как важны воспоминания, документы, любой вид закрепленной памяти. Впрочем, папины воспоминания были настолько «отобраны», настолько «отредактированы» им самим, что и фактов оставалось немного. Если бы он действительно написал все, что увидел на Капри в доме Горького!.. Но он понимал или ощущал подсознательно, что об этом писать нельзя. И писал «как положено». Рукопись его воспоминаний о Горьком хранится в архиве, ею пользуются те, кто исследует историю журнала «Наши достижения». Другая рукопись его воспоминаний посвящена Вышинскому, с которым он работал в Наркомпроде, и исполнена похвал. Его влюбленность в Горького я могла понять, тем более могу понять теперь. Но Вышинский… Разве мог он не знать, какую кровавую, страшную роль играл Вышинский? …Ноябрьские праздники 1941 года. Куйбышев. Мы на торжественном собрании вместе с работниками Наркоминдела. Доклад делает Вышинский — в то время заместитель министра. И он вскользь упоминает свое меньшевистское прошлое, конечно, отрицательно. И он выражает надежду, что скоро, очень скоро все мы вновь увидим Москву белокаменную. И я вместе со всем залом хлопаю. И тому, что мне казалось мужеством, самокритичностью. И надеждам — все мы этим живем. Хлопаю. А это было после тридцать седьмого… Так что не мне осуждать отца… В 1944 году отец вступил в партию. Ему было 56 лет. Я не совсем понимаю, почему он не вступил раньше, в молодости. Может быть, мешало социальное происхождение, боялся вопросов — ведь у матери был магазин? А может быть, отец вступил и потому, что ему казалось — так кончатся неудачи и он снова займет место в общей жизни. Место — вовсе не блага, он не думал о благах во время войны, а место рабочее, трудовое. Может быть, и я тому причиной — я уже два года была членом партии. Сколько я его помню, он боялся. Что же, он человек своего времени, у него было немало оснований для страхов. В его шкафу лежал пистолет. Когда-то давно, в период хлебозаготовок, куда его постоянно посылали, он получил право на владение оружием. Но потом этот пистолет стал источником постоянных страхов. Он боялся, что пистолет отнимут. Он боялся, что спросят, кто дал разрешение. Всех тех людей, всех тех, чьи письма, снимки и автографы он хранил, чьей дружбой он гордился, — их всех постепенно сажали, уничтожали; он выжидал некоторое время, а потом уничтожал письма ифотографии… Он не поверил, будто врачи, лечившие Горького, хотели его убить. Этих людей он знал лично, знал П. Крючкова, секретаря Горького. Вряд ли он верил в какую-либо вину Халатова. Но запретил себе не только говорить об этом, но, вероятно, и думать. Его привлекала сила и власть. Сила была в руках Сталина. И он хотел быть частью этой силы. Власть и сила Сталина привлекла таких людей, как Горький (а папа боготворил Горького) и Эйзенштейн. Многие в те годы в нашей стране и за ее пределами испытали этот магнетизм. По натуре своей отец был вовсе не бунтарем, а примиренцем — и мне передал это по наследству. Конечно, сомнения у него были, то усиливались, то ослабевали. Но он старался подавлять это в себе. Вероятно, и я этому способствовала. А потом, не зная, в значительной степени повторила его путь. Я начала писать эту свою книгу через полгода после его смерти. Вряд ли он бы это одобрил. И не только по осторожности. Ведь и мне, и тем, кто проделывает тот же путь, мучительно трудно вылезать из старого. А ему, который уже не раз перекраивал себя, ему, который просто был на тридцать лет старше? Отец умел не только хорошо, ладно работать, но и отдыхать. Отдыхать со вкусом, весело, выбросив из головы все мысли о неприятностях, о семье, о службе. Всегда привозил из санаториев и домов отдыха новых приятелей, вокруг него образовывалась компания, он был «душою общества». Ухаживал за дамами — до конца не потерял к этому вкуса, не превратился в «старца», выпивал, праздничал. Умел и любил принимать гостей, преображался на людях, острил, смеялся, пел, танцевал. Второго октября 1960 года мы решили отпраздновать издание первой Левиной[2] книги «Сердце всегда слева». Был накрыт стол, приглашены гости. Папе стало плохо днем, но он решительно потребовал: праздника не отменять. Там, в столовой, сидели собравшиеся друзья, а я почти все время была в его комнате, вызывала врачей, «неотложку» …Отец стонет на кровати. А ведь мы привыкли к его стонам, к тому, что он невероятно мнителен, не выносит боли. Чуть что заболит, сразу кричит: «Умираю!» В этот раз он не кричит «умираю!». Он просто стонет. А нам все страшнее и страшнее. Леша[3] на руках носит его в уборную. Он вдруг стал совсем маленький, сухой старичок. А потом наступил коллапс, его велели срочно везти в больницу. И я повезла на рассвете. Лицо у папы было серое. Я сидела в коридоре с его вещами. Они были завернуты в коричневый купальный халат. Врачи мне не велели ждать, я вернулась домой, подремала и едва доехала до работы, туда уже позвонили: папа скончался. И я вернулась, не раздеваясь. Дальше все мысли были быстрые и пустые. Главное — о маме; она в Ростове, уехала отдыхать. Брат за ней полетел. После похорон папы, дня через два, мы поехали за город. Просто погулять, прийти в себя. Нас вез на машине наш друг. И он сказал тогда: «Какое счастье, что последние годы папе было хорошо». Да, последние годы было хорошо. Мои друзья хорошо к нему относились, родители принимали участие в наших праздниках. Прошло время, и я стала жалеть себя — кто еще так беззаветно меня любил, так властно, нетерпимо, ревниво желал мне добра, так радовался моим радостям, так горевал моими горестями. С ним ушло детство. Я чаще думаю о нем после его смерти. И потому, что виновата перед ним и он уже никогда не узнает, что я не прощу себе тех долгих месяцев, когда я проходила мимо него, как чужая. Подойдет и мой черед, предстану и я перед той дверью, где спрашивают о грехах: грешна, Господи, отвернулась от отца своего… Не знаю, отпустят ли этот грех. Там. Здесь я себе не отпустила его и не отпущу. Теперь лучше, глубже понимаю его заботы, поступки, даже раздражения. Понимаю его ответственность за семью и многое из того, что влечет за собой бремя ответственности, что означает «быть старшей». Думаю о нем не только там, на скамейке крематория, у могилы, где ровная зеленая трава, а в те нечастые минуты, когда остаюсь одна, в бессонные ночи, едва отойдет, отодвинется повседневная засасывающая суета. Как я его любила, какой невосполнимо взаимной силы была эта любовь и как это уже никогда не повторится. 1967
5. Квартира
(После фильма Феллини «Восемь с половиной»)
Адрес дома, в котором я родилась и прожила полвека, раньше был Тверская, 24, квартира 12. Теперь — улица Горького, 6, квартира 201. По Тверской до Охотного ряда стояло двенадцать домов, теперь — три. Сняли трамвай, вместо булыжника появился асфальт, вдоль тротуара посадили липы. Менялся облик улицы, а квартира наша оставалась. Она большая — сто квадратных метров. По официальным подсчетам — «полезной» площади 75 метров, на самом деле — меньше. Много коридоров. Правая часть квартиры раньше была сорокаметровой залой. И одно из первых моих воспоминаний — стол. Раздвинутый, прямоугольный стол с резными толстыми ножками, тот самый, под который мы, дети, ходили пешком. Стол накрыт, много гостей, шумно: мне, наверное, впервые в жизни разрешили побыть со взрослыми. Меня сажают на колени, дают апельсин — не обыкновенный, оранжевый апельсин, как апельсины последующих лет, а красный, под названием королек. Празднуется возвращение из Соловков мужа моей тетки. Нет, он не был ни врагом советской власти, ни ее невинной жертвой. Он действительно нарушал уголовный кодекс и порою попадался. Но об этом я узнала позже. От того вечера осталось слитное ощущение: «праздник» — это накрытый стол, многолюдье, все нарядные, шум, красный апельсин — необыкновенное. Жила я с няней в самой удаленной от входа комнате, в детской. Там сейчас живет мой внук Леня. Когда появились младшие сестра и брат, я постепенно передвигалась все ближе и ближе к выходу. То выгороженное из большой комнаты шкафом пространство, которое продолжали называть «Машин закуток» — по имени последней обитательницы, младшей дочери Маши, — высоко ценилось нами в детстве: рядом с передней, можно прийти и уйти так, что родители и не заметят. А шумы с лестницы нам тогда не мешали. Я несколько раз проделала по нашей квартире полный круг; вернулась в детскую с первым мужем, потом много лет спустя и мы с Левой там начинали свою жизнь. На меня гораздо реже, чем на мою сестру Люсю, папа кричал «квартирантка!», но и я, конечно, была квартиранткой. Здесь я спала, ела, переодевалась, готовила уроки, читала книги, но жила я вне дома — в школе, в пионеротряде, в институте, на работе. Вне дома — и вне своей души. Я была неколебимо уверена: здесь, в этих старых стенах, лишь подготовка к жизни. А сама жизнь начнется в новом, сверкающем белом доме; там я буду по утрам делать зарядку, там будет идеальный порядок, там и начнутся героические свершения.
Тверская улица, 6. В этом доме прожито полвека
Большинство моих сверстников — в палатках ли, в землянках, в коммуналках или в хороших по тем понятиям отдельных квартирах — все равно жили начерно, временно, наспех. Скорее, скорее к великой цели, а там все и начнется по-настоящему. Все должно и можно изменять: улицы, дома, города, социальный строй, человеческие души. И все это несложно: сначала бескорыстные энтузиасты на бумаге чертят план. Потом ломают старое (при этом «лес рубят — щепки летят»!), потом очищают землю от обломков и на расчищенной площадке воздвигают фаланстер. Именно так ведь и пытались поступить с огромной Россией. Так можно и с отдельными жизнями и с отдельными людьми. В витринах на улице Горького каждый праздник выставлялись планы новой Москвы. Планы эти превращались на наших глазах в новые дома. В нашем доме до революции было Саввинское подворье, гостиница для приезжающих монахов. Странные формы окон — маленькие, сводчатые, из-за которых комнаты темные, похожи на кельи. По плану генеральной реконструкции Москвы (1935 г.) было решено сломать и наш пряничный разноцветный дом с башенками. Но дом воспротивился. И устоял. Несколько жильцов-инженеров сделали расчеты, пошли в Моссовет и доказали, что дом еще крепкий и дешевле его передвинуть, чем ломать. В те годы, когда ломали дома, каждому из проживающих давали 2500 рублей. И уж больше никого не интересовало, что будет с выселенными людьми. Переселять было некуда (кооперативного строительства не существовало). Что же тут такого, лишился крыши — уезжай из Москвы. Везде нужны рабочие руки. Да и вообще, какая разница, где жить? Шел тридцать седьмой год. И как это ни странно, на фоне безумия тех лет группу инженеров не обвинили ни во вредительстве, ни в связях с иностранными разведками. Более того — их послушали. И дом начали передвигать в глубь двора по миллиметру в день. Малый островок разумного изменения посреди тысяч бессмысленных. Все вокруг было перекопано, два года мы жили как на стройке. Но отопление и канализация действовали (газ нам провели в 1947 году). Жители остались в своих квартирах. По тем временам — прекрасных. Можно, оказывается, и не ломать… Разумеется, о передвижении нашего дома говорили по радио, писали в газетах. Я не то чтобы не любила этот дом, просто я всегда хотела из него уехать. Уехать туда, где сам собой возникнет настоящий мой. Зачем же заниматься устройством, украшением, просто уборкой этого, ненастоящего? Да и не умела я устраивать дом. В шкалах тогда не было предмета «домоводство». На уроках труда мы пилили, строгали; узнали разницу между драчовыми и бархатными напильниками. Какое там домоводство в эпоху войн и пролетарских революций! Какое домоводство, когда женщина во всем равна мужчине? А между тем люди продолжали есть, пить, одеваться, рожать детей. И кто-то должен был готовить пищу, убирать дом, воспитывать детей. Кто-то, но не я. Детство проходило во дворе. Слева, в доме № 22, была студия МХАТа, летом декорации стояли на улице, и мы играли среди них. Во дворе был фонтан. Дворов, собственно, было несколько — широкие возможности для казаков-разбойников и других игр. Важную роль играло наше роскошное парадное с громадными пролетами. Я останавливалась в парадном по дороге в школу, снимала шапку и «закатывала» чулки: высшей доблестью считалось всю зиму проходить с голыми коленками. До парадного меня стали провожать мальчишки. Наша лестница словно специально приспособлена для того, чтобы выяснять отношения. Сначала снаружи, стоя. Потом «ну, я пошла», но он идет за мной, и мы садимся в нише на первой площадке. В этой нише, видимо, раньше была статуя. Однако долго сидеть опасно, могут увидеть соседи, а то и родители. И мы движемся выше, устраиваемся на большой площадке первого этажа, на подоконнике. Страсти разгораются, тут не до осторожности. Еще выше, тоже на подоконнике, на площадке второго этажа. И, наконец, наша площадка. Сейчас здесь тесновато, а раньше было совсем просторно (до того, как наш тогдашний управдом не построил себе квартиры). В пору того малого строительства на площадке ночевали беспризорники. Главная резиденция — окно справа от нашей входной двери, сколько часов я на нем просидела!.. Тот же путь потом проделывали и моя сестра и мои дочери. Здесь выяснялись отношений с возлюбленными и с подругами. Здесь, на этих лестничных маршах, обсуждались все великие проблемы — революция, любовь, дружба, книги, выбор профессии, — обо всем было говорено, все много раз «решалось» навсегда. В нашем парадном внизу открылось первое в Москве кафе-мороженое — предок нынешних многочисленных «Арктик» и «Космосов». Странно, но сегодняшних очередей не было, хотя кафе долго оставалось единственным на всю Москву. Когда я теперь с удивлением смотрю на длинные очереди и думаю, кто же стоит днем и вечером, в жару и в стужу и в слякоть, стоит, чтобы войти в мороженный рай, мне отвечают: люди, у которых нет крыши над головой. Которым негде больше видеться. Но ведь тогда, в пору моей молодости, бездомных было гораздо больше. А очередей на улицах не было. Быть может, и потому, что москвичи еще не умели, не хотели ходить в кафе, денег не хватало даже и на мороженое. И для многих со словом «кафе» были связаны представления о буржуазности. Я стремилась прочь из этого дома, из этой квартиры и из этого парадного. Нельзя даже это назвать мечтой — это был план, такой же конкретный, как и планы в витринах на улице Горького.
Есть на карте дальняя дорога
В дальний город, самый молодой,
Дорогая, скоро, очень скоро
Мы с тобой поедем в этот город,
Обязательно поедем мы с тобой,—

1936 год
Как в любом жилье, и в нашем оседала часть старых вещей, никому не нужных, но и выбросить почему-то нельзя. В хламе еще и материализуется прошлое. Вот, например, красный сундук. Когда он, юный, явился в 1931 году из Италии, из Сорренто, его величали «кофр». Там были диковинные, неслыханные вещи, для меня туфли на каучуке. Туфли на каучуке в раздетой, разутой тогдашней Москве… В кофре перевозили вещи на дачу. В 1941 году на боку появилась надпись: «Либерзон. Багаряк» (это поселок между Свердловском и Челябинском, куда эвакуировали моих родителей с дочкой). Бывший заграничный кофр превратился в развалину и уже не удостоился чести переехать с нами на новую квартиру на Аэропортовской улице. Однажды мы с подругой решили обжить антресоли над кухней. Дня три мыли, чистили, скребли, все-таки выбросили часть старья. Устроили там комнату для своих кукол. Там, на антресолях, мы прочитали послание, написанное симпатическими чернилами. Все было, впрочем, ясно и без посланий. Но существовал обряд, по которому надо было объясниться. Мальчик из нашего класса шепнул мне: «Подержи у огня, тогда прочтешь». Мы зажгли свечку на антресолях, стали держать свечу над письмом, капал воск, эпистола чуть не сгорела. Наконец, буквы все-таки проступили. I love you. На каком это языке? Меня учили французскому. Добыли английский словарь и не без труда перевели этот текст. Про антресоли мы забыли так же быстро, как и про другие увлечения. В квартире жили сны, бредовые видения (я часто болела) и легенды моего детства. Здесь я летала по ночам. Здесь мы играли в сказочные королевства, здесь ждали сказочных принцев, которые должны были сразу же после коленопреклоненного объяснения в любви, бросив принцессу в седло, умчать за тридевять земель. Прочь из этого дома. Принц появился. Но тридевяти земель не было. Родилась дочь. И по той самой лестнице я таскала коляску (больше напоминавшую сегодняшние холодильники, чем сегодняшние коляски), а потом тяжелую Светку в тяжеленной шубе. А принц служил в армии. В октябре 41-го года я впервые уехала из нашей квартиры в эвакуацию, в Куйбышев. На пять месяцев. В те времена многие дома были разорены, многие уничтожены. Холодный, сановный военный Куйбышев совсем не был похож ни на королевства из детских фантазий, ни на строительство Комсомольска. Я вернулась в апреле 42-го года, папа с сестрой были уже в Москве, вскоре приехала мама с братом и моей дочкой. Мы стали жить в двух меньших комнатах, а большая, бывшая праздничная, называлась «холодильником» — здесь гуляли ветры. Отопление, как и везде, не работало, поставили две дымящие и коптящие «буржуйки». На них, прямо на железных верхах, мама пекла лепешки, несравнимые с довоенными пирогами, но по голодному времени тоже вкусные. И еще мама кормила нас противными, но полезными дрожжами. Мой муж погиб на войне. И я опять рвалась из этого дома, писала одно заявление за другим. Меня не взяли на фронт, и сама я не убежала. Попытки уехать не прекращались. После моего второго замужества мы год прожили в Бухаресте. Вот и тридевять земель. Только дома не было, жили мы в гостинице, и вернулись в Москву в те же самые стены. Мы стали искать другой дом. А что такое дом? Крепость, говорят англичане. Но у нас ни один дом не был крепостью. Из квартиры номер двенадцать никого не увезли в «черном вороне», но не из-за толщины стен. Нам повезло, вот и все. Конечно, дом — это и определенное расположение дверей и окон. Вещи. Например, мамино зубоврачебное кресло в проходной комнате. Сначала в нем сидели пациенты, потом друзья и родственники, которым мама лечила зубы. Потом около него курили во время вечеринок, сообщались тайны, объяснялись в любви. Или резной буфет, который, вероятно, развалится при любом передвижении[4]. Но в большей степени дом — люди, его населяющие, люди, сюда приходящие, те, кто может сказать: это как мой родной дом. Сменилось несколько поколений. Вот уже и Светина подруга ходит сюда двадцать лет. В годы моего второго замужества квартира разделилась на два вражеских лагеря, соединенных общими коридорами. Тогда я уже действительно возненавидела эти стены, считала, что от них исходит злая сила, и верила, что стоит уехать и все наладится. Коля, мой второй муж, бросит пить, семья станет семьей. Но другого жилья не было. И все, что во мне было хорошего, уменьшалось, исчезало или, может быть, тоже оседало на этих стенах вместе с детскими фантазиями, кто его знает. Воздух нашей квартиры стал отравленным. Часто в те годы я с трудом, тяжело поднималась по лестнице — нет, тогда я еще не задыхалась, как теперь, просто я шла со страхом, что там меня ждет какой-то новый скандал Коли с моими родителями. Была последняя попытка бежать в «настоящую» жизнь: в 1951 году мы уехали в Таллин. Там мы поселились в новой светлой квартире. Только было все это уже поздно. Тот дом, который не в стенах, тот главный дом давно развалился. Недаром, вновь приехав в 58-м в Таллин погостить, я даже не нашла квартиры, в которой прожила два с половиной года, так и не вспомнила — налево или направо от входа. Нет, в той хорошей квартире от меня почти ничего не осталось. Я, таллинская, осталась в институте, в моих студентках, а не в опрятных комнатах на улице Ломоносова. В 1953 году я опять вернулась в родительский дом и прожила в нем еще четырнадцать лет. С того первого праздника, который я, маленькая девочка, запомнила, их в нашем доме было несчетно много. Дни рождения, именины наши, родственников, друзей, крестины, свадьбы, окончания школ, институтов, защиты диссертаций, публикации книг! Шумные, многолюдные, веселые. У большой комнаты два выхода, и она тогда напоминала сцену; люди входили в одну дверь, появлялись из другой. Многие злословили, что мы и сами не знали, кто к нам ходит. Было здесь свое и чужое горе. Сначала пили за «счастье с первой попытки», а потом запивали разводы. Когда аборты были запрещены, здесь же, в бывшей праздничной комнате, старый врач «выручал» меня и моих подруг. За большие деньги. И под страхом уголовного преследования. Отсюда в 1960 году увезли умирать папу. Он когда-то получил эту квартиру, любил ее, берег. …Через три года, в декабре 1963-го, на стол, на котором одевали дочерей — громко кричащую Светку, всхлипывающую Машку, бьющую ногами племянницу Маришку, — внесли сверток — внука Леню. В квартире возникло пятое поколение. И вот я в 1967 году переехала — всего за четыре остановки метро. Хорошо на новой квартире, тихо, спокойно, легче работать, отдыхать; болеть и то легче. Я делаю зарядку и принимаю душ. Здесь нам лучше настолько, насколько нам мешали другие. Но ведь больше всего мы сами себе мешаем. Это нигде не оставишь, от этого никуда не уедешь. В той квартире, где прошли мои полвека, катятся сегодня другие жизни. А я уже не верю в то, что можно все изменить, переехав в другое жилье. Хорошо на новом месте. Но сколько осталось жизни, которую можно было бы прожить по-новому? 1967
6. Леня
Моего внука назвали Леонид, в память моего первого мужа, отца старшей дочери, погибшего на фронте Леонида Шершера. Мертвые остаются молодыми, поэтому Леню трудно, почти невозможно представить себе дедом, когда он и отцом побыл недолго — два с половиной года. Он погиб 30 августа 1942 года. Его и тех, кто погиб вместе с ним, хоронили в Монино на кладбище летчиков. Предупредили, что на территорию военной части пустят только родных. Запаянные железные коробки — их так и привезли с границы — опускали в большие ямы. Ком земли — кусок сердца, еще ком земли — кусок сердца. Размеренно и будто никогда не кончится. А через несколько дней выяснилось, что к могилам по специальным пропускам пройти можно, и мы поехали в Монино, близкие друзья, кто был в Москве в сентябре 1942 года. Мы возвращались с кладбища и смеялись. Смех был со слезами, а все-таки смеялись. Это почти невероятно, но, вспоминая Ленины бесчисленные остроты, любимые словечки, занятные истории, мы и тогда смеялись. Он говорил с вполне серьезным лицом, чтобы его не просили стать пятым классиком марксизма — его фамилия не подойдет. На улице останавливал прохожих вопросом, нет ли лишнего билетика на вечер Шершера? Звонил куда-нибудь в театр и просил оставить «билеты для Шершера, — говорит его помощник». Иногда действовало. «Памятник неизвестной чернильнице» — так он называл массивные письменные приборы. С Мухой Ивановой они тысячу раз разыгрывали неизменный диалог: — Вас вызывает товарищ Алексеевских. — Каких? — хохотали сами, и все вокруг смеялись. Домашний юмор очень трудно передать. Но без этой атмосферы юмора не представить себе нашей юности. Я была только потребительницей — смеялась. Леня смеялся реже меня, но вызывал смех он.* * *
С Леней мы учились в одной школе, в одном классе, но словно бы впервые я увидела его так: в 1930 году в Радиотеатре в помещении Центрального телеграфа был пионерский слет. «Слово имеет ученик 27-й школы Леонид Шершер». Он читает стихи с эпиграфом из Сталина: «Мы должны пробежать это расстояние в десять лет, иначе нас сомнут».Нас не сомнут, если сотни мартенов
себе вожаков найдут.
Нас не сомнут, если стали на смену
станет ударный труд.
Heute fühl ich mich so wunderbar
(Как я счастлива сегодня),—

Леонид Шершер. 1940 год
Я пишу в ереванской гостинице, в вазе — чайные розы, а я вспоминаю те, которые Леня тогда бросил в окно машины, — не чинный букет, а буйная охапка, — на сиденье, на моем платье, на полу. Только утром мы подсчитывали скудные наши студенческие деньги, выяснили, что дотянем до Москвы лишь при строжайшей экономии. Вот тебе и экономия. Перешли на щи суточные, да и то за них платил наш приятель. Мы вместе ездили подавать документы на Пироговскую улицу, где тогда находился Институт философии, литературы, истории — ИФЛИ. Все проходившие мимо меня юноши и девушки казались мне гениями. Без Лени я вряд ли решилась бы на отважный этот шаг. Кончились экзамены, и вот Леня пришел вечером к нам на дачу непривычно мрачный. — Хочешь почитаю стихи? — Конечно.
Когда ветры уносят последние вспышки июля,
Когда ветры, как псы, замирая, ложатся у ног,
Я сижу у окна, сентябрясь и тоскуя,
Ни улыбок, ни встреч, я как ты — одинок.
...........................................
Я не знаю, не видел тебя, дорогая,
Но я встречусь с тобой на распутии дальних дорог.
Ты узнаешь меня, и тебя я, конечно, узнаю,
Но до встречи с тобой я, как ты, одинок.
Ты поверь мне, что это не просто красивая фраза,
Ты поверь, что я жить бы, пожалуй, на свете не мог,
Если б знал, что сумею забыть до последнего часа
Ветер юности нашей, тревожных и дальних дорог.
Не я одна так ощущала. Елена Ржевская в книге «Ближние подступы» пишет: «Сколько себя помню, всегда было о_б_щ_е_е д_е_л_о. Сейчас это война. До нее общим делом было все то, что называлось „наше время“. Его любили, романтизировали. Быть в такой чести у современников — редкая удача для времени. Время, „когда все сбывается“. Время, „когда все начинается с нас“. А все, что д о, — потоп, вывернувший, унесший культурный пласт предшественников, и родовые корни, и само представление о них» («Новый мир», 1980, № 5).Я пытаюсь погрузиться в то лето, но меня выталкивает на поверхность, в сегодня, даже не потому, что я многое забыла. А потому, что я не нахожу слов, — я ведь хотела дотронуться до завязей счастья, а это мне недоступно. В 1939 году я с трудом довела урок, выскочила на улицу к Малокаменному и едва не потеряла сознание. Это была первая весть о Светке, о нашем с Леней продолжении. Heute fühl ich mich so wunderbar. Сегодня и вечно.
* * *
«Ничто на свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес», — писал Герцен. Чем-чем, а сильно возбужденным общечеловеческим интересом нас не обделило ни детство, ни отрочество, ни юность. Прошли годы, прежде чем я поняла, что те партийноклассовые интересы, которыми питалась наша юность, во многом противоречили общечеловеческому, вели к бесчеловечной практике. Лени лично касалось — сомнут нас или не сомнут, касалось с детства, а потом он и был среди тех, кто не дал нас смять. Мы все знали назубок — 518 и 1040: 518 новых предприятий и 1040 машинно-тракторных станций — священные цифры первой пятилетки. Война подтвердила: все верно, наши личные судьбы неразрывно связаны с общей судьбой. Леня писал мне: «У меня новостей много, но все они так или иначе до тебя доходят, ибо они связаны с общими новостями» (10.11.41); «Самое радующее — это газетные новости и подробности, которые я здесь смог узнать. Это действительно радует и искупает все горести, которые навеваются всякими мыслями личного порядка» (28 дек. 41 г.); «Настроение очень подняли новогодние подарки — накануне Крым, а к вечеру— Калуга» (2.1.42). Для Лени это ощущение неразрывных и важных связей с миром воплощалось прежде всего в печати. Он покупал все газеты и журналы, уезжая куда-нибудь, очень волновался: ему все казалось, что именно в это время случится что-то самое главное, а он пропустит. Он был прирожденным журналистом, журналистика была и призванием, и воплощением того, что характерно для поколения: все знать, быть со всеми связанным и участвовать, обязательно лично самому участвовать. Профессиональная журналистика началась в стенной газете «Комсомолия». 1936 год. В коридоре старого институтского здания на Пироговской непривычно большая студенческая толпа. Крупными буквами выведен заголовок: «Любовь, дружба, ненависть». Роза и винтовка. Оформлял этот номер Иван Хмарский. И анкета: «Какие качества нужны человеку, которого вы могли бы полюбить?» Читать эту «Комсомолию» приезжали студенты со всей Москвы. Еще до института Леня был деткором «Пионерской правды»; позже работал в «Иллюстрированной газете». Газета была самой большой любовью его жизни, ему все-было важно — темы, язык, заголовки, шрифт, рисунки. Он оказался великолепным газетчиком. Он совсем не стеснялся, не боялся людей, вместе со своими друзьями брал интервью для «Комсомолии» у известных писателей — у Оренбурга, Маршака, Кассиля. Когда специальным решением парткома института сменные редакции «Комсомолии» перевели в общеинститутскую газету, Леня мучительно, как нанесённую ему обиду, воспринял ее неуклюжее, штампованное название «За большевистские кадры» (которое быстро переименовали в жаргонное «забока»). В студенческие годы он познакомился со старым журналистом Василием Регининым и приходил от него, пересказывая эпизоды — подлинные и выдуманные — из истории русской печати, радовался: «Старик Регинин нас заметил». Жадно читал неистового репортера Киша. Идеалом для него был Михаил Кольцов, «Испанский дневник». Вероятно, страницы жизни, связанные с Испанией, самые высокие, светлые, в наибольшей степени проникнутые общечеловеческим интересом. И это представление оказалось отчасти иллюзорным. Именно отчасти, потому что карты Испании на площадях наших городов, ощущение испанской трагедии как своей личной — реальность. И пароходы с испанскими детьми. Но корыстная политика наших властей, для которых испанцы стали разменной картой, и расколы в самой Испании — тоже реальность. Однако и сегодня для меня «победивший звук» — в Испании 36-го года, пусть лишь на мгновение, — возможность человеческого братства «Интернациональные бригады». Каким страшным сном тогда показалось бы: три-четыре десятилетия спустя чуть ли не о каждом будут спрашивать: а он кто? Русский? Венгр? Какой процент крови? Украинской, еврейской, французской?.. Наше тогдашнее отношение к Испании совпадало с отношением людей, от нас бесконечно далеких. Не буду ссылаться на Хемингуэя или на Мальро. Приведу слова Оруэлла из книги «Дань Каталонии»: «…быть может, это звучит как безумие, но единственное, чего мы оба хотели, — это вернуться в Испанию. Эта война, в которой я принял столь незначительное участие, оставила преимущественно дурные воспоминания, но я не хотел бы упустить ее… Результат всего — вовсе не обязательно разочарование и цинизм. Как это ни удивительно, после войны в Испании я стал больше, а не меньше верить в человеческое достоинство». В сентябре 36-го года был вечер встречи с новым набором. Мы — второкурсники — ощущали себя убеленными сединами опыта. Но само собой получился вечер, посвященный Испании. Вдвоем с Инной Кулаковской Леня написал к этому вечеру приветствие — взволнованное, романтическое. В конце обращения, где шла тема «если завтра война», говорилось: «тогда народный комиссар обороны станет народным комиссаром наступления…» Кажется, за всю войну это ни одному пишущему так в голову и не пришло. На факультете не любили штампы, боялись штампов, травили штампы. После обращений, резолюций, написанных как стихи, со строго отобранными словами, чтобы был ритм, главное, чтобы была свежая мысль, мы потом годы и годы слушали, читали, утверждали перелицованные, вчерашние, одинаковые резолюции со стандартным пафосом. На испанском вечере Леня впервые прочел стихи, которые потом были включены в сборник «Мы с вами»:…Пусть выходит сердце, как победа,
как весна к открытому окну,
к черноглазым девушкам Овьедо,
отстоявшим пулями весну.
И они, уверенны и ловки,
проходя сквозь пулеметный дым,
зарядят тяжелые винтовки
сердцем сокрушающим моим.
* * *
Лене была свойственна резкая смена настроений. Чаще всего состояние невероятной активности, которую даже трудно вообразить. А после этого — апатия, он мог целые дни просто лежать на диване. Сидеть за письменным столом день за днем, в определенные часы он не умел и так и не научился. Впрочем, возникали тысячи планов — книг, статей, поездок, не все воплотились в жизнь, но очень многое было сделано. Мне почти все время приходится говорить «мы». Потому что все было вместе — кусали от одной булки, жили на людях, все делили с друзьями; странной и подозрительной, во всяком случае ненормальной, показалась бы сама мысль об уединении. Как-то вполне естественно, что Леня и покоится вместе с погибшими на одном самолете, за общей оградой. И творчество тоже мыслилось как нечто коллективное, хотя душой, началом, движущей силой всех творческих планов был именно он. Собрались писать сценарий о Маяковском. Написали водевиль (вчетвером с Б. Кремневым и Л. Черной) «X через К» — ход через кухню, про обмен квартир. Задумали драму (что-то под влиянием пьесы Пристли «Время и семья Конвей»). Писали втроем с Л. Черной сатирический роман про некоего гражданина Эванова. Леня часто бывал недоволен собой. Он записывает в дневник: «Как мало я успел, как немного сделал. А возможностей было хоть отбавляй — терпения бы побольше, да трудолюбия, да уверенности в себе. В этом, конечно, очень трудно признаваться даже самому себе. Все время думаю — теперь наверстаю, но снова проходит время, накапливаются уже нешуточные годы (24! — Р. О.), а сделано все же ненамного больше. Обидно!» В 1939 году задумали делать сборник о замечательных людях. Пришли вчетвером вместе с Б. Кремневым и Л. Черной в издательство «Молодая гвардия», к редактору Ольге Зив. Она заключила с нами, людьми неопытными и никому не известными, договор, послала в командировки. Как необходимо, чтобы первый человек, с кем ты сталкиваешься в жизни, поверил бы в тебя, — первый друг, первый любимый, первый начальник, первый редактор. Нам повезло, мы встретили такого редактора. Мне очень жаль, что я пишу это уже после смерти Ольги Максимовны… Многие ли литераторы сегодня — и бывшие ифлийцы в их числе — поверят совсем молодым? Мы с Леней поехали в Киев, где я осталась, а Леня полетел в Одессу — он писал об Эйзенштейне, о фильме «Броненосец „Потемкин“». Полетел на обычном пассажирском самолете, вероятно, полет продолжался тогда час-полтора. Мне это время казалось вечностью. И Леня честно мне признавался, что очень боялся лететь, в тот же вечер звонил в Киев и торжественно сообщал, что все в порядке. А год спустя он как о чем-то само собой разумеющемся записывает в дневнике: «…я был в частях, работал много, да кроме того два дня подряд летал на боевое задание как полноправный член экипажа». И он прекрасно знал, что ему грозит: «В штабе я видел, как подписывали письма, начинающиеся словами „уважаемая…“. Содержание их понятно. Война. Я сосчитал, что каждую секунду гибнет человек. Каждую секунду!»* * *
Он читал книги запоем. Еще в школе полюбил О'Генри, знал почти наизусть «12 стульев» и «Золотого теленка». Читал и перечитывал Чехова, Твена, Франса, открывал Шервуда Андерсона, Бирса, Дос Пассоса, Хемингуэя. Летом 36-го года после первого курса мы были в военных лагерях за Тушином. Там вечером, уже после военных занятий, узнали — умер Горький. Собрались вместе в одной палатке. Люся Успенская читала вслух «Итальянские сказки». Не помню, чтобы Горький много места занимал раньше в наших мыслях, а тут почувствовали сиротство. Начальство не разрешило нам идти на похороны. Тогда мы без разрешения организовали самодеятельную колонну, отправились пешком, влились в общую траурную процессию. Как мне объяснить моему младшему современнику, который много лет ходит (или не ходит, знает, что ходят другие) к столбу номер такой-то по заранее утвержденным спискам встречать, провожать, хоронить — кого угодно, безразлично — Тито, Каддафи, Амина; как объяснить, что мы это делали т_о_л_ь_к_о по собственному желанию? Как это сочеталось? Вот захотели идти хоронить Горького. И пошли. Леня отлично знал и очень любил Маяковского. Маяковский был для нас не просто поэтом. Был всем — законодателем, судьей, наставником. Леня полюбил его, когда его очень мало печатали. Далеко не все в стихах Маяковского мы понимали, но очень старались понять, изучали, толковали каждую строку, росли, поднимались до него. И меряли им многое вокруг, ненавидели его врагов — всех тех, с кем ругался и не доругался Маяковский. Порою нам приходило в голову — а может быть, и Маяковского убили? А потом инсценировали самоубийство? Нам тогда казалось, что Маяковский покончить самоубийством просто не может. Слова Сталина в 1935 году о том, что Маяковский «лучший, талантливейший» и что «неуважение к его памяти — преступление», стали личной радостью. Нашего, самого нашего поэта признали. Стоим мы на Советской площади у обелиска свободы поздно вечером. И Леня с дрожью произносит, глядя на развевающийся на Моссовете флаг:«Октябрьское
руганое
и пропетое,
Пробитое пулями знамя —
Только мы пока живые
и работаем пока,
и над нами дождевые
проплывают облака…
* * *
Леня постоянно писал. У него не было никакой робости перед чистым листом бумаги. А читать стихи — даже друзьям — он стеснялся. «Уже пятый месяц войны, а я все собираюсь записывать то, что вижу, слышу, думаю… А дни идут, все улетучивается из памяти, и потом никогда себе этого не простишь, если останешься жив, разумеется» (24.10.41). «Известия» все время просят, прислали мне удостоверение, но писать просто некогда, буквально не можем сесть за стол. Сейчас газета у нас выходит на 4-х стр., скоро хотим переходить на выход каждый день. Материал, какой у меня есть сейчас (по собственным впечатлениям), исключительно интересен. Но сесть за него не могу. Если приеду к тебе, хоть чуть отдохну (посплю подряд больше чем 4,5 часа, — а это моя норма, кот. я сейчас установил), тогда, может, напишу. Он очень не любил ныть, не любил ноющих людей, не любил неудачи и неудачников. Часто со вкусом повторял слова из записных книжек Ильфа: «Выпьем за тех, у кого получается». Он старался избегать неприятностей, горестей, дурного. Разумеется, никто к неприятному не стремится. Но есть люди, которые идут навстречу беде, погружаются в беду. А другие пытаются — если можно — обойти беду. Леня чаще хотел обойти. Он был словно предназначен судьбой для легкой, приятной жизни. Очень любил вкусно, хорошо поесть, посидеть с друзьями в ресторане. У нас дома за чаем с неизменными сушками Леня с Мухой могли часами составлять меню необыкновенных обедов и ужинов. Как-то на день рождения Лени пришел к нам в гости Эдик Падеревский, ифлиец, талантливый художник, погибший на фронте. Приняв участие в разговоре о еде, он заметил, что лично он съел бы целого гуся. А у нас и был гусь, правда на всех — на двадцать человек. Но спортивный интерес превыше всего. Мы заключили пари, и Эдик съел гуся, оставив гостей без ужина. Леня был убежденным урбанистом, совсем не разделял моих наклонностей к сельской жизни: терпеть не мог пешего хождения, ему нужна была Москва, улицы Москвы, шум Москвы. Мне не удалось сделать из него спортсмена. Большое — для тех лет необычно большое — значение придавал одежде. Никогда не был иждивенцем. Зарабатывать начал рано и легко. Любил поздно ложиться и поздно вставать, ходить в гости и принимать гостей. После института в 1940 г. всех наших юношей призвали в армию. Никакого энтузиазма он, как и большинство его друзей, при этом не испытывал. Но надо — пошел! «Устал физически я сильно. Все-таки шестнадцатичасовой день физической работы (сейчас это земляные работы, погрузка камня и т. д.) в течение полутора месяцев без единого выходного — это нагрузка основательная даже для более подготовленного физически человека, чем я. Надо сказать, что у меня уже начинает вырабатываться привычка к физ-труду — день я переношу безболезненно. А день этот строится так: встаем мы по зимнему распорядку в 6 ч. утра и прямо направляемся в конюшню. Едем с конями на водопой, чистка их до 8-ми; кормим и возвращаемся, чтобы позавтракать. В 9 часов утра строимся и идем на работу. До 3-х (т. е. полных 8 часов) работаем не разгибаясь. В 3 опять чистим лошадей. В 3.30 обед и сразу (мертвый час отменен) идем работать обратно. В 7.30 возвращаемся к лошадям для того, чтобы накормить и напоить их, а в 9.30 едим сами. После этого час-полтора свободны (ложимся мы в 11). В это время иногда бывают собрания, но каждую минуту ловишь себя на том, что вот-вот заснешь…» Далее он пишет об окружающих, о бывших ифлийцах. «За какие-нибудь полтора месяца они уже успели потерять всякие — и внешние, и внутренние — признаки культуры». Этого Леня не терял. Когда началась война, он был красноармейцем команды театра Красной Армии. Работая в литчасти, бывал дома. В армии — но не на фронте. С первого дня войны Леня начал рваться из театра. Он бомбардировал все военные инстанции заявлениями. В армии перевестись труднее, чем просто попасть на фронт с гражданки. К августу 41-го допросился, попал в дивизионную газету «За правое дело», в авиацию дальнего действия. И здесь не успокоился, пока не стал летать как член экипажа. Во всем его поведении не было «ничего выдающегося», как называется один из его рассказов. Моя приятельница Марийка Розанова — она сама ушла на фронт в 1942 году, — узнав о гибели Лени, писала мне: «Очень часто сейчас приходится жалеть о прошедшем потерянном годе; ведь все те, с которыми сейчас встретилась, год тому назад, в проклятые 15–16 окт., когда мы неожиданно ретировались на восток, пошли в армию, в те самые рабочие батальоны, куда пошел Шура Кулаковский и др. За этот год они столько пережили, так сроднились, столько всего испытали. У всех столько воспоминаний. А я сижу и завидую. Это невозвратимо потеряно». Через два года после этого письма, в 1944-м, Марийка погибла. Она работала радисткой, последние ее слова были: «Радиостанцию сжигаем, все уходим». Война началась для нас еще до 22 июня. Мы все время жили под надвигающейся тенью войны. Когда родилась наша дочь Светлана, в январе 1940 года уходил на фронт лыжный батальон ИФЛИ. Леня позвонил снизу в родильном доме (у Грауермана, на Молчановке, телефон у каждой кровати) и упавшим голосом сообщил, что его не взяли, взяли только хороших лыжников. Торопился, боялся, что не успеет. Успел. 12 сентября 41-го он записывает в дневнике: «И никто из нас не может сказать, встретимся ли мы снова все вместе. Сегодня мы с Мухой говорили о том, как мы будем праздновать победу. И она сказала, что нам наверно будет грустно. Многих не будет среди нас. А я думаю, что все равно будет очень весело. И если меня не будет, пусть кто-нибудь напомнит об этом Мухе».
С мужем Леонидом Шершером и дочерью Светланой
Он верил в будущее. В стихах, посвященных еще не рожденной дочери (мы оба почему-то непоколебимо были уверены, что будет дочь), он писал:
Мы Светланой тебя назовем
И выпустим в мир.
Ты прими этот мир
Как подарок от нас.
И по детской привычке
Смотреть, что внутри,
Открой
и посмотри.
* * *
…Та, которая могла бы рассказать о нашей с тобой любви, та умерла той же осенью сорок второго года. А я, я прожила еще неправдоподобно много жизней, все меньше и меньше сопрягающихся с той, нашей. За все, что было, я тебе благодарна. 1965–19697. Вера
Слушаю вечернюю мессу в Каунасе, в базилике. Июль 1966 года. Впервые в жизни сижу в церкви. Скамьи высокие, ноги у меня не достают до полу. Можно поставить ноги на нижнюю широкую перекладину. Эта перекладина для того, чтобы опускаться на колени. Костел обыкновенный, не принадлежит к выдающимся творениям архитектуры; и тем явственнее весь продуманный, освященный столетиями ритуал, — на тебя воздействуют звуки, краски, слова, переливы света… Костел большой. Народу много, но места свободные есть. Преимущественно пожилые женщины. Сзади меня молодая пара. Он в синем пиджаке, голубая рубашка чуть расстегнута. Без галстука. Это форма — полупарадная. Другие мужчины — в парадной форме, в черном. Девушке явно скучно, она вертит головой, не слушает, дергает спутника за рукав. Он пытается слабо сопротивляться, однако вскоре сдается — уходят. Движение тихое, но безостановочное. Входит старушка с маленьким мальчиком, опускается на колени. И мальчика толкнула на колени, с силой толкнула, будто хочет доказать кому-то, дочери или зятю. Соседку с янтарными четками сердит мое присутствие. Почти не оборачиваюсь в ее сторону, чувствую, что раздражает. И наверно она права — здесь я чужеродная. В 1956 году, десять лет тому назад, ехала я по Варшаве в автобусе, в первый день приезда в Польшу. Вдруг со всех мужчин словно сдуло шляпы. Я сначала не поняла, в чем дело. Мне показали — проезжаем костел. «Однако сильно еще в Польше влияние католицизма» — вот, пожалуй, и все, что я подумала тогда. А сегодня меня это затрагивает всерьез. Бог вошел в мою жизнь рано. Его привела няня. Помню, как она появилась, закрыла дверь и мы остались наедине. Я заплакала от испуга: впервые кто-то другой, не мама. Няня быстро меня успокоила. Посадила на колени перед окном, тем самым окном, через которое смотрит на мир мой внук, и начала рассказывать. Тогда в окно видны были четыре острых шпиля кирхи, что на улице Станкевича. И няня говорила, что, когда я вырасту большая, мы с ней пойдем во все церкви. Звали ее классическим именем Арина, но для всех в доме она была просто «няня». Сухая, подвижная, лицо круглое с мелкими морщинами, с крошечным пучком сзади, в белом платочке! Она прожила у нас двадцать лет. Помню я ее только старой. Она не стала дожидаться, пока я вырасту большая, она водила меня в церковь, я истово целовала Иверскую икону, подражала во всем няне. Нянин Бог был добрым, с ним легко было сговориться, он легко прощал, отпускал грехи. Няня любила выпить. В субботу, в воскресенье она выпивала понемногу и мне предлагала, но мне водка не понравилась. По праздникам она ездила к своей сестре, куда-то в район Тверских-Ямских — тогда это представлялось целым путешествием — и часто брала меня с собой. Там пили много и шумно, ругались, а то и дрались. Возвращались мы с ней домой, заходили в нашу церковь на Столешниковом переулке, теперь там книгохранилище Библиотеки иностранной литературы. «Прогневила я тебя, раба Божия, жизнь веду неправедную», — громко начинала няня. И я тоже вслед за ней каялась перед Богом всемогущим. Не знала, почему каюсь, но над всеми моими детскими проступками, играми, фантазиями возвышался Бог. Собственно говоря, в моем детстве был не один, а два Бога. У нас жила бабушка — мамина мама — очень старая. Она спала в маленькой проходной комнате, я помню ее только лежащей… Там было душно, и почему-то страшно. Бабушка рассказывала мне про своего Бога, рассказывала Библию. Бабушкин Бог — в отличие от няниного — был злой, швырял камни и все время воевал. Камни надолго остались для меня единственным ощущением Библии, Может быть, дело было еще и в том, что няня с бабушкой враждовали, а я всегда была на стороне няни. Родители неверующие, во всяком случае ни одного разговора о религии я в детстве не помню. Детская вера подтачивалась, как именно, кем именно — не знаю. И наступил в моей жизни весенний день. Я, девятилетняя, возвращалась домой из школы. Как обычно, часто останавливалась. Там, где сейчас спесивый бронзовый всадник — Юрий Долгорукий, а тогда был обелиск Свободы, меня озарило: а ведь Бога нет. В первое мгновение даже холодным потом обдало, так стало страшно. Сейчас, сию минуту я должна провалиться под землю. Или Господь пошлет в меня молнию. Стою, все вокруг спокойно, идут люди, смеются, разговаривают. Нет Бога. Захотелось крикнуть, испытать судьбу. Громко крикнуть — Бога нет! Все по-прежнему было спокойно. Что же теперь делать? Как жить? Как сказать няне?.. Я еще продолжала какое-то время ходить с няней в церковь, но все больше и больше тяготилась этим. А тем временем в жизнь входила иная религия. Много позже, чем была написана та глава, я прочитала в книге Бердяева «Самопознание»: «Тоталитарный коммунизм есть лжерелигия. И именно как лжерелигия коммунизм преследует все религии, преследует как конкурент» (т. 11, с. 265). В заявлении из ссылки (май 1980 г.) Андрей Сахаров утверждает: «…Ведь коммунистическая идеология в Советском Союзе — идеологическом эпицентре… возникла из стремления к правде и справедливости, как и другие религиозные, этические и философские системы». Самое раннее воспоминание об иной религии — январь двадцать четвертого года. Мне пять лет. Я смотрю в окно — идут толпы по Тверской, хоронят Ленина. Все взрослые там, на улице. Нас, детей — моей сестре полтора месяца, — нас оставили дома с няней. Слишком холодно. Напрасно я плакала, просила и меня взять. Я смотрю в окно, и больше всего на свете мне хочется быть там, со всеми, в этих строгих и торжественных колоннах. В 1928 году меня принимали в пионеры. «Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира…» Помню с тех пор. Я была уверена, что перестала верить в Бога. Пионерское детство, комсомольская юность.Долой, долой монахов,
долой, долой попов,
мы на небо залезем,
разгоним всех богов! —
Смотрела фильм Пазолини «Евангелие от Матфея». Смотрела, и накапливалось раздражение. Не мой Христос, не тот, нянин, добрый мужицкий Бог, не похож и на князя Мышкина. Когда он говорит: «Подставь вторую щеку», эти слова противоречат его характеру. И Нагорную проповедь он выпаливает с пулеметной скоростью, деловито, сердито. А вот когда он говорит: «Я принес не мир, но меч», когда отрекается от матери — это ему под стать, по нраву. Если спасать мир — а он ощущает миссию, — то без меча, без жестокости это, наверно, невозможно. У Пазолини он — вождь крестьянской революции, одержимый, нетерпимый фанатик. За другим — не пошли бы. Но такого Христа мне долго заменяли мученики, знаменосцы моей второй религии: Робеспьер, пока он еще не пролил крови, или Александр Ульянов. Один раз — человеческая улыбка — детям. Только когда начинается Голгофа, он становится моим, близким Христу Достоевского, Христу Пастернака. С верой в коммунизм я расставалась, вернее, расстаюсь иначе, чем с верой в Бога. Не было мгновенного озарения. Были, идут тяжкие годы; спрашиваю себя. И сколько раз за это время было желание вернуться. Вернуться из этой пустоты, где только вопросы без ответов, где обрушились кумиры и если не задавило обломками, то все равно холодно, запущенно… Вернуться в романтичный мир, где поют старые революционные песни, в мир, где для кого-то все еще победоносно шествует революция. А вернуться туда нельзя. Нет у мысли обратного хода, нет обратного хода у знания, у прозрения. Как нет и обратного пути в детство. Герцен говорит о том, как соблазнительна мысль о свидании за гробом, но и прощаясь с Натальей Александровной, он не позволил себе этого утешения. …Мне, девочке, мало что было доступно в проповедях. Но именно в церкви я услышала впервые, что люди равны. Что бедные лучше богатых. Этому же меня потом учили в школе и в пионеротряде. Девочка услышала в церкви, что лучший мир — царство Божие — впереди. Что к этому лучшему миру надо идти не в одиночку, а сообща, вместе. (Что само слово «религия» означает «связь», religare — связывать, я узнала много позже). Так же как и то, что «основное религиозное чувство» — по Толстому — есть «сознание равенства и братства людей» («Воскресение»). Жить надо добром и справедливостью для того, чтобы этот лучший мир наступил скорее и для всех. В школе и пионеротряде меня тоже учили тому, что лучший мир впереди — только на земле, а не на небе и строить его надо всем вместе. …Из трех священных понятий моей юности: Свобода, Равенство, Братство — два первых искажены. Братство зависит только от тебя — быть ли братом другим; этот идеал остался чистым. Чем, как прельстила меня в детстве идея равенства? …Мы играем в салки, в прятки, в «Трех мушкетеров» у нас в отдельной квартире. Мои подруги и друзья все живут в коммуналках. Значит, мы богатые? Это несправедливо, это стыдно, что мне лучше, чем другим. Позднее я узнала, что мама никогда не дотягивала до очередной зарплаты, искала приработки, относила в ломбард тяжелые зимние пальто — иных драгоценностей не было. Когда узнала — испытала облегчение: значит, мы не такие уж богатые. …Первый курс института. Я комсорг, иду к декану просить за нашу студентку-отличницу: ей отказали в стипендии. — Правильно отказали. Ну и что ж, что отличница? Она в шелковых платьях на лекции ходит. Он дурак, этот чиновник, присланный в деканат откуда-то из МТС. Но ведь она и впрямь хорошо одевается. …Начало семидесятых годов. Лидия Чуковская просит известного поэта выступить в детской библиотеке, построенной Корнеем Ивановичем, перед школьниками окрестных деревень. — Лидия Корнеевна, для вас я это сделаю. Но, по-моему, это никому не нужно: ни им, ни мне. Лидия Корнеевна гневается: вспоминает, что Корнея Ивановича исключили из гимназии по пресловутому закону о «кухаркиных детях». И вот снова — поэт считает излишним читать стихи сегодняшним кухаркиным детям… В юности я мечтала о равенстве. Сегодня у нас самое чудовищное неравенство. Царство привилегий: власти, номенклатуры, богатства, связей и еще чего угодно. Что привело к этому? Неужели мечта о равенстве? Но ведь эта мечта была подавлена едва ли не сразу же, на заре революции. Некоторых из тех, кто жил в хижинах, стали переселять во дворцы, а позже строили новые дворцы, роскошнее всех прежних. А тех, кто уцелел из былых обитателей дворцов, выбрасывали в лучшем случае в хижины, а то и в тюремные бараки. Потом укрепилась каста. Одно неравенство сменилось другим, неизмеримо большим, неизмеримо более лицемерным. Насильственное равенство тюрьмы, казармы, колхоза ужасно. Этого у нас сегодня никому не надо доказывать. А то, что отсутствие привилегий, отказ от них мог и может привлекать, — в этом убедить сегодня трудно, и во многих случаях это встречает отпор. А мне и сегодня неловко перед теми, у кого меньше, чем у меня — денег ли, метров ли в квартире, свободы ли, книг, платьев. Мне чуждо распространенное сегодня поклонение элите, в частности — дворянству, а у этого мироощущения все больше сторонников, и не только среди правящих, но и среди оппозиционеров. Понимаю, что в иных случаях можно и должно желать привилегий для других («он такой талантливый..», «он такой больной», «он такой незащищенный»). Но не для себя. …Мы сидим в очередной раз на кухне у Сахаровых. Идет напряженный разговор. А надо мною мелькают руки Елены Боннер-Сахаровой: она вынимает из холодильника колбасы, банки с консервами, она делит академический паек. Родственники едут к ссыльным, надо везти еду. Вот это стремление разделить мне понятно и близко. Мало что на протяжении долгой и путаной жизни сохранилось, а стремление платить долг тем, у кого меньше, отвращение к привилегиям — сохранилось. От этой части наследия русской демократической интеллигенции я не отказываюсь.
* * *
…Девятое августа 1965 года. Возвращаемся с похорон Фриды Вигдоровой. Говорю: — Его нет, раз Он позволил, чтобы Фрида умерла. Лидия Корнеевна: — Конечно, Его нет. Елена Сергеевна: — Я не знаю… И я не знаю. 19668. Тридцать седьмой
Тридцать седьмой год — память ужаса, пароль и заклинание. И бесконечные поиски объяснения — когда, как и почему это произошло? Как вторая часть «Ивана Грозного»? Как предсказывал Максимилиан Волошин: «…И еще не весь развернут свиток…»? Мне было девятнадцать лет, я училась на втором курсе филологического факультета ИФЛИ. Мой малый мир еще не был затронут. Посадили А. Халатова, начальника моего отца. Папу выгнали с работы, он ходил убитый. Едва ли не всю зиму я просыпалась в 3–4 часа и лежала без сна, прислушиваясь к звонкам и стукам. Боялась. Теперь понимаю — сколько людей не спало. И скольких увели… Тем временем в институте шли комсомольские собрания. Исключали из комсомола «за потерю бдительности». Протестов почти не было. Помню, что вышла Нина Витман, девушка с длинными косами, и тихо, но очень твердо сказала: «Мой отец не виноват». — «Откуда ты знаешь?» Агнеса Кун сказала, что ее муж, арестованный поэт Антал Гидаш, ни в чем не виноват. Подошел и наш черед. Я была членом бюро факультета. Нас вызвали к секретарю парткома института Волгину. И он сказал, что мы обязаны исключить Муралову и Ганецкую из комсомола. Многих похожих я перевидала с тех далеких пор, но он был первым. Елка Муралова — племянница Николая Муралова, обвиняемого на процессе. Отец ее был заместителем наркома земледелия. Тоже был арестован. Отец Ханки Ганецкой — один из основателей польской партии, друг Ленина. В последние годы — директор музея Революции. И его арестовали. Мы твердо сказали Волгину, что за Елку мы ручаемся. — Ни за кого нельзя ручаться. Нас учили не верить глазам, ушам, поступкам. Не верить своим чувствам, своему разуму. Ханку мы уже не защищали, мы ее не очень любили, она казалась барыней, но при чем тут политические обвинения? Вначале еще хватало сил отстаивать свое представление о справедливости. На комсомольском собрании мы — несколько человек — голосовали против исключения Елки. Голосовали против большинства. Потом приходил инструктор из МК ВЛКСМ и я писала Елке положительную характеристику. Елку восстановили. Мы целовались на виду у всего института, во дворе. Справедливость торжествует! Волгин посрамлен! Мы не понимали тогда, что и этой бурной ребяческой радостью только ожесточаем и_х. 29 апреля майский праздник наш институт отмечал в Большом зале Консерватории. Во время доклада — говорили о конституции, о счастье советской молодежи, и эти слова были для меня истиной — Яков Додзин, заведующий спецчастью, тихо вызвал из зала Ханку. Накануне арестовали Елку. О том, что произошло дальше, я узнала через семнадцать лет. За словом «посадили» для меня возникала черная пустота, пропасть, откуда нет возврата. Страшно было заглядывать. На следующий день мы, несколько подруг Елки, пошли в институт к Додзину. От Сокольнического круга шли пешком до Ростокинского проезда, все старались понять произошедшее, повторяли, что мы ему скажем. «Не может быть, чтобы Елка была виновата». Он медленно, заикаясь, терпеливо, как школьный учитель, объяснял нам: «Дети репрессированных держались вместе. Они обозлены. У них целая организация. Террористическая. Дело очень серьезное. Там разберутся, в чем именно замешана Елка». И он очень просил, умолял нас — никуда не ходить, не задавать вопросов, ни с кем об этом не разговаривать. Глаза у Яши добрые: Близорукие. Скольких из нас он спас в те годы? Он нас оберегал. А мы — мы уже позволяли себя оберегать. И он же вызывал к работникам НКВД. Потом начались наказания. Меня вывели из бюро. Люсю Черную исключили из комсомола — она была ближе всех к Елке. Ганне Калиной, Люсе Потягайло и мне вынесли выговор: «За потерю политической бдительности, выразившуюся в защите врагов народа». В бюро был тогда Озеров — ныне редактор журнала «Вопросы литературы» — и Карпова — ныне главный редактор издательства «Советский писатель». Быстро оборвались сомнения и робкие попытки протеста. Значит, так положено: лес рубят — щепки летят… Стоим мы с папой в большой комнате у радиоприемника — опять передавали что-то о бдительности, — и он спрашивает: «А если меня арестуют?» И я, не подумав ни мгновения: «Я буду считать, что тебя арестовали правильно». Сказала, и пол под ногами не содрогнулся, и не было ни пламени, ни серы, ничего… Бог меня помиловал, и отца не арестовали. Принял ли он мои чудовищные слова как должное? Он и сам говорил, что по-другому нельзя. А может быть, надеялся не на такой ответ? Иначе не спросил бы… Не хочу оправдываться, да и невозможно это, но я в те годы неизменно спорила с отцом, всегда отстаивала нечто прямо противоположное тому, что говорил он, — этакая юношеская бравада. Сегодня бесплодно задавать себе вопрос: неужели я на самом деле поверила бы? Может быть, все-таки механические слова опережали механические поступки? Ведь отца-то я знала лучше, чем Елку… И в те годы не было рядом со мной человека, который думал бы по-иному. То есть они существовали, и где-то совсем близко, но я-то их не видела, не слышала. И естественно, они ко мне не стремились, а то и не доверяли мне. Был любимый и любящий муж, были любимые и любящие друзья, родные. Но не было никого, кто попытался бы переубедить, кто увел бы с собрания: «Не голосуй. Пусть хоть не твоими руками». Нет, все было и моими руками. Мертвое молчание, мертвый крик, все «за». В 1956 году я была у Елены Феликсовны Усиевич по какому-то редакционному делу. И она сказала мне: «Ничего вокруг не изменилось. Но если меня завтра арестуют, никто не поверит, что Усиевич — враг народа». И это действительно существенная перемена для моего и для старших поколений, для тех, кто пережил. А молодые? …Декабрьский вечер шестидесятого года. Я приехала из Переделкина на встречу нашего курса — двадцатилетие выпуска. Мне надо произнести вступительную речь. Многих в вестибюле «Праги» я не узнаю. Очень волнуюсь. Произношу сакраментальную фразу: «Счастлива, что с нами те, кого жестокие и несправедливые обстоятельства вырвали из наших рядов». Сидят Е. Муралова, X. Ганецкая, Д. Ясный, Л. Пинский и еще люди, которых арестовали уже после окончания института. Глаза у Елки прежние. Я вижу Елку и Ханку не впервые. В 1948 году Ханку выпустили (потом сразу же снова посадили — повторница 49-го года); она была в Москве и пришла ко мне. Весь разговор с ней шел «мимо» друг друга. Вот где были, действительно, два мира, две системы, а не там, где нас учили. Жизни были разные. С 1956 года я начала понимать, что произошло с ними и с нами. Сломанная Елкина жизнь, ее прекрасные затравленные глаза. На вечере в «Праге» пили вино, произносили тосты, вспоминали: нас объединяли только воспоминания. Шла домой и думала — а ведь и я причастна к преступлению. К молчанию. К трусости. Даже к приукрашиванию. Евгения Гинзбург пишет в «Крутом маршруте»: В бессонницу как-то не утешает сознание, что ты непосредственно не участвовал в убийствах и предательствах. Ведь убил не только тот, кто ударил, но и те, кто поддержал Злобу. Все равно чем. Бездарным повторением опасных теоретических формул. Безмолвным поднятием правой руки. Малодушным писанием полуправды. Меа culpa…[5] И все чаще мне кажется, что даже восемнадцати лет земного ада недостаточно для искупления этой вины[6]. Как же мне судить себя, не прошедшую и года земного ада? Меа culpa, mea maxima culpa. Нас уговаривали, мы сами уговаривали себя, и нам действительно начинало казаться, что мы бережем святые принципы. А эти принципы как раз и растаптывали прокуроры, следователи, тюремщики. Как-то мы с Агнесой подходили к моему дому, и она прочла мне строки Гидаша, посланные из лагеря:С какими варварскими страданиями
Вытаскиваем мы из варварства человечество.
9. Андре Жид возвращается из СССР
Все пытаюсь понять то непостижимое явление — как можно было верить? С тех пор как начала вспоминать, понять стало еще труднее. Зову на помощь чужой опыт. В 1936 году Андре Жид, уже знаменитый тогда писатель, опубликовал книгу «Возвращение из СССР». Я, как и другие мои соотечественники, узнала об этом из подвала «Правды» — «Смех и слезы Андре Жида». Михаилу Кольцову, автору грозного отлучения, до своего «черного ворона» оставалось два года. В 1970 году я прочла нисколько не устаревшую книгу Жида. «Слишком часто правда об СССР произносится с ненавистью, а ложь с любовью». Он попробовал сказать правду с любовью. Он многое принял, многое хвалил. Ему, немолодому человеку, было хорошо у нас. Он смеялся больше, чем когда-либо в жизни. Ему было весело. «Толпа в парке культуры и отдыха ведет себя великолепно, дышит честностью, достоинством, порядочностью». Смутно, через тридцать пять лет, я различаю в этой толпе себя, своих друзей. Тогда еще не обнимались, не целовались прилюдно. Верхом интимности было набросить любимой девушке свой пиджак на плечи и взять ее под руку. Мы — тайные молодожены, ходим по дорожкам парка, гирлянды лампочек представляются нам невиданной красотой, нашей, особенной. Мы прыгаем с парашютной вышки, избавляясь от страха. Мы плаваем на лодке по Москве-реке. Мой муж Леня пишет стихи, посвященные одной из первых парашютисток — Нине Камневой. И Андре Жид познакомился с парашютистками, и ему эти храбрые, милые, красивые девушки очень понравились. Тем летом 1936 года мы были в военном студенческом лагере под Москвой. «Шестая рота, подымайсь!!!» Мы топали в тяжелых сапогах, иногда разбирали пулемет. Ни стрелять, ни перевязывать раны нас не учили. Леня и его друг Витя Перов были едва ли не худшими солдатами во всем лагере. Они плохо заправляли койки, их гимнастерки топорщились, они повсюду опаздывали и получали наряды на кухню вне очереди. Но даже картошку Леня до войны так и не научился чистить. Узнав, что умер Горький, мы ушли самовольно на похороны, гордые своей смелостью, уверенные, что поступаем как надо. Мы не дошли до Красной площади, где говорил Андре Жид. Мы не видели того, что тридцать лет спустя изобразил Арагон в романе «Гибель всерьез», — стражников, отпихивающих народ. Мы шли в колоннах, испытывая лишь одно — торжественный восторг причастия. Вместе со всеми. Нам еще не сказали, что Горького убили врачи — в эту ложь я поверю через два года, она понадобится, чтобы объяснить уничтожение всех, кто окружал Горького, — Левина, Хольцмана, Крючкова и других, врачей, секретаря. О том, что все это бессовестное вранье, я узнаю двадцать лет спустя. Сам Горький был ведь, в сущности, пленником в собственном доме, за кустами его дачи сидели вооруженные энкаведешники. Я и сейчас не знаю, убили ли Горького по приказу Сталина (наиболее распространенная версия) или он умер своей смертью… Дыхание единой и счастливой даже в горе толпы Жид уловил. Он был прав: «…счастье советских людей состояло из надежды, веры и невежества». Он только не оценил тогда — не мог оценить извне, да к тому же будучи сыном французской традиции скептического разума — степень нашего невежества, нашей одураченности. «Я не думаю, что где-либо, кроме СССР, можно с такой глубокой силой испытывать принадлежность к человечеству. Несмотря на языковый барьер, я нигде не чувствовал себя в такой мере товарищем и братом. И я отдам за это лучшие пейзажи мира». Мой муж, девятнадцатилетний студент, так же, как Андре Жид, хотел причаститься человечеству. И выражал это в беспомощных, но вполне искренних стихах. Удивительно ли, что он перенимал чужой словарь, если несвойственный ему язык перенимал даже Андре Жид. Знаменитый французский стилист говорил ленинградским литераторам: «Я выступаю не от собственного имени: моя любовь к СССР выражает чувства бесчисленных масс французских трудящихся». Жид так тянулся к нам еще и потому, что искал дополнения. Того, чего у него не было. Сегодняшние литераторы Франции, Англии, США ищут этого дополнения преимущественно в странах Третьего мира. Так, по-моему, можно объяснить восторженные статьи Сартра и Бовуар о Кубе, книги о странах Африки, книги о Китае, о Вьетнаме. Даже исполненный горькой и прелестной иронии гриновский вегетарианец Смит, один из героев романа «Комедианты», и тот ищет в кровавой ночи Гаити того, чего у себя, в благополучной Америке, ему недостает. Увидев, ощутив, передав много хорошего, Жид также увидел, ощутил и передал тревогу. Тем более острую и горькую, что неотделимую от самого причастия человечеству. Его тревоги, его сомнения щупальцами тянулись в разные стороны. Они доходили — это я вижу теперь — до наиболее уязвимых мест системы. Тревоги его диктовались страхом — а не было ли ошибки в первоначальном расчете? Страхом с точки зрения революции. Сам Жид никогда революционером не был, но и он на миг поверил, что революция вытащит человечество из пропасти. Он видел, однако, у нас слишком много нищих, а «я… надеялся уже не видеть бедняков или, точнее говоря, именно для того, чтобы их, бедняков, не видеть, я и приехал в СССР». Я-то знаю, что видел он ничтожно мало, что от него все скрывали. Возникло стахановское движение. Мы сочиняли монтаж о стахановцах, и я упоенно декламировала в большом зале нашего института: «Забойщик шахты Центральная-Ирмино, Алексей Стаханов, при норме в семь тонн вырубил отбойным молотком 102 тонны угля за смену». Андре Жид спросил: «А может, это значит, что раньше Стаханов и другие работали в несколько раз хуже, чем могли?» Ответом ему было тяжелое, недовольное, недоуменное молчание. Жида тревожило неравенство: «Я боюсь, не возникнет ли вскоре новая буржуазия, самодовольные рабочие (и, разумеется, консервативные), подобные нашей мелкой буржуазии». Впрочем, он выражает свои тревоги осторожно, оговариваясь, что он не экономист, не социолог, не политик. Но есть одна область, где он чувствует себя уверенно. Область искусства. Его страшит единомыслие и государственный контроль. И тут уж он полным голосом говорит об угрозе гибели культуры. Он спрашивает, как должен в СССР чувствовать себя поэт, похожий на Рембо, на Бодлера, на Китса. Жизнь уже ответила на его вопросы. Уже повесился Есенин. Уже застрелился Маяковский. Жид не знал тогда и мы не знали, что Осип Мандельштам уже два года как был арестован, в приступе безумия бросался из окна больницы в Чердыни, получил благодаря хлопотам Пастернака, обратившегося к Бухарину, «милостивую» ссылку в Воронеж. Состояние искусства — в этом Жид не сомневался — непременно связано с тем, как чувствует себя в обществе человек, один-единственный. И Жид прямо отождествляет «пленный дух» у нас с пленным духом в фашистской Германии. Если бы мне тогда сказали, что кто-то, пусть всемирно знаменитый, сравнивает нас с фашистской Германией, я могла на это ответить только «сам фашист». Жид — еще и наследник просветителей. Он верил, что можно объяснить. Ведь его в СССР окружали люди образованные, знающие и любящие французскую литературу и язык, люди, как ему казалось, близкие — Аросев, Лупол, Стенич, тот же Кольцов (все они вскоре стали жертвами большого террора). В первом поколении советских интеллигентов органические, преемственные связи с дореволюционной культурой еще не были полностью оборваны. Жид пытался объяснить им и через них властям, что свобода нужна человеку, как хлеб. Объяснить, что речь идет не о нем, даже не о Советском Союзе — «речь идет о человечестве, о его судьбе, о его культуре». Книга Жида была действительно опасна власть имущим. Ясно, что Кольцову приказали написать грозное отлучение. Не выполнить подобный приказ он не осмелился. (Сам-то он понимал многое. Его умный цинизм тонко изобразил Хемингуэй в образе Каркова — роман «По ком звонит колокол».) Книга Жида очень опасна потому, что она написана с искренним желанием не только понять, но и одобрить. Опасна потому, что в ней тонко и талантливо запечатлены те сомнения, которые одни заталкивали внутрь (среди советских людей, окружавших Жида, таких, вероятно, было немало), другие выкорчевывали и ростки сомнений, но было что выкорчевывать. И хорошее, и дурное он отсчитывал от мировой революции — такой, какой она мерещилась ему и многим иным интеллигентам Запада. Владимир Набоков в автобиографической книге «Чужие берега» пишет: «За очень немногими исключениями все либерально настроенные творческие люди — поэты, романисты, критики, историки, философы и др. — уехали из ленинской и сталинской России. Те, кто так не поступил, либо угасали, либо калечили свои таланты, принимая политические требования государства. То, чего никогда не удавалось достичь царям, — полностью согнуть умы по воле государства, — было сразу же достигнуто большевиками, когда основной контингент интеллигенции уехал за границу или был уничтожен». Историческая тенденция такова, но слово «сразу», по-моему, тут неточно. Не сразу и не полностью. И противостояло этой тенденции иное — упрямое прорастание культуры вопреки страшному давлению. Обвинение Набокова — извне, обвинение Жида — изнутри. Книга Жида оставалась опасной. В 1949 году студентка Рижского университета Майя Сильмалаа перевела «Возвращение из СССР» на латышский язык, давала читать перевод друзьям. Ее и ее товарищей, членов так называемого французского кружка, арестовали. (Майю реабилитировали в 1956 году, вновь допрашивали в 1970 году по делу о самиздате, всячески преследовали. В 1973 году она умерла. Молодым литераторам «не советовали» ходить на ее похороны.) У Жида больше «положительного», чем «отрицательного», но использовать его книгу для укрепления сталинщины было невозможно. А вот Фейхтвангера использовали с большим успехом. Его «Москва тридцать седьмого года» была за три дня набрана и напечатана большим тиражом. Он приехал вскоре после кольцовской статьи, и по Москве ходила эпиграмма:Стоит Фейхтвангер у дверей
С ужасно умным видом,
И я боюсь, чтоб сей еврей
Не оказался Жидом.
10. Институт
Героиня романа американской писательницы Карсон Мак Каллерс «Гостья на свадьбе» спрашивает: «К какому „мы“ принадлежит мое „я“?» У многих есть своя деревня. Та общность людей, где их знали маленькими, где помнят детские выходки, где осуждают и прощают по своим особым законам, где существует свой язык, свой жаргон, непонятный другим… Свой двор, свой клан, своя коммуна, своя рота. Где же моя деревня? Кто (кроме близких, а я сейчас говорю о дальних) гордится моими успехами и огорчается моими поражениями? Оглядываясь назад, я думаю, что такой моей деревней стал для меня и многих других институт. ИФЛИ. Не только потому, что мы, выпускники, люди одной профессии и мне приходилось по работе встречаться, сталкиваться с бывшими сокурсниками. Но и потому, что нас связывает юность, счастливая, бездумная и единственная. Институт был создан в сентябре 1934 года и просуществовал восемь лет; во время войны факультеты ИФЛИ слились с МГУ.
Выпуск курса ИФЛИ, 1940 год
Его называли «коммунистическим лицеем». Подобно своему знаменитому предшественнику, он готовил к государственному поприщу, к служению отечеству. На Малой Пироговской, а потом в Ростокинском проезде за Сокольниками слушали лекции студенты и аспиранты, люди, впоследствии ставшие известными литераторами, — Твардовский, Симонов, Чаковский, Самойлов, Паперный, Гудзенко, Копелев и другие. Из Ростова приезжал сдавать экзамены студент-заочник Александр Солженицын. Учились будущий министр государственной безопасности Шелепин, будущий главный редактор «Вопросов литературы» Озеров, будущий помощник Молотова Видясов, будущий личный переводчик при Сталине, а потом посол в Японии Трояновский, поэт и будущий главный редактор нового «Нового мира» Наровчатов, будущий секретарь Союза кинематографистов Караганов… Выпускники ИФЛИ вышли в государственные деятели. Тогда они были Шурики, Витьки, Сережки, Олежки… Другие стали учеными, преподавателями школ и вузов, библиотекарями. А были и те, кто «…никуда не вышел… кто просто зарос травою…» (Б. Слуцкий). Их имена — на мраморной доске перед зданием МГУ на Ленинских горах. Там, за чертой, остались капустники, остроты, веселые и злые шутки, эпиграммы. Из всего этого родилась «Бригантина», песня, которая ушла далеко за пределы нашего института. В День победы, когда ее автор Павел Коган уже был похоронен в солдатской могиле под Новороссийском, на улицах Москвы и других городов пели «Бригантина подымает паруса…». Нет в песне ни войны, ни революции, ни нашего студенчества. Расплывчатая мечта о море, суровые капитаны, усталые женские глаза, золотое терпкое вино… Необъяснимо, чем влекли, слова «флибустьеры», «веселый Роджерс», «люди Флинта». Они перекликались с Гумилевым, Грином, Киплингом, но все это про нас. Поднимающая паруса бригантина — наша юношеская мечта о вольности, она возникает, лишь «только чуточку прищурь глаза», невоплощенная серебристая мечта, с которой прощались мы и все еще прощаются люди новых поколений. Непостижима судьба песни, ставшей фольклором. Ее за сорок лет «запели», заиграли. Ее поют на праздничных концертах, поют в туристских походах, на домашних вечерах, поют сегодняшние студенты и школьники, им тоже хочется быть «яростными и непокорными», тоже «презреть грошовый уют». Поют их отцы. Поют седые деды. Вот и моя внучка тоненьким голоском выводит: «Бригантина подымает паруса…» Ее вспоминали даже в тюремных камерах ифлийцы, ставшие зеками. Между тем оказалось, что ифлийцы нужны не на романтических бригантинах, а в реальном мире. После разгромов тридцать седьмого года возникли пустоты в государственном, партийном, идеологическом аппаратах. Требовавшие заполнения. Выпускники 1939, 1940, 1941 годов не искали работы — работа искала выпускников. Я заполняла анкеты в десяти учреждениях, среди них — ЦК, Наркоминдел, Совнарком. У меня, как и у большинства из нас, была возможность выбора. У нас царил культ дружбы. Был особый язык, масонские знаки, острое ощущение «свой». Сближались мгновенно, связи тянулись долго. И сейчас, какие бы рвы, какие бы пропасти ни разделяли иных из нас, порою твержу: «Бог помочь вам, друзья мои…» Обращаюсь едва ли не ко всем. Ну, пожалуй, за исключением Шелепина. Порою спрашиваю себя с надеждой — а может быть, в Озерове еще сохранилось что-нибудь от «Витьки»? Или в Наровчатове — от «Сережки»? ИФЛИ выделялся среди московских вузов той поры. У нас читали лекции лучшие профессора-гуманитарии, избежавшие тюрем и ссылок или успевшие вернуться, — Н. Гудзий, А. Дживелегов, Селищев. Сказывалось долгое отсутствие филологического факультета. Кончилось время Пролеткультов, ЛЕФа. Пришло другое, когда «корабль современности» нужно было и можно было наполнять, а не сбрасывать с него. Промежуток был очень коротким: уже в 36-м году статьей в «Правде» «Сумбур вместо музыки» о Шостаковиче начался поход против формализма. В ИФЛИ — в отличие от Ленинградского университета — не возникло никакой собственно филологической школы. Слишком мало для создания школы просуществовал институт, хотя научный уровень некоторых молодых преподавателей был чрезвычайно высок. Особенности нашего института — не только и не столько в преподавателях. Я принадлежала к тому студенческому большинству, которое вовсе не было связано с преподавателями. Перечисление отдельного не дает представления о неповторимом сочетании целого. Отчасти иррациональном. ИФЛИ был не просто учебным заведением. Скорее напоминал творческий организм, театр. Возник — исчез. Когда исчез — во время войны, тогда и заметили. Быть может, еще в 1935 году начинали действовать законы отбора, столь всевластного и всеохватного сегодня, а может быть, это получилось и случайно, но в ИФЛИ поступали сыновья и дочери высокопоставленных тогда отцов — Лев Безыменский, Хана Ганецкая, Ирина Гринько, Мура Егорова, Наталья Залка, Марина Крыленко, Анна Лазо, Агнес а Кун, Олег Трояновский… (Перечисляю и спрашиваю себя: кто знает эти имена сегодня?!) Было и множество — большинство обыкновенных. Мы с Леней просто прочитали объявление о приеме в газете. Не помню, чтобы мы ощущали хоть какие-либо сословные различия. Смазанные, впрочем, год спустя, когда почти все обитатели дома правительства стали «детьми врагов народа». По-испански говорят «патриа чика» (patria chica) — малая родина. То место, где ты родился, маленький город, деревня, дом. Но и то место, где ты родился в профессии, родился в отношении к людям. То место на земле, которое тебе ближе всего, дороже всего, милее всего. Большую родину недаром называют матерью, ее, как мать, не выбирают. Малая родина — по свободному выбору, это скорее возлюбленная, жена, можно и разлюбить, оставить, а можно и продолжать любить всю жизнь. Для многих из нас институт стал малой родиной. Не только не противопоставленной, но тысячами нитей связанной с большой родиной. А вместе с тем и отдельной, относительно устойчивой общностью, со своими обычаями, даже со своим языком и, безусловно, со своим складом характера. Иные находили потом и другие «малые родины» — военные части, редакции, школы. Но до сих пор седые и седеющие, лысые и лысеющие мужчины и женщины, скрывая это от своих, часто не сентиментальных детей, идут поклоняться родным местам. Ростокинский проезд, дом 13 — туда перевели институт в 1937 году. В институте торчали с утра до ночи, с делом и без дела, вечно кого-то ждали. Уйти домой одному, вдвоем, вчетвером было стыдно, неудобно, да и не хотелось. Конечно, все это объяснялось еще и молодостью. Но не всегда и не везде молодость создает эту особую, избирательную привязанность. Малая родина густо населена, она укрепила ощущение связей с людьми, ответственности за других. Это ревнивое чувство осталось надолго, может быть, и до сегодняшнего дня — кто как себя ведет? Как выступает? Какие книги пишет? Не закружили ли голову высокие посты? Не пригнули ли голову неудачи, несчастья? В ИФЛИ было много одаренных юношей и девушек. Неталантливым преподавателям трудно учить талантливых студентов. Помню одно комсомольское собрание. Выступила заместитель декана Наумова. Она гневно перечисляла грехи наших поэтов, а грехи были — поэтически одаренные ребята действительно «не слушали, не посещали, плохо сдавали». Но говорила об этих людях Наумова с явно выраженной личной подозрительностью, личной неприязнью. «Ищут себе места для памятника, не надейтесь, не поставим», — закончила она под аплодисменты зала. Люди, о которых говорила тогда Наумова, почти все покоятся в земле. Им стоят памятники, заслуженные кровью. Должно поставить гораздо больше. Они еще успели оставить себя и в самом нестареющем материале — в слове. Многие из оставшихся в живых вошли в литературу. Так что дело не только в восстановлении справедливости по. отношению к Павлу Когану и тем, кто был на него похож. Дело в аплодисментах. Ребята хлопали, в них разбудили низменные чувства, чувства зависти ко всему выдающемуся, яркому, талантливому. Леню не упомянули в «черном списке», хотя вполне могли бы упомянуть. Он был возмущен и Наумовой и поведением зала. Был у нас к этому времени уже немалый отрицательный опыт коллективного поведения, только мало кто осознавал опыт комсомольских собраний в 1937–1938 годах, где студенты один за другим отрекались от арестованных отцов и матерей. Я пыталась найти какие-то оправдания хлопающим: а зачем ставить себя выше других? Пусть другие скажут, что ты гений. Леня очень резко мне возражал. Он тоже еще не знал, к чему все это может повести. Но его, как чаще всего бывает с одаренными людьми, неодолимо влекли к себе чужие таланты и отталкивали бездарность, глупость, подлость. В сентябре 1941 года собрались в институте все, кто еще был в Москве. Собрались в память нашей бывшей студентки Лии Кантарович, героически погибшей.

Начало войны, 1941 год. Подписано мужу, уходящему на фронт
Еще школьницей я услышала о необыкновенной красавице, потом она пришла учиться в ИФЛИ, работала в нашей «Комсомолии», и все мальчишки делали для газеты невозможное, чтобы быть награжденными ее улыбкой. В частом общении с ней у меня пропало то ощущение чуда, которое было вначале. Как только началась война, она сразу пошла сандружинницей, повела взвод в атаку и погибла. Леня посвятил ей тогда стихи; они с Аней Млынек писали очерк. Золотоволосая девочка стала одной из ифлийских легенд, сохранявшихся долго. И когда мы стояли в большом зале в Сокольниках и один за другим выходили наши ребята и клялись отомстить за Лию — это было грозно, страшно и прекрасно.
* * *
Пьесу «Город на заре» я смотрела, уже окончив институт. Но по духу и сама пьеса, и премьера — все было прямым продолжением ифлийских лет, потому и пишу об этом здесь. Сейчас на афишах театра Вахтангова значится «Город на заре», пьеса А. Арбузова. Студия Арбузова и Плучека, 1941 год, премьера «Города на заре». Премьера пьесы, написанной студийцами. Тогда я знала только одного из них — Александра Галича. Позже познакомилась с Исаем Кузнецовым, слышала о Всеволоде Багрицком. В тайге строили город Комсомольск. Я не могу в своей молодости найти более точного, зримого представления об идеале. Эта пьеса была о моей несостоявшейся, а у других, у лучших — состоявшейся жизни, о которой я мечтала. Не могу причислить «Город на заре» к запомнившимся на всю жизнь собственно театральным впечатлениям, таким, как мхатовские «Три сестры» или в большей мере «Дни Турбиных». Это было из иного ряда — не искусства, а жизни. Была молодая толпа, нас было больше, чем мест в маленьком зале, и все-таки мы уместились. Не было вешалки, и все пальто лежали на каких-то столах. Сцена была заодно с залом, зал отвечал сцене. Я уже работала тогда во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей — ВОКСе. И пришла в театр с только что полученной книгой американского слависта Эрнеста Симмонса о Достоевском. Для многих моих бывших однокурсников эта книга была символом той, для них не состоявшейся жизни, которой я стала причастной. Тогда я остро — и не впервые — ощутила: мне в руки попадает чье-то счастье. А мое плывет мимо меня. И не хватает у меня сил, воли, твердости характера, чтобы пойти наперекор обстоятельствам, чтобы не несла меня жизнь, а чтобы ее, жизнь, строить. И все же какая это огромная радость — знать, чувствовать: это твое, кровное, это строят твои товарищи для других твоих товарищей, это общее дело, чистое, честное, и строится все чистыми руками. Преодоление наивной романтики — так казалось и авторам, и исполнителям, и зрителям — состояло в том, чтобы были показаны трудности. На сцене, как и в жизни, не хватало еды, жилья, палаток и т. д. Слабые люди этих бытовых трудностей не выдерживали. В действительности — это я только сейчас понимаю, в самом спектакле были и разные стороны большой лжи: «враги народа», разоблачаемый троцкист, кулаки. Но я-то воспринимала каждое слово со сцены, каждое движение как истину. А в жизни государства это был 1941 год. После тридцать седьмого, во время пакта с Германией. В пьесе Светлова «Двадцать лет спустя» комсомольцы времен гражданской войны пели об эстафете, которую они передадут «далеким дням шестидесятых лет»… В наших руках тогда, в начале сороковых годов, эта эстафета была. И мы не сомневались в том, что передадим ее следующим поколениям. Но история рассудила иначе. 1961–197911. Рядом
1.
(пропущена) 19612.
В июне 1935 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся первый торжественный выпуск десятиклассников. Я кончила девятый класс. Мы слонялись по улице Горького, которую называли чаще Тверской, тогда еще не было понятия «Бродвей», Наши мальчики впервые начали выпивать. Девочки впервые заинтересовались туалетами. Появилась в нашей компании Тамара Зейферт — из балетной школы Большого театра. Ее ножки я запомнила с тех пор, потом ими восхищались в разных странах мира, когда она стала прима-балериной в ансамбле Игоря Моисеева. Мы все тогда носили стандартные башмаки на резине. У Тамары прямо от подошвы поднимались тонкие ремни, оплетали ступню. Мы видели такое лишь на рисунках в хрестоматиях по античной литературе. Сейчас никого не удивляют босоножки. Но тогда это было из сказок. В июне 1935 года я впервые в жизни попала на вечеринку, с патефоном, с песнями Вертинского и Лещенко, с танцами и поцелуями. Посреди общего веселья я внезапно выбежала из квартиры и на улице разрыдалась. Почему, о чем я плакала? Я была трезва. Происходившее не доставляло мне никакого удовольствия. А потом вдруг стало горько, показалось отвратительным все вокруг, все друзья и подруги и я сама. Я — изменница! Я изменила своим высоким мечтам… Рыдала я долго и никому не могла объяснить, в чем дело. А наутро в глубочайшем недовольстве собой я развернула газету и прочитала о вечере десятиклассников в Колонном зале, прочитала речь Ани М. Пока я предавалась «сладкой жизни», там, в Колонном зале, на трибуне моя ровесница говорила настоящие слова о настоящей жизни. Эту неведомую девушку я присоединила к ряду героев — книжных и реальных. Ту речь до сих пор помнят многие мои ровесники. Видимо, ей удалось выразить нечто общезначимое, задевавшее нас всех. «Наше поколение, — сказала она, — стало вместе со страной совершеннолетним». «Самая высшая точка на земном шаре — пик Сталина — завоевана нашей страной. Самое лучшее в мире метро — наше метро. Самое высокое небо над нашей страной — его подняли наши стратонавты. Самое глубокое море — наше море, его углубили наши водолазы. И мы хотим работать, учиться, бегать, рисовать, играть лучше всех, быстрее всех, красивее всех». Если исследовать статистически газетный язык тех лет, словосочетания «самый(ая, ое) лучший (ая, ее) в мире», «впервые в истории человечества», «только в нашей стране», вероятно, окажутся среди наиболее частых. Но и сегодня, перечитывая эту речь, я вижу, что она тогда сказала об этом свежо, не штампованно. Это и личная одаренность и безусловная искренность. Кому из восемнадцатилетних чуждо стремление «бегать, рисовать, играть лучше всех, быстрее всех, красивее всех»! Да разве только в юности? Ведь к 35-му году у нас были заслуженно первые места во многих областях человеческих знаний. Расширялась вселенная. Одно за другим свершались открытия мирового значения. Анина речь дышала не только субъективной искренностью. Ей удалось выразить время. Вскоре многих первооткрывателей арестовали, Н. Вавилова убили голодом, окружающих сломали, сами открытия затоптали. Чтобы десятилетия спустя либо открывать вновь, либо использовать зарубежный опыт. Когда я перечитала в старой газете речь Ани и в 1963 году приступила к этой главе, мне сначала внутренне необходимо было перечеркнуть ее пафос. Перечеркнуть для себя, в себе, она была неотъемлемой частью меня прежней. А потом, прожив годы, почувствовала: нет, только перечеркнуть недостаточно. Пытаюсь проникнуть еще хоть на один слой глубже. В ту непостижимую или бесконечно сложно постижимую закономерность: Время было не только тлетворное. Оно рождало и плоды. Был в речи Ани М., так же как в самом времени, отблеск зарева, отблеск веры: люди могут достичь многого, могут быть первыми. Могут — значит должны. В Колонном зале с трибуны была провозглашена наша общая уверенность — этим первым поколением счастливых и будем мы. В конце ее выступления шли приветствия вождям — Бубнову, Кагановичу, Хрущеву, Булганину, «еще привет тому, который любимее всех, чье имя — синоним великих побед — родному Иосифу Виссарионовичу. Ему дружное, молодое, солнечное, радостное десятиклассное ура!». Тут овация. Речь ее строилась по законам риторики тех лет. Она талантливо усвоила эти законы. Ее характер, способности, ее воспитание в школе, в пионерском отряде, в комсомоле определялись этой риторикой, которую питали мифы и легенды революционной борьбы, гражданской войны и новые легенды первой пятилетки. О том, какой ценой оплачивались восхищавшие нас великие победы — «впервые в истории… только в нашей стране», — мы ничего не знали. И если бы нам сказали — не поверили бы. В редакционной врезке к этой речи сказано: «И когда восемнадцатилетняя Аня М. восторгается нашей жизнью, нашей родиной, весь зал дышит вместе с нею учащенно и покрывает ее слова возгласами одобрения». «Правда» в данном случае сообщает правду. В зале было, вероятно, 10–15, пусть 50 человек, которые думали по-иному, позволяли себе думать по-иному, говорить с ближайшими друзьями, с родителями, читали еще сохранявшуюся в иных домах, до больших пожаров 37—38-го годов, иную литературу. Но настроение подавляющего большинства в этом зале, да и во многих местах за его пределами, Аня выразила. Если бы на трибуну Колонного зала тогда, в 1935 году, вышел человек, осмелившийся говорить о голодающих, согнанных со своей земли крестьянах, о рабочих в промерзших бараках, вымирающих от эпидемий и непосильного труда, о концентрационных лагерях (ведь прошло уже восемь месяцев после убийства Кирова, и в Ленинграде и в других городах шли новые, очередные чистки), скажи этот человек о липовых процессах вредителей, об арестах агрономов, микробиологов, славистов, о гибели целых отраслей науки, где мы могли быть, уже становились действительно первыми, о разрушении церквей и арестах священников, о лживости пропаганды, — ему не поверили бы, его освистали бы, прокляли бы… Его слова не убедили бы, даже если допустить невероятное — что ему удалось бы эти слова произнести. Такого молодого правдолюбца на месте растоптали бы сами ребята. Не потребовалось бы никакого вмешательства «органов». В приемной комиссии ИФЛИ я узнала, что Аня М. держит экзамены на тот же факультет, что и я. Потом я ее увидела: скорее некрасивая, скуластая, круглые блестящие глаза, похожа на калмычку или башкирку. Прямые, коротко остриженные черные волосы. Я боялась ее, но она заговорила первой, оказалась приветливой и простой. Мы не стали подругами, но все студенческие годы были в добрых, приятельских отношениях. Ее речи — она выступала часто — помню до сих пор. Низкий голос. Высоко вздымается грудь. Говорила не только голосом, вся была напряжена — говорили руки, ноги, все тело. Вся она выливалась в слова. Каждая ее речь звучала как последняя. Она говорила на самой высокой ноте, и одних речи заражали, зажигали, другими воспринимались как аффектация, искусственность. Декламация была одной из особенностей, болезней времени. Позднее я узнала, что Аню многие считали неискренней. Но я была среди тех, кто едва ли не благоговейно воспринимал каждое ее слово. Выступая сама, я старалась подражать Ане. Очень меня озадачило, когда она не сдала какой-то экзамен. Потом еще один. Потом именно это для нее стало нормой. Каждый экзамен становился мукой и для нее самой, и для окружающих. То она болела — она очень много болела. То ей казалось, что еще не все прочитано (а может разве студентка прочитать все?). И стремление к совершенству, благородное само по себе, у нее стало манией. В 1946 году, узнав, что ей нужна работа, я пыталась поручать ей писать статьи для ВОКСа. Разговаривать с ней было всегда интересно — она развивала планы один другого замечательней. Но не сделала ничего, сорвала все сроки, подвела. Она умела подхватывать то, что другой обронил мельком. И это побуждало собеседников больше требовать от себя, больше давать. Вокруг нее создавалось некое силовое поле, и каждый, кто попадал в него, преображался. Она была талантлива, хотя я не могу дать определения этому виду таланта. Лучшей ее подругой в студенческие годы была Агнеса Кун. После ареста Белы Куна Аня и еще одна студентка пришли к Гидашу: «Вы член партии, вы все понимаете, вы должны объяснить Агнесе, что мы не можем с ней встречаться после того, что произошло». Гидаш сумрачно молчал и обещал «объяснить». Вскоре арестовали и его. Аня считала, что она, комсомолка, не должна встречаться с дочерью врага народа. Но поступала она не по разуму, не по убеждению, а по инстинкту. Поступала так, как велела ее добрая душа. Она стала ходить с Агнесой по всем приемным, отправляла посылки ее матери и мужу в лагерь. В 1944 году в ее квартиру вернулся из лагеря муж Ангесы — Гидаш (Агнеса еще была в эвакуации во Фрунзе, еще не получила разрешения вернуться в Москву). Мне было радостно прочитать в очерке Гидаша о Фадееве («Юность», 1964, № 7) упоминание об этом, об Ане и ее матери. Аня готова была жертвовать собой. Но, помогая в то страшное время Агнесе — да и не ей одной, — Аня не понимала (как и я) и не стремилась понять, что же происходило вокруг нее. Аня была щедрой, не заботилась о деньгах, не считала. Ее отец рано умер, мать заведовала отделом в Мосторге. Жили они тогда лучше многих, так как мать обычно сообщала знакомым: «завтра в Мосторге будет то-то и то-то», ее «благодарили». (Сегодня это быт, а тогда, во всяком случае вокруг меня, было исключением.) Анина страстная революционность, возможно, была и полуосознанным стремлением уравновесить, искупить грехи матери. Тогда я была безоговорочно влюблена в Аню, мне казалось, что у нас много общего, родственного. В годы войны я ее не встречала. Она работала в ЦК ВЛКСМ. Аня самоубийственно растратила свое дарование. Из-за полной атрофии воли. Из-за безвольно-жертвенной верности ложной идеологии. Такой же слепой и разрушительной, как ее безоговорочная преданность мужу. Я не назову ее лицемеркой. Она была скорее одномерной, слепо верующей. В каждом случае она убеждала себя в правильности такого восприятия. В декабре 1962 года мы после долгого перерыва встретились в ЦДЛ на обсуждении повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Они с мужем сидели в первом ряду. Когда говорили противники повести, они оба поддакивали. Когда хвалили (тех, кто восторженно хвалил, было гораздо больше), они зло и довольно громко перешептывались. Потом в фойе клуба Аня подошла ко мне и так же, как некогда в коридорах ИФЛИ или на студенческих собраниях, задыхаясь, волнуясь, торжественно произнесла: «Если поверить в то, что ты сейчас сказала с трибуны, то наши с тобой жизни были прожиты зря». Она словно замерзла на много-много лет. Такое часто происходило с заключенными. Много она обещала вначале. Мало воплотилось. И судьба ее не исключение. 1963–19643.
Год тысяча девятьсот тридцать шестой. Кончаю первый курс ИФЛИ. Выборы комсомольского бюро. Называют и мое имя. — Отводы есть? — Нет… Нет… Нет… — У меня отвод. Красивая девушка. Кожаная куртка. На черных прямых волосах — красная косынка. Глаза горят. Девушка с плаката. — Я — против. Рая — еще совсем молодая комсомолка. Пусть проявит себя как рядовая. Что я покраснела — это ничего, но вот не заплакать бы. Тогда — позор. На мне бежевая крепдешиновая кофточка. Не могу же объяснять комсомольскому собранию, что она перешита из подкладки старого маминого пальто. Хорошо бы носить куртку, а не буржуйские кофточки. Но тогда куртка была так же труднодостижимой, как сегодня джинсы. Что за чушь лезет мне в голову в такой важный момент? Надменная девушка, конечно, права. Хотя лучше бы меня уж вовсе не выдвигали, чем так… Мировая революция. Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Спартаковцы. Шюцбундовцы. «Марсельеза» по-французски, брехтовский «Марш единого фронта», «Аванти попола, бандьера росса». И вождь венгерской коммуны Бела Кун. В тридцать шестом году он — один из руководителей Коминтерна. Мировая революция — всечеловеческое братство. Агнеса принадлежит этому братству. Я мечтаю к нему приобщиться. Ее муж — венгерский поэт Антал Гидаш, политэмигрант. На демонстрациях мы пели песню Гидаша: «Гудит, ломая скалы, ударный труд…». Песня и песня, о словах не задумывалась, не мешало даже корявое «идет, гудёт». Мы с ней сблизились. Но так уж и осталось: она поучает, потому что она старше, опытнее, умнее. В 38-м году мы, несколько студенток, решили идти в райком — заступаться за Елку Муралову, дочь «врага народа», исключенную из комсомола. Агнеса предупреждала меня шепотом: — Не делайте глупостей. Ей не поможете, скорее навредите. Детский сад: привыкли кусать одно яблоко. Не понимаете, в какое время живете. Уж если идти — то по одному, а не скопом. Пошли вместе. Елке, действительно, не помогли — ее вскоре арестовали. Но хоть убедились — на этих страшных экзаменах мы не всегда проваливались. Мы с Агнесой подружились, когда ее отца уже расстреляли (она об этом еще не знала), мать и Гидаш были в лагерях, квартиры отняли, она жила с теткой и младшим братом Колей в одной комнате на улице Коминтерна. В названиях улиц еще дотлевало прошлое. Сохранилась и кожаная куртка. Агнеса читает Блока: «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Но ты, художник, твердо веруй в начала и концы…», «Я не люблю пустого словаря…» «Подружились» пишу я, но слышу: «Не для дружб я боролся с судьбой…» Теперь думаю: а ведь это она и о себе. Читала она глуховатым голосом, отрешенно, прекрасно. Блок — ее подарок мне на всю жизнь. И не только Блок.Идет очередное комсомольское собрание. На трибуну вызывают Агнесу. — Говорю здесь в последний раз. Вы сейчас меня исключите. Но сначала выслушайте. Я не знала о деятельности моего отца. Все это, как вы сами понимаете, было секретно. К тому же я несколько лет жила отдельно. Я не могу судить о том, чего не знала. Наверное, раз арестован… Им виднее… Может быть, его куда-то втянули… Гидаша же я впервые увидела, когда мне было десять лет. И влюбилась. Замуж вышла, едва мне исполнилось шестнадцать. Его я знаю, все про него знаю, каждую мысль, каждое движение души. Убеждена, что его арест — это ошибка, и его старые друзья так думают, и эта ошибка будет исправлена. Он ни в чем не виноват. (Восстанавливаю ее слова по памяти, проверив у нескольких очевидцев.) Она шла по коридору к выходу, опустив глаза, но не склонив головы. Обернувшись на миг к нам, ко всем. На тех собраниях прошли десятки людей. На моей памяти только двое отказались осудить арестованных близких. В ИФЛИ, как везде в те годы, пели песни и слагали стихи о мужестве, но другом. То, что потребовалось тогда, на тех собраниях, и что жизненно нужно сегодня, того не было и в «Бригантине». Тому не учили. У каждой из нас были более близкие подруги. Она о моих говорила часто дурно, но спорить с ней безнадежно. Вот что она, например, писала мне во время войны о моей тогдашней подруге: «…Ты понимаешь, Райка, что значит неорганически жить? Это означает, что подлежащее ощущению, естественное в жизни нащупывается рассудком, логикой… Рождаются же люди с сердцем в правом боку, с шестью пальцами, но рождаются и без ноги, что ж тут удивительного в том, если у человека нет души? Тогда остается ему единственное — придумать ее, а, как известно, имитация — вещь непрочная и не ценная, даже в самых искусных людях ее угадывают. Ну да, впрочем, не стоило бы так длинно об этом писать, если б она не сумела так искусно имитировать вам дружбу…» После каждого спора с ней, расставшись, я находила доводы, как мне казалось, убедительные, неотразимые, а под ее взглядом сжималась. Вечер у нее. Читаем Блока. Среди гостей — юноша небольшого роста с густой шевелюрой — Гриша Померанц. Начинается спор о Достоевском. Гриша только что сделал доклад, о котором говорят студенты, аспиранты, преподаватели. Говорили, что Гриша влюблен в Агнесу. Очень нежно к ней относился и Яша Додзин. Выполняя бесчеловечные предписания, и он не мог не участвовать в слежке, в собирании «материалов», которые потом становились «делами», обрекали на тюрьмы. Но многих, очень многих он спасал. Мы считали, что именно он тогда уберег Агнесу. На месте любого мужчины я непременно в нее влюбилась бы. Леня возражает: — Слишком властная для женщины. Да, властная. Особенно во время споров. Мы были тогда запойными спорщиками. Никто никого не слушал(нас не учили, да вряд ли мы бы тогда научились искусству диалога), громко кричали каждый свое. Иногда оказывалось, что все во всем согласны, просто выяснить это в общем шуме невозможно. Но звучит негромкий Агнесин голос — другие замолкают. О чем только не спорили… — Хорошо ли поступила Агнес а Ривьер, героиня «Очарованной души», родив ребенка без мужа? — Кто выше — Блок или Маяковский? — «Как закалялась сталь» — это документ или художественное произведение? — Надо ли выходить замуж за человека, который много старше тебя? — Правилен ли закон о запрещении абортов? (Это был едва ли не единственный закон, в справедливости которого я позволяла себе усомниться.) В 1939–1940 гг. в литературных журналах и газетах шла дискуссия. Критики В. Ермилов, В. Кирпотин, Евг. Книпович, Евг. Гальперина, Н. Вильмонт утверждали: реакционное мировоззрение для писателя всегда вредно. Великие художники прошлого, например Бальзак или Достоевский, поднимались над своими взглядами, становились великими только в_о_п_р_е_к_и ошибочному мировоззрению. Этих критиков на жаргоне того времени называли «вопрекисты». Г. Лукач, Мих. Лифшиц, В. Кеменов, Л. Пинский, И. Верцман, И. Фрадкин возражали: соотношение мировоззрения и творчества сложнее. Художественная правда часто возникала не только вопреки, но и б_л_а_г_о_д_а_р_я консервативным взглядам. Их называли «благодаристы». «Благодаристы» группировались вокруг журнала «Литературный критик», где печатали А. Платонова, уже отовсюду изгнанного. «Вопрекисты» — вокруг журнала «Интернациональная литература». В 1956 году Лукач еще станет душой кружка Петефи, еще успеет побыть министром просвещения в кратковременном правительстве Имре Надя, вскоре казненного. Лукач еще напишет работу «Проза Александра Солженицына», где будет доказывать, что его произведения — вершины социалистического реализма… Но все это — будущее, неведомое, непредставимое. Да я и не о Лукаче, я об Агнесе. Пока что мы с ней — в «до войны». У нас в ИФЛИ дискуссии в самой большой — пятнадцатой аудитории. Мы сидели в зале, продолжали споры на улице, в домах. Агнеса ненавидела Лукача. Одна из ближайших ее подруг — Евгения Книпович — яростная антилукачистка. В студенческие времена мне были ближе сторонники Лукача, быть может, и потому, что среди них — любимый преподаватель Владимир Романович Гриб. Да и на работах Лукача о Флобере, об «Анне Карениной», вообще на статьях в журнале «Литературный критик» мы учились, а над выступлениями Кирпотина смеялись, и тогда ощущали в них убогую вульгаризацию. …После очередного спора о мировоззрении и творчестве Агнеса, махнув рукой: — Да что с тобой спорить? Ты вообще не умеешь мыслить абстракциями. Это верно. Однако ненависть у Агнесы к Лукачу — ненависть и личная. Еще в двадцатые годы Кун и Лукач публично поспорили. Стали врагами. Кроме того, Гидаш тяготеет к модернизму, который Лукач отрицает. Все друзья Гидаша и он сам — бывшие рапповцы, в теориях Лукача не без оснований усматривали недооценку их творчества: он не считал революционность литературным достоинством. — …Да ну их, лукачистов. Читай стихи. И она читает. Слушаем часами. Агнеса лучше нас знала поэзию. Леня всегда хотел прочитать ей свои стихи.
…рыжие, лихие лесорубы,
с топором, со стершимся ремнем,
входят в лес. Растрепанные сосны
сокрушенно машут головами,
облака вихрастые над нами
как мечты, как молодость, как весны…
…Так мы над горестной Варшавой
Удар свершили роковой.
Да купим сей ценой кровавой
России целость и покой!
Из военных писем: Я — Лене, 22.11.41 г. (его часть стояла под Москвой): …Где Аня Млынек, что слышно с Агнесой?.. Марина Иванова (Муха) — Лене, 25.1.42 г. …Леничка, прошу тебя, если ты будешь в городе, позвонить или зайти к Кунам (К4-57-59), чтобы навести там возможные справки об Аньке… Не известно ли что-нибудь об Агнесе?.. Марина Иванова — мне, 11.3.42 г. Раек! Получила ли ты мою открытку относительно Агнесы? Я была так счастлива, что сразу же захотелось поделиться с вами… Вчера получили письмо от Агнески. Она в полном порядке. Их эвакуировали во Фрунзе, и туда же волею судеб эвакуировались Коля, тетя и Эва[7]. Там они случайно и встретились. Такова фортуна! Теперь они живут вместе. Напиши ей до востребования: Фрунзе, Кирг. ССР, почтамт. Ей, видно, дорого обошлось выздоровление. Все это я приписываю замечательному уму, в кот. всегда верила. Верила я и в другое, в большое счастье, когда вопреки всему вера друзей берет верх. Я очень счастлива всеми этими событиями… Я — Лене, 14.3.42 г. …Очень хорошая новость — Агнеска во Фрунзе с тетей и Колей. Написала ей и перевела 150 р…
Четверть века спустя. Ноябрь 1966 года. Сменилась эпоха. В малом зале Дома литераторов обсуждается первая часть «Ракового корпуса». Александр Солженицын в президиуме. Все выступающие призывают опубликовать роман. Анатолий Медников рассказывает, что его отца расстреляли в 37-м году, и продолжает: — …Я был солдатом войск НКВД. В сентябре 41-го года нам приказали арестовывать и выселять из Москвы фашистов, пятую колонну — так нам сказали. Только прочитав «Раковый корпус», я узнал, что это были за люди, что с ними стало потом… Тогда узнал, а теперь забыл и рьяно сражается с теми, кто не хочет забывать. Быть может, он и выводил той сентябрьской ночью из дома Агнесу или Лукача. Одно прошлое наплывает на другое, перечеркивается другим. Сегодня все это выглядит нереальным: Солженицын, прилежно записывающий речи в Доме литераторов, Медников и Кедрина, призывающие опубликовать «Раковый корпус», но так было.
* * *
Агнеса много раз повторяла: самое главное на свете — любовь. «Такой любви, как у меня с Гидашем, нет, не было и не будет». Принимаю как абсолютную истину. Куда нам, ведь наша любовь не проходила никаких испытаний. Нам с Леней она явно покровительствовала, я нравилась ей и потому, что любима. Не помню ни мгновения зависти, ни даже горечи: мы вдвоем, она — одна. Горечь была бы так понятна. Когда я родила дочь Свету, она среди нескольких самых близких наших друзей вместе с Леней пила шампанское в какой-то подворотне на Молчановке около родильного дома. Узнав о гибели Лени 30 августа 1942 года, прислала мне телеграмму. Вслед за телеграммой пришло письмо (16.9. 42 г.): «…Сама ты знаешь, что в такие совсем ужасные вещи никогда не веришь, они кажутся не случившимися, не действительными. Это, пожалуй, атавистическое устройство человеческого мозга. Я все знаю и понимаю, что с тобой — выражаясь врачебно, это некроз, омертвение части души — сердца. Тут уж не до боли. Майка пишет, что ты не плачешь, и это страшно, но я понимаю, какая-то часть тебя умерла вместе с ним. О самой себе не плачут… Несмотря на все разное и всякое, что уже было в моей жизни, у меня оставалась детская вера в ее справедливость, пусть справедливость в конечном итоге. То, что получилось с Леней, с грубой жестокостью попирает это убеждение. Это очень несправедливо, непоправимо несправедливо…» Несколько позже она пишет мне: «…От Гидаша и мамы письма получаю очень хорошие и бодрые. Они настоящие люди, и жизненные силы у них, конечно, поразительные. К Гидашу, как это ни парадоксально, больше всего подходят блоковские слова: „Я и молод, и свеж, и влюблен“. Физически он чувствует себя тоже лучше, работает медбратом в больнице. Относительно него я пишу все время, но ответа нет. Боюсь, что сейчас время несколько неподходящее». Она, видимо, отвечает на мои вопросы. Замечу, что на каждом письме штамп: «Проверено военной цензурой». Мне и в голову не приходило, что мы о чем-то запрещенном. Мы же просто о судьбе Агнесиного мужа. О том, что ее арестовали, о четырех месяцах тюрьмы, этапа она сказала мне один раз много лет спустя. Лев как-то у них начал вспоминать свой лагерный эпизод, смешной. Агнеса яростно его прервала: — Замолчи! Мы с Гидашем об ЭТОМ не говорим никогда! Сразу после ареста Гидаша за него заступились Фадеев, Сурков, Панферов, Ставский и еще его товарищи по РАППу. Быть может, то заступничество и помогло ему освободиться в 1944 году, когда мало кого выпускали. В том же году и, видимо, по вмешательству того же Фадеева освободили из лагеря и Николая Заболоцкого. В новой комнате на Банном переулке я впервые увидела Гидаша. Он был еще очень красив. Тогда я впервые услышала имя Петефи — начинались их переводы венгерских поэтов, это стало трудом на много лет жизни. Тогда оборвалась ее долгая дружба с Аней М. Оборвалась отчасти из-за М. О., мужа Ани. — Ненавижу безделье. Ты не спорь, ты должна понять. Ведь они поднимаются после полудня, когда у рабочих кончается обеденный перерыв. На столе — гора вчерашней грязной посуды, селедочные головы на газете и бутылки из-под коньяка. Если только не сидели накануне в «Арагви». Не могу видеть, как Аня унижается, прощает все ему. Гидаш давно просил меня кончить, больше и я не могу. Да, Агнеса ничего не выдумывает. И все же… После такой дружбы. Аня так самоотверженно и преданно делила Агнесино горе, как же так? Как же после всего этого — разрыв? Агнеса продолжала обличать моих приятелей. Откуда у Н. деньги? Почему К. нигде не служит? Как может Р. жить на средства родителей мужа, которых она еще и постоянно ругает? Агнеса часто оказывалась правой в злых суждениях о людях и событиях. Но уроков из этой ее правоты я не извлекала. Как меня в ранней юности оттолкнули подозрительность, злословие, так это и не изменилось…Вскоре после знакомства Гидаши приехали в Серебряный бор, где мы — я снова вышла замуж — снимали дачу. Гидаш играл с моей маленькой второй дочерью Машей. Спросила Агнесу, почему у них нет детей (такие оба красивые, невольно подумав при этом). — Не хотела и сейчас не хочу. Не хотела еще тогда, когда и представить не могла, что нас ожидало. Третий помешал бы нашей любви. Мешает и другим, только они себе в этом не признаются. О ребенке — «третий». Это напугало. Испуг не проходил долго.
С какими варварскими страданиями
Вытаскиваем мы из варварства человечество! —
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
* * *
— Агнеса, ты занимаешься реабилитацией своего отца? — Меня не спросили, когда его арестовывали и расстреливали, чего же теперь… Пусть что хотят, то и делают. Позднее я как-то напомнила ей эти слова, поразившие меня. Когда значительная часть ее жизни была наполнена Куном — Гидаш о нем писал в стихах и в прозе, мать написала его биографию, Агнеса все это переводила, добивалась изданий, переводила работы самого Куна. — Я так сказать не могла. Ты меня с кем-то спутала. Нет, ее нельзя было ни с кем спутать. Она часто повторяла: — Ни у кого нет такого мужа, такой матери, такого брата. Никто не умеет так работать. Мама любит Гидаша, как ни одна теща не любит своего зятя. Гидаш любит маму, как никогда не любят тещ. Она уверяла, я верила. Она оставалась для меня воплощением красоты, ума, таланта. Восьмое ноября 1956 года. На улицах Будапешта советские танки. Сижу у Агнесы. Снова и снова возвращаемся к тому, что происходит там. Они от своей родины далеко, связей еще мало, знают мало. Растеряны, напуганы. Но их мир, с таким трудом, с такими муками восстановленный, не может, не должен пошатнуться. Быстро возникает своя «защитная» версия. — Провокация. Там верховодит Лукач — значит, провокация. Ты же знаешь, что там вешают коммунистов. Лев переводил мне «Венгерский дневник» Виктора Ворошильского и другие статьи из польских газет о происходящих событиях. С Ворошильским я была едва знакома, но верю я польскому поэту — очевидцу, а не давним друзьям Гидашам. Ведь если внимательно читать только наши газеты, и то можно понять — это не провокация, это народное восстание. В конце 56-го года читала им стихи Бориса Слуцкого «Все мы ходили под Богом…», «А мой хозяин не любил меня…», «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин…». Агнеса морщится, пожимает плечами: — И стихи плохие, и опять кукиши. — Ты не права. Мы жили под Богом. Ну пусть не вся правда, но хоть часть… — Об этом нельзя — «часть». Не можешь сказать всей правды, не берись. Кому с тех пор удалось сказать «всю» правду? В ноябре 63-го года «Литературная газета» опубликовала два стихотворения из этого цикла. Анна Ахматова отозвалась об этих стихах почти так же, как Гидаши в 56-м году: — О Сталине или все, или молчать. Слуцкий не был моим поэтом. Но в его стихах, пожалуй, впервые высказано то, о чем тогда я и многие вокруг думали. Зиму 1957/58 гг. Гидаши провели в Переделкине на даче Натальи Треневой. Дача — по моему прежнему опыту — это раскладушки, уборные во дворах, керосинки, печи. Пожалуй, и не воспринимала это все как неудобства — как недорогую плату за траву, за деревья, за пение птиц, за треск шишек в самоваре. Мы приехали в гости к Гидашам и попали в загородный дом; о таких раньше читала только в романах. Разговариваем о Ремарке — Лев переводил «Три товарища», написал предисловие. Ремарка Гидаши тоже полюбили. Лева рассказывал о Бёлле, которого мы еще не знали. Очередное наше увлечение — Китай. «Пусть расцветают сто цветов!» Хватаем каждый номер китайской газеты на русском языке. Агнеса и Гидаш — первые в нашем окружении — возмущались: — Неужели вы и этому можете верить? Неужели не понимаете, что это грандиозная провокация! В Китае — в отличие от Венгрии — действительно, была и провокация. Они оказались правы.* * *
Была в ИФЛИ другая девушка в кожаной куртке и красной косынке, тоже из прежней высокой номенклатуры — дочь наркома Ирина Гринько. Собиралась замуж за секретаря комитета комсомола ИФЛИ Валю Неупокоева. Славный парень, простой, красивый, веселый. Нас никто специально не призывал выбирать именно его, он всем действительно нравился. Тридцать седьмой год. Бывший нарком финансов Гринько среди обвиняемых на процессе «правотроцкистского блока». У нас митинг, как везде. Не решаюсь смотреть туда, где стоит Ирина, и не могу не смотреть. Так и осталось в памяти ее черное лицо. Студенты и преподаватели ИФЛИ, как и все трудящиеся нашей страны, единогласно требуют расстрела подлых изменников. Я голосовала вместе со всеми. Я очень долго голосовала вместе со всеми. И она поднимает руку, и она за то, чтобы ее отца расстреляли. Валю вызывали в райком, уговаривали: — Зачем ты губишь себя? У тебя все впереди. Собираемся выдвигать, пойдешь на повышение. Оставь ты эту девицу. А нет, пеняй на себя. Сам знаешь, чем может кончиться. Не поддался ни страху, ни посулам, повел ее в ЗАГС. Два года спустя встретила Ирину — теперь она уже Неупокоева. — Как ты живешь? — Перешла на заочный. Сдаю госэкзамены. Валя преподает в школе. Надо зарабатывать — мою полы, убираю квартиры у людей. Только вот скоро рожать. Нам почти одновременно, да? Мы обе — на восьмом месяце. Какие бывают героические люди: его преданность, ее мужество, пройти через такое… — А ты как живешь? — Мне тоже надо зарабатывать… Была учительницей, ушла из-за беременности. Сдаю госэкзамены. Мне неловко сказать, что я хожу в музей изящных искусств, чтобы ребенок родился красивым. Выхаживаю километры по Москве — говорят, будет легче рожать. Меня закармливают мандаринами. Но разве можно даже сравнивать? Совестно за свое благополучие. Неупокоевы уехали в Сибирь, оба работали в университете, оба защитили кандидатские диссертации. Ирина — о творчестве Шелли. После долгого перерыва, когда я о ней ничего не знала, мы встретились в Институте мировой литературы, проболтали какую-то нескончаемую горьковскую сессию. Она готовила докторскую, всем довольна. Они прожили несколько лет в Вильнюсе, Валентин сражался против католичества. «Очень большая сила в Литве». Сын Артем хорошо учился. Родила дочку. Уже не знала никаких лишений, и мандарины, и все, что нужно. Полы если мыла, то у себя в квартире. Потом еще несколько раз встречала Ирину мельком, наталкивалась на ее статьи, плоские как доски. Она уверенно продвигалась вверх по новой карьерной лестнице, стала незаменимым специалистом по литературным связям, представительствовала на международных симпозиумах, на конференциях у нас и за границей. Руководила подготовкой многотомной «Истории всемирной литературы». Валентин несколько позже, чем она, защитил докторскую. Сын кончил университет. Летом 1977 года Ирина умерла. Шестидесяти лет. А год спустя Артем, родившийся в то страшное для родителей время, убил любовницу отца. Валентин требовал для сына высшей меры. Никому не ведома связь причин и следствий, немотивированные трагедии происходят и в семьях благополучных, без проклятого тридцать седьмого года в предыстории. И все-таки, мне кажется, это продолжают взрываться те, давние мины. Хотя Ирина, в отличие от Агнесы, была не очень умна, не глубока, совсем не артистична, но эти сильные, волевые натуры кажутся мне родственными. Ирина прошла по далекой окраине моей жизни, Агнеса долгие годы была рядом.Работаю в редакции «Иностранной литературы», вхожу в редакционные советы издательств «Прогресс», «Художественная литература». Редакторы подчас знают то, чего не видят читатели. Все чаще слышу: — У Гидашей мертвая хватка. Вырвут и самые большие тиражи, и самые высокие гонорары. Отстраняю это от себя: Агнеса из нашей общей бескорыстной юности. Блок, гордая красавица, трагедия — и денежные расчеты? Спрашиваю ее. Отвечает невозмутимо: — Как же ты до сих пор не поняла, что деньги — это свобода, это независимость. Да, мы хотим, чтобы у нас было много денег. Мы их не крадем, а зарабатываем, трудимся с утра до ночи, без выходных, без отпуска. И не пропиваем, как эта редакционная шатия. Кстати, какой негодяй тебе все это напел? Мы заслужили. Мы оба хлебнули баланды. Достаточно было и горя, и нищеты. Кто посмеет нас осудить?! Я не посмела. Но у меня с молодости осталось: стремиться к богатству дурно. И стыдно говорить о самом себе: «заслужил».
* * *
— Ни в какую Венгрию я не поеду. — А как же Гидаш? У него родина — там. Живет здесь тридцать лет, а по-русски говорит плохо. Ты же знаешь, что для поэта язык. Они поехали в первый раз ненадолго. Вернулись очень возбужденные. Агнеса не ожидала, что Гидашу это окажется так необходимо. Отца она любила, об отце помнила. Но д_о_ч_е_р_ь_ю Б_е_л_ы К_у_н_а в то время можно было стать снова только в Венгрии. Ехать им или оставаться — это не просто личное, а государственное дело. Правительство Венгрии настаивало, чтобы семья национального героя жила на родине. Мать и Гидаш хотели в Будапешт. Несколько месяцев колебаний. Наконец решились. Возвращение вернуло их в ту высокую номенклатуру — уже венгерскую, — из которой они здесь оказались вытолкнуты тридцать седьмым годом. Им сохранили квартиру в Москве — не единственным ли? И устроилась жизнь на два дома, на две страны. В Москве множество договоров — однотомники, двухтомники, собрания сочинений венгерских писателей прошлого и настоящего. Приезжают в Москву не реже двух раз в год. Могли бы поехать куда угодно — они же нигде не были, но едут сюда. Первые впечатления о Венгрии. — Все живут прекрасно. Всего вдоволь. Нашим бы так! (Венгры для Агнесы были «они».) Но люди узкие, вот уж мещане так мещане. Бездуховны. Подчас проснешься — и хочется немедленно очутиться в Москве, с вами, глотнуть свежего воздуха. Там не читают друг другу стихи. Там в гости зовут, чтобы показать новую квартиру, новый сервиз, угостить особенным тортом. Агнеса, как обычно, яростнее, напористее, но Гидаш ее не поправляет. Многое от них явно закрыто. В Будапеште у них — правительственный особняк, но дома, и такого, какой был на улице Коминтерна, на Банном, на улице Фурманова, — дома нет. «Тут и весна, и сирень, и каштаны, и солнце, и птицы поют — только со всеми существами живой и мертвой природы не поговоришь», — пишет нам Агнеса (3.5.65). О других венгерских писателях — даже о Дьюле Ийеше — слышим от них чаще дурное. Наши друзья, навещавшие их в Венгрии, рассказывают об их одиночестве. Гидаша не считают там первым поэтом, как привыкли считать мы здесь. Есть и явные недоброжелатели, называющие их «агентами Москвы». Мы тем временем начинаем узнавать о Куне совсем не то, что слышали в юности: о беспощадном реввоенсоветчике, который вместе с Землячкой залил кровью Крым, приказал расстрелять белых офицеров, добровольно сложивших оружие, когда он дал им слово, что им сохранят жизнь. Мне рассказывали, что он продолжал свирепые расправы и позже, когда приезжал в Крым. В частности, когда начались расстрелы заложников после убийства Кирова. Но Агнесу мы уже об этом не спрашивали — дочь не должна отвечать за отца.Лев писал о Брехте; Гидаши, как и некоторые наши приятели, читали рукопись, очень хвалили (книга «Брехт» вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в 1966 году). Тогда и возникла мысль — Лева должен написать о Гидаше. У них — избирательное сродство, это Левина внутренняя тема, лучше него никто не напишет. С поразительной быстротой был заключен договор в издательстве «Советский писатель». Лева учил венгерский, чтобы услышать звучание подлинника. Гидаш часами рассказывал ему свою жизнь (кое-что из этих рассказов он сам потом опубликовал). В каждый их приезд Лева читает им написанные главы. Агнесе и герою нравится. Меньше нравится в издательстве. Там хотят «выпрямить» биографию, ареста словно и не было. В 68-м году, когда Льва за письмо в защиту арестованных исключили из партии, уволили из института, все его работы, в том числе и рукопись о Гидаше, уже подписанную Главлитом, запретили, набор рассыпали. Там были и хорошие куски: ранняя биография поэта, само зарождение поэзии, некоторые размышления о стихах. Как бывает с авторами таких монографий, Лев влюбился в своего героя. Он «вчитал» в жизнь и в стихи Гидаша больше поэзии, больше доброты, больше щедрости. Тем самым невольно изменил масштаб, пропорции сместились. В этой рукописи запечатлена и часть нашего общего прошлого. Тогда еще не до конца преодоленного (преодолимо ли оно до конца?). Думаю, что сегодня многое в рукописи о Гидаше перечитать не хотелось бы. Во время этой работы, в 1965–1967 гг., мы по-новому сблизились. Они приезжали; у нас готовили пельмени, любимое блюдо Гидаша. К ним очень хорошо относилась моя мама, они принадлежали ее прошлому, и они к ней были нежны, ласковы. Обедали мы с ними не на кухне (где кормили всех гостей, в том числе и всех иностранцев), а в большой комнате. Они привозили целые коробки лекарств для наших многочисленных родных, друзей, знакомых. Привозили и подарки. До сих пор ношу туфли, подаренные Агнесой. Я посылала им свои книги. Неизменно получала письменные либо устные отзывы доброжелательных читателей. С критическими замечаниями. По-прежнему спорили. Бывали и мы у них. Встречали там приятелей времен ИФЛИ: Паперных, Асю Берзер, Игоря Черноуцана, Марину и Сергея Ивановых. Случались размолвки. — Это правда, что ты писал и выступал в защиту Даниэля и Синявского? Лева, ты потрясающе наивен. Седеешь, а все тот же мальчишка. Не пора ли наконец повзрослеть? Как изменяются близкие — не видишь. Проходило 6–8 месяцев между нашими встречами, порою я замечала, как тяжелеет у Агнесы подбородок, как начинают проступать следы болезней — она болела все чаще. И просто следы времени. А примемся разговаривать, минутами казалось — та же Агнеса, десятилетия и не пробежали. И сейчас думаю, что прежняя Агнеса не полностью исчезла в новой сановной даме. В августе 1970 года умер наш близкий друг Абрам Александрович Белкин. Агнеса писала нам: «…Это ведь мы сами уходим, только постепенно. Сказать ли, что так легче? Вряд ли, по-моему, трудней… Я ведь не была с ним, с А. А., так близка, так часто близка, как вы, наверное, я даже во многом была с ним не согласна. Причем на разных этапах жизни. Ни тогда, когда в ИФЛИ он ставил вопрос: а чем Фадеев выше Толстого (такой догматической наивностью я не страдала никогда), ни позже, когда он многие вопросы повернул на сто восемьдесят градусов. Но суть была не в этом. А в его честности, доброте и человечности всегда — и тогда, и позже. Он был одним из тех людей, которым я благодарна на всю жизнь, так активно по-доброму относился он ко мне в самые трудные минуты моей жизни… Это для меня трудно, что все меньше остается людей, которым я на всю жизнь благодарна… А еще я любила его наивность. При всем своем уме, способности к абстрактному мышлению, он постоянно совершал дерзновенно наивные поступки и просто потому, что ему даже в голову не приходила возможность подлой реакции на них…»
Я уже не внимаю всему, сказанному Агнесой, безропотно, все чаще противостою открыто. И слова в приведенном письме «он многие вопросы повернул на сто восемьдесят градусов» относятся и к нашим тогдашним спорам, подчас ее даже тревожившим. («Райка, ты хоть напиши, а то я черт знает что буду думать об изменении отношений…». Письмо 1965 г.) Нам и раньше многие пытались «открыть глаза» на Гидашей. Зряшное это занятие. Связи с людьми, особенно тянущиеся с юности, — нечто органическое. И то, что должно отмереть, — отмирает в свое, для каждого свое, время. Если доживешь. Решение приняли они. За долгую жизнь я теряла друзей и знакомых. С причинами и без. Разводила жизнь. В этот раз решали Гидаши. Разумеется, становилось все труднее встречаться и с нами, и с функционерами Союза писателей, ЦК комсомола и партии. Они восторженно приняли «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и противопоставляли ее книгу произведениям Солженицына, которого не принимали совсем. Евгения Семеновна Гинзбург была на Колыме вместе с Иреной Кун — матерью Агнесы; это их тогда сближало. И в квартире Евгении Семеновны я в последний раз видела Агнесу. Гидаши ушли из нашей жизни в 1975 году. После того, как в США была издана книга Льва «Хранить вечно». Я спросила однажды у нашего общего с ними знакомого, почему они перестали нам писать, звонить. — Отношения с вами их давно уже стесняли. Книги и некоторые поступки Льва могли отдалить нас от многих знакомых и друзей, которые оставались, хотели оставаться в прежнем мире. Однако отдалились лишь очень немногие. Поэтому уход Гидашей ударил. Одно из писем Агнесы 1942 года заканчивалось словами: «Не забывай меня, Раечка!» Много лет спустя она сказала мне: — Твое стремление вспоминать все, связывать начала и концы, попытки найти связи, единства — это разрушительное стремление. В трагическом мире невозможна гармония и нельзя к ней стремиться. Она снова оказалась права. И сейчас, думая о ней, я пытаюсь «соединять начала и концы». Уйдя из моей жизни, она не ушла из моей памяти. И во мне временами просыпается боль, которую зовут Агнеса. 1979
4.
Когда в 1935 году я переступила порог ИФЛИ, нас, первокурсников, встретили собранием. Парень на трибуне, который произносил приветственную речь, — таким я впервые увидела А. К. Лицо почти открыточное, плакатное: русые волосы, голубые глаза, ладный. И весь округлый — в движениях, в словах, в поступках. Говорил, конечно, безо всяких бумажек; читать текст, заранее написанный и утвержденный, — это началось позже. Говорил хорошо, свободно, убежденно. Никогда не видела я его с баяном в руках, но почему-то очень ясно себе представляю деревенскую улицу и К. в смазных сапогах, с баяном. Году в 48-м я видела его мать. В большой квартире она сидела как-то сбоку, у ног — узелок, в темном платке. Словно с картины позднего передвижника «В гостях у сына». Знаю, что он исправно посылал матери деньги, всячески помогал. В одном из многочисленных студенческих капустников были такие слова: «Зал стоя поет биографию К.». Он был почти бессменным секретарем комитета комсомола нашего факультета, каждый раз отказывался (такой был ритуал, как в танце, нельзя было не отказываться), а его все же выбирали, и когда председательствующий предлагал ему рассказать о себе, все хором кричали: «Знаем, знаем!» На одном из собраний и он сказал, что у него арестовали отца. То ли колхозного сторожа, то ли завхоза. Я не запомнила именно это собрание, так много было тогда арестованных отцов и матерей. Только твердо знаю, что он об аресте сообщил. Отца своего осудил. К. блестяще окончил ИФЛИ в 1939 году. Вероятно, из-за арестованного отца его не оставили в аспирантуре. Направили преподавать в Сталинград в пединститут. Он читал лекции на левой стороне Волги — влюбленные девицы за ним. Перемещался на правую — они за ним. Приехав в Сталинград и установив, что посуду надо мыть, он купил 30 стаканов, ставил грязные на шкаф, мыл раз в месяц. Выдумкой очень гордился. Однако холостяцкая жизнь надоела. Он и женился впопыхах на одной из влюбленных в него девушек. И почти сразу понял — не то. Как только началась война, К. пошел на фронт. В октябре 41-го его ранили под Москвой. Госпиталь эвакуировали на Урал. Там он стал секретарем комитета комсомола, вскоре — секретарем райкома; мужчин очень мало, следующая ступенька — секретарь обкома комсомола по пропаганде. В 1944 году К. приехал в командировку в Москву. Мы встретились случайно, на улице. А в это время в ВОКСе искали заместителя председателя. Я рассказала о К. Владимиру Кеменову. И через несколько дней последовало решение о назначении его в ВОКС. Работал он там, как и везде, прекрасно. Легко, умно, сразу схватывал суть дела. Не кричал, не нажимал, но всегда умел добиваться того, чего хотел. Его любили подчиненные. В это время пришла работать в ВОКС моя подруга по ИФЛИ. К. влюбился. С. оказалась не только любимой, но и необходимой ему женой, она многому его научила — тому, что он пропустил в деревенском детстве и что наверстать по книгам трудно. Его по должности стали приглашать на правительственные приемы. Мы сидели и ждали его возвращения из Кремля. На вопрос, как была одета жена Молотова, он ответил: «В плюшевом платье». Он был у Сталина с финской делегацией. Всегда обо всем подробно рассказывал нам, ничуть не гордился, не заносился, и все время было ощущение — хоть он и попал в высшие сферы, он остался нашим. Он всегда помогал, если его об этом просили. Правда, и тогда мы считали — помогает не от сердца, от ума — но ведь помогает. В 1947 году Льва Копелева выпустили из тюрьмы. К. только что получил прекрасную отдельную квартиру, и мы повезли к ним Леву, в потертой шинели, только что оттуда, с того света. Встретились свои, ифлийцы; по-разному сложилась жизнь. После того как Леву два месяца спустя снова арестовали, К. давал его жене машину — перевозить детей на дачу. И в том же 1947 году над ним разразилась гроза. Ему предъявили два обвинения: в одной из анкет он не написал о том, что отец был арестован. И зимой 1940 года во время финской войны он (в частных письмах) недоумевал: почему наша армия терпит поражения. Почта перлюстрировалась, письма попали в НКВД. Подобные сомнения были совершенно недозволенными. Его исключили из партии и сняли с работы. Исключали сразу в Комиссии партийного контроля при ЦК. Оттуда он приехал прямо к нам, был убит, растерян. Я считала все произошедшее с ним глубоко несправедливым, нисколько не вдумываясь в абсурдность самого обвинения. Просто — он наш, он хороший и ни в чем не может быть виноват. Но решение-то вынесли верховные жрецы. Значит, приходится подчиняться (никакой мысли о протесте у меня и не возникло, я не представляла себе тогда, что такое вообще возможно, а ведь именно тогда друзья Левы протестовали против его ареста). И лучше бы подчиняться, как учили газеты. Я уговаривала его уехать куда-нибудь на новостройку. Но такие советы ему в тот момент вовсе не подходили. О внутренних механизмах меняющейся системы он знал несравненно больше, чем я. Знал, в частности, и то, что «исправляться» на стройке — это этап прошедший, давно прошедший. Возвращаться в номенклатуру надо теперь по-иному. И он начал в самых неблагоприятных условиях, какие только можно было тогда представить, строить свою третью судьбу. И построил успешно. Еще в Сталинграде он писал диссертацию о Шелли. В ВОКСе он собрал материалы для диссертации об англо-американской реакционной критике. Работа была готова, когда он перестал быть начальником. Зав. кафедрой МГУ Р. Самарин, хотевший принять работу к защите, в новых обстоятельствах, разумеется, отказал. К. приступил к третьей диссертации. Он нигде не служил около двух лет. Помогали влиятельные друзья, среди них — Симонов. Каждый день с утра К. шел в Ленинку, сидел там целые дни. Несколько раз мы там встречались. Вместе уходили. …На улице Грановского говорит мне: — Постоим минут десять. Посмотри на этих людей. Внимательно. Один за другим тучноватые мужчины вылезают из машин, входят в ворота. Возвращаются с одинаковыми свертками под мышкой. — Что они несут? — Пайки. Одинаково одеты. Тогда еще не было ондатр — шапки серые, барашковые. Потом я много лет видела этих людей в Жуковке. Звонила по телефону-автомату около их забора, а они входили и выходили из плотно запертых ворот с бдительным вахтером. Теперь идет второе, а то и третье поколение номенклатуры, они одеты во все заграничное, часто спортивны, подтянуты. Внешне труднее отличимы, быть может, инженер, быть может, писатель, а быть может, и диссидент… К. взяли редактором в журнал «Театр», он пришел туда со своей темой, с законченной работой, которую вскоре защитил и издал. Вступил в Союз писателей. Его перевели в издательство «Искусство», где он был последовательно редактором, зам. главного редактора, главным редактором и, наконец, директором издательства. Году в 55-м его снова приняли в партию. Он писал много статей. Писал книги. В те годы мы почти не виделись. Писал он и «оттепельные» статьи из наиболее осторожных — шажок вперед, еще полсантиметра вперед. И был как сапер — очень точен в своих продвижениях, ничего рискованного. Среди анекдотов, порожденных XX съездом, был такой. Вопрос анкеты: «Колебались ли в проведении линии партии?» Ответ: «Колебался вместе с линией». Так вот, К. продвигался вместе с линией. Сразу после XXII съезда опубликовал главу из книги об Афиногенове — о том, как Сталин лично редактировал пьесу «Ложь». Факты в статье приводятся очень важные для понимания происходивших процессов. Критик предоставлял читателю делать выводы, подчас уводил читателя на неверный след. Но, повторяю, обнаруженные и опубликованные факты таковы, что они дают возможность выводов весьма радикальных. Статья вольно или невольно подводит к важнейшим вопросам: когда и как начались перерождение, ложь? Позиция К. была почти все время где-то в центре. Впрочем, ведь и сам центр передвигался. То обстоятельство, что и он пострадал, укрепляло его положение в эти годы. Он поругивал и Софронова и подонков помельче в мире театра, типа Зубкова или Куприянова. Я вновь оказалась рядом с ним в 1961 году, когда его уговорили стать председателем секции критики Союза писателей, а меня выбрали ответственным секретарем. Опять я почувствовала, как хорошо с ним работать, какой он дельный, умный человек. И в секции он поддерживал прямую и косвенную критику журнала «Октябрь», тогда воплощавшего сталинизм, все самое дурное в политике и искусстве. Вместе с тем он по-прежнему не хотел без надобности ссориться с начальством. Рассматривали заявление Преображенского — заместителя главного редактора журнала «Юность»— о приеме в Союз писателей. Его статьи не соответствовали самым низким требованиям к литературной критике. Никакой не писатель, ни крупицы собственной мысли, своего слова. Публикатор, компилятор, человек доброжелательный. Но принимать его не надо было. А К. во что бы то ни стало нужно принять Преображенского. Еще и потому, что мы не приняли тогда Старикова, Чалмаева и еще некоторых самых ярых черносотенцев. За «необъективность» в рассмотрении дел по приему в Союз наше бюро секции критики Союза писателей получило замечание. К. произносит длинную, как всегдаумную речь. Не помогает. Большинство членов бюро — против него. Андрей Турков резко выступает против Преображенского. Тогда К. идет на такой ход: «Сейчас в нашей литературной жизни большую роль играют произведения молодых — Аксенова, Гладилина, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной. А кто целую группу молодых вывел в свет? Кто их приветил, напечатал их первые незрелые произведения? Будущий историк не поймет этого решения нашего бюро, отнесется к нему отрицательно». Встает флегматичный, талантливый Владимир Викторович Жданов: «Будущий историк многого не поймет в нашей действительности. Но, пожалуй, перед ним возникнет столько вопросов более важных, что он не доберется до дела Преображенского». Вопрос отложили, и на следующем бюро К. добился большинства. Перед и особенно после встреч Хрущева с интеллигенцией в декабре-марте 1962–1963 гг. издательство, во главе которого стоял К., ругали: не одобряли публикацию собрания сочинений Эйзенштейна; резко критиковали брошюру Турбина «Товарищ время и товарищ искусство». Сейчас Турбин благоденствует, стал постоянным обозревателем журнала «Молодая гвардия». У К. нет ни одного формального признака бюрократа. Я во всяком случае не видела и не обнаружила. Он помог очень многим талантливым, вступившим в литературу критикам — Инне Соловьевой, Владимиру Саппаку, Вере Шитовой, Майе Туровской, тому же В. Турбину; он их печатал, и они относились к нему с большим уважением и благодарностью. А все-таки на всех поворотах и поворотиках он был с теми, кто наверху. Несмотря на свой собственный печальный опыт, он, вероятно, оброс своего рода психологическим панцирем, который многое не пропускает, о многом запрещает думать, запрещает задавать вопросы. 10 марта 1963 года собралось наше бюро. Мы с ним по старому воспитанию приходили вовремя, и не раз получалось — мы двое сидим, а другие опаздывают. Так и в этот день. Сидим, ждем. И я спросила его — ну, как? Он посмотрел совсем мутным взглядом и сказал: «Очень плохо. Надо хуже, да некуда». Когда все собрались, он начал рассказывать. По своей записи — он был в Кремле на очередных встречах H. С. Хрущева с интеллигенцией. Бесстрастно, очень подробно и точно (я потом сверила по записям других присутствовавших там людей). Говорил, не выражая ни словом, ни жестом, ни интонацией своего отношения. Разошлись все очень мрачные. А потом он уже спокойно действовал применительно к новым условиям очередных заморозков. Был он членом жюри Международного кинофестиваля летом 63-го года. Советская делегация встретилась с оппозицией внутри собственного лагеря. Чехи, поляки, кубинцы, коммунисты-итальянцы выступили за присуждение премии фильму Феллини «8 ½». К. звонил по телефону разным высоким лицам, но сделать ничего было нельзя. Пришлось дать премию (фильм на широких экранах не показали, умеренно критиковали в статьях). В таком труднейшем положении К. умудрился ничего не растерять из политического капитала, а еще и приобрести. Тогда же был решен вопрос о роспуске секции критики. К. перевели на работу ответственного секретаря Комитета кинематографии. Еще ступенька вверх. К тому же он стал и секретарем нового правления Московского отделения. Одновременно с Г. Марковым, заменившим Щипачева как «либерала». 22 декабря 62-го года было то обсуждение повести Солженицына, о котором я уже упоминала. Зал был переполнен. Горячий накал страстей. Выступали в большинстве своем люди отсидевшие. К. председательствовал. В самом конце выступила и я. И вмешалась в тот спор о Солженицыне, который начался до опубликования повести и продолжался долго. Почему не изображена «главная трагедия» — так многие это формулировали — трагедия арестованного коммуниста, оставшегося верным идеям партии и в тех условиях? Я сказала тогда, что кроме права каждого писателя писать о том, что близко именно ему, есть и другое обстоятельство. Для чего существует партия? Для себя самой? Как только партия перестает существовать для Ивана Денисовича и тысяч таких, как он, партия вырождается в антинародную секту. И это относится не только ко всей партии в целом, но и к каждому ее члену. Зачем вступил? Для личного преуспеяния, как в правящую партию, или чтобы людям было лучше жить, чтобы Ивану Денисовичу жилось по-человечески? Здесь меня прервал громким криком Рудольф Бершадский: «Так что ж, по-вашему, у нас не было партии? Она перестала существовать?» (Бершадский много раз ездил за границу. Во время поездки в Конго в 1969 году корреспондентом «Литературной России» он был уличен в спекуляциях черной икрой. По возвращении он получил в ЦК выговор с предупреждением.) В тот момент по такому обвинению («не было партии») уже снова можно было организовать «дело». В своей заключительной речи К. осторожно поправлял все «крайности»: он возражал В. Померанцеву, сравнившему наши и фашистские лагеря; меня он взял под защиту, заявил, что «Бершадский не понял Орлову», что в программе КПСС записано — все для человека, что именно это я имела в виду. В подобных случаях и таким образом он заступался не только за меня. 21 марта 1963 года бюро секции критики встречалось со студентами в коммунистической аудитории МГУ. Тема — «Споры о современной литературе». К. уже произнес вполне конформистскую речь. Он старался, как обычно, отступать от стандарта, рассказывал о Бразилии, о международных фестивалях, словом, допускал всяческие изыски. Но здесь это не помогло. Слушатели пришли только с главными вопросами: «Что снова произошло в нашей культуре?» Речь прерывали репликами: «А ваше мнение?», «Вы видели?» — это в связи с фильмом «Застава Ильича», «А мы не верим!» Вопросов было множество, в том числе такие: «Почему встречу в Кремле называют исторической, ведь не было же ничего нового, только старое!», «Справедливо ли, что печать, радио, телевидение предоставлены только обвиняющим, но не обвиняемым?»; «Почему боятся буржуазной идеологии? Разве наши идеи слабее?»; «Вы, наверное, не в первый раз выступаете с такими речами. Но посмотрите на зал, послушайте, что говорят в зале. Вы не можете утверждать, что зал на вашей стороне. Ведь пять шестых зала, не меньше, стояли и будут стоять за Евтушенко, Вознесенского, Эренбурга». Когда К. говорил, что авторы «Заставы Ильича» готовят второй вариант, девочка с косичками громко закричала: «Какая же может быть правда в двух вариантах? Ведь это же художники?» Была и такая записка: «Скажите, пожалуйста, почему это все статьи и выступления нашли живой отклик в ваших сердцах и не нашли в наших?» Между столом президиума и аудиторией была пропасть. И ни гладкая речь, никакие ухищрения не помогли. Студенты видели перед собой человека чуждого, им враждебного. И не помогла биографическая справка об аресте отца. Последовала записка: «Так вы, что же, поверили, что ваш отец враг?» И когда К. — это ему не свойственно — очень разозлился и начал почти кричать: «Мы остановили немцев под Москвой!» — довод на ребят, сидевших в зале, не подействовал. После кинофестиваля в одной итальянской газете было написано: «Мы думали, что СССР — это нация кочетовых, а между тем это нация таких, как А. К.». Узнав об этой фразе, человек, много лет хорошо знавший К., заметил: «По-моему, для нашей страны было бы большим счастьем, если бы у пульта управления во всех областях были бы поставлены такие, как А. К. Если бы им была дана свобода действовать. Или хотя бы им сказали: „Не бойтесь!“» Пока им на каждом шагу, на каждом новом повороте твердят: «Бойтесь! Бойтесь! Бойтесь!» 196312. ВОКС
Когда я впервые пришла в ВОКС, в большом кабинете, отделанном красным деревом, сидел молодой человек в расстегнутой рубашке, без галстука, сидел не в резном кресле, а на краешке стола, болтая ногами. Такого начальника я видела впервые. До тех пор со мною разговаривали (после тщательного изучения моей анкеты) безликие, высокомерные, подозрительные. Для которых я была никто (может быть, я и преувеличивала разницу, хотя я и сейчас думаю, что Владимир Кеменов того времени несопоставим с теми людьми, перед чьими столами я стояла в Наркоминделе, в Совнаркоме, в ЦК партии). Там — бюро пропусков и длинная лестница преград — от одного к другому. А здесь — сразу прямо к руководителю учреждения, безо всяких проволочек. Мне не пришло в голову, что роскошный швейцар с галунами — не остался ли он от прошлых владельцев? — всех сотрудников знал в лицо, а о вновь приходящих предупреждал. Робко спросила: — Что здесь делают? Что я буду делать? — Надо связаться с Роменом Ролланом. Он где-то в неоккупированной зоне Франции. Задохнулась — это я, я буду писать своему любимому писателю?! — Еще, — продолжал Кеменов, — надо попробовать наладить в Китае выпуск газеты, в которой рассказывалось бы о нашей культуре. Он видел, какое действие произвели его слова. Владимир Семенович Кеменов (мы его, как и всех старших, называли «ВЭЭС» — по первым буквам имени и отчества) всегда или почти всегда сам верил в то, что говорил нам. Потому и мы ему верили. Никакого письма Роллану я не написала. Стремилась к героическим свершениям, а они все откладывались: после школы. После института. Пора бы им начаться. Может быть, здесь? Хотела быть со всеми вместе. Хотела самой массовой профессии — учительницы. («Уйду отсюда, — говорила моя подруга по ИФЛИ и во ВОКСу, — спросят мою дочь во дворе: где работает твоя мама? Не отвечать же ей — в ВОКСе. Мамы работают в школах, в больницах, на заводах…» Она ушла позже нас всех.) Хотела быть как все. А попала в элитарное заведение. Даже само название никому не понятно. В_с_е_с_о_ю_з_н_о_е? Да. О_б_щ_е_с_т_в_о? Нет, государственное учреждение, маскирующееся под общество, потому что подобные организации в других странах действительно общественные. К_у_л_ь_т_у_р_н_о_й с_в_я_з_и с з_а_г_р_а_н_и_ц_е_й? Отчасти. Ведь «связь с заграницей» тогда — словосочетание зловещее, из статей о бдительности, из стенограмм процессов. Позже узнала, что из приговоров. Но мы-то — дозволенная, официальная связь. Наша. Пытаемся связать хороших людей здесь с хорошими людьми там. Помочь им понять друг друга. Вот мне поручили на театральной секции рассказать о новых американских пьесах. Собрались лучшие актеры и режиссеры. Волновалась. Тщательно готовилась. Не на все вопросы могла ответить. Это было ведь время информационного голода. Даже наши скудные сообщения давали хоть какие-то сведения. Потому слушатели благодарили. А я училась. Значительная часть работы была обыденной и просто скучной. Мы посылали в разные страны выставки, книги, фотоальбомы, статьи. Снабжали пропагандистскими материалами общества дружбы с СССР. В США — я работала в отделе англо-американских стран — они назывались «Американо-русские институты», сокращенно АРИ. Большинство сотрудников были молоды. Мы веселились, часто встречались вне работы, долго засиживались с надобностью и без надобности в особняке на Большой Грузинской, где теперь посольство ФРГ. Председатель ВОКСа Кеменов в тот период дружескими и идейными отношениями был еще тесно связан с «лукачистами» — последователями венгерского философа Георга Лукача, жившего в СССР в эмиграции. С 1955–1956 гг. после кружка Петефи имя Лукача стало одним из символов международного «ревизионизма». В 1939 году Кеменов был директором Третьяковской галереи, а М. Лифшиц его заместителем. Через год в ВОКСе собралось полным-полно «лифшицианцев» — Т. Коваленская, Н. Козюра, И. Фрадкин, А. Штейн. Кеменов совершенно не смотрел на анкеты. Ему хотелось окружить себя людьми, которые понимали бы и воплощали бы его замыслы, чуткими слушателями, такими, кого не стыдно показывать и своим, и зарубежным мастерам культуры. Он верил нам, когда мы приводили своих друзей. Мне довелось слышать в ВОКСе людей поистине замечательных. Слушательницей я оказалась плохой, запомнила мало. Но блистательные фейерверки ума и таланта Сергея Эйзенштейна — он постоянно приходил к нам за книгами — или Соломона Михоэлса не могли пройти уж совсем мимо. Задолго до того, как советские читатели прочитали роман «Падение Парижа», я в 1940 году в ВОКСе слушала Эренбурга. Он четыре часа рассказывал, и передо мной возникало победоносное вступление немцев во Францию, эвакуация (не впервые ли я тогда услышала это слово?!), убитые, раненые люди, недоеные коровы… Но больше всего я получила от своих сверстников. Многие были подобно мне весьма невежественны, и мы сообща пытались ликвидировать культурную безграмотность. Своих я не стеснялась. Мы отчаянно — как в институтские годы — спорили, хотели понять, нас часто уводило на ложные пути. Мы вместе одно теряли, другое постигали. Видимо, не случайно из ВОКСа вышло десятка полтора докторов наук, я говорю не об ученой степени, а о специалистах, о вкладе в науку. Не случайно и то, что среди самых близких друзей, с которыми я прожила жизнь, остались и воксовцы… В ВОКСе я одновременно и училась и разучивалась. Разучивание было прежде всего нравственным. Посылаем за границу статью. Скажем, о литературе. Мы могли говорить между собой и с автором о чем угодно: хорошо или плохо написана, талантлива или бездарна, подходит ли для заграницы. Но не помню случая, чтобы возник спор: правдива ли статья? Соответствует ли реальности? Пожалуй, никто из нас тогда не стремился быть, стать самим собой. Не занимался самоусовершенствованием. Не было такой идеи, не возникало такой потребности. И мы все же были свободнее, чем наши начальники — заведующая отделом Лидия Кислова или тот же Кеменов. («Я вовсе не хочу руководить ВОКСом. Я хочу писать о Сурикове», — говорил он мне не раз.) Не обманывал, скорее обманывался. Он был очень честолюбив — счастлив, например, когда поехал на Тегеранскую конференцию. Хотел быть наверху. Думаю, что его несомненная образованность, которую мы очень ценили, очень ею гордились, помешала ему продвинуться выше должности заместителя министра культуры. Но это гораздо позже. Мы реферировали поступающую в спецхран ВОКСа иностранную прессу. Составляли особые бюллетени. Хотели внести некую разумность в процедуру: к нам поступали бюллетени из других учреждений — из ТАСС, во время войны — из Совинформбюро. Мы многократно предлагали отменить дублирование, чтобы ВОКС — и только ВОКС — занимался бы культурной жизнью за рубежом. Но все это было тщетно: дублирование продолжалось. Я была в привилегированном положении — я читала, могла прочитать в иностранных книгах, статьях о том, что происходило у нас и в первые годы революции, и в 1930-м, и в 1937—1938-м, да и в то самое, военное время. Еще до войны я стала читать подлинные тексты речей Лея — начальника Трудового фронта у Гитлера. Меня удивляло постоянное обращение к рабочим, к пролетариату, слово «товарищи», проклятия англо-американскому (и жидовскому) капиталу. Удивляло, но ни на мгновение не родилась мысль о сходстве. Моя привилегия никак не реализовывалась. Я читала, но ум и душа ничего этого не воспринимали. Скорее — выталкивали. Картина нашей жизни, нарисованная иностранцами, казалась искаженной настолько же, насколько искажали людей тогдашние комнаты смеха в парках культуры и отдыха. 22 июня, воскресенье. Началась война. Митинг в Белом зале. Подаю заявление о приеме в партию. И заявление в военкомат, чтобы взяли на фронт. Но пока рассматривают заявления, надо что-то делать. Сейчас. Немедленно. Челюстно-лицевой госпиталь. Днем — работа в ВОКСе, по ночам — дежурства. Запах гноя, первые обезображенные лица юношей. — Нянечка, сестрица, дайте зеркальце! Это было строжайше запрещено. Госпиталь эвакуировали раньше, чем нас. Мобилизация на дровозаготовки. Под Москвой, в Химках. Начало октября 1941 года. Тяжело. Болит спина. Нет необходимой обуви, одежды. Впрочем, сохранился ватник еще с августа, когда я рыла окопы и мы с подругами смеялись над немецкой листовкой:Девочки и дамочки,
Вы не ройте ямочки.
* * *
В годы войны довершался процесс, начатый раньше. СССР становился Россией — великой державой. Были введены погоны, офицерские звания, раздельное обучение, новый закон о браке, распущен Коминтерн, „Интернационал“ заменен новым гимном. Все усиливалась подозрительность по отношению ко всем иностранцам. Гасли последние отблески костров семнадцатого года. Большинство людей, как-либо воплощавших революционные порывы, были еще раньше уничтожены во время большого террора. ВОКС — среди других учреждений — был призван пропагандистски обслуживать этот процесс изменений. В 1943 году нам поручили написать докладную записку о том, как плохо работает журнал „Интернациональная литература“. Записка подгонялась, как все подобные записки, под заранее известный ответ. Кеменов, видимо, знал лишь часть этого ответа, он хотел, чтобы журнал передали ВОКСу. Именно для этого необходимо было показать в „инстанциях“, какие в ВОКСе умные, политически подкованные люди, насколько они лучше разбираются в обстановке, чем редакция журнала. И прежде всего, конечно, он, Кеменов. Много лет спустя, уже в „Иностранной литературе“, когда по просьбе Чаковского писалась какая-либо очередная записка для ЦК, в ответ на мой недоуменный вопрос: „Александр Борисович, мы-то здесь при чем?“ — следовал ответ: „Раиса Давыдовна, надо показать, что мы знаем больше всех“. Кеменов никогда не сказал бы ничего подобного. Он должен был поступать только справедливо, выглядеть честным в чужих и в своих собственных глазах. Он всегда мог убедить нас: „Интернациональная литература“ — плохой журнал, вы должны найти в статьях подтверждения, конкретные доводы». И мы находили. Причем все вместе перестарались. Журнал не передали ВОКСу, а закрыли совсем; нечего распространять иностранные идеи. А новый открыли лишь двенадцать лет спустя, уже в 1955 году. Необходимость не с_в_я_з_а_т_ь нас с другими странами, а о_т_д_е_л_и_т_ь от них, отделить от зарубежной культуры — вот что продиктовало решение закрыть журнал «Интернациональная литература». Не исключаю, что в тот момент даже те, кто давал это задание, еще не понимали полностью его смысла. Память бывает очень услужлива. Я ведь только теперь вспомнила о своей причастности к закрытию «Интерлита». В 1944 году был издан новый закон о семье и браке. По этому закону требовалось, чтобы первая судебная инстанция разрешила дать объявление в газете о предстоящем разводе. Такие объявления публиковала только одна газета, и ждать очереди приходилось до двух лет. После этого начиналось судебное разбирательство, которое по желанию одной из сторон могло еще долго переходить из инстанции в инстанцию. По этому закону было восстановлено отмененное революцией 17-го года понятие «внебрачный ребенок» и подавлялись права женщин, рожавших вне брака. Что означает для ребенка прочерк в метрике вместо имени отца — этого мы знать еще не могли, это стало ясно позже, когда эти дети пошли в шкалу. Но унизительность принуждения к браку мы понимали и тогда. Одни были женаты (замужем), другие — одиноки, у третьих — любовники или любовницы. Все единодушно считали, что люди должны быть вместе друг с другом, пока они любят, и расходиться, когда перестают любить. И никто и ничто не должно этому препятствовать. Менее всего государство. Среди близких мне людей даже разговоры об «укреплении семьи» при помощи закона я услышала много позже. Так вот мы должны были написать для заграницы статью о положении женщины, и там среди прочего комментировался и, разумеется, оправдывался этот подлый закон. И мы написали такую статью. Сейчас я не помню ни одного нашего довода, кроме — если это можно считать доводом — письма Ленина к Инессе Арманд. «Пролетарский гражданский брак с любовью» — вот что мы противопоставляли «свободной любви». А на деле мы защищали строящуюся отвратительную новомещанскую семью, основанную на ханжестве, принуждении. Начался и не прекращается до сих пор поток писем в партийные организации от брошенных жен (изредка и мужей), глубоко личные стороны жизни начали обсуждать на больших собраниях.* * *
С какими иностранцами я встречалась в ВОКСе? Меня посылают в совхоз с делегацией американских специалистов по сельскому хозяйству. Вспоминаю уроки английского в институте, фонетика: «Tune one, tune two». Больше всего волнуюсь, достаточно ли правильно я произношу фразы по-английски. Приезжаю в гостиницу. Меня встречают доброжелательно. И… не понимаю ни одного слова. Я еще не знала, что между языком англичан и американцев есть различие. Что слушать без подготовки устную речь трудно. Что нас-то учили Oxford English, а на нем не говорят между собой и простые англичане. Сразу сказала (страшно испугавшись и покраснев): I do not understand. Потом я привыкла. Случалось и позже, что специалисты, которым я переводила, обменивались между собой терминами, изъяснялись чуть ли не на пальцах, рисуя схемы, почти не обращаясь к моей помощи. Переводить с языка на язык я в конце концов научилась. Не научилась, не училась переводить жизнь, объяснять одну в понятиях другой. Никаких вопросов я никому из моих собеседников не задавала. И не отвечала на их простейшие — о семье, о детях. Так нас учили тогда. Наши отношения с иностранцами могли быть только официальными. (Уже после войны моя приятельница была переводчицей видного канадского коммуниста. Однажды другой наш сотрудник, осуществлявший непосредственные связи ВОКСа и НКВД, зашел к нему в номер и увидел, что она сидит не на стуле… Ее выгнали с работы. Она долго не могла никуда устроиться, обвинение формулировалось как политическое. Именно в ту пору был принят закон, запрещающий браки с иностранцами. Вскоре за связь с американским военным атташе в конце войны была арестована одна из самых известных кинозвезд Зоя Федорова — эта история теперь подробно рассказана в книге ее дочери Виктории, уехавшей в США, «Дочь адмирала».) Перед самой войной приехал Эрскин Колдуэлл со своей тогдашней женой, известным фоторепортером Маргарет Бурк Уайт. Я уже читала «Табачную дорогу». Переводчицей Колдуэлла была сотрудница иностранной комиссии Союза писателей, а меня прикрепили к его жене. Сопровождала ее на футбол, она бегала с фотоаппаратом по огромному полю в непривычном ярко-красном пальто, а я должна была бежать за ней. В университет. В школы. Она фотографировала и Сталина, но это, разумеется, без меня. Первый человек из другого мира, мною действительно увиденный, — Лилиан Хеллман. Она приехала в конце 1944 года. Я ходила с ней по Москве, мы ездили в Ленинград (только что сняли блокаду), в Киев, на фронт. В Люблине были за заседании — первом — Крайовой рады народовой. Вечером — на приеме. Пустое барачное здание, длинные некрашеные столы. Таз капусты, таз картошки, снова таз капусты. И четверти водки между ними. Не четвертинки, а четверти. Хлеба не было совсем. Во главе стола сидели Берут, Гомулка — первое польское правительство. Произносили речи. Так я встретила новый, 1945 год. Вышли мы на улицу, и Лилиан говорит мне: «Рая, а Ленина между ними нет, верно?» Только мы легли спать, как началась пулеметная пальба. Выяснилось, что отряд немецких автоматчиков проник в город и обстрелял гостиницу, где жили русские. В эти минуты — не очень далекие от смерти — я была с Лилиан. Она оказалась очаровательным человеком, умница, остроумная, часто злая. Когда мы с Хеллман поехали на фронт (это впервые американке разрешили такую поездку), нас сопровождал майор из отдела внешних сношений Министерства обороны. Это был глупый, трусливый человек. Лилиан придумала про него историю проницательную и достоверную: «Понимаете, Рая, он, как и все военные, был в начале войны на фронте. Скажем, во взводе. Там сразу увидели, что он за птица. Но как от него избавиться? Вот и решили его повысить: „выдвинуть“ в полк. Потом в дивизию. Потом в политуправление фронта. И, наконец, в главное политуправление. Что с ним делать, чем его занять, чтобы поменьше вреда от него было? Решили послать с чудачкой американкой на фронт». Когда в Люблине началась стрельба, он, майор, вооруженный, вбежал к нам с криком, обращенным ко мне: «Почему вы не встаете, почему в постели?» Казалось, не было никаких сомнений в том, что Хеллман мне в тысячу раз понятнее, ближе, роднее, чем этот дурак, хам и трус. Но мы жили за прочным железным занавесом. Отсюда следовало: по отношению к тому, другому миру — все дозволено. Здесь переставали действовать простые нравственные законы, здесь можно было солгать, украсть, не стыдно было шпионить— «благородный разведчик». Ведь всех иностранцев к нам засылают, ведь все они шпионы, значит — и мы можем и должны поступать так же по отношению к ним. Настойчиво вбиваемые и очень прочно вбитые догмы и непосредственный опыт, бывало, расходились. В те годы даже и такой, как этот майор, был «нашим», а она иностранкой. Находила я и подтверждения тому, что она «не своя». Она сказала как-то: «Я начну слушать о победах социализма, когда вы на всех аэродромах от Владивостока до Москвы построите такие уборные, где не будет тошнить». Я ответила ей очень резко — и про наших убитых, пролитую кровь, и про то, что мы их, американцев, защищаем. И вообще, можно ли социализм мерить такими низменными мерками! Ее пьесы мне внутренне близки, важны. Ее мемуары — блистательная проза.* * *
Те, кто лишь промелькнул тогда через мою жизнь, как Эдгар Сноу, Анна Луиза Стронг или посол Гарриман, и тем более те, кто оставил явный, длящийся след, как Лилиан Хеллман, — все они свидетельствовали: иностранцы — люди. Пусть не похожие на нас, но люди. И этим впечатлениям предстояло очнуться, укрепиться во мне позже, но заложены они были именно тогда. Джон Херси опубликовал в 1944 году роман «Колокол для Адано» (одна из первых американских книг о войне, участником которой был автор). Маленький город в Италии, только что вступили американские войска. Медленно, с трудом, не прямо идет освобождение от фашизма. Этому процессу помогает американский комендант. Тема несколько напоминает роман Э. Казакевича «Дом на площади» (1955). Мы решили в начале 1945 года обсудить этот роман. Специально заказали перевод, рукопись перевода разослали нескольким писателям и критикам. За этим столом нам чаще приходилось чокаться шампанским, чем говорить о литературе. А тут мы страстно, заинтересованно говорили о книге и о жизни, о фашистах и об антифашистах, об американцах и о русских. Обработанную стенограмму послали автору. Очередное воксовское «мероприятие» для меня стало началом профессии. Я, конечно, не могла знать тогда, что буду писать рецензии на новые книги Херси, что в моей книге «Потомки Геккльберри Финна» ему будет посвящена глава, что я с ним познакомлюсь — он был некоторое время в Москве корреспондентом журнала «Лайф». Что он будет защищать многих советских литераторов — от Даниэля и Синявского до нас со Львом. Все это — в непредставимом будущем. Мы сидим в Красном зале, обсуждаем достоинства и недостатки романа. Начинаю учиться читать американские книги, понимать их, говорить о них… Семь лет — с 1940 по 1947-й — я прослужила в ВОКСе. Это было учреждение необычного типа, была я там в необычное время — война, но и в ВОКСе, особенно в послевоенные годы, проявились характерные черты системы. Была там двойственность: парадная внешность и будничная сущность. Это наглядно воплощалось в различии: два парадных зала, красный и белый, кабинет председателя — мрамор, шелк, бархат. И крохотные, неудобные комнатенки, где работали сотрудники. В шуточном вальсе-гимне были такие слова:
Тот, кто с нами совсем незнаком,
сущим раем считает наш дом,
будто все карнавалы,
все приемы и балы,
будто ночью и днем
мы танцуем и пьем,
поднимаем бокалы
и конфеты крадем.
13. «Соседи»
Я уважала власти и боялась их. Над моим страхом перед управдомами и милиционерами часто посмеивались близкие. Но тогда, в те годы, я боялась прежде всего верховных властей; это был трепет перед ч_у_д_о_м, т_а_й_н_о_й, а_в_т_о_р_и_т_е_т_о_м. Пришлось столкнуться с самым таинственным и самым страшным отделением. Вызвали в НКВД. После открытия очередной воксовской выставки в конце 1943 года мне позвонили, предложили прийти в гостиницу «Москва», номер такой-то. К тому времени мы уже прекрасно научились «их» отличать как понятие родовое, типологическое, «они» бывали везде, где бывали иностранцы. Называли «их» — «соседи», по отношению к Наркоминделу — тогда они были соседи по площади Дзержинского. Все «они» были одинаково одеты и совершенно на одно лицо. И в тот первый раз и за последующие пять-шесть свиданий я никого не запомнила, не осталось ни одной ч_е_л_о_в_е_ч_е_с_к_о_й, особенной детали, даже такой, как «рыжий», «с веснушками», «брюнет», — ничего. От меня хотели, чтобы я «сотрудничала». Но ведь я и так сотрудничала. Мы знали, что копия каждой записанной нами беседы с иностранцами отправлялась в НКВД. — Нет, этого недостаточно. После долгого разговора, полного недомолвок, выяснилось — они хотели, чтобы я сообщала им о поведении других сотрудников ВОКСа. Тогда мне это предложение казалось менее чудовищным, чем теперь, когда я об этом пишу. Но и тогда мутило. Все мы называли друг друга по имени, многие учились вместе, да и по обстановке это было как бы продолжением ИФЛИ. Вместе жили в войну, вместе уехали в эвакуацию, спали на одном тюфяке, делились хлебом. И вот о своих милых, родных я должна сообщать этим невзрачно-одинаковым, которые для меня — никто. Сообщать в письменном виде и подписывать любым женским именем, кроме своего. («Какое имя вам больше всего нравится?» — «Мария», — ответила я.) Я тупо повторяла, что об иностранцах буду сообщать им все, что необходимо. В душных номерах гостиницы «Москва» меня вербовали в «стукачи» (слово я узнала позже, вероятно, уже после смерти Сталина). Разумеется, все называлось очень благородными именами — помогать родине бороться с врагами. Снова и снова доказывали мне, что мой священный долг коммуниста записывать разговоры моих друзей и передавать «им» эти бумаги, на которых должно стоять женское имя «Мария». Во время первого же разговора у меня спросили, что я знаю о Викторе Розенцвейге. Он приехал из Франции в 1937 году, учил нас французскому в ИФЛИ; в Куйбышеве, во время войны, я встретила его в шинели; он рассказал, что был на фронте, вышел из окружения. При моем содействии его приняли на работу в ВОКС. Мы очень дружили тогда. Работник Виктор первоклассный, знающий, организованный, с западной школой умственного труда. — Больше ничего не можете сказать? — Нет. — Напишите все это. Я там же, в гостинице «Москва», написала: эта бумага ни при каких обстоятельствах не могла повредить Виктору, но все же она и теперь лежит где-то там, рядом с доносами, и Виктору я никогда об этом не говорила. Эту страницу жизни вспоминать не хочется. Как и следующую. Снова, снова вызовы — толку от меня явно не было. Начались угрозы. Хотя я давала подписку о «неразглашении», но не выдержала и рассказала все Кеменову. От него я впервые услышала слова Ленина: если Чека становится над партией, то превращается в охранку. Подробностей разговора не помню, хотя он мне помог тогда. Помог убедиться в правоте инстинкта. Но догмы, ложные идеи подавляли инстинкт. В моем отделе работал Юрий К. Я еще раньше знала его по ИФЛИ. Мне он казался умным, циничным и беспринципным. Он подал заявление в партию. Я была против, потому что считала его плохим человеком. Шло партийное бюро. Рекомендовали К. Лидия Кислова и Александра Зимина. Отношения и с той и с другой у меня были натянутые. Я выступала против приема К. Остальные были «за», меня не поддержали. И тогда я рассказала содержание личного разговора, который был у нас с ним за несколько месяцев до бюро. Разговор был путаный, длинный, о политике, обо всем на свете. Он мне сказал: «Если бы тебе в ЦК велели вешать детей, ты бы проплакала всю ночь, а утром стала бы выполнять приказ». Фраза крамольная: каждый коммунист обязан был выполнять любые указания ЦК, в том числе выселять, сажать, да и убивать. Но говорить об этом, называть подобные указания было нельзя. За это надо было исключать из партии. Дело дошло до КПК — Комиссии партийного контроля. Во все инстанции вызывали и меня. (Прошло много лет, прежде чем я поняла, что этот отзыв был в их глазах п_о_л_о_ж_и_т_е_л_ь_н_ы_м.) Ю. К. исключили из кандидатов партии, выгнали из ВОКСа. Потом я долго не знала, что с ним. Не думала о нем. Вероятно, он автоматически вошел в категорию «чужой». Жизнь — не черновик, ни одной страницы не перепишешь. Но хоть пытаться понять… Ответить более или менее удовлетворительно на вопрос, почему я так поступила, не могу и теперь. Ведь сегодня (это «сегодня» длится по крайней мере четверть века) я бы не подала руки человеку, который сделал нечто подобное. Да, я его не любила. Была очень против него настроена лично (не за себя, за мою тогдашнюю подругу). Единение «личного» и «общего»? Нет, как объяснение недостаточно. Случайность? Сболтнула, а дальше понесло? Быть может. И глубокая личная обида от того самого разговора, тем более острая, что неосознанная; как было согласиться с тем, что я могу по приказу убивать детей? И что такой приказ может исходить от моей партии? На обычные вопросы учителей: «Кто разбил окно?» — никогда не отвечала. Ябед не любила. То есть предвестий этого поступка не нахожу. Если б сегодня могла сказать: «заставили». Нет, никто не заставлял… Трудно объяснить свои поступки. Труднее, когда от поступка до объяснения прошли десятилетия. Объективно это была подлость, решительно ничем не оправданная. С этим сознанием и жить. До конца. Я уже писала, как три года спустя, когда А. К. исключили из партии — тоже на КПК, — я отнеслась к этому совершенно иначе. Горячо сочувствовала, хотела как можно больше быть с ним, всем, чем можно, помогать. Разный счет. Разные мерки отношения к людям. Вся атмосфера в ВОКСе была в нравственном отношении весьма нигилистической. Нравственность-то неделима. И если можно себя уговорить написать статью о том, как хорош новый закон о браке, то можно и осудить, и исторгнуть человека, который только что был в твоей среде. Врали часто. Мы часто составляли тогда разные справки, отчеты «наверх». Нужны были цифры, их не было. И мы, ничтоже сумняшеся, брали цифры «с потолка». «На одной маленькой Кубе в первые же дни войны возникло больше ста Обществ дружбы с СССР…» Общества возникали — и во множестве — в реальности. Но сколько их, мы не знали. Вероятно, и в этом общем безразличии к нравственности — путь к ответу на вопрос: почему никто из окружавших меня людей не осудил мой поступок так, как он того заслуживал. Что ни в какой мере не оправдывает меня. Более того, во время очередного вызова и страшного крика: «Саботируете! Отказываетесь!» — я рассказала эту историю. «Давно без вас знаем; есть люди, которые сознательнее вас». Несмотря на подлый поступок, в глазах «тех» я была чужой. В это время меня со вторым мужем, — мы поженились в 1945 году, — оформляли для поездки в Румынию. «Мы вас никуда не пустим!» Не знаю, почему пустили. И я о них не слышала три года. В 1948 году вызвали на Лубянку. Поздно вечером. Держали ночь. Допрашивали трое по очереди. По их требованию подписала протокол допроса. — Как вы, советский человек, да еще член партии, посмели принять подарок от иностранки? Хеллман подарила мне браслет, — это было в машине, с нами сидел Кондрашев, занимавшийся протокольными делами, — и прислала посылку уже из Америки. Эта посылка пришла диппочтой, получила я ее официально. Разговор о подарках был явно предлогом. Все время настойчиво повторялся один и тот же вопрос: «Почему отказалась сотрудничать с органами НКВД?» Так и было написано в протоколе. На меня орали, топали ногами, меня всячески унижали. Было и такое: «Отец небось еврейскую лавочку держал?» А я их боялась. Когда я прочитала в 1968 году в «Нью-Йорк тайме» запись разговора П. Литвинова со следователем, я не только восхитилась смелостью Павла Литвинова. Я поняла, что пришло новое поколение людей, которые не боятся их, которые всему миру — и нам прежде всего — показывают, что КГБ — обыкновенное советское учреждение. Разрушены и чудо, и тайна, и авторитет. Да, пожалуй, тут дело не в поколениях. Письмо Петра Григоренко не менее смело и не в меньшей мере разрушает страх. А я их боялась. Не испытывала ненависти, не испытывала презрения, не испытывала чувства превосходства. В середине ночи даже не сдержалась, заплакала. Стоило бы им начать внушать мне, что я агент гестапо, или Джойнта, или какой угодно разведки, я бы, наверно, подписала. Только чтобы скорее кончился этот кошмар, чтобы скорее уйти, не видеть эти страшные морды, не слышать хамского крика. На рассвете на площади Дзержинского услужливый ум и память начали подсказывать мне: «мы в осажденной крепости, кругом шпионы, лес рубят — щепки летят» и т. д. и пр. Никаких обобщений. Мне, л_и_ч_н_о мне было плохо. На меня и т_о_л_ь_к_о на меня несправедливо кричали, несправедливо обвиняли меня. Разве можно обойтись без жертв? Вот мне и пришлось тоже стать жертвой. Я еще легко отделалась. С теми же мыслями и так же безропотно — вот что страшно, что безропотно, — пошла бы я и по этапу. Как шли тысячи, сотни тысяч. Возмущалось, не говоря уже о бунте, ничтожное меньшинство. Остальные были покорны. Покорны и уверены в правоте власти. Считали ее своей. Вся юность прошла в романтических мечтах — война, победа, въезжаю в город на танке, на коне, на бронепоезде. В этих мечтах была и камера, похожая на старый мопровский плакат — сквозь решетку рука с красным платком. Допрашивают белые или фашисты, а я стою стиснув зубы, не выдаю никого, терплю муки, умираю в муках… А в жизни были бюрократические кабинеты, бумага, перья, пишущие машинки, люди, произносившие мои слова. Разве они враги? Если же нет, может быть, я враг? Тоже невероятно. Я, я, наверное, недостаточно стойкая интеллигентка, а они твердокаменные большевики. Но при чем же здесь «еврейская лавочка»? Просто попался среди них один антисемит. Не надо было брать этой сумки и свитера, которые прислала мне Хеллман. Настоящий коммунист не взял бы. Но ведь Коротков, наш зав. спецчастью, что-то там присваивал из моей и из других посылок!.. Коротков — частный случай. «Частные случаи» тогда у меня не обобщались, даже не складывались. Сколько раз за последние лет пятнадцать я репетировала: меня вызвали в КГБ, я сразу произношу заранее заученный текст: «Отказываюсь отвечать на любые вопросы». Только бы хватило сил произнести это, а дальше… Но жизнь не перепишешь, условное наклонение тут не действует. Было у меня так, как я здесь написала. 1962–197914. Второй брак
В январе 1944 года меня после сердечного приступа отправили в санаторий Болшево. Ехать я не хотела, было принято специальное решение партбюро о необходимости отдыха — совсем как в плохих производственных романах. Два с половиной года войны, полтора года вдовства, эвакуация, несостоявшееся бегство на фронт, только работа, дочка и друзья, родители. Работа с утра до ночи, с утра до ночи. И на полном бегу остановка. Воздух. Сосны. Уединение. За соседним столиком сидел мужчина, который все время на меня смотрел. Мы познакомились. На третий день он сказал: «А знаете, что мне снилось? Что вы выходите за меня замуж». За десять лет нашего брака ему больше не снились сны. Сквозь седого как лунь человека, сквозь все дурное, что было потом, я пытаюсь разглядеть Колю, каким я увидела его тогда. Черты лица правильные, лицо хорошее, открытое, пожалуй, красивое. Изящен, несмотря на коренастость и широченные плечи. Огромная физическая сила. Он родился и провел детство недалеко от Камышина в слободе Рудня. Отец его был агрономом, мать учительницей (она рано умерла). Среди легенд Отечественной войны самой моей легендой была ленинградская блокада. И вот я знакомлюсь с человеком, который занимался снабжением Ленинграда хлебом. Сам голодал, перенес тяжелую цингу, чуть не потерял зрение. Придумывал, искал заменители — тот хлеб, в котором почти не было хлеба. Потом в Музее обороны Ленинграда (его закрыли после «ленинградского дела» 1951 г.) я видела подписанные им распоряжения, приказы, видела и эти микроскопические кусочки лжехлеба. В руках Коли было многое, а он брал себе только то, что было положено всем. Не больше. Весной 1967 года Лилиан Хеллман читала мне свой военный русский дневник. Там, где говорится о нашей поездке в Ленинград, есть такая запись: «Рая говорит, что голодали все одинаково». Я вздрогнула: это же неправда, как «одинаково», ведь существовали особые пайки (об этом я услышала много позже) и даже какие-то специальные теннисные корты для Жданова?! Но я не врала тогда Лилиан. Я была уверена в 44-м году, что в Ленинграде царило равенство беды. Знакомство с Колей укрепило меня в этих мыслях. Ведь он действительно голодал в блокадном Ленинграде, хотя в его руках был хлеб. Среди моих друзей, мятущихся, неуверенных, появился человек, который всегда твердо знал к_а_к н_а_д_о, был абсолютно уверен в себе. Я ждала такого человека, подсознательно была подготовлена к этой встрече. С тех самых первых девических мечтаний о всаднике, который перекинет меня через седло, с моих увлечений героями Джека Лондона и Эрнеста Хемингуэя. Вернувшись из санатория через несколько дней после него, позвонила ему на работу и услышала в ответ: «Лечу!» Он разговаривал со мной из служебного кабинета, я соединилась через секретаршу, а он так прямо, открыто: «Лечу!» Очень это привлекало, ведь я уже хорошо знала, что можно быть храбрым на войне и трусом в кабинете начальника. Мне совсем еще не было ясно, люблю ли я его всерьез, я не стремилась к браку, я соглашалась на роман. А он за себя и за меня добивался всего того, чего тогда полагалось добиваться (и часто безрезультатно) женщине. Ведь только что был принят новый закон о браке. Коля тяжесть решения взял на себя. Он сразу же ушел из прежней семьи, ему дали временно номер в гостинице «Метрополь». Он всегда брал на себя ответственность. Мне очень не хотелось, чтобы жизнь с ним начиналась на пепелище: в нашей квартире еще оставался Леня — на фотографиях, в вещах, в письмах, во всем. Потому мы оба стремились к отъезду из Москвы. Он много читал, преимущественно исторические романы. Много знал, много помнил. Когда в 1950 году его направили в Высшую партшколу, он учился истово, как человек, поздно дорвавшийся, конспектировал каждую книгу, получал только отличные отметки. К литературе относился как к святыне, сам мечтал писать и даже пробовал, но литературных способностей у него не было совсем. Как, впрочем, и вкуса. Была в нем характерная черта русских мальчиков — вернуть к утру карту звездного неба исправленной. Самостоятельность сочеталась в нем с самоуверенностью. Всегда он до опыта, заранее, твердо знал все решения, все ответы, а потому — зачем же ему вопросы? Личная скрупулезная честность — это не только в блокаде, это всегдашнее — совмещалась у него с правилом: я чужого не возьму, но и своего не отдам. Он никогда не подавал нищим — не тут ли начались наши первые разногласия? И поразительно так все умел вывернуть наизнанку, что жалкая старушка, сидевшая в лохмотьях на углу, оборачивалась акулой мирового империализма. Спорить с ним было невозможно. У него существовала железно твердая система, и на старушку она распространялась: никакой благотворительности. Никакого потворства частникам (вряд ли в его словах было более ругательное слово, чем «частник»). Он решительно отрицал и частных врачей, и частных учителей. Так я, к моему стыду, и не научила своих дочерей в детстве иностранным языкам. Я так же не помню первых ссор, как потом не помню уже ни дня без них. Мы были люди с разных планет. Он не сделал и полшага на мою планету, а я долго, непостижимо долго, калеча себя, безжалостно разбивая свой, уже как-то сложившийся мир вместе с людьми, его населявшими, — рвалась на его планету. Политические взгляды Коли можно было сформулировать примерно так: живем мы в наилучшем государстве. Но Ленин был прав — это государство с бюрократическими извращениями. Излечить, исправить эти извращения можно и должно, но, конечно, только сверху. Мы мечтали о переезде в маленький город. Поехать в такой город, только что отбитый от фашистов, и там построить идеальный социализм. Для этого нужна полнота власти. Вот Коля и будет там секретарем горкома. Создаст четко работающий аппарат («Я ведь могу хорошо, бескорыстно работать, почему же и другим так не работать?»), без бюрократизма. Долгими вечерами мы с друзьями во всех подробностях планировали этот новый фаланстер. Мы ведь не сомневались в том, что основа истинная. Значит, все беды, неполадки объясняются тем, что нашу правильную, благородную линию проводят не те люди. Конечно же, кадры решают все. Вот мы — люди честные, знающие, умеющие трудиться; стоит нам сменить дураков, приспособленцев, невежд — ивбежишь
по строчке
в изумительную жизнь!
15. Книги
«Я закончу свою жизнь, вероятно, так же, как начал ее — среди книг», — сказал о себе Сартр. Я, пожалуй, могу повторить эти слова. Я много читала с детства, в моей семье много читали, я училась на литературном факультете, весь круг не только моих личных, но и профессиональных интересов был, есть и теперь уже навсегда будет связан с книгами. При всей моей вере в слово я понимаю, что поведение человека определяется многим — далеко не только книгами, которые он читал, или книгами, которых он не читал. Но мое поведение в те и эти годы в значительной степени определялось и книгами. В детстве мне казалось: если человек много читает, тем более сам пишет, то он принадлежит к интеллигенции, его духовный и нравственный облик прекрасен. Профессор Роман Самарин, беспринципный карьерист, командовавший филологическим факультетом МГУ, был широко образованным человеком, читал чрезвычайно много. Столь же неутомимым читателем был Я. Эльсберг, многолетний агент-провокатор ГПУ-МГБ. Люди, знавшие Сталина, утверждали, что он успевал прочесть по 600 страниц в день. Что именно читает человек и, главное, как круг чтения связан с жизнью, с поступками? У нас дома было много книг. Родители читали постоянно, покупали книги. Знала, что отец моей мамы (он умер до моего рождения) читал своим детям вслух Пушкина, Некрасова, Тургенева. Маму вспоминаю лежащей на диване — в последние годы — неизменно с книгой в руках. Когда мой отец был членом коллегии Госиздата, ему полагались книги как приложение к зарплате. У нас были многотомные собрания сочинений Чехова, Джека Лондона, Мопассана, Пантелеймона Романова, Цвейга, Алексея Толстого. Эти книги чрезвычайно быстро исчезали. Не без нашего участия — всех детей и многочисленных друзей. Только шкаф отца запирался на ключ. В этом шкафу до сих пор особый запах, смешанный запах табака, кожи, старых бумаг — запах моего детства. В ранние годы я много болела, мама приносила книги от букинистов и говорила: «Это книги с развалов». И мне представлялись разваливающиеся дома, куда пробраться можно лишь с опасностью для жизни; из развороченного чрева такого дома падают книги. Самые ранние воспоминания о прочитанном: «Примерные девочки», «Сонины проказы» (из «Золотой библиотеки»), потом я читала эти книги по-французски и очень удивляла учителей быстрыми успехами — я просто помнила наизусть русский текст целыми страницами; «Голубая цапля», «Серебряные коньки», «Маленькие мужчины», «Маленькие женщины»… Чуть позже пришла Чарская. Наверное, и теперь могу кое-что вспомнить из злоключений Нины Джаваха и Люды Власовской, а сколько книг, прочитанных не 35 лет тому назад, а в прошлом месяце, не оставили следа. Конечно, здесь дело и в детском восприятии, и в нынешнем оскудении памяти, но не только. Когда мне было четырнадцать лет, у нас в школе устроили суд над Чарской. Судили строго и осудили. Вот куда, наверно, восходят корешки того двойного счета, который уже принес и продолжает приносить неисчислимые беды. Для себя: радуйся, увлекайся, лей слезы, смейся. А потом наступает «как надо». Оказывается, надо осудить. Вероятно, Чарская — сентиментальная писательница. Я не перечитывала ее книг. Но уверена, что для всех нас, школьников и школьниц той далекой поры, было бы гораздо менее вредно продолжать плакать над злосчастными судьбами институток, чем плакать про себя, а вслух осуждать. Для многих, как для меня, еще и невозможно было по складу характера циническое отношение, признание лицемерия. Значит, надо было выбирать. И вот долгие годы я пыталась сначала себя, а потом и других убеждать в том, против чего все внутри восставало. Моим чтением никто не руководил. Кажется, один только раз мне запретили читать «Тысячу и одну ночь». Именно потому, что запретили, я достала эту книгу (коричневокирпичные тома с золотым обрезом) и… до чего же мне было скучно! Бросила где-то на середине первого тома. Лет одиннадцати я прочла «Девственницу» Крашенинникова и продолжать не захотела. Так закончилось мое «порнографическое» образование. Баркова не читала никогда. С детства вошли в жизнь Тургенев, Купер, Диккенс. Я и сейчас смотрю на тридцатитомное собрание сочинений Диккенса, и нисходят покойные мысли о старости, о глубоком кресле и очках. О том, как снова обступят меня Оливер Твист, Давид Копперфильд и Крошка Доррит, добрые и несчастные герои моего детства. И сейчас представление о самой горькой, самой непоправимой несправедливости — неразделенная любовь Флоренс Домби к отцу. И сейчас я ясно вижу, как будто это происходит передо мной, — как прыгает со льдины на льдину Элиза с маленьким Гарри на руках. Неужели ее догонят? Как помочь ей перебраться на тот берег? И сколько бы потом ни читала я статей об ограниченности Бичер Стоу, статей о рабстве, о социальных проблемах Америки, я никогда уже не забуду того детского ощущения, холод тех льдин, то чужое горе. Я хотела быть как герои Купера — метко стрелять, идти по джунглям вместе с Натаниелем Бумпо, быть храброй, сильной, выносливой. Лет в 14–15 всех вытеснил Джек Лондон. И принес с собой тот ветер странствий, которым буду, видно, бредить всегда. Собрание сочинений Лондона было напечатано на плохой бумаге, было сброшюровано так, что роман мог кончаться на середине абзаца, даже слова. Но все это я вижу сейчас, когда беру в руки те давние книги издательства «Земля и фабрика». Даже непонятный мне знак «ЗИФ» казался таинственным паролем. Книжный мир был реальнее, чем тот, в котором я действительно жила. Читала я с необыкновенной быстротой, которая объяснялась очень просто: я пропускала по многу страниц. Скорее, скорее, через описания природы, войну — мимо, только сюжет, действие, развязка… Читала в том же темпе, как и жила. Один «читательский» день году в 31-м очень ясно запечатлелся в памяти: я пошла в книжный магазин, это был «закрытый распределитель» в нашем доме, в подвале. «Выдавали» книги по особым талонам (всё папины госиздатовские блага). И мне «выдали» книгу Золя «Нана» и «Что делать?» Чернышевского. За одно воскресенье я заглотала обе книги. К роману Золя осталась вполне равнодушной, никогда не перечитывала, вспоминала только в связи со статьями Лукача. А книга Чернышевского ответила мне на вопрос заглавия — что делать? Социальную революцию. Создавать коммуны. А в личной жизни — любить только искренне. Ошибка в любви исправима: вчерашние муж и жена могут разойтись, причем могут и должны делать это по-человечески. Вот что я вслед за поколением современников и последователей вынесла из книги. Теперь скажу: проявилось мое полное неумение отличать художественное от н_е- или даже а_н_т_и_художественного (о чем сам Чернышевский так много говорит). Немного раздражали меня обращения к «проницательному читателю» и чуть неумеренное повторение слова «миленький». Но какая же это малость по сравнению с остальным! Много лет спустя прочитала набоковский «Дар». Эта книга стала одной из самых важных. Я скучаю, когда подолгу не перечитываю ее. Но и сейчас я не во всем с Набоковым — не во всем против Чернышевского. Мне кажется, что даже сам Набоков (хотя это противоречит его характеру) по-человечески жалеет Чернышевского, особенно в конце жизни. Во всех любимых книгах моего детства концы сходились с концами, добродетель неизменно торжествовала, порок столь же неизменно наказывался. Мир был строго разделен на хороших и плохих. Позже это разделение превратилось в тех, кто «за нас», и в тех, кто «против нас». В 1930 году я прочла «Во весь голос» — так начался Маяковский. И через несколько месяцев одно из первых тревожных, неотвеченных «почему». «Почему он застрелился?» Спросила, не получила ответа. Вопрос некоторое время меня мучил, а потом я забыла. Забыла вопрос. В мае 30-го года у нас в школе был конкурс на чтение стихов, и я читала отрывок из поэмы Кирсанова «Пятилетка». В памяти застряли эти убогие стихи, воплощающие прямолинейные лозунги. На этом же конкурсе моя подруга читала «Бой быков» того же Кирсанова. Поэтическое образование было диковатым: за Кирсановым следовал Северянин (помню до сих пор), в школьных хрестоматиях печатался Жаров («Тропой проторенной идешь, а где и сам не знаешь»), на школьных вечерах читали стихи Безыменского о Ленине. Уткин был уже неким «изыском», а свою любовь к Пушкину и Некрасову я тщательно скрывала. Один раз в пионерской комнате я робко заикнулась о Некрасове, и наш вожатый — парень с завода в кожаной куртке — громко захохотал: «Некрасов… Недаром ты косы носишь, есть в тебе отрыжечка…» Обливаясь горючими слезами, я на следующий день отрезала косы. Длинные-предлинные, очень было жалко. К счастью, Некрасова и Пушкина я не отрезала. Шестнадцати лет я открыла Блока. Блока — уже на всю жизнь — мне дарила старшая подруга Агнеса. Я твердила его стихи всегда и говорила, что мне другая лирика и не нужна, «про это» мне достаточно Блока. Так мимо моей юности прошел не только Есенин, но и Ахматова. А ее стихи я за последние десять лет читаю не реже, чем стихи Блока. Блок захватил какое-то тайное жилище в моей душе, и двери этого жилища открывались при каждом эмоциональном потрясении — любовь, смерть, война. Да и во время войны я больше всего читала Блока. Стены этого убежища были толстыми, непроницаемыми. Реальной жизни стихи не касались. Она шла сама по себе. В шестнадцать лет возник единственный прорыв в мир хаоса, когда сразу нахлынули Достоевский, Фрейд, Ницше, Шпенглер… Соприкосновения с трагизмом — вечным трагизмом человеческого существования — я не выдержала. Заглянув в пропасть, я в ужасе отпрянула и вернулась в прямолинейную вселенную штыка, красных галстуков, двух миров и того книжного моря, которое все усыхало и усыхало. Не возникло вкуса к высокой сатире. Читала, но почти не перечитывала ни Свифта, ни Щедрина. Опять же, мне не хватало и не хватает мужества принять некоторые горькие истины о самом существе природы человеческой — о ее изначальном зле. Временами я продолжаю сомневаться — истины ли?* * *
Когда я училась в седьмом классе, к нам пришел совсем молодой учитель Семен Абрамович Гуревич, человек с большой шевелюрой, с горящими глазами, с толстыми негритянскими губами. Он и сейчас преподает, его помнят и те, кто его любил, и те, кто его боялся. Он презирал всех нас. Прежде всего за невежество. А мы и правда были очень невежественны. Вот он диктует нам список книг для внеклассного чтения. Называет имя Расина. Слышу впервые и записываю «Россини». О «Севильском цирюльнике» я слышала. Как долго держится детское ощущение стыда. Семен Абрамович называл нас по фамилиям, был очень резок, часто издевался, вышучивал. А мне всегда было больно присутствовать при том, когда кого-нибудь унижали, больно за тех, кого унижают, стыдно за тех, кто унижает. Семен Абрамович притягивал блеском, знаниями, живой речью, занимательностью. Мы как-то толком ничего не изучали, мы писали «рефераты» — само слово было новым и взрослым. У каждого была своя тема, мы работали в библиотеках. Я писала о Бальзаке. Мы ходили к нашему учителю в маленькие, сплошь заваленные книгами, никогда не убиравшиеся комнатки на Каляевской. Неприятно было слышать, как грубо он разговаривал со своими родителями, но все это заслонялось молитвенным отношением к книге, которое он нам привил. В школу он всегда приходил с большим рюкзаком. Вкусно доставал книги, расставлял, рассказывал о них. И нам хотелось читать. В институтские годы смешалось чтение для себя и чтение для института. Тогда возникло отталкивание от «сокровищ мировой литературы» — от книг, которые мы изучали, которые надо было сдавать на экзаменах. Я училась в ИФЛИ в те годы, когда Россию бросили в лагеря.
И двинулась Россия: маловеры;
Комбриги; ротозеи; мужики;
Путиловцы; поляки; инженеры;
Дворяне; старые большевики;
Ползучие эмпирики; чекисты;
Раскольники; муллы; эсперантисты;
Двурушники; дашнаки; моряки;
Любовницы; таланты; дураки;
Пределыцики; лишенцы; виталисты;
Соседи; ленинградцы; старики;
Студенты; родственники; остряки;
Алашордынцы; нытики — короче,
Все те, которых жареный петух
В зад не клевал — на край полярной ночи…—
* * *
В сентябре 1935 года к нам, студентам первого курса ИФЛИ, Эренбург привел Андре Мальро. И французский писатель спросил: — А вы помните строки Пастернака: «В тот день всю тебя от гребенок до ног…»? Ни один человек не поднялся — все молчали. Может быть, и стеснялись. Мы с Леней взяли книгу стихов Пастернака, попробовали читать. Очень было трудно, порой совсем непонятно. Радости открытия остались с тех пор: «намокшая воробышком сиреневая ветвь», «годами когда-нибудь в зале концертной…», «Это круто налившийся свист», «О, если б знал, что так бывает…». Чуть позже пришли «Лейтенант Шмидт» и «1905 год». Но и тогда, и позже у меня не было внутренней потребности читать Пастернака, как я читала Блока, Маяковского, Пушкина. На его выступления я не ходила, никогда не слышала, как читает он сам. В 1945 году, в Румынии, на вечере вопросов и ответов об СССР, меня спросили и о Пастернаке. Я ответила, что Пастернак — поэт для небольшого круга людей, они имеют возможность его читать, а массе читателей все это непонятно… Откуда я знала? Как смела судить? Смела. В 54—55-м годах и его произведения вплетались в оттепель. Начали доходить стихи из романа. В «Знамени» в 1954 году был опубликован цикл. В марте 1955 года я услышала «Август», и это стихотворение само собой выучилось наизусть, чего со мной давно уже не было. И открываются все новые и новые его пласты. Теперь уже — смысла. А раньше — ритма, волн, от которых замирало сердце. Это стихотворение сопровождает мысли о смерти. Десять лет спустя в 1965 году в журнале «Юность» стихотворение Б. Пастернака «Август» было впервые опубликовано в СССР. С прекрасным предисловием К. Я. Чуковского. И вошло в единственный сборник 1967 года. Все остальные книги Б. Пастернака издаются без «Августа». «Гамлет» был в первый и единственный раз опубликован причудливо: в рецензии Андрея Вознесенского на сборник переводов Пастернака в журнале «Иностранная литература». В 1956 году мы прочитали рукопись романа «Доктор Живаго». Мне показалось, что книга о нашей революции написана извне. Все это было чужим, подчас огорчительным. Эта книга была чужда тому, о чем мы думали, мечтали, спорили в бурном пятьдесят шестом году. В этом смысле гораздо большее впечатление произвела на меня «Автобиография». Я тогда не нашла в романе и тех вечных истин — добра и правды, которые все ближе становятся теперь. Врач, бросающий медицину, врач, перестающий помогать людям, хотя мог бы, — это было непостижимо. Проза напоминала конец XIX века, очень мне далекая и художественно. В письме редколлегии «Нового мира» (опубликованном в 1958 г.) я нашла оценку романа, близкую моей тогдашней. Спорили с друзьями. Тогда их доводы нас не убедили. Мы не доросли до этого романа. Должно было еще пройти время. С первого же чтения нас привлекли описания природы, нет, нельзя о Пастернаке говорить «описания» — это сама природа. И те сцены, когда Юрий Живаго пишет стихи. Сами стихи тоже с первого чтения стали частью нашей жизни. В пророческой статье «Эпос и лирика современной России. Маяковский и Пастернак» (1930) Марина Цветаева утверждает, что Пастернаку чужд эпос, что в отличие от Маяковского он насквозь лиричен. В 1957 году роман «Доктор Живаго» был опубликован в Италии (книга должна была появиться и в СССР) и вскоре в других странах. Я открывала на работе в редакции «Иностранной литературы» журналы и газеты и читала одну за другой статьи о Пастернаке. Затем — присуждение Нобелевской премии. Позорный скандал, устроенный нашей прессой; угрожающая речь Семичастного, тогда секретаря ЦК ВЛКСМ, две полосы в «Литгазете», где «простые советские люди» клеймили писателя (не читая, разумеется, роман). Снова нагнетался страх, снова действовал массовый психоз, затронуты были низменные инстинкты толпы. Было достойное письмо Пастернака Хрущеву. В ноябре 1958 года мы с Левой были в Переделкине и попали впервые в дом Ивановых. Эта семья оказалась в самом центре циклона и из-за многолетней дружбы с Пастернаком, и по прямому соседству. Тамара Владимировна Иванова принадлежала к тем немногим, кто в эти страшные дни продолжал ходить к Пастернаку в дом. И потому что сын — Вячеслав Всеволодович Иванов — был, несмотря на разницу в сорок лет, другом Бориса Леонидовича. Он возил его письмо в Союз писателей, он не подал руки Зелинскому, который публично нападал на Пастернака. Позднее его уволили из университета. На собрании писателей мы с Левой не были — мы еще не были членами Союза. Вера Инбер требовала исключить из резолюции слово «поэт». Казанцев кричал, что надо выслать Пастернака из СССР. Председательствовал С. С. Смирнов. Рассказ Лидии О. о том, как шло в ноябре 1958 года это собрание, «…было похоже на застенок. Никого не выпускали из зала. У дверей стояли Ильин и другие. Они даже ходили по рядам и заглядывали в лица. Когда Смирнов прочитал вслух письмо Пастернака (оно кончалось примерно так: „Не спешите с моим делом. Я вас понимаю, но ведь так же единодушно, как вы теперь прогоняете меня, вы будете меня реабилитировать, но может уже быть поздно. Поэтому я и прошу — не торопитесь с моим делом“[8]) и сказал: „Вот видите, какое неискреннее письмо“, наступила длительная пауза. Потом выступил Ошанин. Потом Солоухин. По ходу выступления Солоухин стал читать стихотворение „Гамлет“ и, видимо, забыл, где он и что он должен говорить. Читал он хорошо, выразительно, истинная поэзия захватила зал. Потом оратор почувствовал: что-то не так — и прокомментировал: „Видите, какие подлые стихи он писал“». Сельвинский и Шкловский, сначала поздравившие Пастернака с Нобелевской премией, испугались и в Ялте дали интервью «Курортной газете», отмежевываясь от опального поэта. Тогда ходила анонимная эпиграмма с двумя эпиграфами из Сельвинского. …И всех учителей моих
От Пушкина до Пастернака…
…в стройку коммунизма
Я не забил ни одного гвоздя…
Все позади — и слава, и опала,
Остались зависть и тупая злость.
Когда толпа Учителя распяла,
Пришли и вы забить свой первый гвоздь.
16. Страх
Так чего же я боялась в детстве? Ведь современный психоанализ учит: хочешь понять человека, хочешь понять его сегодняшние страхи — обратись к его детству, к детским подавленным комплексам, к детским страхам. Из моего детства мне навстречу идет бездумно храбрая девочка. Очень редко, выходя из дома, я останавливаюсь во дворе. И смотрю на те карнизы, по которым я лазала вслед за мальчишками, кое-как подвязав косы, чтобы не мешали. Мне неловко даже близким друзьям показать эти карнизы — подумают, что привираю, хвастаюсь. А между тем еще доживают век старушки, которые называли ту девочку «крышницей». …Мне девять лет, мы живем в деревне Сенжары под Полтавой. За деревней дорога идет мимо леса к кладбищу. Ребята спорят: — Кому не слабо́ одному в полночь пройти на кладбище? — Мне не слабо! Сказано, и ходу назад нет. Надо положить камень на могилу. Утром проверят. Часов в одиннадцать я вылезаю из окна, наши все уже спят, иду, бегу по дороге на кладбище. Страшновато, мурлычу себе под нос песни, читаю стихи. Наверно, Некрасова, я тогда года три подряд читала Некрасова. Кладу камень и торжествующе возвращаюсь. Жду не дождусь утра. Жаль только, что «подвиг» был совершен перед самым отъездом в Москву, так что купаться в волнах славы мне пришлось не больше недели… Другое лето, тридцатый год… Кисловодск. Мне двенадцать лет. И я знаю, что надо человеку для счастья — скакать на лошади. Наверно, это все от книг — Густав Эмар, Купер, «Герой нашего времени», джек-лондоновская Паола, маленькая хозяйка большого дома. Впрочем, здесь, в Кисловодске, я все время вижу и живых всадников. Я отправляюсь в манеж. — Сколько тебе лет? — Пятнадцать, — не сморгнув глазом. — Ну что ж, приму. Но ведь ты соврала. (Я заливаюсь краской, вот-вот заплачу.) Имей в виду, испугаешься — выгоню. Только бы не испугаться. Только бы не испугаться. Взбираюсь на лошадь, обливаюсь потом, судорожно цепляюсь за поводья. Шагом. Рысью. Галопом. Через препятствия. Я так боюсь, что меня выгонят, что мне уже и не до страха перед лошадью, падением, увечьем. Передо мной образец — Галя Забугина, дочь главного врача того санатория, где работала моя мама. Галя в широкополой шляпе, в брюках, ее окружают поклонники. Так держаться в седле, как Галя, так надменно на всех смотреть, так проскакать мимо них! Я маленького роста, на физкультуре стояла последней. В нескладных шароварах и майке. На большой лошади я совсем малявка, нисколько не похожа на моих книжных и живых героинь. А все-таки скакала на коне по узким кавказским дорогам. Я пишу в доме творчества в Переделкине, меня обступают липкие, постыдные страхи. Они выползают изо всех углов, их много, они не дают спать, нельзя сесть за рабочий стол, прежде чем их не прогонишь. Стыжусь страха, а все-таки боюсь. Всю зиму 1965–1966 годов я боялась писем, написанных Левой в защиту Синявского и Даниэля. Я боялась написать протест в «Известия» против статьи Еремина «Перевертыши», я боялась предстоящих собраний. Это страхи реальные. Но ведь в том-то и дело, что познать причину страха — это уже отчасти справиться с ним. Самые главные — те, невыговоренные, беспричинные, те, что засели где-то глубоко, о которых никому не скажешь. Боюсь, потому что боюсь. С детства я ненавидела хилое, трусливое, то, что я считала еврейским. Это надо из себя выдавить, вытравить без остатка. Для этого плавать, прыгать, ходить по буму, упражняться на турнике, на кольцах, мчаться на санях с высоких гор… Меня просто бросили с лодки в море, и я поплыла. Я только привинтила первые «снегурочки», стала на лед, упала и сломала руку. Врач, гипс, рука на привязи. Едва сняли повязку, я тайком — меня еще не пускали родители — снова пошла на каток, привинтила коньки, стала на лед, упала и сломала ту же руку. Нисколько не обескураженная, я ждала, когда же снова пойду на каток, когда же встану на лед, когда же научусь летать так, чтобы ветер в лицо. Дождалась и научилась. Я была твердо убеждена, что это единственный способ жить. И не было у меня ни капли сострадания к тем, кто не мог. Захочешь, так сможешь. Нет такого слова — «не могу». Когда маленькая Света плакала, боясь спрыгнуть с невысокой горки, я сокрушалась, что у меня выросла такая трусиха. Когда я сама отступала в страхе перед какой-нибудь опасностью, я ненавидела себя. На углу Пушкинской и улицы Москвина стояла моя школа. Во дворе был сарай, на крышу можно было вылезти из окна второго этажа, из кабинета физики. Мальчишки вылезли и прыгнули. Я тоже вылезла и остановилась. Испугалась. Особенно неприятно было потому, что их всех наказали. А меня нет. Один из мальчиков потом признался, что он влюбился в меня именно в тот момент, когда я отступила, не прыгнула. А он у меня на глазах прыгнул. Часто я слышала и читала в книгах, что девушке, женщине идет страх, что бояться — признак женственности. Мне всегда хотелось, чтобы в меня влюблялись, но я никогда не прикидывалась трусихой, чтобы дать какому-нибудь робковатому мужчине возможность выделиться и покрасоваться своей храбростью. И вообще не очень-то верила во все эти разговоры, думала: уж если нравишься за что-то, то за храбрость, вовсе не за трусость. А тот сарай и тот стыд помню, как будто это было вчера. Но чаще, гораздо чаще я прыгала. Прыгнула с парашютом. Не боялась бомбежек, и как только отправила дочку в эвакуацию, ни разу не спускалась в бомбоубежище. Я не боялась рожать, не боялась своих многочисленных операций. Как в первобытно-магическом восприятии, страхи овеществлялись, одушевлялись. Я болела в детстве тяжелой скарлатиной, с осложнением, с жаром, с бредом. И я кричала ничего не понимающим родным: «Сыворотка, уберите сыворотку!» Сывороткой — новое слово, услышанное сквозь бред, — я называла маску, коричневую кукольную маску старика-гнома. Боялась этой маски, она превратилась для меня в средоточие боли, болезни. Во взрослых болезнях «сыворотки» уже не было, но уверенность, что все вовне, достаточно что-то убрать, изменить, и боль, зло уйдет, — это осталось. Когда я училась в седьмом классе, мы проходили практику на заводе «Мосштамп». Рядом с нашей школой, на Большой Дмитровке, во дворе, громыхал пресс, было жарко, мы в основном слонялись без дела, редко-редко нам что-то объясняли, подпускали к станку. Зато мы «переваривались в фабричном котле». И набивали карманы «браком» — бритвенными лезвиями, которые так приятно было ломать, превращать в металлическую крошку на уроках. Как-то мы прогуляли практику. Меня обвинили в том, что я зачинщица. Я в это время увязла в любовных переживаниях, проходивших в бурной переписке (хотя «предмет» сидел на соседней парте), отругивалась лениво, и вдруг старшая вожатая говорит: «Конечно, ты, Рая, дочь служащего, из интеллигентов, разве тебе понять рабочую душу? Вот Поля недаром осталась, она с молоком матери впитала любовью к труду, рабочая косточка…» Я пристыженно замолчала. Поля была дочерью нашей школьной уборщицы. Не далее как утром я в очередной раз занималась с ней физикой, объясняла устройство электромотора. Она была невообразимо тупой, мне казалась очень доброй. И каждый раз, входя к ним в комнату, где оконце на уровне улицы, где жили восемь человек (как спят? где помещаются?), я испытывала острый стыд за свое благополучие, за благополучие нашего дома. Вожатая продолжает говорить, а мне в душу вползает страх: значит, я недостойна делать самое главное — участвовать в революции? Значит, Поля для этого годится, а я нет? А ведь я ночами представляла себе, как уйду в подполье где-нибудь в Германии, как буду участвовать в боях, как пронесу знамя на демонстрации или как убегу из дома строить Комсомольск-на-Амуре. Нет, нет, я больше никогда не пропущу практику, я не буду задаваться, я добьюсь того, чтобы следа «служащей», интеллигентки не осталось во мне. Война. Кто пойдет на опасное задание? Кому не слабо? Ничего этого не было. Потому что я побоялась пойти против правил, уставов, законоположений. В тот проклятый день, пятнадцатого октября сорок первого года, когда мокрый снег смешивался с черным дымом — жгли архивы, — мне твердо сказали в райкоме партии, куда я прибежала за разрешением остаться защищать Москву: «Каждый должен быть на своем месте, вы делаете важное дело, вас недаром эвакуируют вместе с ответственными сотрудниками Народного комиссариата иностранных дел, так вы помогаете фронту. Теперь вас приняли в кандидаты партии, извольте подчиняться партийной дисциплине. Чем тяжелее положение, тем строже дисциплина. Вы понимаете, что будет, если каждый начнет своевольничать!» Этажом ниже, на той же 3-й Миусской, формировался коммунистический батальон. Мне бы посвоевольничать, мне бы послушаться себя, не испугаться начальства. Но нет, я явилась по приказу на Большую Грузинскую и уехала в Куйбышев. Похоронив Леню, я написала заявление в военкомат с просьбой взять меня в армию. Мне отказали. Летом 43-го года я была с делегацией на фронте под Орлом. Мне предложили остаться. Правда, робковато предложили, комиссар все время переспрашивал: «А мне за это не влетит?» Мы очень устали, целый день переезжали из части в часть с подарками и лекциями. Я уснула в палатке, а когда проснулась — вокруг меня стоят люди, удивляются, смеются. Оказывается, ночью началась бомбежка, а потом артиллерийский обстрел Орла, вступили наши «катюши», грохот стоял невообразимый, а я — кажется, единственная — просто не проснулась, продолжала мирно спать. Начиналось наступление на Орловско-Курской дуге. Еще одна была возможность — в октябре 43-го года я поехала на Северный флот. Тоже читать лекции. И там могла бы остаться. Причем я не испугалась, когда еще в самом начале в Архангельске у меня украли сумку с документами. Меня все в Архангельске отговаривали от дальнейшей поездки, считали, что я должна вернуться в Москву, даже тюрьмой мне грозили, но я не послушалась и вполне благополучно проехала без документов по всем военным базам. Если бы я сегодня могла сказать себе: не пошла на фронт, потому что у меня маленькая дочь и я обязана быть с нею. Или не пошла, потому что испугалась стрельбы, бомбежек, смерти, наконец. Так нет же, этого я совсем не боялась. Я боялась начальства, я боялась хуже — менее достойно, что ли. По всему строю жизни, души, молодости я должна была быть на фронте. Мои военные письма мужу — крик. Об этом. Каждая военная песня или стихотворение и теперь отзываются несбывшимся. Болью. Себе я этого отступления от себя не простила. Так и не осуществилась главная моя мечта, так и не пригодилась никому моя физическая храбрость. Я долго отказывалась принять неизбежность смерти. Долго-долго существовала в иллюзорном мире, где царило бессмертие. А тогда ведь действительно нечего было бояться, раз отсутствовал главный страх. Во время войны мой муж Леня летал на бомбардировщиках, смерть была все время рядом. А я не боялась. Вернее, боялась страхом, который шел от сознания, — его можно было прогнать логическими доводами. В августе сорок второго года, когда самолет разбился и Леня погиб, мой мир блаженного неведения впервые зашатался. 47-й год. В Москву приехал из Рязани брат моего второго мужа Володя. Муж в командировке, мы с Володей одни в квартире (наши на даче). Я жду его с ужином и, как полагается, с пол-литром. Он пришел уже пьяный. Человек он был скорее добрый, но вино у него злое. Он быстро напивается, начинает обличать свою жену, нас с Колей вместе, потом порознь, всех остальных родных, знакомых, незнакомых. Наконец он вытащил револьвер и начал произносить предсмертные тирады. Хоть он и был совсем пьяный, но мне с ним не справиться, он огромный здоровенный мужчина. Пытаюсь выхватить револьвер, он меня отталкивает. Бежать в другую комнату, звонить? Но кому, куда? Два часа ночи. Он ложился на кровать и складывал руки, как в гробу. Вскакивал, распахивал окно, лез на подоконник. Начинал плясать вприсядку, падал на пол. Читал стихи Есенина. Объяснялся мне в любви, уговаривал, чтобы я бросила Колю. Потом проклинал меня. Требовал еще водки. Самое страшное было, когда он завыл. Прямо так завыл, по-волчьи, и грозил мне револьвером, если не дам еще водки. На рассвете он наконец затих. Я вызвала «скорую помощь». Его немедленно увезли — белая горячка. Мне было противно, я сердилась, возмущалась, жалела его жену, жалела его, немножко жалела и себя — ну за что мне такое, — но ни на миг не ужаснулась: у него в руках заряженный револьвер, он ничего не соображает, сейчас он спустит курок и… все.* * *
Моя приятельница сказала как-то, что люди вокруг нее движутся по параллельным дорогам, только находятся в разных точках. Оглянешься назад — и увидишь в какой-то точке себя вчерашнюю. Увидишь в том пункте, где и сегодня кто-то из твоих. Вот я боялась, когда в 1960 году Лев хотел послать в «Литгазету» некролог Пастернаку. А на похороны пойти не боялась. Сегодня это звучит просто смешно, но ведь сколько людей вокруг меня, любивших, понимавших, боготворивших Пастернака, побоялись тогда прийти на похороны! После мартовских встреч интеллигенции с правительством, в 63-м году, после того как Ильичев, тогдашний заведующий отделом пропаганды ЦК, обвинил Льва в «абстрактном гуманизме», я хожу по дорожкам в Переделкине и боюсь, что все снова вернется, а у меня теперь нет защиты — защиты глухотой и слепотой, — я уже «после грехопадения», я ничего не могу принять, ничего не могу оправдать. Я боюсь впутываться в дело Бродского и впутываюсь. В сентябре 65-го года мы с Левой были в Сухуми и там узнали, что арестован Синявский — мы читали его статьи — и еще кто-то (фамилия Даниэля была нам совершенно неизвестна). Мы с Комой Ивановым плывем по морю, и я говорю ему: — Ком, я боюсь. — Чего ты боишься? — Я боюсь за Левку, за его сердце. Это правда, только правда, но не вся правда. Я не сомневалась, что Лева как-то вмешается, начнет заступаться, последуют, разумеется, неприятности. А сил все меньше, с каждым годом все это труднее и труднее. Только-только закончилось дело Бродского, и без перерыва — новое дело. Но кроме всех этих логических соображений был еще и страх. Тот иррациональный, липкий, тот, от которого хочется забиться в угол с криком: «Не хочу!» Тем страхом я боялась за отца ночами тридцать седьмого года. Тем страхом я боялась на Лубянке, когда мне пришлось провести там ночь в 48-м году. Прошла Левина тяжелая операция. Издана за границей его книга «Хранить вечно» (1976). Сил не прибавилось. Страхи усилились. А те страхи десятилетней давности кажутся странными. И это чуть-чуть помогает подавлять сегодняшние. Я боюсь идти на демонстрации 5 декабря 65-го и 5 марта 66-го года — и не иду. Конечно, во всех этих случаях дело не только в страхе, все это довольно сложно. Но есть и страх, а я здесь говорю именно о страхе. Только по моей технической безграмотности я не боюсь, что наши разговоры в квартире записываются, просто в глубине души я не верю, что можно что-то записать на магнитофон. Оглядываюсь на соседние дорожки — где сейчас мои друзья? Люди освобождаются от страха. Вот один только пример: в 58-м году никто, ни один член Союза писателей не выступил в защиту Пастернака. А ведь многие, очень многие считали Пастернака поэтом великим, знали его годами, а то и десятилетиями. Прошло семь лет. И за двух литераторов — Синявского и Даниэля, которых мало кто знал, почти не знали их произведений, а те, кто знал, в большинстве своем не одобряли (я имею в виду только людей защищавших) их методов — печататься под псевдонимами за границей, и все-таки за них заступилось более ста литераторов и многие люди из разных слоев общества. Писали письма в газеты, правительству, писали и телеграммы съезду партии, открыто говорили о своем несогласии. Люди освобождаются от страха. Испугаться стыдно. Это важно — чтобы не было стыдно. И я начала освобождаться от страха. Вот я нисколько не испугалась, когда меня вызывали в партком по делу об этом нашем письме в защиту Синявского и Даниэля. 9 марта 66-го года я выступала на открытом партийном собрании, говорила о рукописях, не ставших книгами: «Святой колодец» В. Катаева, «Новое назначение» А. Бека, «Софья Петровна» Л. Чуковской, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Реквием» А. Ахматовой, роман Василия Гроссмана, конфискованный органами КГБ. Меня поздравляли, благодарили, записывали, пересказывали. Восхищались смелостью. А мне было неловко, потому что мое выступление было сочетанием смелости и страха. Боялась идти на трибуну и пошла. Боялась назвать роман Гроссмана и назвала. Но я и не обмолвилась о Синявском и Даниэле. А они сидели в московских тюрьмах, ждали этапа… Как же все-таки из той храброй девочки выросла эта взрослая трусиха? Не могла же я пройти весь «волочильный стан» (А. Солженицын) собраний, газет, журналов, постановлений — и чтобы следов не осталось. Я еще всегда стремилась к тому, чтобы хлопали восхищенные зрители. Казаться всем смелой, красоваться на сцене, на трибуне, на коне. И чтобы все одобряли, обязательно чтобы все одобряли каждое слово, каждый поступок. Как же можно идти своей дорогой, она же никем не одобрена, твоя дорога? А может, она и вовсе неверная? Нет, идти надо по широкому шоссе, строем, в ногу. Шоссе проложено теми, кто впереди, они знают лучше, они думают о тебе и за тебя. А страшно вот что: свернуть, сбиться с пути, остаться одной. Проклятое интеллигентское нутро и воспитание тянут порой на боковые тропки, тянут поискать самой. Нет-нет, не поддаваться, бороться с этим, как в детстве с трусостью. И быть со всеми, только со всеми. Пожалуй, я сейчас слишком рационализирую. Это еще и натура. Может быть, прежде всего натура.Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал…
П. Коган
Я с детства полюбил овал
За то, что он такой законченный.
Н. КоржавинЯ — с Коржавиным. Никогда не рисовала углов, уходила от углов, боялась их. И так — до сих пор. Мои взрослые дочери часто и теперь говорят мне, что у нас в квартире привидения. Они не любят оставаться одни, утверждают, что скрипят половицы, кто-то ходит. Я пожимаю плечами, потому что ничего похожего никогда не испытывала ни в детстве, ни позже. Наверно, дочери точнее, чем я, ощущают мир, исполненный опасностей, мир, враждебный человеку, где страхи подстерегают от рождения до смерти. Во мне сосуществовали страх и бесстрашие. То, что я долго была такой бесстрашной перед жизнью, обогатило мои детство и юность: незамутненное счастье начала, безграничность я испытала каждой клеточкой, целиком и полностью. Но и лишало многого — делало жестокой. Здесь нет обязательной причинной связи, но у меня это было так. Позже это же ограничивало как литератора, не давало мне возможности глубоко постичь тот круг явлений, которым я призвана заниматься профессионально, — современное искусство. Его ведь не понять, не ведая страха, отчаяния, абсурда, ужасающей невозможности общения. Вместе с приходом страха в мою жизнь — осознанного страха — я стала лучше понимать других людей, стала более сострадательной, в мире прибавилось красок и звуков. Та девочка, та молодая женщина просто не услышала бы, например, гениальных тютчевских строк:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
17. Бухарест
Когда я заполняю анкеты, то в графе «пребывание за границей» пишу «с мая по декабрь 1945 г. в г. Бухаресте», цель поездки — «представитель ВОКСа при АРЛЮСе». АРЛЮС — румынское Общество дружбы с СССР. В мечтах последнего года войны мы ехали в некий разоренный фашистами советский город, в котором мы собирались строить социализм, настоящий, как мы сказали бы сегодня, «социализм с человеческим лицом». Однако моего тогдашнего мужа направили в СКК — Союзную Контрольную Комиссию в Бухаресте. Армии-победительницы устанавливали порядок в побежденных странах. Опять же — новый порядок. Антифашистский. Нас провожало много народу, но я помню только родителей и Сашу Караганова с Софой. Я была на шестом месяце беременности. Наш поезд несколько часов стоял в Киеве, мы шли по Крещатику, ни одного целого дома; пленные немцы расчищали каменные завалы. Пяти летняя Светка удивленно сказала: «Мама, они же как люди…» Первый румынский город Констанца встретил нас теплым дождем. Мы были в тяжелых осенних драповых пальто, а люди на улицах в плащах. Сегодня нет у нас самого захудалого поселка, где не носили бы эти прозрачные плащи, чаще уже замененные «болоньями». Но тогда я смотрела на эти плащи как на нездешние материи, на символ богатой «заграницы». Несколько суток из окна поезда видели Россию, нищую, ободранную, разрушенную. Всю войну я прожила среди темно-серого цвета. В Бухаресте летняя толпа ошеломила и оскорбила нарядной пестротой: красные, желтые, голубые платья. Мне сразу же захотелось такое платье, и мне было стыдно этого желания, и я осуждала легкомысленных румынок, они, конечно же, горя не знали, осуждала и мужчин в лакированных туфлях. Жили мы в гостинице «Унион» — советском сеттльменте третьего разряда. Начальники поважнее жили в «Паласе», а самые важные — в особняках. До родов я работала: консультировала — то просматривала выставку, посвященную СССР, то составляла планы лекционных курсов, помогала энтузиастам дружбы с нашей страной. Но главная жизнь была дома. Как это непривычно после московской занятости, спешки, ни минуты для себя; «Мазать губы — это уже за счет государства», — говорила моя приятельница, садясь за рабочий стол и вынимая помаду. В Бухаресте мы обедали в закрытой столовой, а завтракали и ужинали дома — хлеб, молоко, виноград. Восьмого мая Коля неожиданно пришел с работы днем, с розами, поцеловал мне руку и поздравил с Победой.Вечером мы ходили по пьяному Бухаресту. На следующий день поехали за город, в Снагоф, праздновать. Сколько раз я, как все, представляла себе этот день, мечтала о нем, звала, ждала. Я вспоминала Леню, его стихи. Не дожил. Заплакала я позже, когда пришла целая пачка писем из Москвы от друзей. Они так подробно обо всем рассказали, одно письмо дополняло другое, что мне потом часто казалось — я сама была там, в этой моей толпе, на Красной площади, я видела, как военных на улицах угощали водкой, как у «Националя» подбрасывали в воздух каких-то американцев, как разные люди вдруг на мгновение ощутили себя семьей человечества, единой в счастье. Мы уехали из Москвы за двенадцать дней до Победы. По музыке моей тогдашней жизни я должна была испытать это счастье, это причастие, я, военная вдова, я, всю войну работавшая для победы, имела на это право. Но ведь я уже снова вышла замуж, повернула судьбу и само это право поставила под сомнение. Очень был у меня горьким этот великий праздник — с чужими и чуждыми людьми, в их пьяном похмелье. Конечно, все относительно. Когда Лев рассказывал мне, что он, провоевавший все четыре года, встретил день Победы в тюремной камере, мне стало не только мучительно больно за отнятое у него право быть в этот день в Берлине, но и стыдно за свои горести. Девятого мая мне не с кем было вспоминать. Вспоминать все четыре года, день за днем. Самые горькие и самые радостные, вспоминать 22 июня и 16 октября, эвакуацию и возвращение в Москву, Сталинград и первые салюты. Я была благодарна за розы, но с Колей общих воспоминаний у нас не было. Жизнь в Бухаресте разламывается надвое, и разламывается не моими родами, а отъездом Коли. Он заболел, и его отправили в Москву. Больше трех месяцев я жила с двумя маленькими детьми одна, работала, теперь уже работала много. И за эти месяцы испытала покой и волю. При Коле у нас ничего не оставалось на покупки, деньги уходили на выпивку. А когда он уехал, я начала понемногу одеваться. Появился тот самый недосягаемый плащ, костюм, сумка, шляпа, длинный вишневый халат. В детстве у меня возник идеал красоты, скорее всего по иллюстрациям к серии «Золотая библиотека», — осиная талия, из-под платья чуть высовывается ножка на каблучке, белокурые длинные волосы, распущенные, или косы, или пучок, вуаль, широкополая шляпа. (Теперь этот старый идеал стал современнейшей модой. Ретро.) А проходила я свои первые двадцать пять лет в юнгштурмовках с кожаным поясом и портупеей, в белых кофтах и коротких темных юбках, в беретах, полуботинках. И вдруг начала оживать моя детская мечта. Бухарестских фотографий очень мало: женщина в пестром платье с белым спеленутым свертком. Женщина в строгом синем костюме, строгое неприятное лицо, читает лекцию. Женщина с остриженной девочкой, Светкой, и с огромным мишкой. Другая девочка — новорожденная Маша — в байковых распашонках, белых в голубую горошинку. Какой прекрасной была эта мягкая байка! А ведь я в войну видела грудных детей, запеленутых в старые тряпки, видела мальчика в пеленках из черной бязи — такую материю выдали матери в Куйбышеве. В первый раз в моей жизни в шкафу лежало десять пар чулок. Пожалуй, единственным предметом роскоши, купленным мною в Румынии, был столовый сервиз на двенадцать персон — от него еще остались одна тарелка и один соусник. Да Светкина кукла, закрывающая глаза, с ресницами вполщеки. Кукла тоже была с картинок моего детства. Первые примеры нашего хищничества за границей я увидела в Румынии недалеко от себя. Ползли слухи о грузовиках и самолетах, на которых начальники и не начальники увозили в Россию заграничное добро. Я, конечно, возмущалась хищниками, они порочили звание советского человека. Незадолго до моих родов ко мне в гостиницу пришел в военной форме мой давний приятель. Это был первый человек, рассказавший мне о грабежах и насилиях. Он кончал войну в Чехословакии, он говорил о том, что видел собственными глазами. Я знала, что он правдив, что он ничего не может придумать. И я не поверила ни одному его слову. То есть во мне не оставалось его рассказов, они отскакивали, выталкивались всем тогдашним устройством моей души. Отдельные, нетипичные негодяи бывают, конечно, везде, и в Красной Армии тоже. Румынский искусствовед Мирча Надежди рассказывал, как он и его друзья ждали Красную Армию, как он молитвенно надеялся: вот придут русские, и ночь сменится днем. «А ваши солдаты отняли у меня часы насильно. Оскорбило насилие. Я сам отдал бы им по первой просьбе». Это он мне говорил, провожая меня домой после публичной лекции. «Облик советского человека». Передо мной три стенограммы на французском языке. Грамотно, квалифицированно, временами даже изысканно я защищаю советское государство, строй, человека. Сохранилась одна афиша (по-румынски) — «Некоторые аспекты советской культуры», далее огромными буквами — «Раиса Орлова, АРЛЮС, каля Виктория, 115, воскресенье, 18 ноября 1945 г., в 11 часов утра». Выходит на кафедру молодая женщина. Меня представляют слушателям: «Домна (т. е. мадам) Орлова», и чей-то выкрик перебивает председательствующего: «Домна или домнишара? Мадам или мадемуазель?» Я сама отвечаю: «Домна, у которой уже есть две домнишары». Смех, улыбки, благодарность за то, что я по-человечески ответила, выучив к тому же простейшее румынское слово. И до чего же я сама довольна собой, довольна своим ответом, рада, что я молодо выгляжу, что меня принимают за девушку… Мои публичные лекции — «Советский человек», «Советская культура», «Народное образование в СССР» и вечер вопросов и ответов. Три стенограммы — это та самая канва, по которой другие домны вышивают и сегодня рекламные узоры в Бухаресте и в Париже, в Каире и в Токио. Но сегодня мир узнал про нас много, очень много. А тогда железный занавес только что был прорван кровавой войной, на нас напали, мы оборонялись, наша армия отстояла Россию, вошла в Европу, и вот теперь надо было объяснить: что же произошло. Может быть, надо отбросить все попытки понять Россию умом и надо только верить и говорить о чуде, или все-таки можно понять и объяснить. Я бралась объяснять, совершенно не понимая ни огромности задачи, ни ее бесконечной трудности. Улица, где я выступала, не зря называлась каля В_и_к_т_о_р_и_я. В этом городе, как и во всей Восточной Европе, были расположены части Красной Армии — армии-победительницы. За моими объяснениями стояла армия. «Есть два взгляда на советского человека. Сторонники одного, распространенного до войны, утверждают, что советские люди — существа особого рода. Так думают и наши друзья, и наши враги. Враги принимают нас за дьяволов. По их представлениям СССР — это ад, где умирают с голоду, где пытают и т. д. Наши друзья принимают нас за ангелов. По их представлениям СССР — это рай, это воплощенная мечта, где уже нечего больше желать. И ни те, ни другие не считают нас людьми — со всеми достоинствами и пороками, присущими роду человеческому; они не могут представить себе, что СССР — это не ад и не рай, а постоянно развивающееся общество, опытная площадка грандиозных свершений, общество, которое ищет и находит новые пути для человечества; и если в процессе этих поисков случается и заблудиться, это общество возвращается назад и снова начинает поиски… Сторонники другого взгляда (их особенно много сейчас, после войны) говорят: советские люди не отличаются от нас, они такие же, как мы. Их претензии, будто они открыли нечто новое, потерпели крах. Сейчас они склоняются направо, они возвращаются к старому режиму: звания в армии, золотые и серебряные медали в школах, укрепление семьи — в советских людях нет ничего нового. Оба взгляда неверны, хотя в каждом из них и содержится часть истины». Ничто, пожалуй, так не удивляет, так не отталкивает сегодня, как убежденность той домны на трибуне: она владеет абсолютной истиной, как владел ее муж. По тогдашним меркам даже смело, я ведь коснулась и голода, и пыток — конечно, чтобы тут же «дать отпор», но в те годы об этом не полагалось даже упоминать. Люди, которые сидели в переполненном зале, знали в большинстве своем, что такое голод, многие прошли через фашистские тюрьмы. Они понимали, что судьба их побежденной страны теперь неразрывно связана с сильным восточным соседом. Им жизненно важно было узнать, что за страна Россия? Ведь тогда еще можно было выбирать, румынам еще можно было и перебраться в другие страны. Мои слушатели, как все западные люди, подозрительно относились к лобовой пропаганде. К тому самовосхвалению, которым были полны наши газеты, журналы, книги, да и лекции. Но женщина на трибуне как будто и не пропагандирует. Она задает вопросы. Формулирует их, слушателей, сомнения, настраивается на одну волну с ними. Они начинают верить. И когда она чуть позже будет доказывать, что СССР еще не рай, но страна прекрасная, как легко им будет поверить, как им захочется поверить, ведь людям испокон веку свойственно верить в лучшее. С каждой страницей старой стенограммы та женщина становится все более чужой и все более стыдно за нее. Как же она определяет черты нового человека? Революция освободила человеческие отношения от власти денег. «Деньги больше не определяют роль человека в обществе. Деньги больше не играют никакой роли во взаимоотношениях между родителями и детьми, между мужьями и женами, между друзьями». Год 1970-й. Зачет в Грузии стоит 25 рублей. Один студент проделал такой опыт: он вложил в зачетную книжку 30 рублей и, получив зачет, сказал профессору: «Вы мне должны пять рублей». Тот молча отдал «сдачу». В больнице перед операцией медсестре и няньке дают по 5 рублей. Профессору за операцию — сотни, а то и тысячи. Кассирше, которая выдает гонорар, оставляют трешки. Все продается и покупается. Именно деньги во многих случаях определяют и человеческие отношения. …А там, в Бухаресте, в 1945 году «она»-я продолжала: «Бальзак наших дней не мог бы создать такие образы, как Гранде, как отец Горио, как Растиньяк. Я не хочу сказать, что у нас нет скупцов. Есть, и, к сожалению, очень много. Но в нашей стране нет основы для Гранде как социального типа, в нашем обществе нельзя найти тысячи маленьких Гранде». Я произносила эти слова именно тогда, когда закладывались карьеры тысяч, а может быть, и десятков тысяч растиньяков и гранде. Передо мной сидели преимущественно интеллигенты. Разумеется, они знали Бальзака. Для Румынии французская культура всегда была родной. Все румынские интеллигенты, с которыми я встречалась, знали французский язык. Так еще больше укреплялись связи лектора с аудиторией. Теперь можно идти и в наступление: «О проблеме „приданое“ я впервые услышала здесь, у вас. Меня здесь жалели, что у меня дочки, а не сыновья, что их трудно будет выдавать замуж без приданого…» В этом, как и во всем остальном, я была искренней. Я не слышала раньше о приданом. И мне были смешны опасения сердобольных румынок относительно будущего этих двух маленьких девочек. Замуж они впоследствии, действительно, вышли и без приданого, которое, впрочем, сильно облегчило бы их непростые жизни… Я приводила примеры из книги Уендела Уилки, кандидата в президенты США, поминала его разговор с директором автозавода, который вовсе не выражал желания владеть заводом. Я утверждала, что у нас коренным образом изменились отношения человека и общества, что дела колхоза, завода, школы — личное дело советского человека. Я говорила о чувстве ответственности. «Мы все, каждый из нас, не будучи ни Жуковым, ни Рокоссовским, отвечали за продвижения наших войск», — это понятно, мои слушатели сами были свидетелями. Верили этому и, значит, верили и другому, чего они проверить своим опытом уже не могли. С подкупающей откровенностью я признаю, что у нас много нехваток, «у большинства наших женщин… нет шелковых чулок (это была еще донейлоновая эра)… нам надо все производить не для избранных, а для двухсот миллионов… Но, вопреки тому, что у нас еще многого не хватает, мы счастливы. Счастливы сегодня… наш мир еще не очень комфортабелен, но он справедлив и прекрасен, а это гораздо важнее». Я рассказывала моим слушателям об Олеге Кошевом — роман Фадеева «Молодая гвардия» только печатался. Я говорила о том, что Олег хотел мира, счастья, гармонии, а пришлись на его долю муки, пытки и смерть. «Судьбу нашей страны можно уподобить судьбе Олега Кошевого. Мирная, трудолюбивая страна стремилась к подвигам не на полях битв, а в искусстве, в науке, в труде, в улучшении жизни человеческой, а обстоятельства превратили Россию в крепость, противостоящую варварству. Главная причина нашей победы в войне — богатство человеческих характеров, созданных Великой Октябрьской революцией». Мне хлопали, дарили цветы, пожимали руки. В их отношении ко мне было еще и оскорбительное удивление, как бы подтверждающее мои вопросы, поставленные вначале. В переводе на слова эти удивленные взгляды должны были звучать примерно так: «Советская женщина, приехала оттуда, но цивилизованная, не сморкается в рукав, умеет обращаться с вилкой и даже изъясняется по-французски». Я возмущалась — это несправедливо, какое право имеют эти румыны удивляться тому, что человек из России цивилизован? Я-то ведь знала, что я отнюдь не выше среднего уровня. Теперь, вспоминая, перечитывая, пытаясь погрузиться в то время, я еще спрашиваю себя: а быть может, было бы лучше, чтобы перед ними на каля Виктория выступил бы толстомордый полковник, который на русском языке без всяких изысков заявил бы им, что советские люди во всем давно достигли совершенства, а им, его слушателям, остается лишь, построившись в шеренги, шагать за советскими людьми прямо в рай. Тогда многое сразу стало бы ясным; тех румын, кто умел думать, не вводили бы в заблуждение… А может, это и праздные вопросы, путей к истине много, и пройти эти заминированные пути тем, кто хочет их пройти, надо самим. И вероятно, в одиночку. Что я знала о Румынии, когда ехала туда? Ничего, кроме старого пошлого анекдота: румыны — это не нация, это профессия. (Первым это сказал Меттерних.) Что я узнала за семь месяцев? Почти ничего. Да, я рожала, кормила, была занята и связана детьми. Работала, в своей гостинице узнавала — думала, что узнавала, — об СССР, готовясь ежевечерне к лекциям. Но главное, я — хоть и после ВОКСа — еще не знала тогда, как надо по-настоящему хотеть и уметь узнавать другие страны. Временами румынская жизнь все-таки прорывалась в мою. Вот я гуляю в парке со своими «домнишарами», слышу крики, выстрелы, паника, все бегут. И я ухожу из парка, ничего не понимая. Когда добираюсь до гостиницы, у знакомых вздох облегчения — меня искали. Оказывается, в городе какой-то переворот, кажется, сбросили короля. Румыния провозглашается республикой. А может, и какой другой переворот на пути превращения в «народную демократию». Я не бывала ни в кино, ни в театрах. Один раз была в музее. Кроме Дня Победы не помню случая, чтобы мы с Колей куда-нибудь ходили вечерами, а одна-то я подавно не выходила. Скучала по Москве, по родным, по друзьям, но какой-то не реальной тоской, замедленной. Мне хотелось быть одной. Мне это было нужно — вот такая остановка, промежуток. Блаженствовала под осенним солнцем. Оно, солнце, уже не враг, как летом, когда я спасалась только тем, что занавешивала окна мокрыми простынями. Ласковое осеннее солнце, я сама себе хозяйка. Светка играла с подружками. Маша спокойно спала. Пеленки я складывала в раковину под струю кипятка. Вскоре перестала ежедневно гладить. Дети не болели. Вечерами, уложив детей и прочитав то, что мне было нужно, я садилась у открытого окна, гасила лампу, смотрела на веселую бухарестскую площадь и думала. Я была в мире с миром и в мире с собой. Впервые за долгое время и в последний раз перед долголетним многолюдьем я осталась наедине с собой. Бессознательно хотела именно этого. Но я еще не знала, что мне с собою делать. Декабрьским днем, вернувшись с лекции, я узнала о приезде Коли. Первое — вещее — движение души: «Не хочу». С этим я, к сожалению, мгновенно справилась и через минуту уже целовалась и радовалась. Тридцатого декабря мы вернулись в Москву. Начиналась еще одна полоса жизни. 197018. Как я разучивалась
В 1947 году я поступила в аспирантуру ИМЛИ, где продолжала не столько учиться, сколько разучиваться. Прочитала много книг, прослушала много чужих работ, глав из диссертаций, лекций, докладов. Меня отталкивали публиковавшиеся в то время романы Первенцева, Панферова, Бубеннова. Привлекали книги В. Гроссмана, В. Пановой, В. Некрасова, Э. Казакевича. То есть сохранялось самое грубое, самое приблизительное различие между хорошим и дурным. Но именно приблизительное: ведь я продолжала чтить Фадеева, автора двух редакций романа «Молодая гвардия», хотя и предпочитала первую; находила сильные сцены в романе П. Павленко «Счастье», критерии художественности оставались смутными. Я начала профессионально заниматься американской литературой. Руководителем моим была Анна Аркадьевна Елистратова, энциклопедически образованная, серьезный ученый. Я поступила в аспирантуру сразу же после того, как в печати разгромили первый том истории американской литературы; Елистратова была одним из авторов. Испуг после разгрома она сохранила надолго, тем более что ее друга, американиста Абеля Исаковича Старцева, написавшего большую часть глав в этом томе, изгнали из института, а затем арестовали. Заведовал аспирантурой Роман Михайлович Самарин. Как-то при обсуждении одной работы он спросил: «А нельзя ли эту детальку страктовать и так?» Эту фразу можно поставить эпиграфом ко всей его деятельности приспособленца. Мне рассказали, что на выборах в Академию наук в 1968 году В. Жирмунский резко выступил против кандидатуры Самарина. В перерыве к нему подошли и пригрозили: «Завтра защита вашего ученика Э. Мелетинского. Если вы не измените точку зрения, докторская защита будет провалена». «Я с шантажистами не разговариваю». Защиту провалить тогда не удалось. В 1973 году Самарин умер. По человеческим качествам нельзя сравнивать его и Анну Аркадьевну Елистратову. Но и она участвовала в его — в общем деле. Меня учила тому же. А я оказалась отличницей, примерной ученицей. Была поставлена задача — «разоблачать» американцев, «разоблачать» их литературу. Вот чему я училась и едва не научилась в аспирантуре. В это время мои статьи начали печататься. Удивительно легко мне было тогда писать. Заказывали много, я исполняла заказы точно в срок, писала гладко все, что надо было. Вполне естественно, что статьи сначала почти не редактировались. Теперь, пятнадцать лет спустя, каждая самая малая рецензия — мука мученическая. Мне и тогда не нравилось то, что писала, но внутренних терзаний, самого главного, высшего суда не было или почти не было. Елистратова научила меня одному — точности обращения с фактами. Сами детали должны соответствовать истине, все должно быть проверено и перепроверено многократно: имена, названия, цитаты. Но что касается трактовки деталей, тут уж никаких объективных закономерностей не существовало. Вся методология научной работы была порочной: не вывести идею из материала, из всего многообразия продуманного и прочитанного, а подобрать материал к заранее известному и апробированному тезису, подогнать под заранее данный ответ. Это становилось тем обязательнее, чем ближе материал к нашим дням. В области классики еще можно было работать по-иному. Но я стремилась лишь к современным темам. Я училась в аспирантуре ИМЛИ в то самое время, когда там в библиотеке пылилась защищенная диссертация М. М. Бахтина «Франсуа Рабле и смеховая культура Возрождения» — ныне классическая работа, переведенная уже на многие языки. А я его имени никогда в ИМЛИ не слышала. В воксовские годы возникло и укрепилось во мне высокомерное отношение к интеллигенции. Иронизировала я тогда и над моими немногочисленными товарищами по КУРСУ> которые пошли в науку. Себя-то я уж во всяком случае считала непригодной к научной деятельности, да и сама эта деятельность и деятели никакого уважения не вызывали. Впрочем, в ту науку, в которую я пришла в 1947 году, мог прийти любой, если только он не обладал свободным умом. Меня тогда свободный ум не отягощал. Гораздо важнее, однако, не мои личные возможности, а то довольно распространенное антиинтеллигентское настроение, которое я так ненавижу в кочетовщине. Это настроение проникло в мою душу настолько глубоко, что, представляя себе человека, которого я могла бы полюбить, я твердила, как заклинание: «Только не очкарика». Отворачивалась я от истории, от «умных» разговоров — выбрасывала то самое прекрасное, что связывало, связывает и будет связывать человека с прошлым и будущим. Я шла против себя, против заложенного в детстве, против своей души. В разговоре об одном поэте я услышала: «Он живет вопреки себе. Он себя коверкает, подгоняет под несвойственную форму». Это очень точно определяет мое тогдашнее состояние. Кривые, загнанные в несвойственную форму деревца вырастают уродцами, в лучшем случае — причудливыми раритетами. Нет в них радости свободного, естественного дерева. Сейчас, пожалуй, больше всего привлекает меня в людях свобода, верность себе. Уменье найти себя. И быть верным своему предначертанию. Сумеешь, не сумеешь воплотиться — это уже иное, от тебя не зависящее, но идти по своему пути. Потому такой важной оказалась для меня книга Н. Берберовой «Курсив мой». Прежде всего умением разгадать свои знаки. И что гораздо труднее, и потому встречается гораздо реже, умением поступать в соответствии со своими знаками. Тогда же я стремилась к самовоспитанию, на деле оказавшемуся самоподавлением. В 1962 году я прочитала в дневниках Ольги Берггольц родственные по духу записи: «Роман, где главное, наверное, теперь будет о праве личности на самоопределение, об ее живых и исконных правах, о ее трагедии самообуздания и даже самоуничтожения во имя великих идей» (15.11.1940). И далее: «Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа, к XIX веку. О, как они были свободны… А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться!) не записываю многих размышлений только потому, что мысль „это будет читать следователь“ преследует меня» (1.3.1940). Я опомнилась — иначе сказать не могу — от своего антиинтеллигентского психоза еще до 1953 года. В Таллине, когда сама начала преподавать. Закончу о своем разучивании в аспирантуре. Я выбрала тему диссертации «Образ коммуниста в американской литературе. 1945–1950». Материал исследования всегда влияет на его характер. Так было и на этот раз. Рассматривать, по существу, было почти нечего. Меня невольно увело в прошлое, пусть и недавнее. Во второй главе и в начале третьей, посвященной истории прогрессивной журналистики, есть интересный материал, вводятся в обращение новые факты. В двадцатые и тридцатые годы и в США было сильное и своеобразное левое движение, в котором большую роль играли коммунисты. Это движение воздействовало по-разному на широкий круг писателей — Стейнбека и Хемингуэя, Лилиан Хеллман и Дороти Паркер. Такое происходило тогда не только в Америке. Соблазн коммунистических идей, их притяжение захватили многих писателей разных талантов, разных взглядов. Среди них были и те, чьи имена у нас нельзя было произносить, как Спендер, Оден, Оруэлл. Даже автор пророческого «1984» не остался чужд левым влияниям в самом широком смысле этого слова — ив очерках тридцатых годов, и в книге «Дань Каталонии». Работая над своей диссертацией, я, естественно, считала, то есть повторяла вслед за другими, что воздействие коммунизма только плодотворно. Десять лет спустя после защиты, приступая к этой книге, я повторяла за другими, что это воздействие только тлетворно. Истина отнюдь не посередине. Пытаюсь приблизить, я к пониманию истории, к ее хитрости, к ее сложно извилистому ходу. Здесь есть глубины, отнюдь не исчезнувшие и сегодня. Естественное для писателя тяготение к миру обездоленных, голодных, к тому, что сегодня находят прежде всего в Третьем мире. Об этом можно было размышлять, но не на моем тогдашнем уровне. А разбор слабых, схематичных пролетарских романов, да еще и сдобренный теоретическими построениями о социалистическом реализме в американской литературе, — это было чистейшей схоластикой. В 1956 году Лев начал работу над своей книгой («Сердце всегда слева»), и мне предложил делать то же самое. Я отказалась: я не доросла до книги, и ни одна из статей, написанных мной и опубликованных с 1947 по 1953 год, не заслуживала перечтения. Первое мое выступление в печати, которого я не стыжусь, — рецензия на роман Марты Додд «Лучом прожектора», опубликованная в «Иностранной литературе». Но это шел уже 1955 год — новая полоса моей и общей нашей жизни… …В аспирантуре меня настиг «незабываемый сорок девятый» — так назвал этот год Юзовский. Все началось, по существу, раньше. Вероятно, после сталинского тоста за русский народ, произнесенного в 1945 году. Первый среди равных. Происходил массовый психоз (второй после 1937 года тур), с театральными эффектами, радением толпы, завыванием, криками. Все это требовало выключения воли, разума, совести, чести. Главным врагом была «заграница» — тот мир, где в конце войны побывала наша армия. Разрыв между советскими газетными статьями и реальной действительностью даже в таких бедных странах, как Румыния и Польша, глубоко запал в сознание сотен тысяч, миллионов людей. В тюрьмы и лагеря катился поток пленников. — Кто виноват, что мы живем так плохо, хуже всех? Надо было найти виновников. Русской толпе всегда бросали с крыльца боярина. Сначала — виноваты шпионы. Потом — виноваты иностранцы. Различные инородцы — крымские татары, чеченцы, калмыки. И, наконец, общедоступное, проверенное опытом многих стран и поколений, проверенное опытом России — виноваты евреи. Как-то недавно мне надо было просмотреть «Литгазету» за 1949 год. Невозможно теперь понять — как же это я читала? Как же я этому верила? Ведь все — подбор авторов погромных статей, стиль, лексика, не говоря уже о содержании, — все свидетельствовало о грязи, лжи, отвратительной комедии. Верила — пусть с оговорками, со многими частными несогласиями; может быть, если бы я тогда пыталась обобщить эти частные разногласия, получилось бы другое. В «Новом мире», в № 9 за 1961 год, я прочла у Эренбурга, что Переца Маркиша арестовали 27 января 1949 года. А статья в «Правде» о критиках-«космополитах» появилась 28 января. Трудно не связать эти явления. (В 1961 году читатели еще могли из советских газет и журналов узнать, кто когда был арестован. Давно это кончилось. Порою авторы, стремящиеся к правде, дают понять об арестах, применяя разные формы эзопова языка, например: «его отец пропал… исчез… его воспитывали бабушка и дедушка», — мы, современники, знаем — значит, его родители были арестованы. Но все чаще мне кажется, что подобные фразы, обводя цензуру, обводят и сотни тысяч читателей, особенно младших поколений.) Я была аспиранткой ИМЛИ. И в самом начале этой кампании я не просто пассивно голосовала «за», я выступила в поддержку этой мерзости. Одно отступление: работая в ВОКСе, мне не раз приходилось сталкиваться с невыдуманным низкопоклонством перед заграницей, которое внушало мне отвращение. В 1945 году в Румынии мне бывало грустно. По воскресеньям под окна приходил шарманщик, попугай вытаскивал «судьбы». Гадать я не любила, но слушала всегда эту мучительно-однообразную шарманку и чувствовала себя одинокой в чужом мире. В Румынии я была очень связана — пятилетняя Света, новорожденная Маша. Но вот в Польше в 1956 году, где я была всего две недели, где мне было необыкновенно интересно, где все соответствовало моему взбудораженному состоянию, и там вечерами, очень усталая, я скучала по Москве, Подмосковью, русской речи, по своему… Сейчас, тридцать лет спустя, из этой страны хотят уехать, улететь, убежать тысячи, если не десятки тысяч. Евреи и немцы. Русские и литовцы. Люди разных наций. Только и слышишь: за границей остался дирижер… остался шахматист… остался моряк… Мои строки для многих, в том числе и для не собирающихся уезжать, прозвучат анахронизмом. Но в этом я не изменилась. Никакие доводы — ни логические, ни эмоциональные — не могут меня поколебать. Люблю, потому что люблю. Потому что та одна жизнь, которая была мне дана, прошла здесь. И к старости это только обострилось, как обостряется многое (1979 г.) Не изменилась и сегодня, когда я второй год живу в другом мире (1982 г.). В 1949 году мне казалось, что говорящие на собраниях спекулянты тоже защищают родину, Россию, то неопределенное, что так не хочется называть оскверненным словом «патриотизм». Вероятно, я пыталась говорить и о патриотизме. Примеры приводила (отрицательные!) из статей об Америке, опубликованных в «Интернациональной литературе» во время войны. Одна из этих статей принадлежала А. Старцеву, уже в то время арестованному. Как ясно сегодня мне и всем порядочным людям вокруг меня, что полемизировать с заключенным, с человеком, у которого кляп во рту, — подло. А тогда я поступила именно так. Говорила я и о «еврейском буржуазном национализме». Здесь я, слава Богу, хоть обошлась без отечественных примеров, упоминала о Говарде Фасте. Говорила о том, что против антисемитизма с самого начала революции партия вела острую борьбу, а против национализма совсем нет — прекрасной иллюстрацией «отсутствия» антисемитизма могло быть и это собрание, — и что, стало быть, буржуазному национализму дали разрастись до главной опасности. То, что я говорила о национализме, это я чувствовала и до собрания, и много после. Я не только не ощущала себя еврейкой, но, пока это было еще возможно, называла себя антисемиткой, и с основанием. Если бы мы жили в нормальном обществе, которого пока не существует на земле, вероятно, на мне бы и закончился полностью процесс ассимиляции. Живу в России, родной язык, культура, литература — русские. И многие культуры мира — французская, американская, итальянская, немецкая — мне несравненно ближе, роднее, чем неизвестная мне еврейская. Голоса крови я не ощущала никогда. И мне одинаково невыносимы, ненавистны были и печи Освенцима, убийство в Бабьем Яру, и Катынь, и Лидице, и Орадур. Издевательства гитлеровцев над украинцами и поляками, французами и русскими. С тех пор как были написаны эти страницы, в СССР выросло поколение людей, ощущающих себя евреями. Возникла третья эмиграция — имею в виду не тех, кто хочет уехать о_т_с_ю_д_а, а «репатриантов», тех, кто хотел или продолжает хотеть, испытывая огромные трудности, вплоть до лагерей, т_у_д_а, в Израиль. Их много. Эти новые евреи презирают, ненавидят таких, как я, ничуть не меньше, чем нас ненавидят антисемиты (значительно, впрочем, усилившиеся по сравнению с 1961 годом). Но я продолжаю считать себя русской, пусть и не признанной теперь так же, как тогда. Об антисемитизме заговорили еще до войны. Тогда рассказывали, что известному журналисту Мих. Розенфельду предложили подписать статью псевдонимом. Он ответил, что согласен только на один псевдоним — Пуришкевич. Во время войны антисемитизм усилился. Мне говорили, что менять фамилию Либерзон на Орлову (когда я вторично вышла замуж) стыдно. И что совсем уже недопустимо менять фамилию моей дочери Свете. В 1942 году у меня был долгий разговор на эту тему с Кеменовым. Он старался объяснить и таким образом оправдать происходящее. Сказал мне, в частности, что лучшие евреи — интеллигенция, партийный актив — оторвались от своего народа, от корней, а носителями собственно национального осталось городское, вернее, местечковое мещанство. Старики. Как национальное осталось только старое, дореволюционное, заскорузлое. У других наций с территорией — у грузин, армян — появилось новое советское национальное, а у евреев — нет. Все это даже тогда, в период преклонения перед его умом и образованностью, казалось мне абстрактной теорией. Может быть, и интересной, но не имеющей отношения к тому, что происходит. Почему же в советском государстве, где мы так гордились равенством и братством, все отвратительнее, все виднее становились антисемитские высказывания, антисемитская практика? Начались усиленные разговоры о «семейственности», «родственниках» и др. С антисемитизмом снизу я столкнулась впервые в очереди за мукой. Подвыпивший здоровенный детина полез вперед, мы начали его останавливать, и я услышала «жидовская морда». Не раздумывая я дала ему пощечину, меня чуть не отвели в милицию. Испытала я и другое. В Куйбышеве в магазинах не было молока. На рынке очередь с пяти часов утра и по 30–40 рублей литр. У меня трехлетняя Светка, ей нужно молоко. Как-то молочница пришла около семи, все уже закоченели. И здесь появилась толстенная женщина, румяная, по акценту ясно, что еврейка, полезла без очереди с криком: «Дайте мне раньше, я заплачу вам больше». Я подбежала к ней, тихо, но очень отчетливо сказала: «Сейчас же убирайся, не то я тебя убью». Уж не знаю, чем и как я собиралась ее убивать, но, наверное, что-то было в моем тоне убедительное. Она немедленно скрылась. Никогда потом в тех многочисленных очередях, в которых мне приходилось стоять (только за необходимым; на очереди за коврами, ананасами или золотыми кольцами смотрю как на моему пониманию недоступное), я никогда, при любых несправедливостях не вмешивалась даже в разговоры. Старалась ни в чем не принимать участия. Видимо, тогда я устыдилась, ощутив, что между той торговкой и мной существует некая связь. Испугалась настолько, что поступила вопреки своему характеру. На партийном собрании в ИМ ЛИ в 1949 году я приводила слова Ленина о том, что коммунист бывшей угнетающей нации обязан бороться прежде всего против великодержавного шовинизма, а коммунист бывшей угнетенной нации — против местного национализма. Но ни один «коммунист угнетающей нации» на этом собрании против антисемитизма не выступил. В то время для такого выступления надо было обладать не только исключительной ясностью ума, но и редким благородством и редкой смелостью. Такой человек нашелся: беспартийный Сергей Образцову знаменитый кукольник, актер, режиссер, основатель и бессменный руководитель кукольного театра. На большом собрании интеллигенции Москвы Образцов сказал, что его отец, знаменитый ученый, доктор технических наук, русский дворянин, сбрасывал с лестницы антисемитов. В частных домах множество людей критиковали космополитическую кампанию: Кукрыниксы, Калатозов, Карагановы, Кеменовы, Ардов и еще многие. Я же защищала тогда зло. И начала кое-что ощущать, как только пошли персональные дела. В ИМЛИ были избраны четыре жертвы (много позже мне рассказывали, что списки космополитов утверждали и заранее согласовывали между собой организации) — В. Кирпотин, Т. Мотылева, Б. Яковлев, Б. Бялик. В. Кирпотина я знала по его вульгарно-социологическим работам и пародиям Андроникова. Стоит вопрос о его исключении из партии. Выступают несколько человек, в том числе Елена Россельс, переводчица с украинского. Она рассказывает, как Кирпотин, тогда руководитель Союза писателей, бросил в 1941 году, во время эвакуации, женщин, детей, инвалидов. Может быть, это и правда. Но обвиняли его совсем в другом. Да и почему же не приходило тогда в голову простейшее — а кто, собственно говоря, судьи? Успенский, один из главных обвинителей, бездарность, пьяница, негодяй? Иващенко, человек не без способностей, но тяжкий невропат, словно сочиненный Достоевским? В институте Кирпотина исключили. Но райком не подтвердил исключения — за Кирпотина вступился Панферов, в то время могущественный. Следующим обвиняемым был Борис Яковлев. Его «вина» — его отец Хольцман числился среди «убийц» Горького (был расстрелян в годы большого террора). Некоторые абзацы в его статьях обвинители сочли ошибочными, вредными. Возможно, если бы Яковлев не родился евреем, он и сам мог принять участие в подобной проработке. В 1948 году он опубликовал в «Новом мире» статью о Хлебникове под названием «Поэт для эстетов», а в 1979 году громогласно поносил «Метрополь». Все это, однако, не имело никакого отношения к тому, за что его исключали. Но то, что у него были реальные недостатки, помогало мне и таким, как я, оправдывать происходящее: «Вот Яковлева исключили правильно, нечего таких держать в партии». Сложнее дело было с Т. Мотылевой. Ее лично я тогда не знала, но работы, конечно, читала; очень уважала ее. Обвиняли ее и в «космополитизме», обнаруженном в ее книгах, и в связи с литературоведом И. Ну си новым, которого незадолго до того арестовали. 1968 год. Тамара Мотылева сидит у нас после того, как Леву исключили из партии. Непрерывно звонит телефон. И я легкомысленно говорю, что не могу больше выносить демонстраций солидарности с Копелевым. А она вспоминает: «Телефон тогда, в сорок девятому молчал. То есть он звонил, у нас жила молодая домработница, у которой было много поклонников. А я упрямо сама подходила к телефону, все ждала, что, может быть, кто-нибудь позовет меня». Вот наглядная разница между 49-м и 68-м годами. Пока эта разница существует. В 1975 году на литфак поступила внучка И. Нусинова. Союз кинематографистов обратился в деканат с просьбой принять дочь безвременно погибшего сценариста И. Нусинова. Декан литфака, бывший ученик и единомышленник Самарина, Л. Андреев сказал матери: «У нас долг не только перед ее отцом, но и перед дедом». Девочку приняли. На собрании о Мотылевой говорили много, дружно и дурно. Один заявил, что Тамара всю жизнь «легко пересаживалась с парты на парту, но всегда избегала трудностей». Кто-то вспомнил, что она отказалась поехать на лесозаготовки во время войны. И все эти факты и фактики служили поддержкой громовой истерической речи Иващенко, в которой работы Мотылевой объявлялись вредными, низкопоклонническими. Ее тоже исключили. Когда уже в 1955 году мы несколько месяцев поработали вместе с Тамарой Лазаревной в «Иностранной литературе», я с большим трудом, но начала с ней разговор о 1949 годе, о том, что перед ней я просто виновата — ведь и я поднимала руку за ее исключение из партии. В 1956 году у меня возникли кратковременные приятельские отношения с Анной Берзинь — вдовой Бруно Ясенского, вернувшейся тогда из лагеря. Она сказала, что ненавидит Мотылеву после ее статьи в «Правде» в 1937 году против Ясенского (опубликованную уже после ареста). Позже, когда мы близко познакомились с Тамарой, я сама убедилась, скольким людям она помогает, сколько книг вышло при ее прямом участии (и книга Льва «Сердце всегда слева» в том числе). Помогает и тогда, когда не согласна с автором, когда у нее совсем иные взгляды. Мы были у нее в гостях в 57-м году, и она много вспоминала о Коминтерне — она начинала работать в КИМе, потом была секретарем Димитрова. Я сказала, что надо бы все это записать, что ведь скоро уже никого не останется, кто это знает. А она мне ответила, что слишком много лет заставляла себя забыть и действительно забыла. И вспоминать теперь невозможно. После того как Мотылева в 1977 году прочитала «Хранить вечно» Л. Копелева, она вернула книгу со слезами: «Принять этого я не могу». Мы не встречаемся с тех пор, но я не изменила к ней отношения. Она из тех, кто не в силах пересмотреть свою жизнь, о чем она честно сказала при первых же откровенных разговорах. Четвертой жертвой в ИМЛИ был Бялик. Блестяще остроумный, ловкий, способный. И Кирпотин, и Яковлев, и Мотылева защищались с позиций разума. Признавали кое-что, но преимущественно отрицали, говорили, что обвинения против них — нелепые, вздорные, сопоставляли цитаты, доказывали подтасовки. И все это было совершенно напрасно — восприятие разумного у большинства было подавлено. Бялик только нападал. На себя самого. Он полностью выбил оружие из рук обвинителей, им просто уже ничего не оставалось. Он говорил, как и раньше, с внешним блеском, остроумно и отстраненно, как будто речь шла о ком-то совершенно постороннем. Он обличал ленинградскую школу, Ленинградский университет тридцатых годов, засилье модернистов и формалистов, преклонение перед Гегелем. Расчет Бялика (я и тогда смутно ощущала, что искренности в этой речи нет) оказался безупречным. Собрание — как и все собрания в ту пору — жаждало покаяния. Бялик каялся и наказание получил меньшее, чем у других, — выговор. Держать ответ заставляли и тех людей, которые в списки космополитов не попали. Старого ученого Лаврецкого. — Почему вы публиковали свои статьи в порочном журнале «Литературный критик», — этот журнал был справедливо закрыт?! Не подтолкнул ли меня на трибуну партийного собрания страх, испытанный на Лубянке всего за год до того? Я старалась ту ночь забыть, вычеркнуть из жизни. Удалось ли мне это до конца, ответить не могу.* * *
Давно установлено, что человек в толпе ведет себя иначе, чем когда он один. В поведении на собраниях в 49-м году царила «всеобщая готовность», о которой говорил Пастернак. Раз это надо советской власти и партии, мы готовы на все. Готовы и близких, и самих себя признать шпионами, изменниками, провокаторами. И делаем это либо искренне — заблуждаясь, либо, как Бялик, понимая — так надо, так мне же будет легче, надо ублажить власти, принести им жертву. Сорок девятый год прокатился по всем областям науки, идеологии, по всей общественной жизни. В результате сессии ВАСХНИЛ посрамили «менделистов-морганистов» и вознесли Лысенко, которого так с тех пор и невозможно убрать. Мракобесие торжествовало. Н. И. Вавилова, заложившего основы «зеленой революции», сгноили в тюрьме; а сама эта революция успешно осуществилась, но не у нас, а, например, в Мексике. Тогда же кибернетика была объявлена буржуазной лженаукой. А Лев на шарашке в 1949 году по личному заданию Абакумова переводил книгу Винера «Кибернетика». «Лженаука» для масс, но посвященные должны ее знать. С самого начала октябрьского переворота и потом, в периоды обострения карательной политики, в периоды особых взрывов террора и в 21-м, и в 37-м, и в 49-м годах, интеллигентов уничтожали прежде всего. Но, мне кажется, сравнивая то, что на моей памяти — тридцатьседьмой и сорок девятый годы, — в тридцать седьмом было больше «равных возможностей» гибели. В сорок девятом же число жертв было меньше, случайностей было относительно меньше. Было не лучше, а несколько иначе, несколько рационально объяснимее, менее абсурдны удары. В 1937 году я еще пыталась защищать гонимых. Двенадцать лет спустя я присоединилась к гонителям. Более постыдного времени, пожалуй, в моей жизни не было. А гонители не спешили принять меня в «свои». Наоборот. Провал моей диссертации в 1951 году (вслух все хвалили, а тайное голосование — 7 «за», 8 «против»), вероятно, относился к той же космополитской кампании. Между тем дома был накрыт стол, лежала приготовленная для празднества длинная юбка и кофточка из розового органди. Все мои товарищи, — они чувствовали себя едва ли не виноватыми передо мной, — пошли ко мне. Хоть на душе и было горько, мы даже ели, пили, веселились. Хорошо помню лица Юрия Газиева и Сарика Сарьяна, сына художника. Год спустя, в ноябре 1952 года, приехав из Таллина, я защитила ту же диссертацию в том же институте, при том же ученом совете. В мире еще ничего не изменилось. И теперь не знаю, почему мне дали защититься. Впрочем, и тогда, как на протяжении всей нашей жизни, происходили и просто случайности. К счастью, снова произошел в моей жизни внешний поворот — я уехала из Москвы, выпала из того круга, где выступали, прорабатывали, каялись, нападали, отрекались… Выпала почти на три года. Сегодня, обращаясь к 1949 году, задаю вопросы. Куда девался мой до боли, до отчаяния мой интернационализм? Тот мир, где не было наций, огромный необозримый мир культуры, искусства, простой человечности? Мир, пропитавший детство и юность, вернувшийся ко мне вместе с пробуждением? Куда он девался, как я дала ему исчезнуть, притаиться, съежиться? Как могла существовать в лживом, в подлом, в скукоженном, откуда была выброшена всемирность? Если бы мне под силу оказалось ответить! Как меня не спасли, не вытащили окружающие — о космополитизме уже многие думали и говорили по-иному, чем я? Как не спасли Шекспир и Пушкин, Толстой и Маяковский? Не вытащили. Не спасли. Вина моя. 196119. Таллин
После провала диссертации в марте 1951 года я уехала к мужу в Таллин и договорилась о работе в учительском институте. Поездки в Москву за годы работы в Таллине были особыми — приезжала жадная провинциалка, которой не галочки надо расставить в записной книжке — «была», «видела», «слышала», а действительно быть, видеть, слышать. Не для себя, а чтобы рассказать моим любимым и очень благодарным девочкам. Читать пришлось все курсы — фольклор, русскую литературу XVIII века, советскую литературу; факультативный курс зарубежной — восемьдесят часов («от Гомера до Вюрмсера») и введение в литературоведение. На русском и на эстонском отделениях. На эстонском я произнесла «введение в литературоведение». Оказалось, что никто не понял этих неудобоваримых слов. Уровень преподавания во многом поневоле становится школьным. Наше русское отделение — крохотный островок в эстонском мире. Как и в Бухаресте, за моими плечами была мощная держава. Была Красная Армия. Как и в Бухаресте, я этого не сознавала. Мы жили столь изолированно от местного населения, что его настроений, его враждебности я почти не ощущала. Разве что на рынке и мне и моим приятельницам приходилось слышать: «Вот придут белые корабли, всех вас отсюда выгонят». Белых кораблей ждали, ждут и по сей день. Ни один собственно эстонский дом не открыл перед нами свои двери. Но это еще больше сближало, сбивало нас — маленькую группу учителей. Как заведующая кафедрой я присутствовала на педагогических советах. Естественно, что советы проходили по-эстонски. Мне бывало досадно — глупо сидеть, не понимая ни слова. Но это позже Лев научил меня: «В любой самой маленькой стране, чей хлеб ты ешь, ты обязана выучить простейшие слова». А ведь готовили — должны были готовить — своих студенток к работе в эстонских школах. Одна бывшая студентка просила меня позвонить первому секретарю райкома (в Москве!) — устроить ее на педагогическую работу и дать жилье. Позже я, наверно, и не взялась бы, ведь невозможно же. А тогда позвонила и, судя по ее письмам (я совершенно не помню обстоятельств), ей работу дали сразу; жилья пришлось добиваться долго (в наших условиях — нормально долго). Уверенность, что добиться справедливости можно, а значит нужно, в каких-то случаях действительно помогала. Не представляла меры препятствий, не ощущала толщины стены, которую предстояло пробивать. Потому мне, как в юности, все казалось возможным. Чему же я учила, как воспитывала в Таллине и студентов, и преподавателей? Приведу строки из писем. «Вам трудно понять, почему мир так быстро не меняется к лучшему. Что ж поделаешь, если время истории кажется томительно медленным для одной человеческой жизни?» «…Борцом Вы мне никогда не казались. Вы действовали на людей и жизнь иначе: Вы пробуждали в человеке все хорошее, умели подметить это хорошее и радоваться ему, и каждый тянулся к лучшему, как-то расцветал рядом с Вами, хотел все больше совершенствоваться, проявлять себя творчески…» Своими лекциями я, видимо, внушала: будьте добрыми, щедрыми, благородными, именно в этом великие уроки русской и мировой литературы. И они полностью сливаются с уроками коммунизма… Наверно, и сама старалась поступать так, чтобы поведение не противоречило — насколько это возможно — словам.
Таллин, 1953 год. Со студентами пединститута
Просвещать — вот что я должна была делать всю сознательную жизнь. Что я лучше всего умею. (Надо бы в прошедшем времени— у_м_е_л_а.) Что впервые ощутила, когда двенадцатилетней школьницей вошла в казарму на Страстном бульваре, — там были курсы ликбеза для солдат, — и они вслед за мною, мелом на доске выводили: «Маша ела кашу…», «Мы — не рабы…» Потом я, сама еще студентка, стала преподавательницей литературы в девятых классах. Просвещать — нести свет. Не могу ответить сегодня однозначно, несла ли я свет, породила ли в молодых, неокрепших умах сумбур. Правду и ложь, хорошее и дурное здесь так же трудно разделить, как и во всей нашей жизни. Учила читать книги — это большое и не так часто встречающееся умение, вовсе не равнозначное умению складывать слова из букв. Учила читать стихи. Когда поехала со студентами на уборку урожая в колхоз, вечерами читала Маяковского и подробно, строку за строкой разбирала. В колхозе ребята работали очень хорошо, за редкими исключениями. Исключения немедленно обсуждались, горячо осуждались. Я всячески старалась словом и делом (все время работала рядом со студентами) поддержать саму радость общего труда. Но естественно возникавшие вопросы: «Зачем все это?», «Почему одни женщины на полях?», «Почему колхозники не работают?» — я считала стремлением увильнуть от труда. Да и задавали эти вопросы ленивые и «плохие», или мне так казалось? И раньше мы со студентами были очень близки. А здесь, когда вместе ехали, ели, спали, пели и, главное, работали, стали совсем как родные. И вот я, именно я, не будила, а подавляла, гасила всякий проблеск недоумения, недовольства, всякий проблеск политической мысли, политического сознания. Вероятно, все это было несколько сложнее. Э. напомнила мне в 1967 году такой разговор между нами году в 50-м: — Раиса Давыдовна, могут у нас арестовать невинного человека? — Не знаю. Не могу ответить на ваш вопрос. Она сказала, что именно с этого момента начала думать. Помню один спор в аудитории на эстонском отделении. На больную тему — национальную. Русские и эстонцы. Ребята выложили кучу претензий, здесь все было перемешано — важное и второстепенное: почему не учат наш язык; почему лузгают семечки; почему девушки ходят с моряками — в портовом городе это считалось нарушением приличий. И еще много «почему». Сейчас я понимаю, что это был протест против русских оккупантов, протест по форме, быть может, и мелочный, кривой, чудаковатый, но все-таки протест. А я защищала — не глупо и не грубо, тысячами доводов, да и опираясь на свой авторитет, но защищала-то шовинизм. Конечно, называла я обе опасности: и шовинизм, и национализм. Но думая, что защищаю интернационализм, я отстаивала власть русских чиновников над эстонцами. А было это после космополитской кампании. Сразу после моего отъезда из Таллина созданный — или выдуманный мною — малый мир рухнул, словно карточный домик. «Немного странно, что Вы, идеализируя большую часть людей, совсем не идеализируете жизни! Не обижайтесь, пожалуйста… без Вас здесь, т. е. на кафедре, что-то порвалось, нет общего связующего звена, как „лебедь, рак и щука“, каждый тянет в свою сторону…» Перечитываю письма из Таллина — толстый пакет, до которого я не дотрагивалась двадцать пять лет. Чувство такое, словно смотрю многосерийный телевизионный фильм. Фильм старый, пленка поблекла, выцвела. Многих не узнаю. Одно и то же событие предстает в письмах разных (порою враждующих) корреспонденток. (Мужчин нет, только женщины, девушки.) Праздники, лекции, вечера, встречи Нового года, подписка на новые собрания сочинений, обсуждение открытых лекций. Замужества, романы, разводы, дружбы и расколы, сближения и дрязги. В Москве — третейский судья. Все обо всех знает, вершит «верховную справедливость». Письма — крики о бедах, объяснения в любви, мифологизация, культ. Отчитываются во всем: какие книги прочитали, что понравилось, какие фильмы, какие спектакли смотрели. Спрашивают — Боже, о чем только не спрашивают (а я, видимо, отвечала…). Как провести отпуск? Поступать ли в аспирантуру? Выходить ли замуж? Оставлять ли беременность? Подавать ли на алименты? Обращаются с просьбами: одобрите тему диссертации, будьте руководителем диплома, порекомендуйте, что читать из новинок. Просят привезти сахар. Видимо, и я кое о чем просила — «никак не могу найти Вам тюль на занавески…». Сообщают, где кто работает, дают адреса, рассказывают о своих учениках, описывают свои уроки и условия работы. «Решила причаститься у Вас перед испытанием, которое мне предстоит на будущей неделе. Может, оно кой-кому покажется пустяковым, но я сейчас не могу так думать. Завтра ко мне на целую неделю приезжают практиканты из института — студенты 6-го курса… Чему я могу научить их, если сама-то толком не знаю работы? …Меня сейчас меньше всего тревожит, понравятся ли мои уроки кому-то. Гораздо больше меня тревожит то, как мои ученики знают русский язык…» «ни одной русской книги»… «какой это бич — слитые классы…»…«Как далеко детям ходить в школу…» Они — мои вчерашние студентки — еще совсем молоды, но тем не менее у них множество болезней, о которых опять же подробно — операции, ангины, простуды, сердце… Редко, но возражают: «Р. Д., как понять Ваши слова: „она человек трудовой, достойный“? Я согласна, что к трудовому человеку уже чувствуешь долю уважения, но разве можно отождествлять эти слова? Разве каждый трудовой человек — достойный?» Начинаются реабилитации — еще глухо, медленно. Предлагаю любимой студентке пойти в прокуратуру, узнать об ее отце — режиссере эстонского театра в Ленинграде. «Не надо, я боюсь за Вашу дальнейшую судьбу…» Я пошла, оказалось, что отец расстрелян в 1937 году. Муж другой моей бывшей студентки, мастер цеха, осужден по крупному уголовному делу. Ищу для него адвоката в Москве. Я все глубже понимаю теперь, что Таллин стал для меня убежищем от эпохи, ото всей грязи, от подлости, от того, что свершалось совсем рядом. Глаза были ослеплены хорошим, но все же ослеплены. Я была там очень нужна, как, пожалуй, нигде и никогда за всю предшествующую и последующую жизнь. Это произошло, вероятно, и потому, что попала я в очень слабое педагогическое окружение, где мои малые ифлийские и аспирантские знания казались широкими и глубокими. И потому, что я жила по призванию. Наверное, какие-то бороздки, какие-то следы в чужих молодых душах остались. В педагогическом деле ведь жатву не измеришь. Учитель изводит словесной и иной руды не меньше, чем поэт. Летом 1958 года мы с Левой поехали в Таллин. Размышляя о своем родственнике-военном, который все жаловался на эстонцев, на их недоброжелательство к русским, Лева сказал: «А почему, собственно говоря, они должны хорошо относиться к оккупантам?» Новые убеждения вначале жмут, как новая обувь, и как же порою хочется обратно, в свое, освоенное, разношенное. Я в ответ страшно вспылила, была оскорблена моя святыня. «Что же, я, по-твоему, была оккупанткой?» В 1960 году мы со Львом были в Риге в командировке от Общества по распространению политических и научных знаний. За несколько месяцев до нашего приезда был очередной разгром националистической группировки. 24 июня по всей Прибалтике традиционный праздник — Иванов день. В Латвии он празднуется особо торжественно— половина населения Яны. «Лиго (возрадуемся)» — так поэтически назван этот день. Праздник решили запретить. После того как бригада коммунистического труда на крупнейшем заводе ВЭФ в знак протеста не вышла на работу, в последний момент разрешили. Нам по возвращении удалось выступить в печати, в журнале «Наука и религия» (1960, № 12). Вот что мы там написали: «Мы убеждены, что латвийское Лиго также вскоре будет настолько же безрелигиозным праздником, как и новогодняя елка. И только пожилые люди да историки смогут рассказать о тех „ортодоксах“, которые в наши дни пытались „закрыть“ народный праздник под предлогом усиления антирелигиозной пропаганды». Мы были не правы. Лиго — праздник народный, и языческий, и религиозный, Побывав на нем в 1970 году, да и передумав многое, мы увидели его иначе. И тут, как в истории с бывшей студенткой, которую я устраивала на работу, неполнота прозрения помогла вступить в борьбу. В 1961 году Лиго окончательно запретили. В 1965 году начали снова праздновать, начальство не обращало внимания. Запрещение, разумеется, было «списано» на Хрущева: субъективизм, волюнтаризм. В 1966 году Льву заказали срочно статью о Лиго. Она опубликована в «Дружбе народов» № 7. Нам рассказывали, будто бы первый секретарь ЦК Вос написал в редакцию возмущенное письмо, в котором авторы — Лев и латышская германистка Дзидра Калныня — обвиняются в «латышском национализме». А в республике статью встретили с радостью.
* * *
Я помогала в Таллине многим студенткам, но учила тому, что советский порядок — наилучший, мир вообще и наш мир в частности — прекрасен и все в нем устроено в основном справедливо. Надо лишь уметь это увидеть, рассмотреть, даже если тебя личная судьба искалечила. Одна из студенток перед отъездом в деревню писала мне: «Я уже ездила туда, на сегодня мое рабочее настроение еще не на должной высоте. Я хорошо знаю, что трудностей впереди масса, но я никогда не забуду тех строк, которые вы однажды зачитали на комсомольском собрании: „Даже если крыша над твоим домом валится, то это еще не значит, что валится весь мир…“» Учила тому, что общее выше личного, что человек не остров и что нет радости чище и прекраснее, чем радость причастия. И сама училась вместе с ними. Мне рассказали об одной хорошей преподавательнице Владимирского пединститута, которая получила от своей бывшей студентки письмо примерно такого содержания: «Я, как и почти все мы, ни во что не верила, пока не встретила Вас. Ваши лекции стали для нас переворотом. А теперь я приехала в деревню, где голод и нищета, и ложь, и унижения, и я проклинаю Вас, именно Вас, потому что другим я не верила, а Вам поверила». У моих таллинских студентов были все основания думать так обо мне.* * *
Тучи, сгущавшиеся в большом мире, едва пробивались сквозь толстые стены таллинского убежища. В январе 1953 года сообщение о «врачах-убийцах». Я уговаривала преподавательницу литературы пединститута — первую мою собеседницу, что все это закономерно и соответствует действительности. И вновь говорила о буржуазном национализме. В феврале 1953 года у меня был отпуск, и мы с Колей съехались в Москве (он работал в г. Иваново, и зиму 52/53-го года я была одна). Девочки жили уже в Москве. Страшный был месяц. Тут уж я почувствовала — происходит невероятное. Ежедневные антисемитские фельетоны. Аресты. Слухи один ужаснее другого: о насильственном переселении всех евреев на Дальний Восток, которое должно было начаться 15 мая 1953 года, после казни «сионистов» на Красной площади. Коля пил беспробудно, но, услышав о готовящемся переселении, неизменно говорил: «Не бойся. Либо тебя не отдам, либо поеду с тобой». Невмоготу становилось от каждодневных обсуждений, гаданий — что впереди? Мой отпуск кончался шестого марта. Мы решили, что я на три дня поеду вместе с мужем в Иваново. Он был болен — очередной спазм. Вечером по радио в гостинице услышали о смерти Сталина. Было очень страшно. Плакала среди чужих. Думала о том, какой Бальзак опишет, что делалось у предсмертного одра. (Для верующей сталинистки это были мысли по меньшей мере странные. Но они возникли: как оставшиеся вожди будут делить власть.) Чаще всего тогда поминалось имя Маленкова, а о нем говорили очень плохо. Мною смерть Сталина воспринималась и как горе и как конец. Москва была для въезда временно закрыта. Я смогла вернуться только 8 марта. Рассказы о похоронах, и очень рассердившая меня тогда Светка — моя маленькая дочь — в_и_д_е_л_а учительницу, которой на этой новой Ходынке раздавили ногу. А я ей отвечала: «Не смей повторять обывательские сплетни!» Когда я вернулась в Таллин, меня снова обдало знакомым теплом — на вокзале встретили любимые студенты. Меня попросили выступить по радио. Вот что я написала: «Прошли тяжкие дни траура, вероятно самые тяжелые дни в жизни нашего поколения. Моря слез пролили советские люди и миллионы простых людей за рубежами нашей родины. На фронтоне мавзолея на Красной площади под словом „Ленин“ высечено на камне „Сталин“. Мы видели фотографии в газетах — Сталин в гробу, сложены руки, плотно сжаты уста. И все же нет сил поверить в то, что Сталин умер. Где-то в глубине души мы еще храним мечту о чуде… Но нету чудес и мечтать о них нечего… Укреплять советское государство, поднимать материальный и культурный уровень трудящихся масс, крепить оборону, свято хранить единство нашей партии — и все эти задачи выполняют и будут выполнять в будущем люди. Те, кому предстоит выполнять эти великие задачи завтра, сегодня сидят за школьными партами, в аудиториях институтов и университетов… Тяжелое горе упало на наши плечи. Но и этому тяжелому горю не сломить, не согнуть выкованный Лениным и Сталиным народ. Мы стали старше за эти дни. И ответственность каждого человека выросла. Великая ноша, которую нес на своих плечах гигант Сталин, падает теперь на всех советских граждан… Верная делу Ленина — Сталина советская молодежь — лучший залог бессмертия Сталина, бессмертия великого дела коммунизма». Так я думала тогда. Крупицы человеческих чувств тонули в вареве вызубренных формул, в тех первоэлементах «церковнославянского» жаргона, на котором говорили по радио и с трибун, писали в газетах и журналах. Торжественная встреча, устроенная мне студентами, видимо, переполнила чашу терпения начальства. Меня вызвал директор и предложил мне подать заявление об уходе «по собственному желанию». На вопрос: «Почему, ведь до конца учебного года осталось три месяца?» — он ответил, что это не его инициатива, от него требует ЦК, так как моего мужа освободили от работы со скандалом. Мое верноподданничество снова не получило вознаграждения. После выступления на партийном собрании в 1949 году — провал диссертации. После статьи о Сталине — изгнание из института. Но я-то выступала и писала не ради вознаграждения. Единственный человек, с которым я поговорила, выйдя из кабинета директора, был заместитель секретаря партбюро. Он настаивал, чтобы я взяла характеристику — могли дать только положительную, — а потом отказалась бы подавать заявление. Такие действия были совсем не по мне, не по моей натуре. Я пришла домой и слегла. Ангина, осложнение на сердце. Девочки дежурили неотступно. Еще в институте я обратилась к одной из лучших студенток, дисциплинированному члену партии; рассказала ей, в чем дело, и попросила никому не говорить. Для студентов надо придумать что-то другое — сказать, например, что меня вызвали из дома. Лежа в постели, я прочитала 4 апреля 53-го года в «Правде» сообщение о врачах: Министерство внутренних дел «провело тщательную проверку… В результате проверки установлено, что привлеченные… были арестованы бывшим Мин. гос. безопасности неправильно, без каких-либо законных оснований. Проверка показала, что обвинения… являются ложными. Установлено, что показания арестованных…получены работниками следственной части бывшего Мин. гос. безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных методов следствия… Из-под ареста освобождены… Лица, виновные, арестованы и привлечены к уголовной ответственности». Здание, возводимое в моей душе так старательно, так прочно, так долго, дало трещину. Трещина ширилась и ширилась, пока я не очнулась под обломками.Я вышла на работу, никто и не заикнулся о том, что меня только что хотели уволить. P. S. Читаю в декабре 1975 года сообщение: О. Трояновский принял делегацию Верховного Совета СССР во главе с А. Вадером… С Олегом Трояновском я училась в ИФЛИ: осенью 41-го года он был вместе со многими нашими на курсах военных переводчиков в Ставрополе. С его милыми родителями в Куйбышеве жила пышная красавица, письма ей он прозорливо подписывал: «Твой первый муж». Олег стал личным переводчиком при Сталине, потом послом СССР в Японии, представителем в ООН, потом я его потеряла из виду… Вадер. Еще в декабре 52-го года, когда Коля уезжал, мы решили, что квартиру в Таллине обязаны сдать. Хотя это был не учрежденческий дом. В горсовете на меня смотрели с недоверчивым восхищением (это я со слов моей приятельницы, которая ходила со мной, — мне-то все казалось само собой разумеющимся). «Сдаете квартиру?» Я осталась на полгода в одной комнате — дома я только ночевала, в две другие вселился выпускник ВПШ А. Вадер с семьей. Не только сегодня, но и тогда — двадцать лет тому назад — я не узнала бы его на улице, настолько мы мало виделись. Войдя в квартиру, он торжественно произнес: «Вы поступили, как настоящий советский человек…» Ныне он один из хозяев Эстонии. А я поступила как идиотка. Подумав хоть минуту о будущем — не о «светлом общем», а о ближайшем будущем, о своих родителях, о своих дочерях, о Коле, наконец, и о себе, — поняла бы, что обязана обменять квартиру. Скольких бед можно было избежать. Вадера как-нибудь устроили бы и без меня. …Кончился учебный год, кончился мой Таллин, кончилась — о чем я и не подозревала — целая эпоха нашей и мировой истории. 1961–1979
20. Пробуждение
Летом 1953 года я вернулась в Москву и с осени начала преподавать в Московском областном педагогическом институте зарубежную литературу. Мы задумали с первокурсниками вечер на тему «Мое любимое стихотворение». Тогда с удивлением выяснила, что нет Маяковского среди любимых поэтов моих ребят. Да и вообще мало у кого есть по-настоящему любимые поэты. Читали Лермонтова, Твардовского, Симонова, Щипачева. Толя читал отрывок из поэмы «Василий Теркин». Девочки попросили меня поговорить с Толей — у него двойки, он прогуливает. И самое страшное — говорит, что собирается покончить с собой; жил он в общежитии. Тогда, в 1954 году, произошел разговор, который сыграл немалую роль в моей судьбе. Мы с ним остались в институте, уходили последними; ночная дежурная подозрительно на нас посмотрела. Сначала разговор не клеился. Я молчала. Толя, видимо в ожидании нравоучений, ощерился, замкнулся. Просидели мы около часа, вяло перебрасываясь фразами, где-то возникла искра контакта. И здесь на меня вылился поток. «Зачем жить?» — спросил он, глядя на меня в упор своими чистыми, честными глазами. Родителей нет. Дедушка в деревне, голодает, как все; это он сказал спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Толя поехал в Смоленск, стал комсомольским активистом. Ему хотелось понять, почему в газетах одно, а в жизни все по-другому. Хотелось все исправить, улучшить. Он выступил на комсомольском активе, поделился этими мыслями. Секретарь райкома комсомола («Для меня тогда, Раиса Давыдовна, секретарь райкома все равно что Бог был») сказал: «Что же ты скрывал, я и не знал, что ты еврей, это евреи всем недовольны, вот и врачи-убийцы среди них». Толя — потомственный белорусский крестьянин, с черными вьющимися волосами. Он бросился на секретаря с кулаками и, сам признается, чуть не убил. Его исключили из комсомола, едва не посадили за хулиганство. «Я тогда решил, что здесь несправедливость, самоуправство. А в других местах не так. Сталин ничего об этом не знает. Четыре месяца я в Москве. И здесь вижу то же самое. В институте столько лжи… На словах одно, а на деле… В Москве люди гладкие, идешь по улице, кажется, все сыты. Ем в студенческой столовой (очень плохая была столовая), а мне все сестренки голодные мерещатся. И вообще маленькие дети с нашей деревенской улицы. Никогда сахара не видели. Пришел я в квартиру к Витьке (сыну заместителя министра), шесть комнат, одна больше другой. Баре они и есть баре. Витька — сосунок, ничего не знает, не понимает, что такое голод. Он-то неплохой парень. Но что же это за социализм — одним все, а другим ничего?» Что я могла тогда ему ответить? Горький стыд и полное бессилие — вот что я чувствовала. Имею ли я право преподавать — это ведь значит учить жизни? Я уже не заблуждалась сама и не могла, как в Таллине, разъяснять, убеждать. Были грозные вопросы, надо было искать ответы. А они — юные, честные — не могли ждать, пока я найду ответы. Что стало дальше с Толей — не знаю. Зимой 1955 года мне предложили пойти в только созданную редакцию — «Иностранную литературу». Я сначала работала по совместительству, а летом и вовсе перестала преподавать.* * *
С 1953 года я все время натыкалась на гниль. Быть может, я сейчас несколько выпрямляю. Началось раньше. Ведь мы еще в 1946 году собирались ехать в разоренный город, строить истинный социализм. Значит, жили-то тогда в н_е_и_с_т_и_н_н_о_м. Только произнести эти крамольные слова еще не могли. А после смерти Сталина клапаны открылись. В 1954 году была опубликована пьеса молодого драматурга Леонида Зорина «Гости». В трех поколениях одной семьи прочерчивались закономерности времени: дед — старый большевик, анахронизм; отец — переродившийся аппаратчик; сын дружит с дедом и стыдится отца. Ему отвратительна фальшь, с которой он в своей семье сталкивается на каждом шагу. Специальное заседание коллегии Министерства культуры занималось разгромом этой пьесы. Тогдашний министр Александров объявил пьесу Зорина враждебной. Через несколько месяцев было закрытое письмо ЦК, в котором Александров изобличался как глава притона, где происходили оргии. После этого его послали в Минск, в университет, учить студентов марксизму. Академик Александров получал тогда 30 тысяч рублей в месяц, уборщица у него в институте — 300 рублей[9]. Это соединение называлось социализмом. С 1955 года я каждое лето жила в деревне Жуковка, станция Барвиха. Раньше там вблизи была дача Сталина — запретная зона, простым смертным недоступная. И до сих пор требуется особая прописка — теперь это объясняют близостью Рублевского водохранилища. Отходишь от деревни на сто шагов и натыкаешься на заборы. Сплошная полоса длинных серых или зеленых заборов. Иногда поверх забора колючая проволока. Конечно, при лучшем зрении можно было бы обнаружить эти заборы и раньше. Но теперь уж некуда было мне от них деваться. Кто же отделяет себя от народа этими заборами? Чьи это поместья? Что это за каста особая, что за особая прослойка? И в поисках ответов неумолимо вставало такое знакомое, такое обжитое, такое наше слово — класс. Шепотом, тихо, откуда-то из самой глубины — класс. Новый класс. Перерождение. Произнести, выговорить, осмыслить эти слова было страшно. Это не был страх перед возможными наказаниями. Страшно было за свою веру. С 1956 года об этом заговорили вслух не только по квартирам, но и с трибун собраний. Я слышала о выступлении Б. Кедрова в Институте философии. Предсмертное письмо его отца, замученного пытками, приводил Хрущев в докладе на XX съезде. О выступлении гроссмейстера М. Ботвинника. О выступлении Ю. Орлова в институте теоретической физики. О выступлениях в Институте востоковедения. Говорили о социальных основах культа, о той системе, которая и могла породить культ. Б. Кедров с тех пор побывал директором Института философии, сейчас он заведует сектором в Институте истории естествознания. В декабре 1979 года снова выступал на партийном собрании — говорил о катастрофе, перед которой стоит наша страна. Ю. Орлов — член-корреспондент Армянской академии наук, в 1976 году возглавил группу «Хельсинки», с 1977 года в тюрьме, потом в лагере. На словах провозглашался исторический материализм, на деле — чистейший идеализм. Почему возник культ личности? Потому что… Я стала перечитывать статьи Ленина 1920, 1921, 1922 годов. Они исполнены тревоги. Ленин предвидел такую возможность, когда бюрократизм, когда сила и власть аппарата могут изменить течение революции. Перерождение. В 1955 году услышала впервые о так называемых госдачах, где жили Сталин и другие члены правительства. Что дворцы русских царей по сравнению с этой роскошью! Срубали вековые деревья. Проводили специальные дороги. Облик нового класса возникал для меня прежде всего в его бытовом обличье. Роскошь. «Коммунизм на семьдесят кувертов» — острота родилась в правительственном санатории «Барвиха». Закрытый магазин в Жуковке вся деревня-именовала «Грецией». «В Греции все есть». Трусость — все скрывается за заборами. Ложь, лицемерие. Безнаказанность. Книгу Милована Джиласа «Новый класс» я прочла позже. В «Комсомольской правде» появился фельетон Шатуновского «Плесень» — рассказ о том, как безобразничали министерские сынки и дочки. Возникло одно из важных для того времени слов-понятий. Вот что я поняла к началу шестидесятых годов. В сталинский период была у нас в стране большая пирамида, похожая на те, которые рисовали в старых учебниках обществоведения. В основе ее был класс рабов. 10–11 миллионов — точные цифры до сих пор неизвестны. Рабским трудом были освоены Север и Дальний Восток, прорыты каналы, возведены величайшие гидростанции. И даже построено «чудо науки» — Московский университет. Второй класс — крестьянство. По существу — полукрепостное. У колхозника и до сих пор нет паспорта, иными словами — он лишен права передвигаться по стране. Он в полнейшей власти председателя колхоза. В 1974 году объявлен обмен паспортов. Теперь и у колхозников будут паспорта. В 1960 году в маленьком городке Восточной Латвии нам рассказали такую историю. В колхозе не хватало людей. Командировали в соседнюю Белоруссию — вербовать. Там с радостью согласились — нищета полнейшая. Из Белоруссии в Латвию уехали несколько семей самовольно — справок им не дали. По существу, латыши просто выкрали эти семьи. Мы видели одного из «украденных». Забитый человек из некрасовских поэм. Он шел переводить своему сыну деньги куда-то под Ленинград, чтобы тот мог приехать к отцу. Такую сумму денег — 300 рублей — он не то что в руках раньше не держал, он и видел-то их впервые. Вот она, тетка Дарья из поэмы Твардовского —С трудоднем пустопорожним
И с трудоночью не полней.
Мы все лауреаты премий,
врученных в честь его,
спокойно шедшие сквозь время,
которое — мертво.
…И не мертвец нам ненавистен,
а наша немота.
21. Что я знала о рабах
…Но ложились тени на суглинок, И сквозили тени в каждом взгляде, Тени всех бутырок и треблинок, Всех измен, предательств и распятий…Класс рабов. Страна ГУЛаг, которую называли еще «тот свет». Лето 1955 года. Мы жили в Жуковке. Пошли в лес, развели костер. Нас шестеро — старых друзей. И впервые в лесу слышу «Магадан». От качки страдали зека, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятья. Эту песню потом бесчисленно повторяли и повторяли на многих вечеринках. Но после того, как я впервые услышала, мне долгими ночами все виделась, нет — ощущалась качка, зеки, трюмы, Колыма… Я была этой песней как бы подготовлена к чтению той главы «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург, где рассказывается, как ее полумертвую везли на Колыму.А. Галич
От качки страдали зека…

С Майей и Павлом Литвиновыми, 1970 год. Верхние Усугли, Читинская область
Мы долго гуляли после посещения юрт, опомниться было трудно. И тогда я попросила Леву подробно, день за днем рассказать, как это было, рассказать все десять лет. Этот рассказ был необходим нам обоим. Он продолжался с перерывами, — подолгу ему рассказывать, а мне слушать было почти невозможно, — около трех месяцев. Но я не отступала: «Все, все, что помнишь». А он тогда помнил едва ли не все. В 1960 году он начал писать книгу «Хранить вечно». Это был мой главный путь на «тот свет». Весной 56-го года я услышала стихи Ольги Берггольц. Часть была тогда же опубликована в «Новом мире», в августе, вместе с началом романа Дудинцева «Не хлебом единым». Некоторые стихотворения проникали понемногу в печать уже после XXII съезда. А самые сильные до сих пор — устная поэзия.
Я здесь стою и не могу иначе.
Нет, не из книжек наших скудных,
подобьев нищенской сумы,
узнаете о том, как трудно,
как безнадежно жили мы.
Как мы любили, горько, грубо,
как ошибались мы, любя,
как на допросах, стиснув зубы,
мы отрекались от себя.
И в духоте бессонных камер
и дни и ночи напролет,
без слез, с разбитыми губами,
шептали: «Родина! Народ!»
И находили оправданья
жестокой матери своей,
на бесполезное страданье
пославшей лучших сыновей.
О, дни позора и печали,
о, неужели даже мы
людской тоски не исчерпали
в беззвездных топях Колымы.
22. Партийность
Я никогда не была беспартийной. Не помню ни раздумий, ни колебаний, ни сомнений; из пионеров в комсомол, из комсомола в партию — прямая протоптанная дорога. А все боковые тропки — не для меня. Вероятно, вступила бы в партию еще в институте, если бы не выговор «за притупление бдительности». Я гордилась датами своего вступления в партию: заявление подала 22 июня 41-го года. Первый день войны. Меня утверждали в райкоме, в октябре 41-го года, когда Москву эвакуировали. А в члены партии я вступила в октябре 42-го года, когда фашисты стояли у Сталинграда. Моей стране и моей партии было плохо, когда я вступала. С тех пор прошло двадцать лет. Прошли страшные партийные собрания 49-го года, особенно страшные потому, что мне тогда все казалось в основном правильным. Во всяком случае — неизбежным. Голосовала, как все, теперь понимаю, против совести, против справедливости. Начиная с 55-го года — закрытые письма ЦК, которые слушались в белом зале на улице Воровского, в том зале, где танцевала Наташа Ростова. И в письмах раскрывались одна за другой разные «ошибки» — в руководстве сельским хозяйством, в руководстве промышленностью, во внешней политике… Там же слушала и закрытый доклад Хрущева на XX съезде. Было и наше трехдневное партийное собрание в марте 56-го года. То собрание, на котором люди один за другим говорили правду. Либо только теперь им открывшуюся, либо известную, но скрываемую по многу лет. Разные люди, вовсе не ангелы и в прошлом и в настоящем, но тогда они хотели добра. Конечно, были и пустые фразы, и пустые выступления, но на удивление мало. Большинство говорили о самом главном, самом мучительном — о том, как жили все те годы, и о том, что надо делать теперь. Приведу слова автора первого революционного фильма «Красные дьяволята», старого коммуниста Бляхина: «Я не согласен с Микояном (с речью на XX съезде. — Р. О.). Нет, ленинские нормы, ленинские принципы еще не восстановлены. Не стоит принимать желаемое за действительное. То, что было, оставило глубочайшие следы в сознании народа, в партии, в советском аппарате. Ленин мечтал о создании социалистического аппарата не на словах, а на деле. Как исполнен этот завет Ленина? Вместо социалистического аппарата создан и воспитан аппарат бюрократический, основанный на чиновничестве, бездушии, карьеризме, погоне за теплым местом. Аппарат, потерявший чувство ответственности. Сталин занял место царя, и он опирался на этот аппарат. Был недопустимый для советского общества разрыв в материальном уровне. Между прочим, это вело и к таким омерзительным делам, как дело Александрова. Сталинская эпоха поставила под удар основы конституции, братство народов, социалистическую законность. Здесь уже упоминалось о калмыках. А что говорить о страданиях еврейского народа! (Голос его задрожал, зал замер. — Р. О.) Дело Бейлиса на весь мир опозорило царское самодержавие; позорное дело врачей — позорное пятно на партии и прежде всего на нас, русских коммунистах. Увольняли по национальному признаку, чинили препятствия евреям при поступлении на работу, пытались тайно восстановить черту оседлости. Все это наложило черную печать на нас, русских членов партии. (Зал неистово аплодировал. Недалеко от меня сидел Сергей Васильев со страшным лицом громилы. Ему все происходящее было отвратительно, особенно эта часть выступления Бляхина. Из тех, кого я могла видеть, не хлопал он один.) Можно ли сказать, что от всего этого не осталось следов? Разве нет притаившихся антисемитов? Есть люди, которые втихомолку тормозят все перемены, тормозят и реабилитацию. Реабилитировано только 7–8 тысяч человек. Слова Хрущева на съезде о количестве заключенных произвели тягостное впечатление. Сколько же еще лет будут томиться в тюрьмах наши невинные люди? Потребуется ряд мер, чтобы в кратчайшие сроки была произведена массовая реабилитация. (Это, действительно, произошло в последующие месяцы, хотя реабилитация всячески тормозилась сталинским аппаратом. — Р. О.) Вряд ли стоит называть имена виновников и аллилуйщиков. Многие виноваты. Но нельзя забыть тяжкую вину, и мы не смеем ее преуменьшать!» В конце Бляхин сказал, что единственная гарантия против повторения — партийная совесть и советская ленинская демократия. Шел третий день собрания. Утром меня вызвали в ЦК — оформляли командировку в Польшу. Весь разговор продолжался минут пятнадцать. Мелькнула мысль — если я выступлю на собрании, меня могут и не пустить. Вот что и как я думала и сказала в 1956 году: «Дни, которые мы переживаем, чем-то напоминают первые послеоктябрьские. Тоже митинговый, бьющий весенним половодьем демократизм. Все стремятся высказаться. И те, кто долго молчал, и те, кто говорил неправду. И те, кто искренне верил, а теперь с болью убеждается, что верил в ложь. Происходит расчет с собственной совестью. Каждый как бы дает ответ на вопрос: а где ты был? И я спрашиваю себя: как ты могла голосовать за исключение достойных людей, честных коммунистов, сидящих в этом зале? Но мы не можем позволить себе роскошь задерживаться на этом этапе. Мы не кающиеся дворяне, а члены боевой партии, отвечающей за судьбы родины. (Дело оказалось вовсе не в нас. Нам не дали задержаться на этом этапе. И вообще, сегодня я бы так уже не сказала.) Съезд прошел под знаком восстановления ленинских норм. В связи с этим я хочу поставить два вопроса. Советы — великое завоевание Октября. Но в работе Советов — об этом уже говорилось на съезде и на нашем собрании — много парадности. Это происходит потому, что депутаты часто не ощущают ответственности перед избирателями. Товарищ Ворошилов говорил об использовании конституционного права на отзыв депутата. Это важно, но недостаточно. Здесь уже говорилось о необходимости нескольких кандидатов, чтобы были выборы, а не подбор. Иногда возражают так — у нас одна партия, единая программа. Да, но эту программу можно по-разному проводить. Пожалуй, один из важнейших выводов из всего того, что мы пережили, состоит в том, что советская власть не действует автоматически. Пусть масса избирателей и решает, кто из депутатов лично достойнее. Это повысит ответственность депутатов, это обеспечит действительное участие наинижайших низов в управлении государством. Второй вопрос — об отделах кадров. Это самая недемократическая, лишняя часть аппарата. Дело не в конкретных работниках этих отделов, хотя именно кадровики сыграли отвратительную роль в травле честных людей, а в самом институте отдела кадров. Ведь каждый руководитель все равно сам подбирает себе людей, отделы кадров только мешают. С работой по оформлению трудовых книжек, отпусков и т. д. может справиться любой десятиклассник. А всю систему надо пересмотреть. (Надо, конечно, но не систему отделов кадров, а всю Систему в целом. А тогда мне казалось, что барон Мюнхаузен все-таки может сам себя вытащить за волосы из болота.) Одно из самых тяжелых последствий культа личности — двойной счет. Говорилось одно, делалось другое, воспитывалось лицемерие, ханжество. Существовал большой разрыв между общественным мнением и печатью». Я привела факты двойного счета в литературной жизни. Меня поздравляли, обнимали, целовали. Ни тогда, когда я выступала, ни тогда, когда писала об этом, ни когда правила свою рукопись, я не отдавала себе отчет в том, что же я предлагала. Не думала о выводах, и вовсе не отдаленных, а ближайших: несколько кандидатов подрывают основу монолита. Сама возможность выбора уже есть отрицание системы. Упразднение отделов кадров — опять же посягательство на святая святых. Что ж, Хрущев, вождь великой страны, ляпнул, совсем не подумавши, и за его докладом последовали геологические сдвиги. Так, не подумавши, поступили и некоторые подданные, так поступила и я. Запись этого собрания была опубликована за границей в 72-м году в «Политическом дневнике». В марте 76-го года мое выступление передавали по радио «Свобода» в связи с 20-летием XX съезда. Странная у меня смесь: радость — значит, мое выступление выдержало испытание временем. И горечь — как же я ничего не понимала? Только потому я тогдашняя и могла произнести эти слова, что не понимала их последствий. В конце собрания пели «Интернационал», пели так, как мне за всю жизнь не приходилось слышать. Сгорбленная спина Чаковского, кривая усмешка Сергея Аполлинариевича Герасимова — все это не имело значения. Начиналась новая ара. Вот оно, наконец, вернулось настоящее, революционное, чистое, чему можно отдаться целиком (примешивалось, наверное, и тщеславие — хотелось стать Жанной д’Арк оттепели, но это было малое, наносное). И сколько единомышленников, сколько незнакомых, но близких, думающих и чувствующих так же, как и я! Как просто оценить человека. Как вы относитесь к роману Дудинцева? Как вы относитесь к Софронову и Грибачеву? Несколько злых или, наоборот, защитных реплик об аппарате, и характеристика готова. «Наш» — «не наш». Мир опять становился простым и по-новому двуцветным. Что же такое партийность? Партийность — значит поступать всегда, везде, во всем как партия, как группа, как масса, теперь уже очень большая масса. Но как узнать, что думает масса? Значит, партийность — это поступать так, как считает нужным ЦК, Политбюро, генсек… Это и есть партийная дисциплина. Все чаще за эти годы вспыхивал спор: а не лучше ли быть вне партии? Я говорю здесь только об идейной, нравственной стороне вопроса, ибо практически из партии не выходят просто из страха. (Из мне известных людей в 1974–1979 гг. вышли Елена Боннер, Иосиф Богораз, Евгений Гнедин, Соня Сорокина.) Если не врать, а высказать истинную причину: не хочу оставаться, потому что не согласна с вторжением в Венгрию, с новым культом, с безобразиями в деревне, с ядерными испытаниями, с новой и старой ложью, с новым и новейшим беззаконием, с невиданным даже в сталинские времена «обратным действием» новопринятых жестких законов — о наших литературных делах я уже и не говорю, — за любое из заявлений такого рода, может быть, и не посадили бы, но уж безусловно перестали бы печатать. Так вот, речь идет о другом — можно ли еще и легче ли бороться за н_а_с_т_о_я_щ_и_й к_о_м_м_у_н_и_з_м в партии или вне ее? За все эти годы — после 54-го — мне еще ни разу не пришлось ощутить тяжесть партбилета, не было таких вопросов, когда пришлось бы голосовать против совести. (Теперь, после процесса Синявского и Даниэля в 1966 г., тяжесть партийного билета ощутила.) Одно событие 1962 года, когда я пишу эти страницы, заставило меня посмотреть на все это несколько по-иному. Приближались перевыборы партбюро. И мне говорят, что меня собираются выбрать заместителем секретаря партбюро. Я в панике. Не хочу! Чего же я, собственно говоря, не хочу? Работы? Нет, это не так. Я везу целый воз общественных обязанностей, все исполняю честно, и если завтра навалят еще столько же, приму с радостью. Не хочу ходить в райком, в МК. Не хочу ходить в «совет нечестивых». Крошечное, но «причастие буйвола». А почему? Концы не вполне сходятся с концами. Вот ведь мои друзья, люди точно такого же, как я, образа мыслей — секретари партийных организаций, парторги, члены партбюро. И очень важно для отдельных человеческих судеб, кто в партбюро — сволочи или порядочные люди. Если бы не партсобрание секции критики в декабре 61-го года, не пламенная активность вечного комсомольца Ивана Чичерова, не было бы поднято дело Эльсберга, не был бы этот доносчик, виновник стольких арестов, публично разоблачен. Так вот почему я не хочу принимать в таком и подобном участие? Я ведь хочу, чтобы людям было лучше! Я и сегодня не могу ответить на этот вопрос. Но если бы я ждала ответов, я не написала бы ни строчки в этой книге. А что до подступов к ответу — вот один из них: «…Никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права… Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала. У англичан есть историческая пословица: „Права или не права, но это моя страна“. С гораздо более историческим правом мы можем сказать: „Права или не права в отдельных частных конкретных вопросах в отдельные моменты, но это моя партия…“ И если партия выносит решения, которые тот или другой из нас считает несправедливыми, то он говорит: справедливо или несправедливо, но это моя партия, и я несу последствия ее решений до конца» (Л. Троцкий, XII съезд РКП (б) — стенографический отчет. Москва, 1963, с. 158–159). Он жил еще несколько часов после того, как Рамон Меркадер нанес ему удар ледорубом. По указу партии. Эту формулу повторяли поколения. Повторяла и я. Если ты часть этой машины — не смеешь быть ничем иным. Только винтиком. Только рычагом. Или приводить эти рычаги в движение. Сталин был прав, утверждая, что разница между коммунистами и беспартийными только формальная. Тогда была формальной в одинаковом бесправии: никого не спас партийный билет ни от тюрьмы, ни от преследований. Теперь формальная разница, ибо бороться за то, чтобы было лучше, можно и в партии и вне ее. Любое вмешательство партии в дела искусства вредило, вредит и будет вредить искусству. Только вредить — в этом я теперь неколебимо уверена (а в 1951–1953 годах я в курсе «Введение в литературоведение» читала специальную лекцию о партийном руководстве искусством. Конечно, оценивая это руководство положительно). Это совсем не то же самое, что гражданская позиция художника, истинный художник редко проходит мимо общественных страстей своей эпохи. Но каждый приходит к этому по-своему, особым путем. И приход художника к революции может быть столь же благотворен для него и для искусства в целом, как губителен любой вид насилия над ним, хотя бы свершенный и не палачами, а бархатными диктаторами. Обо всем этом сказать открыто нельзя. А свобода — она ведь благо не только для художника, но и для каждого человека. Так вот, нужна ли партия, ограничивающая, уничтожающая свободу? Заложена ли в самом принципе партийной организации неизбежность лицемерия? Думают люди по-разному, а должны говорить одинаково. И не того рассудочного лицемерия — дай-ка я скрою свою мысль и выскажу нечто противоположное, мне лично более выгодное. Нет, лицемерие неосознанное, ставшее привычкой, вошедшее в кровь и плоть. Люди добрые, честные, отзывчивые превращаются в рычаги бездушной машины. Мы знаем, что эта машина способна была служить и массовому уничтожению. Мне долго казалось, что альтернатива партии — одиночество. Нет, я не за одиночество. Человек не остров. Человеку нужно чувствовать плечо товарища, единомышленника. Жить для других. Такой была когда-то и партия. Не очень долго и не во всем. Может быть, партий должно быть много? Разве я сейчас в одной партии с Кочетовым, с Софроновым? Это если говорить только о писателях. Нет — в разных. Во всех отношениях. А формально в одной. А может быть, ответ вовсе не в партии и прав был Бабель — нужен Интернационал честных людей. Добрых людей. 1961 Вся эта глава для меня сегодня — в 1968 году — сплошной анахронизм. Хочу только одного: избавиться. Выйти.Приложение 1980 г. Секретарю парткома Московской писательской организации В. Кочеткову Членам парткома Уважаемые товарищи! На двенадцатое февраля назначен «разбор моего личного дела». Чтобы облегчить разбирательство, крайне болезненное для меня и, может быть, не такое уж легкое для вас, я не приду на заседание; тем более, что летом 77-го года в длительной беседе с членами парткома я изложила свои взгляды, внимательно выслушала возражения товарищей, обдумала их. Предстоящее исключение для меня трудно. Заявление в партию я подала 22 июня 1941 года. Первые пятнадцать лет безоговорочно выполняла все решения, искренне веря в их необходимость; если возникали сомнения, то я подавляла их, считая, что права не я, а те, кто эти решения вынесли. Потому мне приходилось совершать поступки, которых стыжусь. После XX и XXII съездов, после «разоблачения культа личности и его последствий» я вместе со многими надеялась на коренные перемены в стране и в партии. Именно тогда я дала себе зарок: не присоединяться к решениям, если они мне представляются несправедливыми, от каких бы инстанций они ни исходили. Сегодня в своем отношении к людям и событиям я стараюсь исходить из начал добра и справедливости. Потому так невыносима расправа с инакомыслящими. Невыносима травля А. Д. Сахарова — лучшего человека, встреченного мною в жизни. Даже молчаливо отстранившись от этой травли, я ощущала бы свою долю ответственности. Мне всегда казалось, что долг литератора в России — не нападать, а защищать. В парторганизации, с которой я связана четверть века, много прекрасных писателей, добрых друзей и товарищей. Им я за многое благодарна. Дело же мое, результат которого предрешен (в этом я еще раз убедилась, прочитав клеветническую статью о моем муже в «Советской России»), прошу рассматривать без меня. Сдаю вам мой партийный билет № 06100731. Р. Орлова-Копелева 5 февраля 1980 г.
23. Как я была оккупанткой
Мне не хочется писать эту главу. Мне трудно ее писать, особенно сегодня. Но она сегодня вздумала родиться, и ее не сдержать. Я прошла тридцать лет тому назад через многое из того, что слышишь сегодня о Чехословакии на улицах, в метро, за чайными столами. Сквозь все круги, по всем ступеням. Первого сентября 1939 года мы уезжали из Крыма. Уже начались занятия в институте, надо скорее в Москву, а билетов не было. Вторая мировая война. Меня это нисколько не касалось, только вот посадка в Симферополе трудная, а я на пятом месяце беременности. Мировая война шла не в нашем, а в ихнем мире. И если империалисты воюют между собой, это даже хорошо: они ослабляют друг друга. В сознании прочно закрепилась разделенность планеты четкой линией границы. Когда Леня ехал во Львов (1940 г.), он записывал в дневник: «Может быть, это и смешно, но раньше границы страны казались мне границами мира, который я представлял себе с детства, — с синим небом, с белым снегом, с черной каймой леса на горизонте. Представлял ли я себе небо „там“ черным, снег — голубым, зимний лес — оранжевым? Нет, конечно. Но подумай, вспомни и ты поймешь, что впечатление о „там“ у тебя примерно такое же. Настолько уж мы привыкли к „у нас“ и „у них“». 17 сентября 39-го года немецкие и советские войска вошли в Польшу. Мы сидели за столом у нас дома, бурно обсуждали новости. Спорили. Радовались. А мне было очень стыдно: ведь наступил тот самый момент, к которому я готовилась всю жизнь, революция становилась реальной; водружаются красные флаги, а я в это время привязана. Ушла в малый мирок (в те годы всегда говорили именно «мирок», пренебрежительный суффикс подчеркивал, сколь незначительна одна жизнь по сравнению с величием целого). Мне стыдно, что я, связанная беременностью, не смогу, не успею участвовать! Там, куда пришли наши, там раньше люди жили очень плохо, одну спичку делили на четыре части. Мне жаль этих несчастных западных украинцев, западных белорусов. Пусть им будет лучше жить. Пусть им будет так же хорошо, как и нам. Пусть у каждого будет своя спичка. Отодвинута граница. Договор договором, но на душе неспокойно. Да и сам пакт о дружбе с Гитлером — заноза. Ведь не исчез же тот простой, детский вопрос: «За нас или против нас?» Так, если мы за Гитлера, то как же с антифашистами, с романами Бределя и Фейхтвангера, рассказами о пытках и о стойкости коммунистов, с еврейскими погромами и кострами из книг? Теперь Красная Армия вошла в западные области, отбила людей, а то они остались бы у гитлеровцев. Нашим старшим ребятам, которые кончили институт, идти в армию. Некоторые не хотят идти. Как можно не хотеть идти в Красную Армию, да еще в такой момент! «Это неразумно, — говорят они. — Зачем было кончать ИФЛИ, чтобы служить рядовыми? Мы можем переводчиками или политработниками». Я пытаюсь спорить с ними и даю себе слово: в будущем году Леня пойдет в армию, а я даже не покажу, что мне грустно с ним расставаться. Студентка-отличница пятого курса, я почти ничего не знала о предшествующих разделах Польши. Пробегала какие-то соответствующие параграфы учебника истории, но в душу мою это не вошло. И уже совсем не понимала, что в 1939 году страна Польша была стерта с карты мира. При нашем половинном участии. «Былое и думы» Герцена — одна из самых любимых моих книг. Но статей Герцена о Польше, о польском восстании 1863 года я не читала. Скажи мне тогда кто-нибудь: безнравственно врываться в чужую страну, каждый народ имеет право сам решать свою судьбу, — я бы повторила заученное: нравственно все то, что служит пролетариату. Захват западных областей служит пролетариату, значит — это нравственно. И все же, оказывается, мне нужны оправдания, нужны ответы на незаданные вопросы… И я нахожу эти ответы, оправдания у Тютчева. В комнате у Агнесы Кун мы читаем стихи Тютчева, написанные после подавления польского восстания 1831 года:…Так мы над горестной Варшавой
Удар свершили роковой,
Да купим сей ценой кровавой
России целость и покой!
Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой!
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
…Другая мысль, другая вера
У русских билася в груди!
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти…
Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода
Как феникс возродится в нем.
* * *
В ноябре 39-го года наши войска напали на Финляндию. Если о Польше я кое-что знала, читала в детстве романы Сенкевича, стихи Мицкевича, то Финляндия была для меня пустым понятием. Если, не приведи Господи, мы напали бы на Францию, — здесь много близкого с детства, с юности, это не так легко разрушить. А в понятии «Финляндия» для меня и разрушать было нечего. Это была совсем другая война. Белая морозная беда. Там гибли. Если я думала о Финляндии, а это бывало очень редко, то о наших ифлийских ребятах. Знала, что там — Сережа Наровчатов. Мысль о том, что там гибнут финны, защищающие свою землю, до меня просто не доходила. (Могу ли я сказать сегодня, в 1980 году, что для меня гибель афганцев и оцинкованные гробы — наши погибшие — равнозначны? Не знаю… Скорее, нет. Но сегодня хоть есть эта острая болевая точка — гибель афганцев, а сорок лет тому назад не было.) К тому же финны назывались белофиннами. Эта простейшая филологическая операция сразу все упрощала: захватническая война превращалась в другую. Ведь нас со школы учили, что в гражданской войне против нас сражались б_е_л_о_ф_и_н_н_ы… Опять же отодвинулась граница. Старая была совсем рядом с городом, я сама видела ее в Сестрорецке. Доходили слухи о наших потерях, о затемненном Ленинграде. Для слухов у меня был автоматически выскакивающий эпитет: «вражеские». Одна двенадцатилетняя девочка, празднуя с подругами Новый 1940 год, предложила тост: «За наше поражение». Если бы я узнала об этом не теперь, а тогда, я бы только спросила: кто ее так воспитал? А ее воспитала собственная сильная трезвая мысль, зрячие глаза, способность хотя бы задавать вопросы. Большинство людей стремятся к благополучию, к счастью. А знание никогда не делало людей счастливыми. Менее всего — знание реальной обстановки. Я хотела, чтобы мой мир: любимый муж, ребенок, друзья, вера в революцию, мечты о будущем, стихи, — чтобы этот мир оставался незатронутым. Не отдавая себе отчета в том, что этот мир построен на горе русского крестьянина, рабочего, все понимающего интеллигента. На трагедии зеков. А теперь еще прибавилось горе жителей Львова, Дрогобыча, горе неведомых мне финнов. Войну с Финляндией в прессе особенно не приветствовали, не восхваляли. Публиковали только краткие сводки. Эта война отражалась в литературной жизни косвенно, очередными проработками инакопишущих. Е. Гальперина, полемизируя с Г. Лукачем, писала в «Литгазете»: «Есть своя логика в том, что любители реакционной „почвенности“ в советской литературе подняли как знамя имя Андрея Платонова, писателя даровитого, но юродствующего, эпигонски продолжающего линию мелкой достоевщинки». В. Перцов ругал Ахматову, утверждая, что в ее поэзии идешь как между двух стен ущелья. М. Парный обличал К. Паустовского за «искажение образа лейтенанта Шмидта в книге „Черное море“». Статья называлась «Тяжелый случай». В марте сорокового года к нам приехала наша бывшая домработница. Она рассказывала о голоде в ее деревне. Я хорошо ее знала, это была честная женщина, к тому же просто не способная ни к какой выдумке. Но я и в ее рассказах сомневалась, ибо какой может быть голод на двадцать третьем году советской власти? …То, что сегодня наш национальный позор, боль, несчастье — народная поддержка, вернее, безразличие, которое становится поддержкой оккупации Чехословакии, — это коренится в долгой истории. Слушая многих людей сегодня, я слышу себя вчерашнюю. Побуждения были иными, настрой души был иной, а объективный результат, именуемый на газетном жаргоне «морально-политическим единством», тот же самый.* * *
Летом 1940 г. три прибалтийских страны — Латвия, Литва и Эстония — были фактически присоединены к СССР. В этих богатых, цветущих странах мародерство развернулось широко. Оттуда везли все. Рассказывали смешные истории, как наши дамы, жены офицеров, отправились на высокий прием в ночных рубашках, которые они приняли за вечерние платья. В 1939–1940 гг. существовал Гитлер. Не как современное[11], выдуманное нашей печатью «готовящееся вторжение ФРГ в Чехословакию». Существовал на самом деле. Этот факт, нисколько не меняя безнравственности нашей агрессии, мешал осознать истинный ее характер, затемнял, позволял говорить: ведь если не мы, то они. Я не участвовала в этих военных кампаниях. Никогда не была в Финляндии. Во Львов попала в 1964 году. (Город, из которого вынута душа. Каменная оболочка — дома, соборы, кладбище — одна, а начинка — от другого пирога.) В Прибалтику впервые приехала в 1947 году. Я не пользовалась особыми благами от оккупации. Я не выступала в прессе, впрочем, меня никто и не просил. И все-таки я была оккупанткой. Потому что без таких людей, без тех, кто поддерживал тогда, без тех, кто поддерживает сегодня, никакая оккупация невозможна. Корешки старого сознания гниют, остаются, выдергиваешь их с болью. Эти корешки ушли в глубину еще и потому, что вскоре пришла большая война и предшествующие малые растворились в большой нашей крови, в большой нашей беде.* * *
Ноябрь, пятьдесят шестой год. Венгрия. Тут уж я ничего не принимала на веру, не одобряла и не поддерживала. Но я с этим сравнительно мирно сосуществовала. Работала в журнале «Иностранная литература», который печатал статьи о «контрреволюционном перевороте». Я читала выступления Сартра и Веркора, осуждавших наше вторжение, совсем иначе, чем во времена ВОКСа, с интересом, сочувствием. Но еще без отождествления. Заведуя отделом критики, я сама готовила вместе с авторами статьи, полемизирующие с польскими «ревизионистами». Да еще и такие мысли мелькали: ведь там в Венгрии действительно вешали коммунистов… Но такие мысли сейчас же перечеркивались противоположными — о позоре агрессии. Хотя мне виселицы — кого бы ни вешали — внушали лишь ужас и отвращение. Краем уха я слышала о листовках у нас, о студенческих кружках; вскоре у нас арестовали группу историков — группу Краснопевцева. Был судебный процесс. Меня это еще не касалось. Моя жизнь могла спокойно продолжаться по-старому. То есть по-новому, в надежде на либеральные реформы после XX съезда. Надо бороться каждый на своем посту, за такие изменения, чтобы новая Венгрия стала невозможной. Вот напечатаем наконец роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» или разделаемся со злодеем Кочетовым — вот это победа. Тогда я еще могла быть частью той системы, которая танками давила рабочихЧеппеля и интеллигентов из кружка Петефи… 1968, сентябрь24. В редакции «Иностранной литературы»
Решение о создании журнала было принято в декабре 1954 г. на II съезде писателей. О необходимости такого журнала несколько лет говорили на собраниях. Произойти это могло только после смерти Сталина. Нынешний главный редактор Н. Федоренко в очередной статье, посвященной 25-летию журнала (1980 г.), утверждает, что «Иностранная литература» возникла в результате победы советского народа в Великой Отечественной войне. Если так, то почему ждали десять лет? Когда редакция стала учреждением, мы с ностальгией вспоминали начало, те времена примитивной демократии, когда все делали всё. Поехали в Библиотеку иностранной литературы, все сотрудники еще умещались в машине А. Чаковского. «Не знаю, умею ли я руководить редакцией, но машину водить я безусловно умею». Больше он с тех пор не сомневался, умеет ли он руководить. От работы в журнале меня очень отговаривали: Чаковский был известен своим отвратительным поведением во время борьбы с «космополитами». На московском писательском собрании в 1954 г. его согнали с трибуны. Никто из нас вначале не знал, что надо делать, искали статьи, книги, знающих людей. Прежде всего тех, кто в свое время сотрудничал в «Интернациональной литературе». Николай Вильмонт стал заведовать отделом литературы капиталистических стран. К нам пришли со статьями, переводами, предложениями А. Елистратова, Н. Ман, Е. Калашникова, М. Лорие, О. Савич, Е. Романова, Н. Волжина и многие другие. Преемственность отчасти сохранялась. В первый номер готовилась статья Александра Аникста о романе Д. Олдриджа «Герои пустынных горизонтов». Этот роман до создания журнала в 1954 г. обсуждался на активе иностранной комиссии при Союзе писателей. Анна Елистратова выступала против издания книги в СССР. Это было еще в тот период, когда советские читатели, судя по нашим переводам, могли считать, что в Англии было всего два писателя — Олдридж и Линдсей. Защищали роман Аникст, Мендельсон и я. Этот эпизод сейчас воспринимается совсем как древняя история. Книга Олдриджа вышла, долго лежала на прилавках. Никто о ней потом не писал, споров она не вызвала, многим читателям кажется скучной. С Аникстом я впервые столкнулась заочно. Нам в ВОКСе нужна была статья литератора-фронтовика на тему «Почему я люблю американскую литературу?». Статью заказали Аниксту. Но нам, — мы редактировали вдвоем, — показалось, что написал он не то и не так, как мы считали нужным, и мы ее переделали, перечеркали, вписали свое — все без согласия автора. Прочитав уже в «Иностранной литературе» статью Аникста об Олдридже, я увидела — можно писать и о зарубежных книгах, выражая то же самое, о чем думаем, спорим, что касается лично нас. Она — как впоследствии любая талантливая статья, книга, заметка — проходила трудно. Очень резко против статьи выступил Савва Дангулов, назначенный заместителем Чаковского. Аникст развивал мысль — отнюдь не новую — о романе идей и романе образов; и причислял «Герои пустынных горизонтов» к романам идей. Сейчас в пределах даже очень консервативного журнала трудно представить себе, что по такому поводу браковали бы статью. Это был и тогда именно повод. Вся статья дышала новым, ломкой, вызовом. Ее подпочву ощущали и ее противники, и ее защитники. Эренбург отстаивал статью (несколько месяцев он был членом редколлегии, а потом вышел именно из-за Аникста). У Эренбурга по делам журнала бывала Мотылева. И как всегда примирительно заметила: «Илья Григорьевич, из статьи же вырезали только маленький кусочек, ее же будут публиковать». «Тамара Лазаревна, у мужчины можно отрезать маленький кусочек, и он перестает быть мужчиной». Для второго номера журнала предназначались рассказы Колдуэлла. Один о двенадцатилетней девочке, которую мать продает — в доме голод. Очень страшный рассказ, также вызвавший споры. С тех пор опубликовано множество подобных рассказов, романов, пьес, и никого это не смущает. Но это было началом. Каждое новое имя, каждая новая мысль, каждая свежая свободная строка пробивались в печать трудно, с боями. Защищая статью Аникста или рассказы Колдуэлла, я тогда поступала по инстинкту. Позже я поняла связь между реабилитацией Хемингуэя или Стейнбека и реабилитацией наших невинно осужденных людей. Как, впрочем, и связь между осуждением тех и других. А между тем эта связь вполне органична: если мы живем в осажденной крепости, то все силы на борьбу с врагом, внешним и внутренним. И — наглухо законопатить все отверстия, все дыры. Если же мы — великая держава, одержавшая победу в жестокой войне, то, быть может, мы позволим себе приподнять железный занавес, позволим широту, открытость, вспомним о всемирное™, которую отстаивал еще Достоевский? Публикуя иностранных писателей, мы приоткрывали тот мир, в свете которого неизбежно должны были меркнуть тупые, шовинистаческие представления об исключительности. «Только в нашей стране…» Нет, оказывается, не только в нашей. А потом начало выясняться, что и не столько в нашей. Каждая строчка журнала, вопреки всем видам жесточайшей цензуры, говорила о том, что за рубежом живут хорошие писатели, которые пишут хорошие книги, близкие нам, о нормальных людях — тоже близких нам. Концепция всеобщего западного загнивания, гибели культуры, «пещерного» века явно терпела крах. Журнал был, конечно, лишь малой частью этого процесса, причем его особая роль все уменьшалась — зарубежные книги печатали и другие журналы и издательства.
Первое лето в Коктебеле. Конец августа 1957 года
Наша редколлегия много раз отказывалась публиковать по «идейным соображениям» в порядке «бдительности» книги, которые после, уже без нас, стали широко известны: «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Сказочка о разборчивой принцессе» Карваша, первые рассказы и романы Бёлля, «Жизнь взаймы» Ремарка, романы Мориака, рассказы Веркора и его философский роман «Люди или животные». И даже отрывок из книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Это звучит сейчас уже совсем неправдоподобно, однако этот отрывок мы не напечатали, и книгу Рида вернул читателям «Новый мир» (ноябрь 1956 г.). Выходили фильмы, начали продаваться газеты и журналы восточноевропейских стран, советские люди ездили за границу, и к нам приезжали иностранные туристы. Все больше людей слушали иностранное радио. В железном занавесе возникала дырка за дыркой, он рвался, расползался. Правдивая информация рождала вопросы, подводила к ответам. Начиная сознавать, что мы были в плену лживой, бесчеловечной идеологии, что мы долго были обманутыми и обманывали сами, мы судорожно искали иной идеологии, иной системы верований, необходимо включающей нравственные начала, правдивость и человечность. Общество проходило период бурной переоценки ценностей. Переоценки и поисков. Чем же все-таки люди живы? Во имя чего жить, чему верить? Ответов искали на разных путях. В марксизме, очищенном от скверны сталинизма, в марксизме, соединенном со свободой и гуманностью. В прежде недоступных совсем книгах русских поэтов, прозаиков, мыслителей. Так, клеймо «белоэмигранта» надолго отняло у нас Бунина, Цветаеву, Бердяева. С 1956 года начали возвращаться и они. Искали ответов и у них. Искали в религии. Искали и в иностранной литературе. В Советском Союзе с 1955–1956 годов духовной пищей, насущным хлебом для многих стали книги Ремарка и Хемингуэя. Бёлля и Сэлинджера. Произведения этих и других писателей начали заполнять духовный вакуум… Страницы нашего журнала пестрели и скучными романами, и скучными статьями. Но все-таки даже в период первых «заморозков» в 57-м году прошла статья Эренбурга «Уроки Стендаля». Образец подцензурной пропаганды, эзоповского языка. Было у Чаковского несколько замечаний, и мы с заведующим отделом публицистики Н. Прожогиным поехали к Эренбургу согласовывать эти замечания. Эренбург продержал нас несколько часов, хотя исправления были внесены за несколько минут. У Эренбурга — «Стендалю было наплевать на критиков, но за спиною критиков стояли гвардейцы». Здесь стояла жирная птичка Чаковского. Эренбург усмехнулся и вписал «королевские». В отдельном издании «Французских тетрадей» первоначальный авторский текст восстановлен. Эренбург не отпускал нас потому, что ему хотелось говорить, рассказывать, опровергать, объяснять. А мы, разумеется, хотели слушать. Только что закончилась сессия в Институте мировой литературы «Итоги литературного года». Необычного — пятьдесят шестого. Это и стало началом его монолога. Говорил он очень взволнованно, глаза молодые и временами — злые. Когда я радостно сказала, что Бровману не дали выступать — он критиковал роман Дудинцева «Не хлебом единым», — топали ногами, — Эренбург одобрительно: «Мне часто тоже хочется топать ногами. Уже нельзя аргументировать». Окружение Кочетова называл «буйным кланом». «Он зарывается, скоро сорвется. У Кочетова — мой темперамент. Мне даже нравится, что он самостийничает». С презрением говорил о Симонове: «В сорок восьмом году его поругала „Культура и жизнь“ за „Дым отечества“, и он мне трагически заявил: „Илья Григорьевич, у нас нельзя писать правду“. Советская печать любит обличать продажность французских министров, но они держатся года по два. А Симонова даже и на два года не хватило». Часто колебался вместе с линией К. Симонов. Не говоря о прошлом, но и после смерти Сталина. То публиковал роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» и стихи О. Берггольц, на большом собрании утверждал, что первая редакция «Молодой гвардии» А. Фадеева гораздо лучше второй (переделанной автором по указаниям сверху). То отступался от того же Дудинцева. То пробивал и пробил публикацию «Мастера и Маргариты» Булгакова; кто знает, сколько времени еще пролежала бы эта рукопись, если бы не его неустанные усилия? То яростно — после ареста — обличал Даниэля и Синявского. После его смерти узнала я, скольким людям он помогал тайно — деньгами, прошениями о квартирах, даже попытками вызволить из лагеря. Незадолго до смерти он принес в издательство «Советский писатель» две рукописи: сборник воспоминаний о Булгакове и том прозы Мандельштама… Мы спросили, нравится ли Эренбургу рассказ М. Шолохова «Судьба человека». «Нет. Трагедия Шолохова страшнее трагедии Фадеева. Он медленно умирает на наших глазах. С начала войны. Он был тогда не с нами, потому что казаки не с нами. А для него эта связь — кровная. И человечески, и творчески. Тогда начались водка, антисемитизм, позорная клика мелких людишек вокруг него. Мы с ним встретились в 43-м году, и он сказал мне: ты воюешь, а Абрам в Ташкенте торгует. Я вспылил, крикнул ему — не хочу сидеть за одним столом с погромщиком!» Версия шолоховской семьи о причинах ссоры иная: в 51-м году в Таллине на нашей кафедре работала его дочь Светлана Шолохова. Она рассказывала так: в начале войны Шолохов полетел в Вешенскую эвакуировать своих родных. Когда вернулся — уже в Куйбышев, — заметил, что на него посматривают косо. Стал расспрашивать, в чем дело. Ответили: Эренбург говорил, будто Шолохов хотел остаться у немцев. «Шолохова мучит наша ссора, — продолжал Эренбург, — он мне шлет письма, телеграммы» (одну телеграмму мы читали на стенде «Литературного музея» в день 65-летия Эренбурга: «Обнимаю тебя, большого русского писателя»). «Шолохов очень честный художник. Он не может лгать, не выносит двойного счета». К этой мысли И. Г. возвращался несколько раз. «И человек порядочный, никого не топил, по трупам не ходил. Все плохое — наносное, от окружения. Его поведение напоминает поведение Есенина накануне самоубийства. Тот говорил: сейчас пойду на улицу и крикну: „Жиды продали Россию!“ Я его держал — нет, не пойдешь. Но тогда было другое время, могли и в милицию повести». Несколько раз повторял: «Шолохов большой талант. Масштаба…» Прожогин подсказал: «Хемингуэя». «Нет, я думаю о наших классиках — Гончарова. Может быть, Глеба Успенского». «Я написал предисловие к Цветаевой, Мандельштаму, Бабелю. Идет битва за Цветаеву» (тогда, в 56-м году, набор рассыпали, сборник вышел только пять лет спустя). Эренбург мне был далек и как писатель, и — сужу по немногим и отстраненным встречам — как человек, и как общественный деятель. Но я благодарна ему за память. Он сам когда-то написал в испанских стихах: Одно я берегу — простую память… Это только кажется простым. Помнить — очень трудно. Я в своей жизни пережила не так уж много действительно страшного. Но вот я ходила по пеплу Майданека в конце 44-го года. Слегка подташнивало — от ужаса, от запаха, от вопросов американских корреспондентов: «Сколько пар детской обуви на складах?» Американцы любят точность. Американцы скептически относятся к «историям о зверствах». Тогда я и помыслить не могла, что мы когда-нибудь в чем-нибудь врали. Были душегубки. Было крушение веры в человека. Разумное существо? А я ведь забыла о Майданеке. Человеку свойственно охранять себя от страшных воспоминаний. Я сама видела Майданек. Но в душу мою ощущение трагедии — планомерное уничтожение людей за то, что они евреи, — вошло не собственным зрением, а писательским словом. Когда я прочитала «Треблинский ад» Василия Гроссмана (1946 г.). Пробивший и мою защитную броню. Ужаснулась. Но тогда даже не шевельнулось: «Вот ты хотела ехать после ИФЛИ в Прибалтику. Поехала бы — могла бы попасть в эти печи, в эти поезда…» До того как поставить себя на место узницы концлагерей — гитлеровских ли, сталинских ли, — предстоял еще долгий путь. До книг Солженицына. Отвлеклась от квартиры, на стенах которой висели картины лучших художников XX столетия. С дарственными надписями. Эренбург говорил о Фадееве: «Он испытал большую трагедию. Давно жил двойной жизнью. На собраниях поносил Пастернака, а потом вел меня в „Арагви“ — хотите послушать настоящую поэзию? — и читал Пастернака по многу часов подряд. У Фадеева и комплекс вины за Гроссмана. Речь идет о проработке романа В. Гроссмана „За правое дело“. Рукопись второй части „Жизнь и судьба“ была арестована в 1961 году. Впервые роман опубликован в 1980 году в Швейцарии. Он без конца оправдывается. В 52-м году, после разговоров с Говардом Фастом о пресловутых скобках (еврейские фамилии), Фадеев сказал мне: „Илья Григорьевич, на какой позор нас посылают. Что я мог ответить Фасту?!“ И запивал. Я отвечал ему: „Вы же член ЦК“. — „Ну и что же? Я туда даже войти не могу без пропуска. Ничего не знаю. Когда выхожу из „нетей“, звоню вам, спрашиваю: что слышно?“ Он был человеком очень честолюбивым и жестоким. На все способен. И по трупам ходил. Тоже большой, нереализованный талант. Но — меньше Шолохова». Всеволод Вячеславович Иванов рассказывал нам о своем разговоре с Фадёевым в 1939 году. «Саша, почему арестован Мейерхольд?» — «Потому что он был провокатором и шпионом трех держав». Только и оставалось говорить с ним об охоте. Эренбург помог публикации повести «Старик и море». Повесть была переведена Б. Изаковым и Е. Голышевой сразу после того, как вышла в США; рукопись путешествовала по редакциям, долго лежала в «Знамени». Разумеется, дошла и до нас. Открывать журнал Хемингуэем значило продолжить традицию. И познакомить русских читателей с новым, уже всемирно известным произведением. Чаковский хотел публиковать. Наметанным глазом он увидел, что в самом тексте не было ничего крамольного. Понимал, что лучшего дебюта для журнала не найти. В марте 1955 года поехал на прием к министру иностранных дел Молотову. Не впервые. Вернулся злой и решительный. Собрал маленькую редакцию. «Я спросил Вячеслава Михайловича о „Старике и море“. Он ответил: „Я сам не читал. Но мне сказали, что это глупая книга. Ловят и ловят какую-то рыбу“. Надеюсь, всем понятно, что печатать мы не будем. И я требую, чтобы в редакции прекратились всякие разговоры о Хемингуэе». Я огорчилась. Но не возмутилась. В июне 55-го года Эренбург встретился с Молотовым в Вене. — Вячеслав Михайлович, вы запретили «Иностранной литературе» публиковать «Старик и море»? — Нет. Я не читал этой книги. Пусть сами решают. Эренбург вернулся, передал этот разговор. Повесть срочно поставили в очередной, третий номер. Так в сентябре 55-го года после шестнадцатилетнего перерыва снова появился Хемингуэй по-русски. Опала была наконец снята. В 1956 году я редактировала статью И. Кашкина, открывшего Хемингуэя в тридцатые годы. Статья называлась «Перечитывая Хемингуэя». Это было время, когда люди многое перечитывали. Вернулась к Хемингуэю и я. Отнюдь не по долгу службы. Оттепель была исполнена романтических иллюзий. И в это время вновь пришел к нам романтический писатель. По-иному начали мне открываться «В снегах Килиманджаро», «Прощай, оружие!». Я начала, только начала учиться видеть мир без прикрас. Не отшатываться. «То endure» — выдюжить — это позже принес Фолкнер. А тогда устоять, не теряя достоинства. Хотя именно тогда жизнь была преисполнена надежд, но одновременно вырабатывался, кристаллизовался некий новый кодекс поведения, опирающегося не на внешние подпорки, как прежде, а на себя. «Какими мы не были, но могли бы стать, еще можем стать» — так я определила бы, перефразируя название его старого рассказа, свое отношение к Хемингуэю в конце пятидесятых годов. Найти себя в себе мне помог и Хемингуэй. Добраться до «душевной глуби». Могли помочь и процитированный Пастернак, и Ахматова, но я знала их, моих великих соотечественников, хуже, чем далекого американца… Работали мы с Кашкиным долго и трудно. Критик стремился написать о том, что он видит в любимом писателе хорошего, ценного, чем писатель отличается от других. А редколлегия толкала его на перечисление и осуждение недостатков писателя: «не понял», «не отразил», «не сумел подняться». В статье Кашкина никак не могли найти компромисса между истиной, к которой был близок автор, и требованиями редколлегии. Мы с ним составляли единый фронт. Я уговаривала каждого члена редколлегии по отдельности — ведь большинство из них любили Хемингуэя. В самый разгар оттепели Аникст написал блистательный памфлет «Как стать Бернардом Шоу». Он широко цитировал вступление к «Святой Иоанне» — в пору так называемого «позднего реабилитанса» строки читались с дрожью. Наша редколлегия не пропустила. В несколько измененном виде эта статья была опубликована в журнале «Театр». Поражений было больше, чем побед, и часто я задавала вопрос: а нужна ли кому-нибудь эта мышиная возня в маленьких комнатах сначала на улице Воровского, а потом на Пятницкой? В то время к нам из Польши пришел такой анекдот: учитель арифметики, реакционер, утверждал, что дважды два — девять. После упорной борьбы реакционеру пришлось уйти, его сменил либерал, который смело заявил, что дважды два — семь. А на того мальчика, который пытался робко заикнуться, что дважды два, кажется, четыре, посмотрели как на безумца, а то и подлеца: «Неужели ты хочешь, чтоб опять стало девять?!» Я долго была среди тех, кто радовался возможности сказать: дважды два — семь… Не буду пересказывать все редакционные споры, продвижение на сантиметры «по пути прогресса». События, время да в какой-то степени, наверно, и наши усилия оказывали свое действие, и редколлегия вынуждена была печатать талантливые, освобождающие ум и совесть произведения. То Арагон поможет, то Веркор, то Лакснесс… Среди интеллигенции сегодня уже читают или говорят, что читают, романы Фолкнера, даже портреты вешают в домах, а ведь сколько раз надо было повторять как заклинание — Фолкнер, Фолкнер, Фолкнер… Как трудно было мне самой прорваться к Фолкнеру, как он меня сначала отталкивал. Нескончаемые бои шли за роман «По ком звонит колокол». Рукопись перевода, сделанная еще в 1940 году, влилась после 56-го года в начинающийся самиздат. Наш экземпляр прочитало человек двести, это одна из немногих рукописей, которая в буквальном смысле стерлась — листы рвались, буквы уже невозможно было разобрать. В 1954 году заведующий редакцией ИЛ назвал роман Хемингуэя среди книг, которые издательство намеревалось выпустить. Посыпались возмущенные письма испанских и французских коммунистов. Книгу из плана сняли. После того как Микоян побывал у Хемингуэя на Кубе в 1959 году, журнал «Нева» сообщил, что будет публиковать роман. Газета «Советская Россия» напечатала ответную телеграмму писателя: «Очень рад, что вы печатаете роман. Лучшие пожелания. Хемингуэй». Писатель радовался преждевременно. Как и читатели. Увидеть свой роман по-русски он не успел. Попытки не прекращались: в начале 63-го года готовились отрывки из романа в «Неделе». Е. Калашникова показывала мне верстку. Но наступили очередные заморозки, и публикацию снова запретили.

Коктебель, 1957 год
Однако в августе 63-го года отрывок из завершающей, сорок третьей, главы о последних мгновениях жизни Джордана был опубликован в «Литгазете». В «Звезде» напечатали мою большую статью «О революции и любви, о жизни и смерти» (к выходу русского издания, 1964, № 1). Цитаты из романа, приведенные в статье по самиздатской рукописи, я сверяла в Гослите по чистым листам. Но и на этот раз выход русского издания не состоялся, набор рассыпали: Долорес Ибаррури и Листер, их единомышленники решительно протестовали против неугодной им книги. Статья успела проскочить в последний момент, а из моей книги «Потомки Геккльберри Финна» (очерки современного американского романа), из главы о Хемингуэе, вторая часть, посвященная «Колоколу», снята цензурой. Неустанно пробивал роман К. Симонов. И в 1968 году в третьем томе собрания сочинений «По ком звонит колокол» появился на русском языке. Двадцативосьмилетняя тяжба вокруг книги завершилась победой. Можно лишь гадать, как это произошло в причудливом скрещении эмоций, воль, интересов. Думаю, что в этой победе сказались и события 68-го года; когда роман готовился к печати, ожили надежды на «социализм с человеческим лицом». Ведь и за тридцать лет до Пражской весны многие идеалистически настроенные коммунисты, левые интеллигенты (среди них и Роберт Джордан) верили, что сражаются за лучший мир, за истинное братство. Опубликован роман по-русски с купюрами (преимущественно в главе 18-й — воспоминания Джордана об отеле «Гейлорд», где жили русские). Хемингуэй запечатлел взлет революционных надежд и иллюзий (когда они во всем мире уже были на спаде) и их крушение…Меня и моих друзей в середине 50-х годов, после XX съезда, поражали прежде всего картины бюрократического перерождения революции. Тогда эту книгу многие русские интеллигенты прочитали как художественное воплощение того, о чем говорили, спорили едва ли не все мы: о средствах и цели, о цене политической борьбы и победы, о преступлениях и о лжи, о нашем стыде и о нашем раскаянии, о тиранах и маньяках, вырастающих из вчерашних революционеров. Изображение Марти и речь Хрущева на закрытом заседании XX съезда партии совпадали даже в деталях. Хрущев говорил, что Сталин тыкал карандашом в глобус, определяя (часто неграмотно) движение дивизий, армий, фронтов. Именно так поступал в романе комиссар интернациональных бригад… И приказывал расстреливать жестоко и бессмысленно, как приказывал Сталин. И любил убивать — как любил Сталин. Само отношение к Сталину и Марти было отчасти сходным: опухоль, нарост. Убрать нарост — и останутся чистые интербригады и чистая испанская республика, а у нас — очищенная советская власть… В пору острого, мучительного кризиса многие из нас открывали роман Хемингуэя — не самый ли русский иностранный роман двадцатого века? Я назвала главу о Хемингуэе «Неизменная совесть». Это его слова: «…совесть, абсолютно неизменная, как метр-эталон в Париже…» — одно из слагаемых, необходимых для писателя. Но эти слова вырваны мною — неосознанно — из контекста и вставлены в иной, в наш тогдашний контекст. Начало шестидесятых годов в России. Потребность в совести, способность, оглянувшись, увидеть свою вину, свое участие в несправедливостях, испытать раскаяние. Угрызения совести, муки совести стали в тот момент едва ли не главными жизненными понятиями. Слова «неизменная совесть» больше подходят к определению творчества, например, Короленко. Это мы, во всяком случае я, вычитывали прежде всего совесть. Сумели же русские юноши полтораста лет тому назад, юноши, жившие в московских переулках, которые теперь назвали улицами Герцена, Огарева, Белинского, вычитать у прусского верноподданного Гегеля алгебру революции… Что же до совести — сегодня мне представляется, что для Хемингуэя важнее понятие чести. Тогда мы все еще приближали Хемингуэя к нам, вместо того, чтобы приближаться к нему. Отчасти его романтизм способствовал сначала восхищенному, потом разочарованному, но не трезвому взгляду на его творчество. Принимать его таким, каким он был, я научилась позже. Если научилась. В 1958 году был переведен роман западногерманского писателя Вольфганга Кеппена «Смерть в Риме». Антифашистский роман, в центре — интересный образ эсэсовца. Написанный в той субъективной манере, которая уже протискивалась, хоть и с грехом пополам, в узкие щели наших издательств и журналов. На редколлегии против книги выступил один человек — тогдашний заместитель редактора Родионов. За роман выступили — Анисимов, Герасимов, Чаковский, Терешкин, заместитель заведующего международным отделом ЦК. На редколлегии шла речь и об антисемитизме гитлеровцев, и о том, насколько это полезно напоминать в СССР сегодня. Об этом говорил очень резко Терешкин. Роман послали в ЦК. Как выяснилось впоследствии, читал в ЦК книгу один человек — тогдашний инструктор по зарубежной литературе Евгений Трущенко. Прошло полтора года. Родионова сняли. На его место в журнал прислали Трущенко. В очередном закрытом письме ЦК (1959 г.) об издании зарубежной литературы строго указывалось: без конца публикуют одних и тех же авторов. Как отрицательные примеры назывались Ремарк и Кронин, в то время как советские читатели до сих пор не знают многих прогрессивных зарубежных авторов: Гамарра, Понса, Кеппена. Чаковский сразу же позвонил в ЦК — как быть с романом Кеппена. Ответили: «Решайте сами». Снова собралась редколлегия. Снова все «за», кроме одного — Трущенко. Он послал письмо в ЦК со своим «особым мнением». Там рукопись перевода прочитали все инструкторы отдела и заведующий Д. Поликарпов, тот самый, который приобрел геростратову славу во время дела Пастернака. Собирается чрезвычайное заседание редколлегии вместе с отделом культуры ЦК. Сначала Анисимов, Терешкин, Мотылева и я выступают за издание романа. Против — Л. Никулин (как всегда быстро применившийся к обстановке). Затем берет слово Поликарпов: «Мы занимаемся буржуазной литературой периода империализма. В ней содержится приемлемое и неприемлемое для нас. Надо подходить не догматически. Но мы находимся в состоянии борьбы двух идеологий — не только политически, но и морально-этически. Как бы нам ни хотелось иной раз взять что-либо, нельзя это делать за счет уступок. Иначе я не понимаю, зачем нужен журнал. В романе Кеппена потерь для нас больше. Вначале мне казалось, что можно кое-что изменить путем свободного перевода. Но вторая часть исключает такой подход. Автор — буржуазный либерал. Во второй части порнография, патологическое буйство плоти, собачья свадьба. („Эсэс“ — собачья свадьба; это выражение обогатило редакционный жаргон. — Р. О.). А журнал читают и читатели переходного возраста, которые еще с фестиваля (он имел в виду международный фестиваль в 1957 году) воспринимают всю эту гадость. Они и так иронически относятся к учителям. На мой взгляд, собачья свадьба — это лейтмотив. Всех растлили вплоть до кассирши. Есть и здоровые куски, но они тонут в чаше пойла. Русская классическая литература была целомудренной. Это мы унаследовали. Появление таких книг, как „Триумфальная арка“, „Жизнь взаймы“, вызвало раздражение в очень широких кругах читателей». (Мы со Львом провели около ста читательских конференций по Ремарку. Что-то не уловили мы раздражения «в широких читательских кругах». Зато на всех конференциях, на всех докладах и лекциях по зарубежной литературе неизменно получали одну и ту же записку: «Почему „Триумфальная арка“ не выходит отдельным изданием?») «Этими книгами мы открыли шлюзы, — продолжал Поликарпов, — это все мой личный взгляд. Это уступки в принципах. Это неверно ориентирует нашу литературу. Я критикую не автора. Он правдив. Такова буржуазная жизнь. Чувственность в жизни пролетариата не может занимать такого места — у рабочего нет на это времени. Печатать такую книгу — уступка буржуазным взглядам. Как ставится в книге еврейский вопрос? Ведь гитлеровцы уничтожали не только евреев. Зачем выплескивать всю эту мерзость на читателя? Зачем воспитывать отвращение к порнографии путем показа порнографических картин?» Далее он заявил, что редколлегия вправе с ним не согласиться и перенести решение вопроса выше. Чаковский, разумеется, поспешил заверить Поликарпова, что согласен. (1 ноября 1965 года я вынула из почтового ящика одновременно «Правду» с некрологом скончавшемуся Поликарпову и десятый номер «Иностранной литературы» с романом Кеппена «Смерть в Риме». Мистическое совпадение.) Большие бои начали разворачиваться примерно с 1957 года вокруг Ремарка. Не было, пожалуй, писателя, который бы в такой степени покорил молодежь. Особенно его роман «Три товарища». Лева участвовал в переводе «Трех товарищей», написал предисловие к этой книге, несколько статей о Ремарке и брошюру для издательства «Знание», которую так и не издали. В какой-то момент Ремарк нам даже надоел — так много о нем спрашивали, говорили, спорили; значение его, конечно, преувеличено, не такой уж он крупный писатель. Но в тот момент оказался необходимым. Бывали и в нашей работе радости. В 1960 году в Риге разговаривали с секретарем парткома паровозостроительного завода. И вдруг наш собеседник говорит: «А мне знакома фамилия Копелев. Не вы ли автор предисловия к „Трем товарищам“? Я помню, как вы написали о речи героев „шершавая и ласковая, как солдатская шинель…“». На мою лекцию о Ремарке в Министерстве иностранных дел собралось около 800 человек. Запомнилось одно выступление на читательской конференции в маленькой библиотеке в Замоскворечье. Иванов, корректор, молодой человек: «Мне очень нужен Ремарк. Вот ведь и у нас был Сталин. Все в него верили, и я верил в него, как в бога. Даже не думал, что он в туалет ходит. И вдруг выяснилось, что он сделал столько подлого, убил столько людей. Берешь „Правду“ и ничего не получаешь. Потому Ремарк так и влияет. Ведь у нас тоже есть проституция, почему же никто об этом не пишет? У нас есть свои чуваки и чувихи (я тогда впервые услышала эти слова. — Р. О.). Наша молодежь не верит в комсомол, очень многие не верят в партию. Вот и на меня здорово подействовал Ремарк, его герои тоже испытали большое разочарование. Я не получал таких впечатлений от Шолохова, от Федина». Ему громко хлопали. Немедленно вскочил человек без руки и закричал: «Я в корне не согласен с Ивановым, такие речи может произносить только человек духовно падший. В Ремарке привлекло, что узнали незнакомую жизнь. Как можно не верить в комсомол! Иванов говорил о проституции. Но это единичные факты. Наплел сущую чепуху. Шолохова не признавать! Шолохов имеет всемирные заслуги. Лучше Шолохова никого нет». На другой читательской конференции, на комсомольском активе Дзержинского района, выступил аспирант Института востоковедения: «Триумфальная арка» произвела потрясающее впечатление… Больно стало за нашу литературу, когда кончил. Чем Ремарк силен? Чем умеет захватить? Ведь его читают разные люди — и сноб и просто рабочий парень… многое из того, о чем пишет Ремарк, мы не можем найти в наших книгах, даже в лучших. Главное ведь раздумья, движения человеческой души. Для чего человек живет? Кого любит? Кого ненавидит? Второе, что стыдливо обходят наши критики, — проблемы женщины, любви. Ремарк не боится писать об интимной жизни. Ради какой женщины можно пойти на край света, а какая заслуживает скотского отношения? В чем смысл жизни? Что есть правда, честность, подлость?.. Ремарка усиленно пытались запретить; его ругали в печати. Одна статья резче другой, и никакого воздействия на читателя. Или, пожалуй, воздействие было, но обратное. В 1960 году, когда комиссия ЦК, обследовавшая филологический факультет, провела анонимную анкету «Кто твой любимый писатель?», на первых местах оказались Пастернак и Ремарк.

Коктебель, 1957 год
В 1961 году специальным решением ЦК был объявлен выговор директору издательства «Иностранной литературы» Чувикову и заведующему художественной редакцией Блинову «за издание пессимистических книг Ремарка „Жизнь взаймы“ и „Черный обелиск“». В 1961 году, поняв, что я не могу одновременно служить, писать книгу об американской литературе и хоть как-то заниматься домашними делами, я ушла из редакции.
Добавление 1980 г. Журналу исполнилось четверть века. Он был не в сегодняшней, а в синей обложке, наш первенец. Он лежал на столе — среди бутылок и блюд с закусками — в ресторане «Арагви», где мы праздновали его рождение, пили, ели, веселились. Чаковский сел за рояль, мы пели и плясали. Одни были молоды, другие помолодели. Смотрю теперешний список редколлегии: с того года остались только Т. Мотылева и М. Шолохов (никакого, разумеется, участия в реальной работе не принимавший). Да еще введены в редколлегию тогдашние молодые сотрудники А. Словесный и Т. Карпова. Прошло восемь лет между тем днем, когда я ушла из ВОКСа, и тем, когда я начала работать в редакции «Иностранной литературы». Изменился мир вокруг, изменилась и я сама. Вскоре к нам начали приезжать наши авторы — иностранные писатели. Встречи обычно происходили в кабинете редактора и под его председательством. Но часто продолжались в наших комнатах, на улицах, в домах сотрудников, у нас на квартире. Никаких «бесед» я не записывала. Это были, как правило, литературные разговоры. Много позже часть из них стала выходить и на журнальные страницы в обработанном, то есть в прилизанном виде. За годы работы в журнале у нас побывали Ч. П. Сноу с Памелой Джонсон, Сартр и Бовуар, Джон Апдайк, Джон Стейнбек, Уильям Сароян, Эрскин Колдуэлл (смутно помнивший нашу первую встречу перед войной), Грэм Грин, Фридрих Дюрренматт, Макс Фриш, Ганс Магнус Энценсбергер, Генрих Бёлль, Анна Зегерс, Эрвин и Ева Штритматтеры, Криста Вольф и многие другие. Одних я видела только на официальной встрече, с другими разговаривала подолгу и потом. Третьи — как Бёлль — стали близкими друзьями. Вероятно, не на все вопросы моих собеседников я отвечала, во всяком случае не на все до конца. Но лгать — не лгала. На всех летучках, на всех редакционных совещаниях я отстаивала талантливые книги, ту часть великой всемирной литературы, которая была украдена у советских читателей, стремилась к тому, чтобы вернуть утаенное. Пыталась протестовать и против серятины, которая затопляла наш журнал, как и другие. Но довольно скоро поняла: от меня по-прежнему зависело мало. И если раньше, в ВОКСе, я покорно мирилась с тем, что я винтик, то в редакции, в иное время мне это становилось все труднее и труднее переносить. Начала осознавать себя как личность. Отсюда и внутренняя потребность противостояния. В частности, это происходило и благодаря тем самым книгам, которые мне надо было по долгу службы, а получилось, что и по душевному долгу, прочитать сначала в подлиннике, потом добиться перевода, потом сражаться за публикацию, чтобы их могли прочитать и другие. Углубилось чувство ответственности: неважно, что мое имя не стоит на обложке, все равно я разделяю и радость, и гордость за все хорошее, стыд за любую бездарную повесть, за любую подлую статью. Внутренним сдвигам способствовала вся атмосфера конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Я жила среди разбуженных душ. Люди страстно хотели общаться, делиться друг с другом, читать стихи. Мы занимались литературной работой, само слово, как точно определил в одной своей речи Генрих Бёлль, было «прибежищем свободы». В моей душе крепло: хватит двух счетов. Не могу больше. В мае 57-го года, после первой встречи правительства с деятелями культуры (той, где Хрущев кричал на Маргариту Алигер), Маковский вернулся в редакцию, вызвал меня и сказал: — Дискуссия, которая длилась почти год, окончена. Руководители партии ясно поддержали линию Софронова, Кочетова, Грибачева. — Эту линию я проводить не буду. — Значит, вы не можете руководить отделом критики нашего журнала. — Александр Борисович, ищите мне замену… Поиски (а может, и колебания, ведь линия все время колебалась) заняли год. На партийном собрании читали одно из многочисленных тогда закрытых писем ЦК. Там между прочим говорилось, что не всем реабилитированным можно доверять. Мы сидели рядом с Чаковским. «И этого я не приму, Александр Борисович». В мае 58-го года журнал впервые отчитывался на секретариате Союза писателей. По распоряжению редактора отчет писала я, меня перевели заведовать отделом информации. Чаковский взял мой проект, кое-что добавил и прочитал на собрании сотрудников. Там оказался абзац: «Настроения венгерских мятежников в редакции разделяла Р. Орлова…» Я молчала. Наталья Муравьева, которая только что пришла в редакцию на мое место — заведовать отделом критики, удивилась: — В докладе говорится только об иностранных писателях, о литературных процессах на Западе и Востоке. Я совершенно не знаю Раисы Орловой, но при чем тут она? Чаковский потом ругал Муравьеву («Как вы, член партии, могли выступать при беспартийных?»), но упоминание обо мне из доклада выбросил. А я уже не могла, не хотела следовать за непрерывно меняющейся конъюнктурой. Но и уходить мне не хотелось. Боялась прыжка в никуда. Мне было уже 43 года. С восемнадцати я еже-утренне должна была куда-то идти. Служила. И не ощущала — почти никогда — работу как тяжесть. Наоборот. Не поздно ли переучиваться, не поздно ли начинать утро дома? Рабочее утро. Люблю и сейчас утро больше, чем вечер, весну больше, чем осень. Обещание больше, чем свершение. Пусть толпа, пусть трудно сесть в поезд метро. Люблю само это ощущение — люди идут на работу, дети в школу, и я в толпе, начинается общий для всех мирный день. Они идут печь для тебя хлеб, ткать одежду, что-то делать, чтобы и тебе было светло, тепло, набирают книги, которые ты читаешь… Изредка, провожая в школу внуков, я это испытывала вновь. А для себя хотела и хочу — утро за письменным столом… Я привыкла к коллективу. Мы часто проводили вместе и нерабочее время, праздновали дни рождения, новоселья, все редакционные и общие праздники неизменно сопровождались капустниками, подчас очень остроумными. Повторяю, это было время общения. И теперь, годы спустя, когда те сборища представляются совершенно причудливыми сочетаниями людей, и сейчас я с грустной нежностью вспоминаю нескольких человек из той редакции. Те, кого я вспоминаю, сами об этом знают. И все-таки в 1961 году подала заявление об уходе «на творческую работу по собственному желанию…». Впрочем, я не совсем ушла, я осталась консультантом по литературе США. Приходила раз в неделю, читала американскую прессу, составляла ежемесячные обзоры. Меня по-прежнему приглашали на встречи с американскими писателями. Раз в год публиковали мои статьи. Со мной делились редакционными новостями, сплетнями, «кухней». На моем месте был старый товарищ по ИФЛИ Н. Наумов — все это не давало почувствовать отрыва. Уйдя со штатной работы, я тогда ничем за это не заплатила, ничем не поплатилась. И не осознала вполне произошедшей перемены — меня продолжала захлестывать жизнь внешняя: работы у меня стало больше. Заказов на статьи больше. Лекций, лекционных поездок по стране гораздо больше. Был договор на книгу об американской литературе. Я была членом редсоветов двух крупнейших издательств, была ответственным секретарем секции критики. Никакой крамолы ни в статьях, ни в лекциях не было. Но винтиком я быть перестала. Уже навсегда. Ушла и начала обретать внутреннюю свободу. Потому мне не кажется случайностью, что исповедальную книгу я начала писать именно в 61-м году. 1961–1962
25. Польша
Я не знала польского языка, не изучала польской литературы. Однако в апреле 1956 года редакция командировала меня в Варшаву отбирать рассказы, романы, статьи для публикации у нас. За оставшееся малое время до отъезда я лихорадочно готовилась, читала, расспрашивала. В конце марта в Польше прошла сессия совета культуры. С докладом «Мифология и правда» выступил Ян Котт. Доклад его у нас был переведен и распространялся в самиздате. В эпиграфе слова из письма Маркса: «Стыд сам по себе уже есть революция. Стыд — это род гнева, который обращен внутрь. И если бы, действительно, весь народ был охвачен стыдом, он был бы подобен льву, который готовится к прыжку». Ян Котт утверждал: «…Мы стремились не к познанию правды, но к объяснению, к оправданию. Любой ценой. Даже ценой правды». _ «Внушаемый нам тезис, будто каждый этап революции и строительства социалистического государства непременно является шагом вперед, не мог не привести к тому, что руководству и тем, кто его представляет, приписывались качества божественной непогрешимости». «Заклятиями и литургическими формулами думали изменить объективную действительность, отогнать врага, поднять жизненный уровень». «Застой начался в тридцатые годы. Литература и искусство перестали говорить правду, перестали понимать исторический процесс, перестали быть совестью и разумом революции». Котт говорил о приукрашивании — писателям запретили говорить о преступлениях. Ценное в искусстве оставалось — от слабеющего, но все еще озарявшего жизнь света Октября. «Если отдать себе отчет в том, как выглядит наша жизнь за последнее трехлетие,жизнь, когда непрерывно происходят „земляков ночные беседы“, жизнь, в которой каждый из нас производит расчет с собственной совестью, ищет новых путей и непрерывно думает все об одних и тех же делах, как же можно требовать, чтобы эта тревога, горечь, боль не вылились в стихах, чтобы герои повестей и рассказов обо всех этих делах не говорили и не думали, чтобы они обладали готовыми решениями, душевной доверчивостью, девичьей наивностью и розовым оптимизмом?» Все это было и о нас. И у нас шли бесконечные ночные беседы. И мы рассчитывались с собственной совестью. В спорах с Коттом обнаружилась несостоятельность нашей аргументации. После бесконечных вещаний («как известно…») советские критики отвыкли содержательно доказывать иную точку зрения. Доклад заканчивался так: «Будущность нашей литературы и искусства зависит от нашей моральной стойкости и силы, от нашего усердия и преданности правде, от того, насколько мы сможем сопротивляться мифологии и историческому прагматизму. Это будет великое политическое искусство и литература, но не в смысле исполнения заказа, не в смысле иллюстрации к тезисам, которые меняются из месяца в месяц и из полугодия в полугодие, а действительно политическое искусство и литература, которые воздадут по заслугам людям и событиям, руководствуясь мерой революционной справедливости, которые неустанно будут вести борьбу за продолжение революции до победного конца». И мы мечтали тогда именно о таком понимании политического искусства.
На откосе в Жуковке под Москвой с Левой и Светланой Лето 1958 года.
До отъезда я познакомилась с Виктором Ворошильским, аспирантом Литературного института. Он защищал диссертацию о Маяковском. Раньше и он был убежденным сталинистом. И его вера была поругана, как у сотен тысяч других. В конце октября он поехал в Венгрию корреспондентом «Новой культуры». Советские танки, стрелявшие в венгерских мятежников, довершили для него то, что началось в 1953 году. Его «Венгерский дневник» предельно искренен. Убеждена, что, если бы я была там, я воспринимала бы людей и события подобно тому, как их воспринял Ворошильский. В Польше я несколько раз слышала суждения такого рода: Ворошильскому нельзя верить. Ворошильскому и другим «людям сорок девятого года». (В 49-м году на съезде польских писателей был принят лозунг социалистического реализма.) В первые годы оттепели часто приходилось слышать: все врали. Меня такие разговоры приводили в бессильную ярость. Теперь я отчасти могу объяснить себе природу этой ярости — я ведь действительно не лгала. И думала, как это свойственно людям, что все те, кто произносил вслух мои слова, не рассматривали их как обесцененную разменную монету. Что слова эти были обеспечены если не реалиями, но уж во всяком случае запасом искренности. …Поеду же наконец в Польшу. Встретил меня на вокзале Зимовит Федецкий, переводчик русской поэзии, проживший у нас семь лет. Как сразу же выяснилось, он знал наши дела, и общие, и литературные, лучше меня. Он повез меня в гостиницу, поил кофе в ресторане. Сказал, что поляки хотят пригласить Усиевич, Щеглова, Огнева, Туркова, Кардина. В 1956-м этот список советских критиков звучал как отважнейший вызов. Огнев и Кардин с тех пор много раз ездили в Польшу. Федецкий спросил, читала ли я «Теркина на том свете». А меня воспитывал ВОКС — нельзя разговаривать с иностранцем о неопубликованном произведении! Но в Польше с первого же момента все это полетело кувырком. И дело было, конечно, не в пересечении государственной границы, а в изменении души. — Да, читала. — А стихи Манделя? — В первый раз слышу. Сейчас Мандель (его литературный псевдоним Коржавин) печатается и как поэт, и как критик. Его неопубликованные стихи я прочитала года через три после поездки в Польшу. Коржавин уехал за границу в 1973 году. Строки
Пусть рвутся связи, меркнет свет,
Но подрастают в семьях дети,
Есть в мире Бог иль Бога нет,
А им придется жить на свете…
А кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят…
26. Борис Розенцвейг
«Редколлегия журнала „Иностранная литература“ с глубоким прискорбием извещает о смерти Бориса Исааковича Розенцвейга…» В начале 64-го года я узнала, что у Розенцвейга рак, обнаружены метастазы в легких. Кто он мне? Просто коллега, не могла бы причислить его даже к своим далеким приятелям, но оказалось, что необходимо каждый день два месяца подряд спрашивать, как дела у Б. И.? Узнавать о его перемещениях из больницы в больницу. О его операции. И приехать на похороны. Рабочая комната, в которой прошло столько моих дней, столько споров, столько собраний, столько раз здесь ругались с Розенцвейгом. Все затянуто черным. На большом столе — гроб в цветах. Сотрудники редакции, переводчики. Для жаркого летнего дня много народу. И желтое, старое, изменившееся лицо в гробу. А на большой фотографии — человек не молодой, улыбающийся, живой, с умным взглядом. Траурный митинг. Речи — Рюрикова, редактора журнала, Олега Прудкова из «Литературной газеты», Аси Грузиновой, заведующей редакцией, Виктора Хинкиса, талантливого переводчика. После панихиды из редакции — на Востряковское кладбище. Так называемая «новая территория», кладбищенская «новостройка», ни деревца, ни кустика, могилы одна к другой впритык. Три аршина земли. Беспощадное солнце. Гамлетовские могильщики: «Заходи!», «Поддай немного», «Справа наддай». Борис Розенцвейг возник как автор раздраженной рецензии. Заместитель редактора С. Дангулов весной 1955 года послал хронику, сделанную для первого номера, своему старому знакомому по «Красной звезде» Б. Розенцвейгу. В ответном письме, написанном очень характерным почерком, обличалась вполне справедливо наша безрукость, неумелость, непрофессиональность. Почему нет крупных имен? Почему нет важнейших событий? Почему сообщаете о несущественном? — грозно вопрошал неведомый нам человек. Вскоре он пришел в журнал и стал делать хронику сам. И на каждой летучке задавал другим — чаще всего в обидной форме — те же вопросы. Он подчинялся заведующему отделом публицистики Николаю Прожогину, гладкому юноше, только что окончившему аспирантуру Института международных отношений. Прожогин был вдвое моложе Розенцвейга. Правда, хроника была самостоятельным участком, но все-таки начальником был Прожогин. Прошло еще несколько лет, и Розенцвейг стал заведующим отделом литературы капиталистических стран, членом редколлегии и, наконец, ответственным секретарем. Уже незадолго до болезни. В редакции он сделал карьеру. А все же до самой смерти оставалось ощущение, что ему недодано. Дангулов даже выразил эту мысль в речи на кладбище. В нем бушевало неуемное, неудовлетворенное честолюбие. Одно из первых и самых стойких впечатлений от него — ущемленность. Словно его что-то съедало и съедало изнутри. А когда это честолюбие начало чуть-чуть насыщаться, его действительно съела уже настоящая, не метафорическая, опухоль. Может быть, одного подчинения Прожогину (а скольким ему пришлось подчиняться за длинную жизнь) достаточно, чтобы понять — не оправдать, но понять — причины этой ущемленности. Он с трудом выбился наверх: его не щадили, и он не щадит, им помыкали, теперь он помыкает, его унижали, теперь он унижает. Сколько раз он должен был задавать себе вопрос, а почему, собственно говоря, журналом руководит Чаковский, а не он, хотя он образованнее, трудолюбивее и журналист не хуже. Из «Литературной газеты» Розенцвейга уволили за грубую ошибку — он обругал Бертрана Рассела. Он выполнял указание сверху, но характерно, что п_е_р_е_р_у_г_а_л, а не п_е_р_е_х_в_а_л_и_л. Моя неприязнь к нему началась, возможно, от его пристрастия к номенклатуре. Вполне естественно, что читателя прежде всего интересуют крупные писатели. Но у Розенцвейга это приобрело характер догмата; к ощущению масштаба прибавлялась бюрократическая сервильность. Каждый раз, говоря об отделе критики, он спрашивал, где же участие известных советских писателей. Он как-то пропустил процесс, начавшийся в 56-м году, пропустил тот момент, когда Аксенов или Евтушенко стали и более известными и, соответственно, более нужными читателю именами, чем Федин или Леонов. А в критике — Огнев и Турков, Виноградов и Соловьева, Палиевский и Бочаров, Саппак и Туровская… Он упорно считал, что и в самой редакции «слишком много равенства», «слишком много демократизма». Соблюдение табели о рангах было для него неукоснительно. Когда журнал возник, во всем мире гремел «Дневник Анны Франк». Розенцвейг сначала считал (или нас уверял, что считал) эту книгу просто подделкой. Именно он, что было совсем не трудно, не допустил даже упоминания о «Дневнике». В 1958 году появилась пьеса двух американских драматургов «Дневник Анны Франк»; и эта пьеса, которая обошла все сцены мира, была переведена и на русский язык, издана и поставлена в театре МГУ. Б. И. громко возмущался «политической близорукостью» издателей. Он сказал мне, что собирается писать в «Литгазету» разгромную статью об этой пьесе. Я ответила ему: «Б. И., если вы напишете, вольно или невольно, то вы совершите подлость. Я не хочу выступления против „Дневника“ — это постыдно для нас всех, и не хочу, чтобы вы лезли в грязь». Не уверена, что убедила его, но во всяком случае запугала. Писать статью он не стал. Однако борьбы против книги в пределах редакции не прекратил. В том споре Б. И. все время повторял, что ему отвратительно видеть евреев только как униженных жертв, которые ждут — с покорностью кролика ждут — прихода эсэсовцев. Аргументация была серьезной. Надо признаться, что на фильме «Дневник Анны Франк» я испытала нечто подобное. Но сути дела это не меняет. У Розенцвейга была паническая боязнь всего, связанного с еврейской темой, боязнь и даже отвращение. Только, не дай Бог, не подумали бы, что он предлагает или отстаивает какую-либо книгу потому, что там — про евреев. Объективно это привело к самому обыкновенному, отвратительному, специфически нашему антисемитизму. Как долго, мучительно, с возвращениями вспять мне самой пришлось отделываться от того же самого; нет-нет да и возникают рецидивы. И не мне одной. Незадолго до болезни Розенцвейг резко выступил против публикации в журнале пьесы Хохута «Наместник». Западногерманский драматург обвинял папу Римского в сообщничестве с Гитлером — обвинял тех, кто знал об уничтожении еврейского народа фашистами и не боролся против этого. Искренне верующий католик иезуит Риккардо Фонтана пошел в печь Освенцима вместе с евреями, обреченными на смерть, так как ничего другого сделать не мог. Тех, кто нарушал порядок и тем самым выделялся, он не любил какой-то личной нелюбовью. «Все сидим в норе, так нечего делать вид, что из этой норы можно вылезти», — словно хотел он сказать каждый раз, как что-то прорывалось. А прорывалось за эти годы что-то все время. И каждый раз озадачивало, более того — оскорбляло его. Журнал в 1957 г. напечатал статью Цецилии Кин о литературе итальянского Сопротивления. Розенцвейг резко критиковал на летучке эту статью. Кин писала прежде всего о Витторини и Кальвино, самых интересных писателях Италии. В 1956 году они, как и большинство интеллигентов Запада, осудили советское вторжение в Венгрию. Их книги опубликованы у нас, перестали считаться крамольными. Но это теперь. А вначале и Кальвино, и Витторини надо было пробить, протащить с_к_в_о_з_ь наши стены. Частью этих «стен» и был Розенцвейг. В 58-м году в «Новом мире» были опубликованы очерки Виктора Некрасова «Первое знакомство». Мы с Борисом Исааковичем встретились у выхода из метро — мы часто встречались, шли вместе в редакцию и делились впечатлениями. В этот раз он не был агрессивен, скорее растерян. «Не могу понять позиции „Нового мира“, — говорил он. — Вся рота шагает не в ногу, один поручик идет в ногу». Твардовского сняли в 70-м году, больше нет старого «Нового мира» и не осталось «поручика, шагавшего не в ногу». Летом 61-го года шел прием Сартра и Бовуар в редакции. Чаковский произнес какую-то подловатую фразу. Лена Зонина, которая должна переводить, молчит. — Вы что, не переведете этого, Елена Александровна? — Нет, не переведу. Спокойно сказала, с полным сознанием правоты и собственного достоинства. Уж не знаю, почему мне в этот момент необходимо было посмотреть на Розенцвейга. Мгновение растерянности, а потом такая злоба, обращенная к Лене. Можно, оказывается, и так с начальством? Нет-нет, нельзя, иначе земля обрушится под ногами… Особенно плохо относился он к Эренбургу, был счастлив, когда Оренбург ушел из редколлегии, и каждое новое выступление Оренбурга, будь то «Уроки Стендаля», будь то очерки о Чехове, вызывали поток обличений. О мемуарах «Люди, годы, жизнь» и говорить нечего. Розенцвейг постоянно и упорно критиковал его именно за то, что он называл «высовывание из норы», критиковал его с позиций «к чему все это, когда все равно все останется как было» плюс «а сам ты кто?». И всегда он смыкался с начальством, малым и большим. Именно смыкался, это, по-моему, очень важно понять, то есть не просто повторял приказы начальства, а сам, своим путем шел и приходил к тем же выводам, что и Чаковский. Будучи беспартийным. Я говорю о том, что нас разделяло; но было и другое. Был его интерес, удивление, даже одобрение, когда ему рассказывали о нашем партийном собрании в 56-м году после XX съезда. Было и в его застенчивой, доброй улыбке, и в его потаенной любви к детям: он никогда не был отцом. Но каждый раз, когда кто-нибудь приходил взбудораженный вестью о переменах, когда предлагали что-либо важное, новое и для нашего журнала, он неизменно становился на пути: «Ну вы же прекрасно понимаете, что это невозможно, не делайте вида, что вы не понимаете».
Красноярский край. 1959 г.
Вместе с тем он-то хорошо знал гамбургский счет в литературе. Ведь именно он напористо пробивал книги Грина и Хемингуэя — не первым, не бросаясь на амбразуру, но тогда, когда еще было множество препятствий на пути этих писателей. Впрочем, нельзя об этом писать в прошедшем времени. Препятствия отнюдь не убраны, щелочка временами чуть раздвигается, чтобы вновь сдвинуться. Журнал был его страстной любовью. Подчас неумной, заслоняющей весь мир. Он завидовал, ревновал, всячески несправедливо унижал издательство, считал, что в «кровавой» распре с Блиновым, заведующим художественной редакцией Издательства иностранной литературы, все средства хороши. Болезненно относился к критике, защищал с пеной у рта честь мундира вне зависимости от объективной истины. Сам он мог критиковать журнал резко, зло (на закрытых летучках), но другим, особенно тем другим, кто, по его представлению, жил легкой жизнью свободных литераторов, тем он отказывал в праве на критику. Попадал при этом часто в глупые положения, возбуждая весьма дружную неприязнь. Он напоминал мне Ольгу Алексеевну Гильвег, главного бухгалтера ВОКСа, которая с нежностью платила нам зарплату, делала все от нее зависящее, чтобы увеличить зарплату, и ненавидела «гонорарников» так, как будто они крали ее личные деньги. Чуть ли не швыряла им деньги в лицо и всячески стремилась «урвать» в пользу государства. Розенцвейг считал всех сотрудников журнала — штатных и нештатных, — так сказать, навечно приписанными к редакции. Ругал и в личных разговорах, и на собраниях каждого, кто публиковал статьи и материалы где-либо в других изданиях. По его мнению, редакция могла сколько угодно мариновать статью, но автор не смел заикнуться о том, чтобы забрать ее и передать другому журналу. Службист до мозга костей, сам он был самоотверженным работником, трудягой, человеком склада аскетического. Он, вобравший в себя специфические пороки нашей системы, совершенно не заразился обуржуазиванием, был предельно скромен, долго носил один обшарпанный костюм, покупка нового стала делом общередакционного значения. В отличие от других сотрудников, все субботы просиживал в редакции. Отчасти это объяснялось тем, что его явно не тянуло домой (а потом — романом, который возник в самой редакции). Но не только. Это все та же психология винтика, подчиненного машине. И машина — всегда важнее. Раз в год, а иногда и чаще, у нас начиналась борьба за трудовую дисциплину. Сразу же забывались азбучные истины, что редакция — организм творческий, где сегодня нужно просидеть до ночи, если дело того требует, а завтра можно и погулять. Даже нужно погулять, чтобы подумать, чтобы почитать, чтобы знать происходящее вокруг. Всего этого Розенцвейг не признавал. И был гораздо более требовательным, чем главный редактор и его заместители. На всех собраниях стражем дисциплины, союзником бездарностей выступал Розенцвейг. Особенно его возмущало, когда на библиотечный день претендовали, кроме редакторов, работники вспомогательных отделов, например отдела информации. Или на спектакли английского театра хотели идти не только редакторы, но и корректоры, но и секретари. Здесь, как и во многом другом, Розенцвейг был истинным сыном времени. Выражал и укреплял идеологию времени. Он был исковерканным человеком. Людей коверкали не только лагеря и тюрьмы. Он принадлежал к тем немалочисленным людям, которые постоянно подавляли в себе себя. У него было что подавлять. Может быть, в его злом юморе больше всего проявилось то, что таилось в глубине, что могло бы развиться, если бы он был свободен. Он не только не выдавливал из себя раба, он отказывался признать рабство, ибо считал рабами всех. Такие, как он, важнейший строительный материал нашей системы именно в силу аскетизма, бескорыстия. В самом деле, зачем бы ему, травим ому, присоединяться к унижению других людей? Или к антисемитизму? А он присоединялся. Он подавлял в себе личность и как журналист. Да, он был способным журналистом, видел журнал как целое, понимал значение и заголовков, и шрифта, и оформления. И того, что называется «новость». Быть первым. Открыть. Привлечь внимание. Но его статьи — воплощение «желтого» журнализма. Развязного, фельетонного, с неуважением к читателю. И самое главное — лживые. Во время американской выставки 59-го года он написал об их «блефе», о том, как им, американцам, на самом деле плохо живется. А все привезенное — показуха. Он и себя, и других в этом убеждал. Хотя, конечно, были у него глубокие подпольные камеры в сознании, куда никто не допускался. Подавлял он себя и в частной жизни. Только теперь, когда мы на похоронах увидели эту женщину, можно хоть отчасти представить себе его существование дома. Еще сидя у постели умирающего, жена заявила: «Хоронить я не стану, пусть редакция займется похоронами». Никогда я не слышала, чтобы у открытого гроба вдова сказала бы: «Спасибо за внимание от моего имени и от имени Бориса Исааковича». Провинциальная несостоявшаяся актриса. В течение многих лет ее профессия была — болеть. Каждое ее слово было как ножом по стеклу, как чеховский зеленый пояс. Она срывала с себя платок, которым покрывали ее родственники, она, войдя в редакцию, запретила всем плакать: «Мнё тяжелее всех, но я не плачу». Злой-злой взгляд, презрение к людям (вот что питало и его), она словно не могла простить покойному последней обиды — что оставил ее, умер раньше. Ей предлагали помочь идти, а она вырывалась и, оборачиваясь ко всем нам, произносила: «А кто завтра меня будет поддерживать?» «До свидания, Борис, скоро мы увидимся». И вот он прожил с ней тридцать лет. Он иногда любил посидеть на диване, потрепаться, поострить, послушать других. Но чаще он замыкался в крохотном кабинете, придвигая рукопись почти к самому носу. Чаще бывал неприветлив, отталкивал многих, отталкивал и от редакции. Подозревал во всех всегда задние мысли, предполагал в собеседнике провинившегося. Он человек эпохи разъединения, когда боялись друг друга, когда замыкались. И в этом он типичен. Он многих ненавидел, особенно тех, кто с теми же или меньшими данными достиг большего, чем он. Например, Бориса Изакова, преуспевающего переводчика, известного журналиста, который часто ездил за границу. Б. Рюриков — он стал главным редактором после Чаковского — сказал на похоронах, что Розенцвейг был настоящим интеллигентом. Нет, не был; может быть, и был когда-нибудь, но перестал быть. В «Деревенском дневнике» Ефим Дорош писал: «интеллигентность, мне кажется… начинается с того, что у человека обо всем есть свое, выработанное им, может быть, даже выстраданное суждение, тогда как мещанин, напротив, руководствуется так называемым общепринятым мнением, расхожей истиной, не обременяющей ни ума, ни совести» («Новый мир», 1964, № 6). Борис Исаакович если и вырабатывал свои собственные суждения, то скрывал это тщательно, — а постепенно эта способность атрофировалась, — и менее всего готов был их выстрадать. И не верил в то, что другие люди, находясь с ним в совершенно одинаковых условиях, все же ищут истину.

С К. Паустовским в Тарусе, 1963 год
Когда в «Известиях» 22 ноября 1963 г. появилась статья «Встречи с Дон Кихотами», где излагалась история Льва Копелева и тех, кто его защищал, Розенцвейг спросил меня крайне недоброжелательно: а почему, собственно, появилась статья? Какие там закулисные махинации? Он считал, что все на свете делается только закулисными махинациями. Только и движется по чьей-то воле, указке. А к донкихотам и донкихотству у него был особый личный счет. Они разрушали его представление о погоняемом человечестве. Они опровергали мудрость, которой он жил все годы: уши выше лба не растут, плетью обуха не перешибешь… 1964
27. Поет Новелла Матвеева
Несколько ночей подряд качалась на волнах ее песен. Засыпала с этими ритмами. Просыпалась — качало. Снова и снова повторялись слова, строки, целые куски песен. Но не было тойманиакально-навязчивой повторяемости, что у меня всегда связана с бессонницей. Скорее — как Мандельштам прочел «список кораблей» — до середины. Окуджава, Галич и другие поэты, запечатлевшие нашу жизнь, наши чувства в песнях, живут в мире, где есть «топтуны с секретаршами», где «мчится нарочный с ЦК КПСС», где хотя бы звучит тоскливый вопрос: «о чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой?». В песнях Новеллы этого нет. Она живет в ином измерении, в ее мире едва различима грань между камнем и деревом, деревом и лошадью, лошадью и человеком. В мире костров, табора, запруженной речки, фокусника, летучего голландца. Его не сожгли на дрова, нет, это неправда. Каждая строчка песен, а главное, то, что между строчками, твердит: неправда! Не сожгли. Ее поэзия вырастает из простого, будничного, всех окружающего, и приходит к самому главному. Она едва дотрагивается, и «встает ночь, теплая, как зола», кадка с бетонной массой качается, как «в море челн», вещи оживают, как в «Синей птице». И поднимается со дна юности моя ночь, «теплая, как зола». Это было в тридцать шестом году, после карнавала в Парке культуры и отдыха. Как всю юность, как всю взрослость, как всю приближающуюся старость, как всю жизнь — я ждала чуда. Тогда чудо олицетворялось плохими самодельными костюмами и масками, длинными очередями за мороженым — больше ни на что не было денег, — танцами. Леня танцевал очень плохо, к тому же нестерпимо болели ноги в новых красивых туфлях, красных с бантиками. А потом, на обратном пути, я сняла туфли, стало легко, и пошла домой босая. Через весь город. Леня нес мои туфли, смешно вытянув их перед собой, говорил какие-то нежные слова, мы смеялись до слез всю дорогу. А я, глупая-преглупая, не понимала, что это и есть счастье, то есть чудо. Потом нескончаемыми военными ночами я вспоминала этот карнавал. И он ко мне вернулся, со всеми красками и звуками, в песнях Новеллы Матвеевой. Пейзаж ее песен или сказочно-гриновский, или, чаще, буднично-окраинный, пейзаж бараков, общежитий, скромный, опрятно-бедный. Бедность как жизненный выбор. Потому что в бедности вернее шкала ценностей, легче, чтобы «черное — черно», а «белое — бело». Есть что-то печальное и очень русское. Хотя в ее песнях и широкий океанский мир. Легким апрельским днем мы собрались в доме Всеволода Иванова слушать Новеллу Матвееву. Эта комната — каминная — проходная. Красно-кирпичный камин придает уют и тогда, когда в нем не трещат поленья. На каждом выступе — игрушки, много странных зверьков, кукол, камней. И везде очень много книг. Как и во всем доме. Только по этим книгам можно было бы «прочитать» образ их хозяина. Телевизор, большой стол, буфеты. Комната привыкла к гостям, к долгим русским застольным пирам, привыкла к чтению новых стихов, новых рассказов. Наверно, все это осело на стенах, если это оживить, звуки бы оттаяли, зазвучали голоса живых, голоса давно и недавно ушедших. Мы сидим, ждем Новеллу, гитара уже в комнате, она подходит к двери и стучит. Мы собрались слушать ее, она не может этого не знать, но и не может войти в чужую комнату без стука. Угловатая женщина-девочка начинает петь — сказочная царевна. Сначала на переделкинском небе словно небрежно брошенный кусок марли. Белесый, бесформенный. Контуры становятся яснее, отграниченнее. Окружность. Белая, еще можно принять за облако на редкость правильной формы. Поет Новелла, луна желтеет. Это она прикосновением гитары вызывает луну. В комнате становится темно. И кажется, замолкнет женщина — исчезнет луна. Я слушаю в третий раз, уже знаю многие песни, радостно предвкушаю знакомое. Кто-то рядом со мной. Чужой. В комнате полно народу, нет, это не мои. Подошла легкая, бесшумная, совсем не похожая на отвратительную гиену-гангрену, какой изображена смерть в рассказе Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Нет запаха. Впервые так явственно ощущаю смерть, которая еще не обрушилась. Желтая, совсем желтая луна, полумрак, мерные, глуховатые звуки, светлое пятно — лицо Новеллы Матвеевой… Смерть стоит около Фриды Вигдоровой. Пришла за нею. Жизнь, любовь, искусство, песни, друзья — все пытаются сопротивляться смерти, сражаются за Фриду. Ей радостно слушать Новеллу Матвееву — выигрывается несколько часов у смерти. Она дарит и дарит себя людям. То, что она уже отдала другим, неразрушимо, неподвластно смерти. Слушает моя дочь. Я ее не вижу, но, как всегда, чувствую, что она близко. У нее есть сын. Может быть, мы все-таки не исчезнем бесследно, может быть, в ком-то останемся? Мне нужна добрая и скромная поэзия Новеллы Матвеевой. Она помогает перенести ужас исчезновения. 196528. Фрида Вигдорова
16 марта 1965 года в Переделкине на даче Всеволода Иванова праздновали пятидесятилетие Фриды Вигдоровой. Она только вернулась из больницы, была очень слаба. Мы, окружающие, уже знали, что рак, знали, что времени осталось немного, хотя и надеялись… Пятидесятилетие получилось торжественное, потоком шли телеграммы. Из Дома творчества пришли Елизар Мальцев и Тимур Гайдар, поздравили по-старинному, опустившись на колени. Сама Фрида относилась к приветствиям и серьезно, и с юмором, читала телеграммы с удовольствием, удивлялась, смеялась, радовалась. Не делала вид, что ей все равно, принимала многочисленные знаки внимания как нечто естественное. Была самой собой. В этот вечер все не просто старались быть веселыми — действительно радовались, острили, шутили, все по кругу произносили тосты; как и прежде, на Фридиных торжествах была шуточная газета и песни-пародии. Хотя и кошки скребли на душе, нет-нет да и наваливалась тяжелая тоска.* * *
Осенью 1964 года мы захотели зимовать в Переделкине на даче Ивановых. Когда я сказала об этом Фриде, она сразу же спросила, не найдется ли там комнаты и для них. Комната нашлась. И тут же начались сомнения: удастся ли нам сосуществовать. Все уже люди вполне сложившиеся. Фрида Вигдорова с мужем, Александром Борисовичем Раскиным. Мы с Левой. Четыре разных характера. Четыре письменных стола. Да если бы только четыре, ведь две большие семьи, каждая обросла десятками друзей, знакомых. Нас — порознь — многие отговаривали от этого проекта: все мы искали уединения. Как быть с проблемой общего быта, который нелегко наладить без раздражения даже с самыми близкими. Все опасения оказались напрасными. Не только первые недели, до того, как Фрида слегла, но и последующие, уже после операции, после больницы, мы прожили на удивление легко. Быстро возникла семья, семья, где уважались особенности и странности каждого из ее членов. Этому помогла комфортабельная дача, Наташа, работница Ивановых, прелестная женщина, тихая, тактичная, давно знавшая, что сидение за столом и скрипение пером есть работа, которой нельзя мешать разговорами, вопросами. Наташа много читала, она прочла и Фридины книги, искренне привязалась к ней, да и ко всем нам.
Коктебель, 1963 год
Быстро мы прикинули, сколько можем тратить на еду, на окне стояла коробка, мы клали деньги в эту коробку, каждый, кто шел в магазин или ехал в город, брал деньги из этой коробки. По субботам и воскресеньям приезжал сын Всеволода Вячеславовича — Кома Иванов с женой; весной он прожил с нами почти месяц. В Переделкине царила неправдоподобная идиллия. Я часто говорила друзьям: «В жизни так не бывает». К нам приходили и приезжали гости. Каждый гость становился общим. Я увидела Фриду-хозяйку, привыкшую заботиться о других, делить, считать, запасать, привыкшую легко нести и эту ношу, каждодневную, нудную, неблагодарную. Ей удавалось толково устраивать так, чтобы всем было хорошо. Длинные переделкинские вечера. Уютная маленькая Фрида с ногами в кресле, в эстонских носках-тапочках. Часто приходила Лидия Корнеевна Чуковская. Стучал палкой Корней Иванович Чуковский, целовал Фриду в макушку, — я не видела, чтобы он к кому-либо был так нежен. У нас читали стихи Анна Ахматова и Арсений Тарковский, пела Новелла Матвеева. Мы многое вместе прочитали за эту зиму — «рукописное» хозяйство стало общим — роман А. Солженицына «В круге первом», рассказы и очерки В. Шаламова, «Святой колодец» В. Катаева (верстку, задержанную в то время цензурой), статью Цветаевой «Две Гончаровы». Читали друг другу свое. Фрида дала нам все написанные главы последней повести «Учитель». Она прочитала начало Левиной книги о Брехте, прочла с карандашом, замечания были умные, точные. В первой половине дня работали каждый у себя. Но если под окнами раздавался топот маленьких пастерначат, внуков Бориса Леонидовича, которые жили на соседней даче, Фрида не выдерживала. Это была серьезная дружба, пастерначата чуяли в ней свою. Ей было тоже очень важно, поплывет ли кораблик по большой весенней луже, можно ли еще лепить бабу или снег уже совсем рыхлый, ей было важно не только ответить на их сто тысяч «почему», но и самой еще и еще раз спросить, спросить у людей, у деревьев, у речки — а почему? В ней до смерти жила веселая, озорная девчонка. Это она, когда не могла писать, диктовала мне письма в райисполком, по депутатским делам — помочь еще одному человеку, еще одной семье, писала, диктовала с детской верой в справедливость. Мы очень много говорили о детях и никогда не говорили о любви.
* * *
Я работала в ВОКСе с Фридиным первым мужем, Шурой Кулаковским, и он позвал на день рождения жены, 16 марта 1940 года; праздновали почему-то не на Сретенке, где они жили, а у приятельницы. Получилось как бы не случайно, что этот день отмечается в чужом доме: она и запомнилась меньше других. Гомон, вихрь шуток, веселый, находчивый, остроумный Шура. А мне тогда только дай послушать, как острят, послушать все эти словесные состязания, на которых блистали наши ифлийцы и воксовцы. Нас было большинство. Мы говорили о своих делах, никому, кроме нас, не известных (и не интересных), на своем особом жаргоне. Фрида же на собственном дне рождения выглядела посторонней. Какая у Шуры тусклая, неинтересная жена, странно, что она работает в «Правде», — с таким примерно ощущением я ушла. Прошло четверть века — ее, моей, общей нашей жизни. И вот 16 марта 65-го года я сижу за столом, смотрю на Фриду с чувством такой благодарности за то, что она есть на свете и вошла в мою жизнь; и вместе с тем смотрю со страхом, мрачными предчувствиями, глухой пустотой… Как я могла с самого начала, с первой встречи не видеть, не замечать ее обаяния? Даже представления о ее внешности изменились. Тогда я считала ее некрасивой, невзрачной. Теперь… впрочем, Фрида так великолепно выходит на фотографиях, что человек, никогда не видевший ее, может в известной мере судить сам о ее лице. Короткая стрижка — что-то учительски-монашеское. И вместе с тем озорное, задорное, мальчишеское. Глаза блестящие, меняющиеся, глубокие. Она стала вдвое старше и, на мой взгляд, гораздо привлекательнее. Тогда, в сороковом году, я слышала, что семейная жизнь Шуры Кулаковского[12] не ладится, и потому ничуть не удивилась, что накануне войны Шура с Фридой расстались и он женился на другой. Летом 41-го года Фрида вышла замуж за А. Раскина.* * *
В марте 49-го года исключили из партии Тамару Мотылеву и других подобранных «космополитов» — Кирпотина, Яковлева, Бялика. О тогдашних собраниях в ИМЛИ — со своими одобрительными комментариями — я рассказывала друзьям, которые, в свою очередь, передали мои слова Фриде. Мы случайно встретились с ней. Она спросила меня о Тамаре Мотылевой, спросила во враждебном тоне. Я ответила еще более воинственно. Произошел примерно такой диалог: Я: Я почти не знаю Мотылеву. Вы ее знаете лучше меня, но ведь все, весь коллектив против нее. Она: И коллектив не всегда прав. Когда люди охвачены массовым психозом, они могут бог знает что натворить. Я: Ну, тут уж я с вами не могу согласиться. Отдельные люди могут ошибаться, а коллектив всегда прав. (Читаю в письме Короленко: «…нужно служить этому добру и правде. Если при этом можно идти вместе с толпой (это тоже иногда бывает) — хорошо, а если придется остаться и одному, что делать. Совесть — единственный хозяин поступков, а кумиров не надо» (1893). Читаю как свои сегодняшние мысли. А тогда, после всего, что было позади, я истово поклонялась кумирам, и прежде всего кумиру, имя которому «коллектив».) У Фриды в это время уже были открыты глаза, и ей, в сущности, не о чем было со мной разговаривать. Я это сразу почувствовала. И быть может, неосознанно стало вырабатываться у меня защитное чувство: «Подумаешь какая! Несет перед собой свою добродетель, как икону. И думает, что другие должны шествовать за ней в благоговейном молчании. А я не хочу шествовать. Не буду». Гораздо позже, во время дела Бродского, до меня доходили похожие высказывания о Фриде, — я вспоминала себя. Изредка мы продолжали встречаться. Я прочла Фридины первые книги — «Мой класс», «Повесть о Зое и Шуре». Человеческий и литературный облики автора в моем сознании не совпадали. Словно эти книги написал кто-то другой. Впрочем, эти облики и потом не совпадали, при всей лиричности и автобиографичности ее книг. Сначала мне казалось, что книги значительнее, чем написавший их человек. Потом казалось наоборот, что Фрида как человек неизмеримо значительнее созданных ею книг. Человеческое и писательское едва начали сливаться полностью в последней, незаконченной повести «Учитель». До меня доходили рассказы о ее борьбе за книгу о Карабанове[13] и за самого Карабанова. Я относилась к этой борьбе с полным сочувствием. Но от меня все это было еще далеко. Приближаться стало вместе с катаклизмами в большом мире, с переменами 53—56-го годов. И на московском собрании писателей в марте 57-го года я аплодировала выступлению Ф. Вигдоровой. Она вслух и с трибуны говорила о том, о чем и я думала, о чем и я говорила, она отстаивала право писателя на критику, на борьбу против самодовольной лжи, право на правду.* * *
Летом 1959 года Фрида с семьей поселилась в подмосковной деревне Жуковка, где мы были старожилами. Здесь Фрида подружилась с Левой. Они как-то сразу нашли друг друга, потом называли друг друга братом и сестрой. Лева рассказал Фриде, что прочитал ее книгу «Мой класс» в тюрьме, причем первых страниц не хватало, он тогда не знал, кто автор. Но и на «том свете» книга оказалась нужной, нужной своей чистотой, честностью, добротой. Фрида тогда, в 59-м году, уже начала делиться с нами, делиться рукописями и друзьями. Она дала нам пьесу Евг. Шварца «Дракон». Пятнадцать лет спустя после первой постановки (вскоре запрещенной) я и мои близкие узнали эту блистательную пьесу. С той поры прошло всего семь лет, но и представить себе нельзя, неужели мы когда-то жили без «Дракона»? Сейчас, в сборнике воспоминаний о Шварце, я читаю, что пьеса «Голый король» пролежала в столе больше тридцати лет. Пока не была поставлена театром «Современник». И все жили без «Голого короля».
В Доме творчества писателей в Малеевке, 1961 год
От Фриды и первый ожог цветаевской прозы — «Нездешний вечер» и «Искусство при свете совести». Фрида по натуре своей не могла прочитать что-то важное, значительное и не поделиться с другими. «Читайте скорее, за вами очередь». Она была истинной просветительницей: все, открытое для себя, она должна была открыть и другим — близким и дальним.
* * *
Летом 59-го года Фрида начала работать над книгой «Семейное счастье». Почти каждый день она уходила в лес, за линию железной дороги, там на пеньке обдумывала и писала. Однажды радостно сказала: «У меня большое событие: пришло третье лицо». Ее предшествующие книги были написаны от первого лица. Тем же летом вышла в свет «Черниговка» — заключительная часть трилогии о Карабанове. У нас «Черниговка» — первая подаренная Фридой книга с ее надписью. Прочитала я «Черниговку»; главное ощущение — вот как должна была жить ты во время войны, если не на фронте, то в тылу, как Галина Карабанова. Говорить об этом Фриде в полный голос я еще стеснялась, промямлила нечто невнятно-восторженное. Она дала нам читать свои «детские» дневники, она записывала первые слова, фразы, поступки своих дочерей с самого рождения. Эти дневники — из лучших ее книг. Дневники (выборочно) были подготовлены к печати Лидией Чуковской для издательства «Просвещение». Книга не вышла. В то лето я впервые услышала, как Фрида поет. Приятным низким голосом поет старые и новые песни, блатные и лагерные. Песни были ее постоянным увлечением; пела ее подруга Руня, пели их дочери. У них пел молодой ленинградец Городницкий, у них, на встрече Нового, 64-го года, я впервые услышала песни Александра Галича в магнитофонной записи. Ей посвящена его песня «Уходят, уходят, уходят друзья…». Он сказал мне зимой 1966 года: «Теперь после каждой новой моей песни не могу не подумать — а Фрида этого уже не узнает». Особенно приятно было смотреть, как она «угощает» кого-либо из друзей новинкой — стихотворением, песней, тревожно поглядывает, так ли понравилось, как ей, и радуется вдвойне — понравилось не ей одной… Под Новый девятьсот шестидесятый год, который мы встречали вместе, ее дочери подарили ей купленную на первые заработанные деньги пишущую машинку и написали: «Лучшую в мире машинку от лучших в мире дочерей». — Нет того, чтобы написать — лучшей в мире матери, — притворно ворчала Фрида. Осенью 1960 года Фрида познакомила нас с Л. К. Чуковской, о которой раньше очень много рассказывала. Примерно к этому времени окончился наш «испытательный срок». Нам можно было не только давать — с нас можно было и спрашивать. Мы могли начать помогать ей, вернее, помогать тем, кому помогала она. Мы с Левой прочитали только что опубликованную книгу Лидии Чуковской «В лаборатории редактора» (данную нам, разумеется, Фридой) и оба приняли участие в обсуждении в Союзе писателей. Начали мы читать и рукописи Фридиных статей и книг. Прочитали «Семейное счастье». Об этой рукописи мы говорили с ней подробно. Но тогда я не сказала ей того, что касалось самой основы, сама еще не додумала для себя. Толстой, у которого Фрида храбро взяла заглавие, при сложности и мучительности его отношения к проблемам пола, писал так, что всегда проступала эта основа счастья или несчастья мужчины и женщины. В «Семейном счастье» Ф. Вигдоровой этой основы нет даже в самом глубинном подтексте. На экземпляре рукописи, которую мы читали, возле фразы «Они ждали ребенка» была чья-то пометка на полях: «Каким образом? Ведь они только гуляли под дождем». Прочли мы ее статью о К. Чуковском (статья о Чуковском появилась потом в «Литгазете», но в сокращенном виде); прочитали статью о деле студентов ГИКа. Эта статья так и не вышла в свет. Студенты собрались первого мая на вечеринку. Написали пародии на известные советские фильмы, пародировались, естественно, штампы. Записали пародии на магнитофон. Среди ребят нашелся стукач, возникло «дело», и пять человек были исключены из комсомола и из института — волчий билет. Она часто, охотно ездила в командировки. Приезжала перегруженная чужими судьбами, читала свои удивительные блокноты. В. Короленко пишет в одном из писем: «Вот уже неделю, как эта семья обратилась ко мне и как для меня фамилия Лагунова из газетной отвлеченности стала именем живого человека, окруженным ужасом и болью». Фрида владела этим умением: не только ощущать за «газетной отвлеченностью» живого человека с его живой, кровоточащей бедой, но и нас, людей, которые не были там, где она была, не видели того, что она видела, но и нас силой своего рассказа и своей собственной включенности в чужие жизни заставлять видеть, слышать, включаться.* * *
Фрида рассказала нам, что существует «Трест добрых дел» или «малых чудес». Председатель — К. И. Чуковский, а она ответственный секретарь. Тогда они, — кажется в последний раз были «они», потом уже стали «мы» — занимались делом группы ленинградских студентов-евреев, которые столкнулись во время студенческой практики с хамом-руководителем, капитаном корабля, антисемитом, ответили на его грубость резкостью, и их, несмотря на то, что они учились на четвертом курсе, несмотря на хорошие отметки, исключили из института. Я продолжала бояться Фриду, пожалуй, вплоть до совместной жизни в Переделкине. Еще и потому, что прошедшие годы были, и они стояли между мной и Фридой. Я ни в коем случае не хотела подлаживаться к ней, как и к другим людям, которые понимали раньше меня. Не хотела вторить ей, соглашаться во всем, хотя внутренне я все чаще и чаще соглашалась с ней. Я избегала этого уже по другим причинам, чем в молодости: мне не хотелось выглядеть лучше, чем я была на самом деле. Фрида вовсе не родилась с теми убеждениями, с тем образом действий, к которым она пришла позже. Именно пришла, то есть и у нее был свой путь. В общем виде путь у нас был похож — общий для десятков, а то и для сотен тысяч: от незнания к знанию, от веры к сомнению, от наивности к горькой трезвости. Но при сходстве были различия, гораздо более существенные, чем сходство. Она надолго запомнила разговор с одним из своих друзей, который ей сказал сразу после арестов 37—38-го годов: «Если бы все это было цепью случайностей, то нам бы хоть теперь сказали правду. А раз правительство не говорит правды своему народу, значит, оно не доверяет народу, презирает народ».
В Доме творчества писателей в Малеевке, 1963 год
— Для меня, — вспоминала Фрида, — это были ошеломляюще новые мысли, но очень скоро я убедилась, что мой друг прав. И Фриду не миновал набор расхожих штампов, заклинаний, заповедей и мифов, воспринятых в пионеротряде, в школе, в институте, в Магнитогорске (во время ее первой преподавательской работы), от родных, от друзей, из воздуха. Без подобного набора журналистка, начавшая свою деятельность в «Правде», писательница Вигдорова до определенного момента просто не могла бы существовать. Не потому даже, что, не вставь она сакраментальных формул (надо сказать, что у нее этих общих мест было несравненно меньше, чем у других), и статью не напечатают, книгу не опубликуют, а потому, что перо само писало, рука сама выводила привычные слова. Заповедь номер такой-то гласила: «У нас не арестовывают невинных». Фрида еще не вдумывалась в содержание заповеди, еще не ставила ее под сомнение. Но когда выслали ее первую и любимую учительницу Анну Ивановну, она поехала к ней в ссылку. Как-то неуместно здесь понятие «смелость», хотя для такого поступка в те годы требовалась большая смелость. Она просто не могла поступить по-иному. Когда же арестовали ее близкую подругу Руню Зернову с мужем, то естественно, что дочь Ниночка подолгу жила в доме Раскиных, и все, что можно было делать: платить адвокату, писать заявления, жалобы, письма, — все это она делала. …Идем по весенней переделкинской грязи, снова и снова — в который уже раз — говорим о тридцать седьмом годе. Снова и снова спрашиваем друг друга: «Почему так произошло? Когда всё началось? Почему многие, и я в том числе, верили, как это было возможно — верить?» Фрида в огромных валенках, в черной шубке, черной шапке, лихо заломленной. Глаза стали гораздо больше, блестят лихорадочно. Ни минуты я не думаю о том, что хожу с умирающей. Я иду с живой. Она хочет как можно больше успеть, ей надо, необходимо кончить эту повесть, такую важную, такую для нее новую. Она вспоминает свой тридцать седьмой год, собрания в пединституте, где она училась. Главным оратором, главным прокурором на тех собраниях была студентка, к которой Фрида испытывала отвращение. Фрида — хотя она тогда еще и не осознавала этого — поверила свидетельствам глаз, ушей, души, а не тем догмам, которые вбивались во всех нас и в нее. Она вспоминает об этой женщине — ее звали Манефа. Ей надо написать в повести «Учитель» сцену одного из тех собраний. И она ищет имя для своей героини, похожей на ту, институтскую. Ищет такое же, славянское, звучащее сегодня чуть вычурно. Мы никогда не прочитаем про собрание, о котором тогда с ней разговаривали. Много написано о тридцать седьмом годе. Еще больше будет написано. Но того, что могла сказать она и только она, т_о_г_о и т_а_к не скажет уже никто. Путь к истине для Фриды был легким, потому что полностью совпадал с ее натурой, инстинктом, с тем отношением к человеку, которое было для нее естественным. Но вместе с тем этот путь был и трудным, потому что путь к истине всегда труден и горек и потому что он неизбежно вел ко многим разрывам и разладам, к противостоянию окружающему. А она по складу характера была гармоничной и естественно тянулась к гармонии. Ее «написал» Толстой, а не Достоевский. Она была задумана, создана, чтобы быть в мире с собой и с миром. Душа ее состояла из бесчисленного множества комнат, углов, закоулков. Я побывала лишь в самых близких к входу. Вряд ли кто побывал во всех. При необыкновенной открытости Фрида, особенно в последние годы жизни, все больше и больше закрывалась, отгораживалась, все более плотно сдвигала створки своей души. Я имею в виду не только то, что у них в доме выключали телефон, что она все чаще уезжала из Москвы, уходила куда-нибудь работать. Я говорю и об отгораживании внутреннем. Сидит посреди шумного множества людей — и вдруг «уходит». Присутствует физически, а в действительности где-то далеко-далеко. Так она часто «уходила» в последние месяцы, но это уже был иной уход… Весной 1961 года у нас с нею возникло одно из первых общих дел. Фрида рассказала мне, что получено письмо из лагеря от Иры Емельяновой, дочери Ольги Ивинской. Ира писала о чудовищных условиях, в которых они очутились, во власти уголовниц, воровок, лесбиянок. Делом об аресте Ивинской занималась в это время международная печать, протестовали иностранные писатели, общественные деятели. Неру и Рассел обращались к Хрущеву. Но все было напрасно — эти обращения не приняли во внимание. А если уж таким людям не удалось, кто послушает нас? Как часто подобные рассуждения обезоруживали и обезоруживают… Фрида не допускала разоружения. Надо действовать. И мы пошли к нашему знакомому, председателю коллегии адвокатов. Он хорошо знал дело, он сам на суде защищал Иру. Е. Романова обратилась по просьбе Фриды к А. Суркову: «Страдает наш международный престиж». Какие-то неведомые пружины пришли в действие. Ивинскую и ее дочь перевели в лучшие условия. Иру освободили досрочно, а затем после снятия Хрущева освободили Ивинскую. Значит, надо стучаться в запертые двери, глядишь, какая-нибудь может и открыться. Возникало — очень еще робко, медленно, но возникало — сознание, что действие не бесполезно; значит, действовать необходимо. В 1961 году готовился сборник «Тарусские страницы» (в нем напечатаны два очерка Ф. Вигдоровой, один из них, «Глаза пустые и глаза волшебные» — из самых лучших). Составитель сборника Н. Д. Оттен хотел опубликовать впервые в СССР прозу Марины Цветаевой: отрывок «Кирилловны», воспоминания о детстве в Тарусе, совершенно безобидный. Сегодня уже и нам самим трудно понять, как можно было возражать против этой публикации, что можно было возразить. Но ведь возражают и сегодня, после того как вышло два сборника стихов Цветаевой и ее печатает не только «Новый мир», «Вопросы литературы» или «Наука и жизнь», но даже журнал «Дон». Теперь у нас опубликована значительная часть прозы Цветаевой. А в первый раз все было трудно. Еще помнили, как в 57-м году была разгромлена «Литературная Москва», в том числе за публикацию Цветаевой. И вот Главлит заявляет: «Сборник „Тарусские страницы“ выйдет, только если к отрывку Цветаевой предисловие напишет какой-либо крупный известный писатель». И Фрида передает нам просьбу редколлегии — обратиться к Всеволоду Иванову. Более чем скромное поручение выполнено, предисловие написано. Подаренную нам книгу Фрида надписывает: «Без вас, глядишь, эта книга могла бы и не выйти». Всегда она так преувеличивала значение чужих поступков, даже таких незначительных, как в данном случае. И преуменьшала свои собственные.

Переделкино. В центре Корней Чуковский
В 61-м году Фрида и Руня Зернова поселились в Жуковке. Они писали пьесу «Два звонка». Фрида должна была еще править вторую часть «Семейного счастья» — она получила замечания от редакции журнала «Москва». Полученные замечания Фриду раздражали, возмущали, она злилась, но смиряла себя, правила, переделывала. Мы часто вспоминали строки Бориса Слуцкого о том, как поэт переделывает свои стихи:
…я им ноги ломаю,
я им руки рублю.
…все же что-нибудь скрою,
кое-что сберегу.
Самых лучших и бравых
никому не отдам.
Я еще без поправок
эту книгу издам.
* * *
Мы разговорились с ней о фильме «Евдокия», поставленном по повести В. Пановой. «Это очень плохой фильм, — резко сказала Фрида, — не в том ведь дело, что добрая женщина Евдокия усыновляет чужих детей. Вся прелесть повести Пановой в том, что с каждым ребенком у Евдокии свой особый роман. А в фильме это исчезло». У самой Фриды был свой «роман» с каждым из близких ей людей. И с дочерьми, и с внучкой, и с друзьями. Она не путала эти романы, она любила, ценила, умела строить отдельные отношения с каждым человеком. Она была другом прямым, нежным, верным и строго требовательным. Она резко осудила Льва, когда он без разрешения дал почитать рукопись Лидии Корнеевны своему приятелю. Как мы узнали позже, даже хотела «отлучить» его от рукописей. И не сразу сменила гнев на милость. Издавался сборник переводов, в котором после скандала с «Доктором Живаго» сняли переводы Пастернака. Попросили Ефима Эткинда, отличного переводчика, благородного человека, дать вместо снятых свои переводы. Е. Эткинд знал, что Пастернака все равно не опубликуют, что, если он откажется, возьмут у кого-либо другого. И он дал свои переводы. Фима был человеком, очень близким Фриде, а она строго осудила этот его поступок, хотя тогда, в 1958 году, едва ли не большинство порядочных людей поступили бы так же, как он. Да и сегодня можно еще по пальцам пересчитать примеры, когда литераторы отказывались бы публиковать свои произведения — не хочу вместо преследуемого, не хочу дать мерзавцу, стоящему во главе журнала, и т. д. В 1964 году И. Андроников грозился выйти из редколлегии Собрания сочинений Лермонтова, если не будет восстановлено имя Ю. Оксмана. Угроза подействовала. А сегодня, в 1980 году, я и вовсе не могу привести подобных примеров. Она «болела» за все выступления в печати одной из любимых своих учениц Натальи Долининой и горестно качала головой — ну зачем ей понадобилось цитировать Хрущева ни к селу ни к городу, (потом оказалось, что цитату вставили без ведома Долининой). У нее хватало сил не только на друзей. В 1964 году, прочитав замечательную рукопись Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», мы восхищались только «про себя» (как и большинство читателей этой рукописи), а Фрида немедленно послала автору телеграмму во Львов. Когда Евгения Семеновна приехала в Москву, они познакомились, и Фрида нам ее «подарила». Ей, как и многим другим, мне пришлось врать в 65-м году: «Нет, Евгения Семеновна, опухоль не злокачественная, нет, правда, не злокачественная», — тупо повторяла я, выполняя данное Фридиным дочерям обещание: не говорить ни одному человеку. Чтобы, не дай Бог, не узнала Фрида. Все большее количество людей жадно и любовно тянулось к ней. Большее, чем физически было возможно «освоить». Тогда начала проявляться ее твердость. «Неизбежно кого-то предаешь», — сказала она, ответив по телефону, что уходит из дому, а между тем она ждала другого. «Нельзя всех ублаготворить, нельзя всем нравиться. Тогда неизбежно получится — никому. Ведь если бы я сейчас не соврала, я бы по-настоящему не повидалась ни с А., ни с Б. Надо выбирать». Мне она казалась замечательной матерью. То есть матерью ищущей, ошибающейся, страдающей. Она была просветительницей во всем — ив своем отношении к дочерям. Она была убеждена в том, что главную, преобладающую роль в формировании человека играет среда, обстоятельства, окружение. Но по необыкновенно умному и чуткому инстинкту она рано начала догадываться и о другом — о нраве, характере, заложенных в самом крохотном человечке, о генах, о наследственности. Через ее дневники, через все ее письма и книги настойчиво проходит тема — какой материал мы получаем от природы и как мы воспитываем? Где, когда, в чем ошибаемся? Эта же тема шла и через жизнь. Во время ее тяжкой болезни я видела у ее постели преданных дочерей, дочерей-сиделок, дочерей-друзей. Строгих, часто ревнивых, оберегающих мать.* * *
«Я вся — в новой книге, и потому твердо: больше никаких чужих дел. Единственное, чем я еще буду заниматься, пропиской и комнатой для Надежды Яковлевны Мандельштам. Все остальное решительно отброшу». Это Фрида сказала мне в ноябре 63-го года. А 29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» был опубликован фельетон «Окололитературный трутень». Так началось дело Иосифа Бродского, которое стало едва ли не главным и последним делом Фриды Вигдоровой. Впервые о поэте Бродском мы услышали от Анны Ахматовой. «Как, вы не знаете нашего премьера?» — спросила она с удивлением и нежностью. 1964 год. Бродский читает стихи у Рожанских. Пришла, когда все уже собрались. Комната перегорожена книжным шкафом. Гудение, словно настраивают духовой инструмент. Звук, гул, гуд предшествовал стихам, сопровождал их и звучал еще после того, как затихала последняя строка. 1972 год — он пришел к нам прощаться. Читал «Сретенье» — одно из любимых стихотворений с тех пор. Слышу его голос. Тогда, при первом знакомстве, у нас дома он тоже читал стихи, мы долго разговаривали, оказалось, что он великолепно знает английскую и американскую поэзию. За его внешностью обнаруживался застенчивый, очень горестный мальчик. Мальчик, который носит в себе несчастье. Мгновенный просвет, потом щелкал невидимый выключатель, и человек становился для меня непроницаемым. Это дело стало Фридиным с первых же дней, сразу после фельетона. Она была тогда в Ленинграде и сделала несколько попыток с самого начала прекратить преследование. Все обращения остались без ответа. 18 февраля 1964 года состоялся суд. Фрида — кажется, впервые — не добилась журналистского мандата ни от одной газеты. И она поехала на суд как частное лицо. Уже после второго суда она писала редактору «Литгазеты» А. Б. Чаковскому: «Глубокоуважаемый Александр Борисович, прошу Вас внимательно прочесть мое письмо. В середине февраля я попросила у „Литгазеты“ командировку в Ленинград. Мою просьбу выполнили, но специально предупредили, чтобы в дело молодого ленинградского поэта-переводчика я не вмешивалась. Я спросила, могу ли я именем „Литературной газеты“ хотя бы пройти на суд, если он будет закрытым. Мне ответили: нет. Вероятно, мне сразу надо было бы отказаться от командировки, ведь в сущности мне было выражено самое оскорбительное недоверие. К сожалению, я это поняла особенно остро уже на суде, когда судья в самой грубой форме запретил мне записывать, а я не могла в ответ предъявить удостоверение газеты, в которой сотрудничаю много лет и которую ни разу не подводила. Разве можно лишать журналиста его естественного права видеть, записывать, добираться до смысла происходящего? Поэтому командировку я возвращаю неотмеченной и, разумеется, верну в бухгалтерию деньги…» В написанных Фридою письмах и обращениях поражает вот что: и здесь она оставалась учительницей, просветительницей, она никогда не принимала ясное для себя за ясное для других. Она неустанно повторяла аргументы, чтобы убедить. Это не просто прием, здесь проявляется суть ее натуры. Вера в разум, вера в человеческую способность усвоить доводы, понять, измениться… По решению первого суда Бродского отправили на принудительную психиатрическую экспертизу. Мы звонили Фриде из Москвы. Она не могла произнести ни слова, рыдала. О том, что произошло на суде, мы узнали позже. Фридин плач был непривычен, странен, пожалуй, даже страшен. Разумеется, она и раньше сталкивалась с несправедливостью. Опытный журналист, к тому времени уже почти четверть века проработавший в нашей печати, депутат райсовета, ходившая по нашим трущобам (она переселила из подвалов сто человек!), сколько она навидалась злого, горького, уродливого, нечестного — не перечислить, не пересчитать. Но раньше она всегда бывала защищена. При всей своей необыкновенной способности слушать и впитывать чужое горе, она-то была по ту сторону горя.
В Жуковке под Москвой, 1972 год
Здесь же судья Савельева в союзе с самыми темными силами судила и ее, как и каждого советского интеллигента. Свидетели обвинения говорили один за другим: «Я Бродского не знаю, но раз в газете про него написано, значит, правильно». Это приложимо к любому из нас. Потому запись суда нельзя было читать без ужаса. А Фрида сидела в зале. Впервые так увиденный, впервые так осознанный ужас и звучал в ее рыданиях, столь непривычных для нас. Фрида вернулась из Ленинграда после первого суда, Лева встретил ее на вокзале и повез к Лидии Корнеевне. Она уже несколько пришла в себя, шел деловой обычный Фридин разговор — как помочь мальчику? К кому обратиться? Решили послать телеграмму секретарю Ленинградского обкома Толстикову. И эта телеграмма, как и многие другие, осталась без ответа. В деле Бродского принимали участие многие люди, многие литераторы. Этот список возглавляется именами старейшин — Ахматова, Чуковский, Паустовский, Маршак, Шостакович. А далее свидетели защиты — Н. Грудинина, B. Адмони, Е. Эткинд; те, кто писали письма, выступали на собраниях, уговаривали знакомых им власть имущих, писали характеристики Бродскому, ходили по инстанциям, собирали отклики иностранной печати, наконец, поехали на суд: Л. Чуковская, Е. Гнедин, Н. Долинина, Ю. Мориц, C. Наровчатов, Л. Копелев, Д. Гранин, В. Ардов (он, как и некоторые другие, вел себя непоследовательно — то защищал, то ругал Бродского), Л. Зонина, Вяч. Иванов, Д. Дар, И. Огородникова, Н. Оттен, Е. Голышева, А. Сурков, М. Бажан, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Гамзатов, Я. Козловский, 3. Богуславская… Это люди известные мне. А было и много других, более молодых литераторов Ленинграда — А. Битов, Р. Грачев, И. Ефимов, Б. Вахтин. Перечитывать этот список странно и горько. Пути этих людей дальше сложились по-разному. Но сам факт их объединения, пусть временного, свидетельствует: в тот момент рождалось общественное мнение. И было снова задавлено. Больше всех сделала в деле Бродского Фрида Вигдорова. Ее запись дала в руки всех защитников оружие, неопровержимое как документ, талантливое как произведение искусства. Слово, точное, емкое слово еще раз продемонстрировало свою силу. Слово неподкупной совести. Весной 64-го года самиздат в несчетном количестве экземпляров распространил запись. Она была напечатана за границей. Фрида отдавала себе отчет в последствиях своих поступков. Она была готова нести ответственность. (Необходимо помнить, что шел еще 64-й год. До дела Синявского — Даниэля. Все лишь только брезжило, начиналось. Начиналось и ею. А сегодня более ста литераторов, живущих з_д_е_с_ь, печатаются т_а_м.) Она была общественным деятелем, одним из первых общественных деятелей нового типа. Она не просто творила добро в микромире; в самые страшные, самыекровавые годы добрые люди делились деньгами, хлебом, знаниями, кровом, и в этом, конечно, начало начал. Но Фрида пошла дальше. То, что делала она, выходило за границы малого мира — родных, друзей, знакомых, приобретало значение общественное. В 1964 году репутация Вигдоровой — борца за справедливость была уже столь широкой, что даже такие люди, как Эренбург и Паустовский, время от времени передавали ей получаемые ими письма — крики о помощи. Фрида законно возмущалась: «Ну разве можно сравнивать наши имена, связи, возможности?» Но за дела бралась. Не могла пройти мимо чужой беды. И оказывалось, что сравнивать можно. Летом 64-го года она вновь жила в Тарусе. Получили от нее записку: «Очень надо бы повидаться. У меня отвратительная гнилая температура, сил нет и взгляд на жизнь мрачный. Две смерти подряд — Самуила Яковлевича (Маршака. — О. Р.) и Георгия Ивановича — мужа Раечки О. — совсем сбили меня с ног. Да еще Лидия Корнеевна больна, и так нелепо больна, и вот вас ждали, а Лева слег. И работа не идет». Дело Бродского не двигалось. Мы выбрались в Тарусу на два дня, и встреча наша с Фридой была очень грустной. Прошло всего три года после Жуковского веселья, а нас всех словно подменили. Лева купался в маленькой речушке, мы с Фридой сидели на берегу. Река была не в реку, лес не в лес, тарусские красоты на этот раз не радовали. «Думать не хочется, как много горя нам предстоит. Ведь стареют наши любимые — Корней Иванович, Анна Андреевна, Константин Георгиевич[14]. Как это умно устроено, что человек не знает, когда он умрет». Она назвала тех, кому было больше семидесяти лет. А первой ушла она. Осенью 64-го года руководители московского отделения Союза писателей начали готовить «дело» Вигдоровой. Старались найти обвинителей среди людей с хорошей репутацией, чтобы обвинение звучало убедительнее. Фрида относилась ко всему этому довольно равнодушно. Быть может, если бы не снятие Хрущева, октябрьский пленум 1964 г. и другие заботы у правительства, дело Вигдоровой и началось бы. В мае 65-го года во второй больнице, когда ее нещадно накачивали химией, она сказала мне: «Нужно-то ведь совсем другое лекарство. Вот если бы мальчика вернули, я сразу бы и выздоровела». В одном из первых писем из больницы: «Все, что мучило и тревожило, мучит и тревожит, но все о_т_с_т_у_п_и_л_о. Неужели Иосифа не отпустят до Нового года? Господи!» Речь не только о личной судьбе одного человека, хотя для Фриды о_д_н_а (не одна, а целая, поправила бы она меня) человеческая судьба — это бесконечно много. Речь шла о том, может ли она жить в прежнем своем мире. Наконец наступил момент, когда оказалось, что жить в прежнем мире нельзя. Полностью это обнаружилось именно в деле Бродского. Не потому, что она узнала в это время нечто принципиально новое о нашей действительности. Но от з_н_а_н_и_я д_о п_о_в_е_д_е_н_и_я тоже есть еще путь, и немалый. До этого дела Фрида Вигдорова сравнительно мирно сосуществовала с государством. Она ходила к редактору «Известий» Аджубею, она ходила к министру охраны общественного порядка и по кабинетам его министерства, она использовала все свои журналистские связи. Она делала это для того, чтобы кому-то помочь. При этом, разумеется, приходилось и улыбаться, и применяться, и идти на неизбежные житейские компромиссы. Она была человеком прямым, отчасти и прямолинейным, лишенным цинизма. Лишенным возможности сопрягать разные формы поведения — одну внешнюю, другую для себя. Отсутствие журналистского мандата на суде привело к тому, что она ощутила слабость и силу. Слабость, происходящую от одиночества и незащищенности. И новую силу — силу общественного деятеля, человека, действующего на свой страх и риск. Ощутила освобождение от догм, от заповедей, ото всего, что стесняло ее натуру. Лишенная официального мандата, она полнее ощутила мандат неофициальный. И тут перед ней встало множество новых нравственных проблем. В значительной степени — неразрешимых. Ведь это был не молодой, начинающий свой путь человек. Это была жизнь связанная, спутанная множеством нерасторжимых обязательств. Любой ее шаг касался, неизбежно касался и других людей, людей близких. Перебираю варианты: Могла бы, захотела бы она уехать за границу? Не думаю. Могла бы вступить в какое-либо «подполье», даже и чисто литературное? Вряд ли. Может быть, стала бы писать только в «ящик», замкнулась в себе, ушла от газет, от легальной общественной деятельности (некоторые признаки такого исхода намечались в последние ее месяцы). Одно, пожалуй, ясно: она не могла уже улыбаться Аджубею, не могла ходить ни в какие «советы нечестивых». Покачнулась одна из основ просветительства — она поняла, что правителям не нужны разумные и добрые советы… Сколько раз за полтора года мы мечтали, представляли себе, как Бродского освободят. Произошло все буднично. В самом начале сентября 1965 года, через месяц после смерти Фриды, позвонила мне приятельница Лидии Корнеевны, старый работник прокуратуры, и сказала, что решение принято. Мы с Лидией Корнеевной расцеловались и горько помолчали — Фрида не дожила. А в Сухуми, куда мы с Левой уехали отдыхать, получили письмо: дело тянулось еще больше трех недель, решение Верховного суда РСФСР заслали — нарочно ли, по ошибке ли — в Астраханскую область (вместо Архангельской), и там тщетно искали тунеядца Бродского. Наконец Бродский вернулся — «не я должна была открывать ему дверь, не я должна была жарить ему яичницу», — писала нам Лидия Корнеевна.
* * *
Каждый день, когда я приходила к Фриде в июле 65-го года, уже мог стать последним. Я попрощалась с ней 20 июля, хотя после этого была еще несколько раз, заходила на две-три минуты, брала за руку, старалась быть чем-то полезной ее семье, например дежурить у телефона. Только потом я поняла, уже ночью поняла, откуда страх. Потому что череп обтянут. Голова стала четырехугольная. Исчезла ее округлость. И рот опух. Слова доносятся издалека, будто сквозь много-много тысяч километров. Расстояние от жизни до умирания. Ее боль передается, ощущаешь физическое напряжение. И я вспоминаю, как кормила в больнице тяжко больную восьмимесячную дочку Машку: я сама прикусывала губы и глотала, мне казалось, что так и ей будет легче проглотить, а ведь от каждого глотка вроде и зависело, выживет, нет ли. Разговариваю с Фридой. Уже нет всяких смешных историй, всего того, что я раньше заранее собирала, прежде чем подняться к ней. Рассказываю про своего внука — Леня уже декламирует «Муху-цокотуху». — Концы? Я не сразу поняла, в чем дело. А ведь спрашивает: концы строф или все слова? Рассказываю, что Евтушенко, приехав из Италии, написал о том, какой вред принесло нам дело Бродского. Раньше бы она обрадовалась. Сейчас молчит. Я принесла ей новые стихи Д. Самойлова «Пестель, поэт и Анна». Стихи, с которыми мы жили все то лето и живем с тех пор. Робко спрашиваю — почитать? — Да. В середине чтения она разжимает мою руку, стонет. — Устали? — Не прерывайте (резко и энергично, как прежняя Фрида). Какой поэт! Стихи все лучше и лучше. Замечательно. Говорим о прозе Битова, и опять она по-старому: «Я задохнулась, читая „Пенелопу“». Вспомнила о рукописи Лидии Корнеевны Чуковской «Софья Петровна». «Если мне понадобится, если мне вообще что-нибудь понадобится…» Единственное упоминание. А в прошлый раз сказала: «Вот если съем кусочек черного хлеба с солью и обратно не верну, тогда буду счастлива…» Когда смерть обрушилась, я долго стояла одна у гроба. И все, что я когда-либо слышала о воскрешении, о летаргических снах, лезло и лезло в голову. Еще совсем нельзя было примириться с мыслью, что ее нет. За семь месяцев до этого мы получили от нее из больницы открытку: «13/1.65 г. Раечка, Левушка, спасибо, дорогие. Сикстинская — это в самый раз! Очень я ей обрадовалась. Целую вас. Берегите Шуру. Он не знает, что операция завтра, т. е. 14-го. Если бы действительно могли бы уволокнуть его в Переделкино. Целую, люблю, обнимаю! На утро… Ф.». Наутро, 14 января, профессор Виноградов произнес не подлежащий обжалованию приговор: «неоперабельный рак поджелудочной железы». Страшный вечер, мы ходили с Лидией Корнеевной по Переделкину, больше молчали. Верить, цепляться за химию, за лекарства, надеяться на чудо — это позже, особенно когда Фрида вернулась из больницы и как будто начала поправляться. А тогда — непроглядная тьма. И Лидия Корнеевна сказала: «В моей жизни второй раз рушится материнская балка» (в 1960 году умерла от рака Тамара Григорьевна Габбе, для Л. К. — друг жизни). Я сказать так не могла. Слишком мало времени посчастливилось мне дружить с Фридой (а ведь могла бы четверть века!). Я не могу сказать и что она определила крутой поворот в моих взглядах — нет, мы по-настоящему встретились и сблизились уже после этого поворота. Но в эти последние годы именно она стала для меня человеком, по которому мерилось многое — поступки, отношение к людям, написанное, задуманное, прошлое и настоящее. 196629. Александр Яшин
(Штрихи к портрету)
Он не был моим другом. Я читала, но почти не перечитываю его книги. Однако, проходя мимо соседней с нами черной двери — двери его последнего земного дома, я испытываю тягостное чувство. Узнав, что Яшин умер, я не вспомнила такие мне знакомые слова Джона Донна: «Каждая смерть умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством… Никогда не спрашивай, па ком звонит колокол, он звонит и по тебе». Много раз я произносила эти слова на лекциях о Хемингуэе и цитировала в статьях. Но на самом-то деле вовсе не каждую смерть ощущаешь как исчезновение части тебя. Большинство траурных объявлений — даже и о людях, которых знала, — пробегаешь только глазами. Вот я слушаю радио: казни, виселицы. На секунду замираю от ужаса: Прага? Нет, подлоуспокоительное — это не Прага, это Багдад. То же и с людьми, умершими в своей постели. А смерть Александра Яшина меня задела. Впервые я услышала его на втором съезде писателей, в декабре 1954 года. Сидела высоко, на галерее Колонного зала, не видела, а именно слышала его. Он говорил о своей поэме «Алена Фомина», лакировочной поэме о деревне. Эта поэма принесла ему Сталинскую премию, квартиру в литфондовском доме в Лаврушинском переулке, дачу в Переделкине, машину — все приметы советского писателя первого ранга. Когда он после поэмы вновь побывал в родной деревне — ему стало мучительно стыдно за свои фальшивые строки. И об этом чувстве стыда он сказал в большом зале с высокой трибуны. Поэмы, подобные яшинской, в сталинские годы публиковали многие писатели. Некоторые из них тоже ощутили стыд. Но очень немногие нашли в себе мужество сказать об этом вслух. Оттепель только начиналась, ворота лагерей еще не открылись. Может быть, именно тогда, слушая Яшина, и у меня возникла потребность отдать себе отчет в своем соучастии, возник один из первых толчков к своей книге. Осенью пятьдесят шестого года в «Литературной Москве» № 2 появился рассказ А. Яшина «Рычаги». Про всех нас. Прошло тринадцать лет, и каких лет! — а рассказ не утратил современного звучания. Акт первый: будничный разговор пятерых колхозников, разговор о бедах сельского хозяйства пятидесятых годов. Такие велись тогда по всей стране. Акт второй: партийное собрание. Действующие лица — те же пять колхозников. Но каждый перестал быть самим собой, люди исчезли, превратились в рычаги машины, которая коверкает их самих и других. Им всем неловко, ведь они только что были иными, а потом сразу словно застегнулись, сменили платье, слова и душу.
С дочерьми Светланой и Машей и внучкой Мариной. Жуковка, 1973 год

С внучкой Мариной. Жуковка, 1973 год
Метафора прочно вошла в язык. «Рычаги» — художественное исследование, социальный этюд. Обобщение возникает из достоверной, во всех деталях достоверной картинки сельского быта. В 1960 году я увидела Яшина вблизи. Увидела как бы двойным зрением — собственными глазами и глазами влюбленной в него женщины. Мы были в Коктебеле, возвращались с Кара-Дага, а они поднимались. Впереди шел джек-лондоновский герой, сильный, высокий, красивый. Познакомились мы с ним в апреле 1962 года в Ялте. Какой-то «нездешний» вечер, Леве исполнилось пятьдесят лет, а ощущали мы себя совсем молодыми. Яшин с Вероникой пришли к нам — это и были для нее те «Сто часов счастья», о которых она написала в стихах. Мы сбивчиво поговорили обо всем на свете, нам показалось, что все мы, четверо, на редкость близкие люди. Совпадали представления о мире, совпадало — кого любим, кого ненавидим. Побежали вниз на набережную за вином, вина не нашли — уже было поздно. Но весь этот вечер видится мне сквозь дымку опьянения. Яшин читал стихи и рассказы. Теперь все они опубликованы, а тогда примешивалось еще ощущение запретного плода. Рассказ об охоте на медведя. Ну конечно, такой мужчина и должен ходить с рогатиной на медведя. Как хорошо, что такие еще существуют, сила, храбрость нужны были пещерным людям, нужны и нам в двадцатом столетии. И опять — это не я одна смотрю на него, слушаю, восхищаюсь, даже спиной я не могу не чувствовать ее, Вероники, влюбленных глаз. «Вот какого прекрасного мужчину я полюбила, — так говорит ее взгляд. — Он всем нравится, и вам обоим нравится, так и должно быть, лучше него нет никого на свете». Вероника не стеснялась выражать то, что, мне казалось и кажется, должно быть скрыто ото всех, даже и от того, к кому обращено. Еще в Ялте я слышала, что рассказ Яшина «Вологодская свадьба», только что написанный, понравился Паустовскому. В этом рассказе впервые в современной литературе возникло слово «самосожженец». Яшин говорил о своих односельчанах, о вологодских мужиках — ему еще и не мог мерещиться Ян Палах, сжигающий себя в ноябре шестьдесят восьмого года в Праге на площади Красной Армии в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. И самосожженец в Риге, и самосожженцы в Каунасе — уже на нашей земле. В самом авторе сочеталось стремление к правде, а расплатою за это стремление могла быть потеря всего приобретенного. И боязнь мученичества, желание нормальной жизни. Защищенной прежде всего для работы. Для создания книг. Яшин повторял: «Хочу быть директором». Хочет заведовать все равно чем. Хочет сидеть в президиумах. Это его, после разгрома рассказа «Вологодская свадьба», резко разруганного в печати, встретил Софронов и спросил: «Ну, что ты получил от своих евреев? А мы своих кормим». Яшину постоянно казалось, что его обошли, что о нем забыли, не пишут. У него на пятидесятилетии даже в тостах звучали слова о недоданных наградах, об орденах. С иронией, с подшучиванием, но и не только с иронией. И всерьез. При встречах он рассказывал о своих планах, читал стихи или прозу и ждал похвал. Впрочем, мы были далеки, и возможно, я принимала за самососредоточенность его скрытую глубокую застенчивость, его боязнь показаться не героем в чьих-то глазах. Весной 1964 года Яшин получил письмо из журнала «Грани». Тогда многие инакомыслящие литераторы (или считающиеся инакомыслящими) получали подобные письма. Он пришел к нам, сидел двое суток, составлял ответ. Мужчина, ходивший на медведя, исчез. У нас сидел человек несколько напуганный, который считал, что должен «дать отпор». Не потому, что это ему было внутренне необходимо. Он считал, что должен показать чиновникам из Союза писателей: ему не нужны защитники с Запада. Но и у нас не возникло и тени сомнений в необходимости такого письма. Во всяком случае Яшина мы нисколько не отговаривали, только все вместе старались, чтобы текст был достойным, не стыдным. В 65-м году Яшин с женой Златой Константиновной и сыном приехали к нам в гости в Переделкино на дачу Ивановых. Когда они вечером уехали, я испытала чувство физического облегчения. Он исходил желчью, он ругал всех и вся, советскую власть и ее врагов, старых и молодых писателей, «либералов» и «консерваторов». Ему было тяжко. Он запутался в своей жизни. И ему хотелось доказать себе и другим, может быть прежде всего себе, что виноват не он, а устройство мироздания, что все — плохие, а хорошее — только лицемерие. За столом сидел его сын, очень похожий на отца, и не просто слушал — впитывал. На следующий день послала Яшину письмо. Примерно такое: вы человек талантливый* а создаете вокруг себя «выжженную землю», а это никогда не было плодотворной почвой ни для жизни, ни для искусства. Отправила это письмо, а потом стала сомневаться. Не по сути дела, но ведь у нас с ним не было таких отношений, когда близкому человеку можно и нужно сказать все, он тебя во всяком случае услышит. Однако в этот раз я сомневалась напрасно. Он даже благодарил меня за это письмо. На него начали валиться страшные беды. Летом 65-го года умерла от рака Вероника Тушнова. Через полгода застрелился его сын Саша, тот самый мальчик с ясными глазами, который так влюбленно слушал отца. Зимой 67-го года Яшин переехал в однокомнатную квартиру на Аэропортовской. Так мы и стали соседями. Кроме того обманно легкого апрельского вечера в Ялте, мне общаться с ним было трудно. Я не перешла с ним на «ты», как это вскоре сделал Лева. А после всех его несчастий общение, естественно, еще более затруднилось. Мы изредка обменивались рукописями и луковицами. В марте 68-го года, когда Лева лежал в больнице, Саша только что вернулся из Новосибирска. Он у нас прочитал Левины письма в защиту Гинзбурга и Галанскова, прочитал статью в австрийском коммунистическом журнале «Тагебух» против сталинизма. Задал тот же самый вопрос, — сколько людей уже задавали его, — зачем? Кому все это нужно? Разве можно что-либо изменить? Но спрашивал как-то неуверенно, и с любовью к Леве, и с тревогой за него. Мне тогда казалось, что весь мир вертелся вокруг того, чем была поглощена я, — процесс Гинзбурга — Галанскова, вечер памяти Платонова, выступление Ю. Карякина (его тогда исключили из партии, восстановили год спустя). Нас втаскивали в новый сталинизм, успешно действовала именно та самая механика, которую изобразил Яшин в рассказе «Рычаги»: партийный актив в Институте истории искусств, только что доблестно защищавший своих «подписантов», по указке свыше единогласно проголосовал за резолюцию, в которой осуждались и «вражеская группка Гинзбурга — Галанскова», и «их защитники». А кроме всего, над всем были жизнь и смерть. В тот раз, в марте 1968 года, я не услышала Яшина, не вслушивалась в него. Через два месяца его положили в раковый корпус. В начале июля 68-го года мы с Левой навестили его в больнице. Мы уже ездили в проклятый этот институт на Каширку — у меня и у Левы тревоги оказались ложными. А у Яшина не ложная — запущенный рак, три операции, сплошные метастазы. В коридоре — Злата Константиновна, подобранная, скрученная в пружину, без возраста. «Когда день смерти Тушновой? — спросила она нас сразу и почти спокойно. — Саша ждет смерти в тот самый день, он верит в магию чисел». (Вероника скончалась седьмого, а он — одиннадцатого июля.) Узнать его было нелегко, хотя я не видела его всего четыре месяца. Похож на Некрасова перед смертью с картины Перова. Углы. Сплошные углы — колени, локти, подбородок. Жена все это время живет в больнице, рядом с ним. «Побаюкай меня, мать, — просит он, — и я баюкаю. Вспоминает, как я баюкала детей, а он писал первые свои книги». Саша говорит затрудненно, часто впадает в забытье. Нам передали просьбу Саши, чтобы к нему в больницу пришел Александр Исаевич Солженицын. (— Зачем? — спросил Александр Исаевич. — Мы же не знакомы. — Ты знаешь, как умирающие хотят исповедаться. Вот потому и зовет тебя, — ответил Лев. — Ну, если так, ехать надо.) — Александр Исаевич звонил, он приедет к тебе, как только будет в Москве. — Телефоны подключены. Не надо говорить по телефону, — произносит умирающий. Теперь ему все хотят быстро «додать» — книги, издания, гонорары, славу. Его печатают во всех газетах, во всех журналах. Как все это ему было нужно совсем еще недавно. А сейчас уже не нужно. По дороге в больницу я, грешница, думала: может быть, Саша подпишет еще какое-нибудь письмо в защиту осужденных, ведь сейчас ему нечего бояться. Когда я узнала, что генерал Григоренко ходил к умирающему Костерину и предлагал ему подписывать все новые и новые письма (одно из них — совещанию компартий в Будапеште), я подумала, что волнения Костерина, со всем этим связанные, приблизили его смерть. Да и превращение похорон Костерина в политический митинг было мне неприятно, с какими бы намерениями это ни делалось. Это ведь тоже «цель оправдывает средства», «общее дело выше личного» и т. д. Но и я ехала к умирающему Яшину с «корыстными» намерениями. Я думала теми категориями, которыми думают в стане живых. А происходило умирание. — Лева, Рая, приходите еще, вы же совсем рядом живете. — Представления о пространстве у него путаются, это говорят те живые клетки, которые помнят — поликлиника рядом с нашим домом. Жена подносит к его рту поильник с пивом. Про него нельзя сказать «отходит». Не мирная, не естественная смерть — рано еще, исполнилось пятьдесят пять лет… Злата Константиновна говорит в коридоре: «Он страстно хочет жить. Все ему надо: неба, природы, охоты, ходьбы, стихов, вина, баб. Мы все смертельно усталые, истасканные, а ему все надо». Я этого не чувствую, тела почти нет. Она протирает ему каждый палец в отдельности, как ребенку. В последний раз зимой мы сидели рядом с ним на партийном собрании. Вместе возмущались, когда на трибуне обличали Солоухина за то, что он носил перстень с изображением Николая Второго. Уже тогда Яшин был очень худой, уже тогда проступали углы. Только ни я, ни другие, более близкие ему люди, этого еще не замечали. А если бы и заметили, разве можно было что-нибудь сделать, предотвратить? Он излучал поэзию. Говорю даже не о писании стихов, как прозаик, по-моему, он много сильнее, а о поэтичности натуры. О его природном артистизме. О его здоровой, нежной душе. О способности к красивым, удалым, рыцарским поступкам. А рядом, вперемешку, жило и другое, подчас противоположное. Он был человеком невоспитанным. У Бердяева в книге «Мировоззрение Достоевского» написано: «Русский нигилизм есть извращенная русская апокалиптичность. Такая душевная настроенность очень затрудняет историческую работу народа, творчество культурных ценностей, она не очень благоприятствует высокой душевной дисциплине. Это имел в виду К. Леонтьев, когда говорил, что русский человек может быть святым, но не может быть честным. Честность — нравственная середина, буржуазная добродетель, она неинтересна для апокалиптиков и нигилистов. И это свойство оказалось роковым для русского народа, потому что святыми бывают лишь немногие избранные, большинство же обрекается на бесчестность». Эти мысли мне кажутся важными и для понимания таких максималистских характеров, как Александр Яшин. Да и для понимания многих персонажей Шукшина, Вампилова. В Яшине спрессовалось ускоренное (насильственно ускоренное) развитие нашей земли: от глухой вологодской деревни до современности. От неграмотности до вершин поэзии. Не было естественности, непрерывности развития рода, медленного, плавного. Была ширь души, ее щедрость, ее богатство. Не было ничего похожего на тот английский парк, который подстригали шестьсот лет. Нет, все на одной краткой человеческой жизни, все изломы, все гримасы, все зигзаги нашей многострадальной истории. От глубочайшей древности до сегодняшних капканов. И это отчасти объясняет взрывы истерики, жесткость, порою и жестокость к самым близким. И садистскую жестокость к самому себе. Неухоженный сад. И все в полвека, без просветов, не было ни покоя, ни воли. После смерти его превращают в кумира. Это выражается не только в памятнике, поставленном в Вологде, не только в многочисленных благостных мемуарах. В нем ищут родоначальника, первоисток и такие писатели, как В. Белов, Ф. Абрамов, В. Астафьев (недаром перебравшийся из Сибири именно в Вологду), В. Распутин — по праву литературного наследования. Но и люди, ему глубоко чуждые. Он умер в момент идейной неразберихи, еще до танков в Праге, тогда причудливые связи казались подчас дружбами. И все-таки мне кажется, что верх взяла бы поэзия, а не желание быть директором. Мне, как и многим его друзьям, приятелям, просто читателям, нужнее не памятник, а тот, живой, оставшийся в памяти и в лучших книгах, раздираемый противоречиями, страстно стремящийся сквозь дебри зла и лжи к добру и правде.
* * *
Солженицын пришел к Яшину. Умирающий уже потерял сознание. Александр Исаевич дописывал в больничном коридоре письмо, когда вышла из палаты Злата Константиновна. «Кончено. Поздно». Вечером того же дня Злата Константиновна показала нам это письмо. Восстанавливаю его по памяти: «Дорогой Александр Яковлевич! Вы — на дне глубокого колодца. Вам тяжело. Я знаю, я сам был в таком колодце. Но и из него смотришь на кусочек неба. Из больницы, в которой Вы лежите, видна церковь, дорогая сердцу каждого русского человека. Я молюсь за Вас. Автор „Рычагов“ навсегда останется в русской литературе, они кое-что повернули, эти рычаги». Почерневшая Злата Константиновна говорит: «Спешите делать добрые дела». 1969–197130. Моя Грузия
Когда же в мою жизнь вошла Грузия? Когда же это возникло — Грузия, свобода, праздник, любовь?.. Я пытаюсь снимать воспоминания пласт за пластом, слой за слоем. Я ухожу в эту опасную бездонную шахту, не оглядываясь по сторонам, не задерживаясь. Ведь только стоит задержаться — и острый холод: а ведь я н_и_к_о_г_д_а, действительно никогда уже не вернусь, не вернусь в тот год, в ту страну, в то свое «я», в ту вчерашнюю, молодую. Нет, края уже прочерчиваются на горизонте, теперь мы под гору идем, хотя иногда спуск принимаем за восхождение. Но я про спуск воспоминаний. Первая Грузия появляется в моей жизни в старых, потрепанных книгах с золотым обрезом. Эту Грузию зовут Нина Джаваха. С вольных кавказских гор привезли эту девочку в холодный императорский Петербург, в институт благородных девиц. На обложке стоит имя Чарской, но я еще не смотрю на имена писателей — книги возникают сами собой. Ведь дети же никогда не спрашивают: кто написал эти горы? кто автор этого моря? Так с той далекой поры и осталось: Грузия — это вольность. Грузия — это гордость. Это возможность человеку быть самим собой. И он съеживается, как только его обдает ледяным дыханием Петербурга. Потом в жизнь вошел Лермонтов, и тянуло, тянуло за хребет Кавказа. А пока, пока надо было научиться танцевать лезгинку. Надо обязательно научиться танцевать лезгинку. Сейчас горец в бурке с кинжалом — это ресторанно-позолоченная пошлость, как тройка, как ковбои. Но ведь до пошлости были и есть и настоящие тройки, и настоящие ковбои, и настоящие горцы. Сегодняшние девочки мечтают танцевать твист или другие новейшие танцы — так я мечтала о лезгинке. В 1938 году я увидела впервые Тифлис с горы Давида, мне было двадцать лет, мы стояли с Леней, взявшись за руки, мы, впрочем, никогда не разнимали рук, и смотрели вниз. Нам было хорошо, хотя номеров в гостиницах не было, знакомых не было, ночевать было негде, пришлось брать билеты на первый же вечерний поезд. Я ничего не увидела в Грузии в тридцать восьмом году. Нам с Леней тогда было — что Москва, что Кратово, что Тифлис — все едино, лишь бы вдвоем. Грузия истекала кровью, были уничтожены Табидзе, и Яшвили, и тысячи других, а я об этом ничего не знала. В сорок шестом году я в Грузии с корейской делегацией на двое суток. Сопровождаю от ВОКСа. Почему так много мужчин на улицах? Почему они просто так стоят в лакированных ботинках и задевают проходящих женщин? Вся эта красочная, праздничная страна, особенно по сравнению с разбитой Россией, казалась мне чужой, враждебной. Нас кормили в ресторанах, возили на машинах, водили по музеям. Зачем так много истории? Что мне эти старые кувшины, что мне царица Тамара? Рассеянно-неприязненно слушаю экскурсоводов, ни искры контакта. Даже красота раздражает, я по-иному воспринимаю красоту. Что по-иному — это я и сегодня повторю, это нормально. Но тогда я самоуверенно утверждала: моя красота лучше вашей, моя — единственная. В первый раз я была в Грузии просто наивной, слепой. А во второй раз мои глаза начали заклеиваться ложью. И вот, наконец, в третий раз, уже вместе с Левой, начинает открываться мне Грузия. Она все та же, но я-то изменившаяся. И обрушивается на меня Грузия как влюбленность. С тех пор и твержу ласкающе-гортанное слово «сакартвело». Твержу строки Бараташвили в переводах Пастернака:Мы были в Грузии. ПомножимНужду на нежность, ад на рай,Теплицу льдам возьмем подножьем,И мы получим этот край.И мы поймем, в сколь тонких дозахС землей и небом входят в смесьУспех и труд, и долг, и воздух,Чтоб вышел человек, как здесь.Б. Пастернак
Звуки рояля
Сопровождали
Наперерыв
Части вокальной
Плавный, печальный
Речитатив.
Я прошел над Алазанью
Над волшебною водой
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.
(Н. Тихонов)
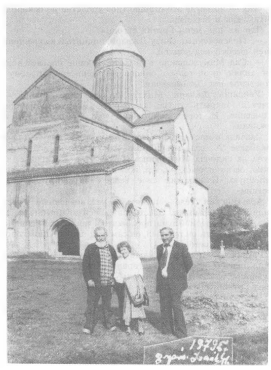
В Грузии, в Кахетии. Весна 1979 г.
Что же для меня Грузия сегодня? — Подсвеченный снизу Джвари, поднятый в скрещении лучей высоко над землей. — Сад Мамулашвили в Мцхете. В чаше плавает водяная лилия, и я только одного не понимаю — почему в этой чаше нет Дюймовочки? Увидишь Джвари, Мцхету, Алазанскую долину — и хочется закрыть глаза, сохранить надолго, продлить мгновение. И тогда понимаешь, что Грузия — это художники. Сначала в мастерской были буро-желтые пятна Давида Какабадзе. А когда мы поехали в Кутаиси, я увидела эти пятна на склонах Имеретинских гор. Нет, Какабадзе, конечно, не копировал, он, как истинный Бог, создавал свою вселенную. И находил свое везде — ив Грузии, и в Бретани. Арагвийская стела — памятник, установленный в честь тбилисских Фермопил. Здесь сражались храбрые юноши. И каждый очередной наш провожатый не просто гордился памятником, нет, он там был, он сам защищал родной город, и защитил бы сегодня. Грузия — это лучшие наши фильмы. Это «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль» Отара Иоселиани, и «Кувшин», и «Зонтик», и «Свадьба». Звук, цвет, смысл — образ Грузии, образ времени, образ мира… Это тоже Грузия, та, что притягивает, поражает, внушает зависть. За каждым сегодняшним грузином — длинная, чаще всего известная дорога в прошлое. Реальная дорога — дом, деревня, клан, род, родина. Это не только сохранившиеся на стенах и в альбомах фотографии, это люди, о которых помнят, поминают, думают, как о живых. Это, в сущности, и есть нация. Конечно, и в Грузии есть много дурного, есть свои пороки, своя мерзость, где этого нет? Есть и дом в Гори, откуда пошло по нашей земле море бедствий; и наследники есть у человека, родившегося в этом доме. Но когда произносят слово «Грузия», я об этом никогда не думаю. Грузия — это друзья. Это самый красивый на земле обряд дружбы. Правда, когда мы бываем в Тбилиси, ощущаем в полной мере их любовь, их внимание, мне горько. Потому что я знаю, что мы так не можем. Не можем ответить ни на щедрое грузинское застолье, ни на тонкую деликатность наших друзей. Нет у нас традиции, умения, времени. Нет той спокойной свободы, которая необходима, чтобы отправлять прекрасный культ дружбы. Пастернак записал в альбом Ладо Гудиашвили: «Будни, в которые Вас посещаешь, часы, проведенные у Вас, кажутся часами иного времени и другого века. На другой день после посещения Вас просыпаешься с ощущением, будто все, виденное и сказанное у Вас, приснилось». Спасибо судьбе за то, что мои грузинские сны столько раз — ив самые трудные, и в самые горькие времена — оборачивались явью. 1968
31. Чужой и родной
На темном фоне — высветленное трагическое лицо, высветленная рука с сигаретой. Надпись на фотографии: «Дорогим моим Рае и Леве. А помните, каким я был молодым? А вот какой я замечательный старый, но так же любящий вас. Александр Галич, 29 января 1974 года». Нет, он еще не старый. Но в человеке на фотографии не сразу узнать мальчика, с которым я познакомилась весной тридцать пятого года на спектакле «Артисты варьете». Он был одет в куртку из синего вельвета. Слово «вельвет» я услышала позже и много-много лет спустя увидела эту материю в магазине. Когда я пришла впервые к Саше в его узкую комнату на Бронной, меня поразили стены — бутылочно-зеленые, с рубчиками. — Линкруст, — небрежно бросил хозяин, следя за моим взглядом. «Линкруст» мелькнул в моем словаре еще позже, чем «вельвет». Сначала были чистые цвета — синий и зеленый. И глаза сине-зеленые. На это воспоминание наложились «цветные» песни Галича. Мы смотрели эстрадное представление — первое в моей жизни. На сцене — Токарская, Мартинсон. Ритмы завораживают, Саша повторяет точно:Была война
Семь лет подряд
И надежды на мир никакой.
Мы мечтали о морях, океанах.
Собирались прямиком на Гавайи —
Я подковой вмерз в санный след…
А рядом бродит санкция,
Романтики сестра,—
И как в старое время доброе,
Принимают парад уродов.
Промолчи — попадешь в стукачи,
Промолчи — попадаешь в богачи,
Промолчи, промолчи, промолчи…
* * *
Декабрь 1966 года. Мы вместе в Доме творчества в Переделкине. Саша пишет песню о Пастернаке. Много поет — у С. Бабенышевой, у К. И. Чуковского, у нас в 30-й комнате на втором этаже. Мне приятно «дарить» его, нашего Галича. Люблю смотреть,как его слушают впервые. Самый этот момент — ошеломления, в разные времена — у Вергасова, у Дины Каминской, у Ефима Эткинда. Я уже столько раз видела поющего Сашу, что могу позволить себе роскошь и наслаждение — не отрывать глаз от Корнея Ивановича. У Галича современный, сверхсовременный язык. Сиюминутный. Чуковский живет на земле девятый десяток лет. Как изменились лексика, фонетика, интонации. Казалось бы, все должно быть чужим. Отчасти и раздражающим. И реалии чужие — можно поручиться, что Корней Иванович никогда не видел, как соображают на троих. В жизни этого не выносит, прогнал того же Галича, когда тот пришел пьяным, но в искусстве… Корней Иванович воспринимает каждое слово, выделяет то единственное, избранное из сотен тысяч, найденное.То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВПШ…
А другой зека —
Это лично я.
На десять лет
В лагеря попал.

С Александром Галичем и дочерью Светланой в квартире на Красноармейской улице

Александр Галич
Тогда в Переделкине Саша прочитал главы из рукописи Льва (впоследствии — книга «Хранить вечно»). И начал писать песню. Не об «абстрактном гуманисте», который пытался протестовать против насилий, чинимых солдатами и офицерами Красной Армии. В «Балладе о вечном огне» (она посвящена Л. Копелеву) сохранилось от первого варианта лишь:
Затикали в подсумочке
Трофейные часы…
Идут мои кирзовые,
Да только без меня…
А тут эта сука Копелев…
Нам не надо скорой помощи,
Нам бы медленную помощь…
…А гражданские скорби
сервирую к столу.
Кум докушал огурец
И промолвил с мукою:
«Оказался наш отец
Не отцом, а сукою»…
И в моральном, говорю, моем облике
Есть растленное влияние Запада…
…С аморалкою
нам, товарищ дорогой,
делать нечего…
В ДК[15] идет заутреня
в защиту мира…
Чтобы неповадно было
Нашу родину
Сподниза копать.
Счастье на губах — карамелькою…
Даже зубы есть у меня…
НА дверях стоит
Вся промокшая…
А что у папИ у ее
дача в Павшине…
У женЕ моей спросите, у Даши…
…обучили на кассиршу в продмаХе…
* * *
Мы все, те, кто обманывал, и те, кто обманывался, становились людьми в той мере, в какой изменялись, отказывались от лжи, избавлялись от прошлого, связанного с ложью. Александр Галич тоже проделал этот путь. Отчасти он рассказал об этом в книге «Генеральная репетиция», вышедшей за границей. Ему, как и большинству из нас, было от чего избавляться. Году в шестидесятом Фрида Вигдорова, провожая Лидию Корнеевну Чуковскую из Переделкина в Москву, посадила ее в такси к Галичам. На следующий день Лидия Корнеевна выговаривала сурово: «Фридочка, ну как вы могли меня отправить с такими людьми? Всю дорогу они болтали о какой-то финской мебели, о сервизах. Давно не глотала столько сытой пошлости». Прошло несколько лет. Лидия Чуковская услышала первые песни Галича и сказала Фриде: «Очень справедливо, что у таких родителей вырос такой замечательный сын. Поделом». Говорил о финской мебели и создавал песни один и тот же человек. Тот, кто много раз был за границей, участвовал в кинопостановках совместно с Францией. Я еще встречала у него изредка чужих людей, из «той» жизни. И такие, например, чужие фразы: «А я за нерпой ездил в Париж». Когда песня вырывалась, он облегченно вздыхал. Вслед за ним испытывали облегчение и мы, слушатели. Шло сложное, медленное, внутреннее движение. Он сказал мне в 66-м году: «Я не хочу больше зарабатывать деньги. Пусть они как хотят. Песни просятся наружу. Мне надоело бояться». Кто «они»? Отнюдь не жена, Ангелина Николаевна. Это он хотел, вернее, он привык, чтобы в доме было много денег. И долго, уже будучи автором этих самых песен, еще оставался автором, соавтором, заавтором халтурных, приспособленческих сценариев, которые приносили деньги. Он не мыслил существования без комфорта и с тем большей яростью судил, осуждал, проклинал тех, кто как-то устроился в мире, где есть Бутырки, где были Освенцим, Хиросима, устроился, повесив шторки, отциклевав пол. …Пьет. Каждый день. Поначалу ему от рюмки лучше — взбадривается, «допинг». Потом все хуже и хуже. Бегает на станцию в буфет. Но ведь и в забегаловках он увидел внутренний и внешний рисунок своих персонажей, подслушал истории, выражения, слова:Первача я взял ноль-восемь…
А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо…
* * *
Его строка богата. Противоречие заключено внутри слова. Не лицемерие, на которое толкает общественное устройство, а закрепленное д_в_у личие, д_в_у мыслие. Система фраз, прямо противоположная реальной жизни и реальному значению слов. Когда писатели — и Александр Галич — переезжали в первый кооперативный дом на улице Черняховского, они любовно, а кто мог — и богато, обставляли свои квартиры. До нас тогда дошел разговор (кажется, между Аркадием Васильевым и Виктором Шкловским): «А что, если грянет революция и все это отнимут?» Саша знал об этом разговоре. Может быть, тогда и возникло зерно будущей «Баллады о прибавочной стоимости», где осуществившаяся революция и ужас перед нею. В этой балладе общее место — что наш правящий класс, наше государство из самых консервативных, что оно боится революции, — обретая гротескную конкретность отдельного случая, становится художественным открытием. Эта баллада исполнялась в полном зале Дома литераторов на шестидесятилетии Николая Атарова в сентябре 1967 года. С трибуны. В президиуме сидел ответственный секретарь СП генерал КГБ Виктор Ильин. Саша читал массу книг на трех языках. Долгие его болезни, по книге в день. Знал, что хорошо и что плохо в искусстве. Раиса Беньяш вспоминала, как они вместе смотрели в Париже чаплинские «Огни рампы»: «Зажегся свет, рядом со мной — счастливейшее, зареванное Сашино лицо». В марте 68-го года в Академгородке Новосибирска устроили фестиваль бардов. «Две с половиной тысячи человек стоя слушали мою песню о Пастернаке». Мгновение молчания. Овация. Он скорее преуменьшал. Наши друзья из Академгородка рассказывали — те, кто присутствовал, услышали правду не наедине с избранными единомышленниками, а в большом зале, на людях, разделили это счастье с другими. Услышали правду, выраженную в точном слове. Испытали потрясение. Боже, как ему этот успех необходим! Он ведь еще и актер. Ему нужны не комнаты — сколько бы в них ни набивалось народу. А переполненные залы из людей незнакомых, но любящих его песни. Сейчас в Париже, Лондоне, Цюрихе бывают и переполненные залы. …Вновь слушаю старые записи. Едва ли не каждую сопровождает гул. Своеобразный хор. Нет, ему, конечно, не подпевают. Это гул — до или после песни (изредка — во время) — восхищенный; собравшиеся знают, любят, предвкушают песни. Узнаю знакомые голоса. …Слушаю заграничные записи, пластинки. Мертвое молчание. Концерт. И поет он сам по-иному — не манерно ли? Строки «уходит наш поезд в Освенцим» сопровождает шум настоящего поезда. Оскорбительно неуместный. Словно без этого не поверят, словно самой песни недостаточно… Трудно русскому поэту, да еще такому почвенному, без России. Да, я не оговорилась — почвенному. Это сочеталось в последние годы со все усиливающимся сознанием и выражением еврейства. Ему нужны были полные залы в Москве, Ленинграде. И вот неожиданно это подарил ему Новосибирск. Это было вершиной и концом здешней открытой жизни. После судебного процесса Галанскова — Гинзбурга в 1968 году и после подписанства шли заморозки. В газетах Новосибирска появились резкие статьи против Галича. Он заторможен, грустен, оживляется, только когда рассказывает, как прекрасно там было. Восемь песен напечатаны в журнале НТС «Грани». Этот номер подложен ему в почтовый ящик. Он сразу же отослал конверт ответственному секретарю Союза писателей В. Ильину с письмом — не хочет непрошеных защитников, непрошеных публикаций. Процесс изменений внешних и внутренних шел медленно, не прямо, с возвращением на круги своя. Написал для Марка Донского сценарий о Шаляпине. Еще член двух творческих союзов. Еще весь в старой системе — и общей, и своей, индивидуальной. Но и вне ее — рывком художника. Галич обличал сталинизм. Это — на поверхности, это было одним из первотолчков и отчасти объясняет необыкновенное распространение его пленок. Это вливалось в общее русло оттепели, в шестидесятые годы. Но он выступал еще и против профессиональной среды, в которой сформировался. Против попутчиков, против коллег по долголетнему примирению с тем, «чего терпеть не должно». Против прозаиков и поэтов, чьи книги публикуются, против художников, чьи картины выставляются на официальных выставках. Против автора пьесы «Вас вызывает Таймыр». Он и сам много лет «окликал стражников по имени». В песне «Мы не хуже Горация» Галич говорит о новой литературе — без Гутенберга:«Эрика» берет четыре копии,
Вот и все. И этого достаточно…
Есть магнитофон системы «Яуза»…
И этого достаточно.
А вы валяйте, по капле
Выдавливайте раба…
Грянули впоследствии
всякие хренации…
Справочку с печатью
О реабилитации
Выдали в Калинине
Пророковой вдове.
* * *
Слышу яснее звуковой ряд:Ах, как н_ы_ли н_о_ги у Мадон_н_ы…
В платьице, застиран_н_ом до си_н_и…
А под Щ_елковом
В щ_епки полк…
А касса шелкает:
Щ_елк, щ_елк, щ_елк.
И терзали Шопена лабухи
* * *
Утром 21 августа Лева неистово барабанит в дверь ванной: «Скорее, выходи!» — Танки в Праге. Мы втроем с Сашей пошли в лес. Что же будет дальше в Праге, да и в Москве? Что с нами со всеми теперь сделают? В тот момент почти не было сомнений — только массовый террор. Как же иначе, каким способом заставить проглотить Прагу? Мы себе казались уже всепонимающими, прозревшими, а сколького мы еще не знали о внутренних механизмах нашего общества, о подлинно народных настроениях, о самих себе. Весь август Галич писал «Петербургский романс», читал нам куски:И стоят по квадрату
В ожиданьи полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки.
Хочешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?
* * *
Жизнь не кончилась на Чехословакии, ни общая, ни наша. Пессимистические наши прогнозы тогда, к счастью, не оправдались. Слушаю первую песню о Герое Социалистического Труда.Израильская, говорю, военщина
Известна всему свету…
Бог пил мертвую в м_о_н_о_п_о_л_ь_к_е…
Она чокается ш_а_м_п_а_н_ь_ю…
А вокруг шумела Иудея
И о мертвых помнить не хотела.
Пропавшее наше прошлое
Спит под присмотром конвойного.
…Эта стыдная роль…
Эта легкая слава
И привычная боль…
«Эрика» берет четыре копии,
Вот и все. И этого достаточно.
За несколько месяцев до его отъезда я ощутила разлад. Никаких объяснений между нами не происходило. Тянулись еще какие-то нити из прошлого, давнего и недавнего. Он эмигрировал по общему пути — вызов из Израиля. Правда, у него было и приглашение от скандинавского общества новообращенных христиан. Первый год прожил в Норвегии, читал лекции в университете Осло по истории русского театра. Переехал в Мюнхен. Оттуда в Париж.
* * *
В первом иностранном издании песен Галича, в предисловии, сообщалось, будто он сидел в лагере и воевал. Автора отождествили с его лирическими героями. И сейчас большинство слушателей Галича, не знающих его, так считают. На президиуме Союза писателей его особенно задело выступление его бывшего приятеля Алексея Арбузова, который возмущался придуманной биографией. Выступление Арбузова, подлое в той ситуации, так задело Галича еще и потому, что он сам о себе знал: его поступки, его жизнь, его дела и его слова — в сценарии ли, в пьесе ли, в песне ли — нередко далеко расходились. Как и у многих людей. Как и у многих литераторов. Все менее сговорчивая писательская совесть властно диктовала новые слова. А человеку еще было трудно вести себя в соответствии с этим новым. Сам процесс сочинения иной биографии лирическому герою становился одним из источников творчества. Он понимал, как это больно — нары, этап, общие работы, как это голодно, тяжко, как изменилось бы его розовое тело, покрылось бы струпьями, усохло. Этого он не хотел. Он привык, чтобы за ним ухаживали, и за ним всегда, как бы ни было худо, находилось кому ухаживать. Он предчувствовал, что это такое, когда —ни спеть, ни выпить водочки,
ни держать в руке бежал…
Началось все дело с песенки.
А потом пошла писать…
и дали обоим высшую…
Он в карман переложил кошелек
И потопал босиком в коридор.
Все же ходит, все же любит, сучок…
Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть…
* * *
Набросала эти воспоминания сразу после отъезда Галича, а летом 75-го года вернулась к черновой рукописи. Жила в Доме творчества в Переделкине. Несколько раз мы уезжали в Москву — шел кинофестиваль. Двери нашей комнаты не запирались. В сентябре в почтовый ящик Л. Чуковской и еще нескольким людям подбросили конверт-рукопись «О чем поет Галич» на папиросной бумаге, подписанную «Р. Орлова». Начало — мое. А дальше с рукописью проделана тщательная «редакторско-соавторская» работа: выброшено все хорошее, что говорится о человеке и о поэте, оставлено (и добавлено) то, что сказано о его недостатках. И просто искажено. Так, в подлиннике: «Выступление Арбузова, подлое в той ситуации, но обыкновенно подлое…» В новой редакции: «Выступление Арбузова, п_р_а_в_д_и_в_о_е и т_а_к_т_и_ч_н_о_е…» и т. д. Сомнений быть не могло: рукопись выкрали из моего стола, сняли копию и «обработали». Расчет был прост: облить Галича грязью и сделать это не руками его врагов, а его давней — с детства — приятельницы. Сразу написала об этом Саше. Так КГБ или, чего я тоже не исключаю, «добровольцы из публики» вмешались в мою неоконченную работу.* * *
15 декабря 1977 года мы узнали, что скоропостижно умер Александр Галич. Ни понять, ни принять, ни выплакаться — не могу. Часто повторяла о других и о себе: «Отъезд — это смерть», «Аэродром похож на крематорий» — строка из стихотворения Лидии Чуковской «Россия уезжает из России.» Нет, отъезд — это отъезд, а смерть — это смерть. Оказывается, когда люди уезжают, мы где-то на самом донышке еще надеемся на встречу. Долгие ночи без сна вижу ясно, до мельчайших подробностей: наша квартира. Не та, где мы сейчас живем, в нее мы въехали, когда Галич уже был за границей. И не та, где Галич бывал часто, читал стихи, еще не ставшие песнями, пел несчетно, рассказывал, слушал, жаловался, радовался, пил водку. Нет, я вижу квартиру моего детства на улице Горького, где красивый Саша Гинзбург, еще не знающий, что он будет делать — писать стихи или картины, сочинять музыку или играть на сцене, Саша, охваченный предчувствием славы, сидел за нашим разбитым пианино, пел, а мы подпевали: «У самовара я и моя Маша», «На столе бутылки-рюмочки…», «Вино любви недаром нам судьбой дано». Передо мной проходят видения, смешиваются разные слои времени. Огромная комната еще не разгорожена. Мама с папой еще живы. Дочь Майка с Павликом еще не уезжали. Наши дочери, их друзья и знакомые разных эпох. И теперь уже он — Галич. Поет. Слушатели бурно реагируют. Выделяется звонкий, такой любимый смех Люси — моей сестры. Слышу Сашин голос, то глухой, то надтреснутый, то очень громкий. Я уже знаю песни, шевелю губами, шепчу, подсказываю, когда он забывает. И стоит посреди комнаты большой стол, и водка с закусками, и чай с сушками из нашей юности. Я вижу эту картину так ясно, словно все это когда-то и впрямь произошло. Так не было. И не будет. Саша умер. Не все уехавшие исчезли, некоторые остались в любви и в отталкивании, в дружбе и во вражде, в связанности и в недоспоренности. А Галич после отъезда исчез. Мы не переписывались. Изредка я читала его новые стихи. Видела его в немецком телефильме «Новая русская эмиграция в Париже». Слушала рассказы о том, как его концерты проходят в разных городах мира. Галича в наших жизнях словно бы и не было. Нет, он был. Иначе не ударило бы так сильно тем смертельным парижским током. Боль требовала немедленного выхода — слов, слез, торжественного молчания. Ритуала. Похоронить его мы не можем. Где же та большая квартира, которая могла бы вместить всех, кто его любил, кому так же больно, как больно мне, кто не скажет рассудочно: «Так ему лучше, мгновенная смерть…» Семнадцатого декабря панихида в церкви в Брюсовском переулке. Моя церковь. Помню себя лет с трех. Значит, едва открыв глаза на мир, я видела купол этой церкви из окна моей детской, купола и четырехугольную кирху. Тогда, полвека тому назад, Тверская и Брюсовский переулок были ближе друг к другу, чем улица Горького и улица Неждановой. Дом наш отодвинули в глубь двора, и новые, высокие построили, да и в детском сознании смещаются предметы, люди, события. Няня сначала повела меня к Иверской Божьей Матери, а потом сюда, в Брюсовский. Здесь я впервые вкусила тело и кровь Христову. Сюда я ходила и расставшись с Богом моего детства, когда на фронте погиб мой первый муж. Прошло еще тридцать пять лет. Снова вошла в эту церковь. Отстояла заупокойную службу — длинное перечисление неизвестных мне имен. Потом проповедь владыки Питирима, блистательного оратора. Он говорил о великомученице Варваре и Иоанне Дамаскине. И, наконец, отдельная панихида по рабу Божьему Александру. В боковом приделе нас сбилось в кучку семеро. Пятеро, кроме Игоря, мне чужие. Наши пути мельком перекрещивались. Молодой священник говорит торопливо, резко взмахивает кадилом. Они, шестеро, истово крестятся. Коля и Борис порой опускаются на колени. Когда я одна в церкви, я тоже иногда крещусь. Как в детстве. А при других, при них — не могу и не должна. И здесь я отщепенка. — Вы тоже пришли сюда, Рая? — Нет, я пришла к Саше. Я не бывала с Сашей ни в этой, ни в какой другой церкви. Я с ним пила вино и целовалась в Брюсовском переулке, в квартире Тамары Зейферт — она тогда училась в студии Большого театра. Мы встретились до того, как и к нему, и ко мне пришел свой черт и предложил подписать договор, написанный не кровью, а чернилами. Если каждый, стоявший рядом со мной в церкви, на самом деле верит в то, что они с Сашей встретятся на небе, какие же это счастливцы! Как я им завидую! А я начинаю, только начинаю знать, что он умер. И, значит, умерла и часть меня. Гораздо большая, чем мне казалось.
В издательстве «Ардис» вышла книга Л. Копелева «Хранить вечно», 1976 год
Другом в истинном смысле слова он никогда не был. Но было в нем нечто незаменимое. В этом уголке души — черная дыра. Пустота. Саша. Которого я-то уже никогда не увижу ни в Москве, ни в Переделкине, ни в Дубне, ни в Париже, ни в Царствии Небесном. Нигде. «Прости ему грехи вольные и невольные…» Не могу сейчас думать ни о его, ни о своих, ни о чьих грехах. Не могу думать даже о песнях, хотя новых больше не будет. Только о нем. Сейчас я помню о нем только хорошее, только его необыкновенную одаренность и общую нашу бездумную юность. За которую так дорого пришлось платить. Сейчас не хватает того страшного дня, который мне — оставшейся — необходимо провести с ушедшим: подойти к гробу, ужаснуться изменившемуся лицу, положить цветы, поцеловать в лоб. Потом, оледенев от холода и горя на кладбище или в крематории, согреваться на поминках водкой, едой, ощущением локтя — мы, те, кто любил его, мы вместе. Мы пьем его «стопаря» за упокой его души. Я-то думаю, что его душа упокоится не в Брюсовской церкви и уж, конечно, не в парижской, а в «храме ре-минорной токкаты…» Мы поминали Сашу вчетвером с моей сестрой Люсей и ее мужем Мишей, слушая его песни. Когда Люся получила эту маленькую квартирку на Варшавском шоссе, Саша прожил в ней дней десять, как обычно уезжая из своего дома, чтобы писать. И здесь его сразу же окружили тахта, шторы, торшер. Вещи увезли, но какая-то частица его души осела и на этих стенах. Хорошо, что с родными; слушаем, смеемся, узнаем, знаем. Но я все еще не оплакала, не похоронила его. Нужна та большая квартира и тот большой стол из моих видений, и любящие его все вместе, нужно, чтобы лились и лились песни, много, гораздо больше, чем можно вместить, нужно, чтобы шли люди, знакомые и незнакомые, родные и чужие. Ведь и мне он был — чужой и родной. 1975–1977
32. До звезды
(Листки из дневника)
24 августа 1968 года Уезжаем из Дубны. Пролетел месяц. Нет, летел он сначала, а потом август остановился — провал — и медленно залязгали гусеницы танков. Трое суток не отходили от приемника. Вернулась память войны: «После упорных и продолжительных боев наши войска оставили…» Я тогда ненавидела черную тарелку, которая несла горе и позор. Но разве сравнить позор теперь, четверть века спустя? И я ненавижу модерный полированный ящик с длинной стальнойиглой, который несет позор. Перед нашим отъездом Александр Галич прочитал окончательный вариант «Петербургского романса» — песни, над которой он работал в то лето. Подарил нам. Еду в электричке Дубна — Москва, звучат строфы, надсадно сверлит вопрос:И все так же, не проще
Век наш пробует нас —
Хочешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?
25 августа Месяц тому назад мы получили письмо от Александра Исаевича с приглашением к нему на дачу в Борзовку. Отчасти из-за этого торопились в Москву. Приглашение доброе и деловое, вполне в его характере: расписание поездов по Киевской дороге, в какой надо сесть вагон, где они будут нас ждать с машиной: «…только так будет возможность показать вам с размахом наши места». Такой был до славы, таким остался и теперь. Встретили, повез нас сначала к Дмитрию Михайловичу Панину, их садовый участок — домик он построил сам — оказался в двенадцати километрах от солженицынского, и этот путь Митя ежедневно совершает бегом. Впервые я увидела Евгению Михайловну Панину — милая, мирная, очень русская. Совсем они разные люди. Нас принимают как «высоких гостей». Солженицын по дороге: «Такой день, как сегодня, чтобы не писал, — для меня редкость». У Мити Лева совсем не к месту начинает читать стихи Мао Цзе Дуна. Немедленно заваривается тот же нескончаемый спор, словно они еще на шарашке: когда началось? В 1902 году? Лев вяло отбивается. Оказывается, пришло письмо из Рязани: заведующий отделом пропаганды обкома партии хотел бы встретиться, поговорить с Солженицыным. — Пойдешь? — спрашивает Лев. — Зачем? Вокруг сказочный лес. На фоне хибарки Паниных двухэтажный скромный домик Солженицыных и впрямь дворец. Обходим огород, цветник. Среди прочего нам показывают и нехитрую сигнализацию для друзей: как положен ковш, «все в порядке», или «не входить», или «обыск». Лев: «Русская литература вернулась в поместный период». По дороге Наталья Алексеевна фотографирует их втроем — герои романа «В круге первом» — Нержин, Рубин, Сологдин двадцать лет спустя. Потом нас всех у машины. Хозяева с гордостью показывают свои владения. Время от времени — Чехословакия. У них все записано на магнитофон, все за эти ч_е_т_ы_р_е дня, т_о_л_ь_к_о ч_е_т_ы_р_е, у_ж_е ч_е_т_ы_р_е. Мы слушаем. Рассказываем им про Дубну, он сердито прерывает — совсем разочаровался в академиках. Говорим о Чехословакии. Под включенный магнитофон. Но вскоре оказалось — что-то включено неправильно и сорок минут мы «просто» проболтали. Огорчается, сердится совсем по-детски. Долго не может забыть Наташин промах. Главный мотив — позор соучастия, позор нашего рабства. — Надо, чтобы нашелся новый Герцен, который сказал бы громко: «Сегодня стыдно быть советским». Мужчины принимаются азартно спорить, давно я не ощущала так наглядно их связанность, давнюю, корневую. Слава Богу, что после размолвки сохранился общими усилиями дурной мир. А сейчас кажется — не такой уж и дурной. …Надо что-то делать. Эта фраза висит в воздухе. Я говорю Сане, когда мы на минутку остаемся наедине: «Вы не имеете права, у вас другой долг. Левка не перенесет новой тюрьмы». Он обрывает меня сурово: «Сейчас нельзя об этом думать, о последствиях. Но что делать — ума не приложу. Одно ясно — письмами правительству не поможешь». В Дубне нам представлялось, что произошел поджог рейхстага и дальше коричневые колонны будут по накатанному пути делать свое страшное дело. Но нет. Ведь мы — в доме, куда должна была бы упасть одна из первых бомб. А здесь — спокойно. Все как прежде. И этот маленький домик, и ручей, и роща березовая — все живет своей непотревоженной жизнью. Только радио вносит Прагу, и она откликается в нас. Что делать? — Мне — возвращать ордена. За обедом подробно обсуждаем меморандум А. Сахарова. Читаем главу нового (и первого) варианта романа «В круге первом» — как Клара гуляет с Иннокентием вблизи Нары. Вот здесь, где мы сейчас. Потом автор читает главы о Сталине. Говорит за Сталина с грузинским акцентом, по-актерски. Слышу личную ненависть. И удовлетворение художника. Главы эти я с первого раза невзлюбила, но голос автора обладает магнетической силой. Читает предисловие. На обратном пути в машине: «Я еще похулиганничаю. Через год-полтора». Возвращаемся поздно.
26 августа Около двенадцати часов дня к нам врывается Майка. — Вчера на Красной площади была демонстрация протеста против вторжения в Чехословакию. Всех забрали. — Сколько участников? — Семь. — Нет!!! Это я закричала, а она мне тоже крикнула «не надо!», но я уже плакала, и весь дальнейший рассказ слушала сквозь слезы. — Пять минут. Может быть, десять. Сели на Лобном месте. Развернули плакаты. Всех схватили, затолкали в машины. И меня, хотя я с ними не сидела. Били. Не только милиционеры, какие-то из публики тоже помогали. Отвезли в пятидесятое отделение на Пушкинскую улицу. После допроса кагебешники поехали к нам в Медведково, был долгий обыск. Много чего забрали. — Поешь. — Да что ты, папочка, я бегу, мне к родителям Лары надо. А Наташка Горбаневская пришла на площадь с коляской. — Ненормальная. — Папочка, ты не понимаешь. Они все — замечательные люди. Петр Якир не дошел до площади, его забрали в милицию. — Странно… — Папа, не смей так говорить! А эти мерзавцы в милиции, — ну я им дала! Я им все сказала, что я о них думаю. А они даже уговаривали: «Ну зачем вы, ребята, разве что изменишь…» Семь. Кроме Павла никого не знаю, еще видела мельком Ларису Даниэль. Семь. Декабристы вывели полки.
Хочешь выйти на площадь?
Можешь выйти на площадь?
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?
Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Его послал Бог Гнева и Печали
Царям земли напомнить о Христе.
11 октября 1968 г. «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической республики… Подсудимые Богораз-Брухман, Литвинов, Бабицкий, Делоне и Дремлюга, будучи не согласны с политикой советского правительства, решили организовать сборище на Красной площади с целью пропаганды своих клеветнических измышлений. Для придания широкой гласности своим замыслам они заранее изготовили плакаты с текстами: „Долой оккупантов!“, „Руки прочь от ЧССР!“, „Свобода Дубчеку!“, „За нашу и вашу свободу!“ и другие, являющиеся заведомо ложными измышлениями, порочащими советский государственный и общественный строй. …Литвинова Павла Михайловича по ст. 1901 УК РСФСР… подвергнуть ссылке сроком на пять лет…»
20 мая 1970 г. Аэродром в Чите. Тяжелый мешок с продуктами собрали в Новосибирске. Я еще вся — там, там я читала специальный курс лекций, посвященный американской литературе. Была в своей стихии. Радовалась любимой работе. Лечу в Усугли, где Павел и Майка в ссылке. Их должен был навестить их приятель Юлиус Телесин, но неожиданно уехал в Израиль. Надо привезти на лето старшего внука Диму. Самолет похож на швейную машину «Зингер» из моего детства. Вылезаю, мешок выбрасывают вслед за мной. Никакого аэродрома, просто рыжеватое поле. Кто-то машет руками, бежит ко мне, это Павел. Обнимаемся. На его мотоцикле, я сзади, семь километров, и мы у них дома. Майка с ребенком на руках. Двое хмельных суток, я записываю опять в Чите, Дима спрашивает: «Что ты пишешь?» Что я пишу? Разве можно написать весенние сопки, разве мне это под силу? Цветущий багульник, волю, которая в десяти минутах ходьбы от их дома? Оказывается, он мне близок, Павел Литвинов, не должность такая руководящая, номенклатурная, в демократическом движении, чей портрет я видела в сотнях иностранных газет и журналов, а этот, постриженный, подурневший парень в потрепанном ватнике. Майка счастлива. Я вижу нашу Майку счастливой, чего еще надо? Павел — теперь он мне Павлик, Пашка — в мире со своей совестью. Сделал то, что считал нужным. Потом были арест, тюрьма, суд, этап. Но вот он в ссылке, а не в лагере. Работает слесарем-электриком на руднике. К нему очень хорошо относятся. Любимая женщина. Ребенок. Как он нежно склоняется над этим комочком и требует, чтобы я без устали подтверждала: — Да, Ларка красавица. Глажу красавицыны пеленки. Что-то едим. Без конца говорим, рассказываю, спрашиваю. Они и впрямь мне рады. На удивление единодушны. И втроем, и на следующий день, когда Павел ушел на работу, а мы остались с Майкой наедине. Давно не было так хорошо на душе. Советская ссылка — лучшая в мире! За двое суток — ни задоринки, ни минуты обиды, неловкости. Полностью исчезло то ощущение, с каким летела к ним: «Зачем ты нужна?» Нужна, потому что там все обостряется, и оторванность от Москвы, трезво говоря — в обычной жизни не была и не буду так нужна. И что, может быть, самое главное и самое неожиданное, нужна я. Тоже не по номенклатуре, а лично. Такая, как есть. Не героиня, не самосожженка. Может быть, они меня чуть выдумали, как я выдумала их. Посреди неубранной избы — английская ванночка. Как это разумно, что ванночка прикрыта клеенчатой подстилкой, на которой лежит ребенок, обе руки у матери свободны, можно купать без помощи. И как все бесконечно трудно — дрова, печь, колодец, уборная во дворе. Майка не ноет, молодец. Совсем иные заботы и беды у нее. Павел отвез Майю кормить Ларку, я ждала самолета, разговорилась с двумя местными женщинами. Летят в Читу, очень ругают Москву: «В прошлом году поехали в отпуск, везде полно народу, ни в гостиницу не устроишься, ни в ресторане не поешь, на выставке и то сплошная толкотня». Узнав, что я из Москвы, одна из них говорит с сочувствием ко мне: — Ну что ты, Люда, везде жить можно, даже и в Москве… Павлик успевает к отлету, подсаживает нас с Димкой в кабину, и я вдруг реально ощущаю — я могу лететь в Москву, а он не может. Уж он бы смирился с давкой. Несвобода. Неволя. Пусть и лучшая, чем ожидали, но все-таки — неволя. Ребята уговаривали меня побыть еще, но маме 23-го восемьдесят лет. Дом их меньше, чем казалось по фотографиям. Димка лучше, чем ожидали. У нас опять мешки, теперь — Димкины вещи. Куда ушли эти двое суток? Перетекли друг в друга? Пока что — донести, не расплескать, до Москвы, до Левы.
8 октября 1972 г. Опять аэродром в Чите. Опять рейс на Усугли, но теперь — вдвоем с Левой. Летим из Владивостока, где мы оба читали лекции. За прошедшие два с половиной года — Майкина болезнь, ее приезд с Ларочкой в Москву, и мы все отдаляемся, километров между нами становится не шесть тысяч, а шестьдесят, шестьсот тысяч… И опять вопрос — зачем мы летим? На телеграмму из Владивостока ответа не получили. На поле стоит спортивный мотоцикл, но чужой. Нас не встретили. Лева звонит по телефону на почту. Отвечают: «Павел Михайлович был вчера, телеграмму вашу получил только вечером. Они вас ждут, вы не обижайтесь, ведь у нас глушь». Подъезжают на мотоцикле, обнимаемся, тычемся друг в друга. У нас опять считанное время, те же двое суток, точнее — пятьдесят шесть часов. Почему-то первый час — в автобусе — посвящаем нелепому спору на тему, должны ли были Алик Гинзбург, вернувшийся из лагеря, и его жена Арина жить в Тарусе у Оттенов и хорошо ли им там было… Но дальше все разворачивается по законам сказки. Когда Майка отстаивает какую-то дату в истории России, конец татарского ига… — Пятнадцатый век. — Нет, папочка, четырнадцатый. — Нет, пятнадцатый. Павел строго: «Майка, не смей противоречить моему тестю». Смех, примиряющее молчание. В радости сближения купаемся. Окунаемся, удивленно отряхиваемся, опять туда же. На секунду вдруг предчувствую: Москва, быт, разногласия, ссоры. — отгоняю от себя. В доме после ремонта расположение комнат-клетушек другое. Нам отвели единственную тахту. Правда, наше желание хоть поздно, но все же лечь спать, рассматривают как наглость. Лева как улыбнулся на аэродроме широкой своей копелевской улыбкой, так она двое суток и не сходила с лица.
…Впрочем, разговор
Был славный.
Говорили о Ликурге,
И о Салоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе, и о Данте,
И о движенья князя Ипсиланти.
2 декабря 1972 г. Большая литвиновская квартира на Фрунзенской набережной с трудом вмещает это количество людей — сорок, кажется. Праздник, ритуал, закрепленная радость. Многолюдье, накрытый стол, вкусная еда, много выпивки, музыка. Возвращение героя. Возвращение героев. Они случайно сели на тахте за накрытым столом точно так же, как сидели на Лобном месте — Наталья Горбаневская, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Павел Литвинов. Трое отсутствуют: Лариса — теперь вышла замуж за Анатолия Марченко — в больнице, Файнберг — в психушке, Дремлюга — в лагере второй срок. Четверо здесь. Встретились, обнялись. Они это сделали. Они вынесли наказание. Теперь они на свободе, они вместе, и они еще молодые. Захлестывает общая радость, и я стараюсь заглушить дурные предчувствия. Алик Гинзбург и Павел в последний раз виделись 21 января 1967 года, когда Алика арестовали. И началась общественная жизнь Павла Литвинова. Он открыто говорил о вызовах на Лубянку, во время суда над Гинзбургом — Галансковым вместе с Ларисой передал иностранным корреспондентам обращение к мировой общественности, и в августе — Красная площадь. Павел и Алик дотрагиваются друг до друга, будто проверяют, на самом ли деле или мерещится, как мерещилось все эти долгие годы. Нет, на самом деле. Белая рубашка Павла, он опять очень хорош. Им поет Галич. Им, про них. Когда он запел «Балладу о вечном огне»:
А еще — над Окою, над Камой, над Обью,
Ни венков, ни знамен не положат к надгробью!
Лишь как вечный огонь, как нетленная слава —
Штабеля, штабеля, штабеля лесосплава!..—
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, лучше посох и сума.
Но храм Покрова за моею спиною крыла распускает.
Тело Джона Брауна
Гниет в земле сырой,
А дух Джона Брауна
Ведет полки на бой.
33. После смерти
Осень 1965 года. Абрам Александрович Белкин сидел у нас в комнате и читал мои только написанные воспоминания о Фриде Вигдоровой. Поднял голову: — А обо мне вы напишете? Я промолчала. — Понимаю. После смерти, да?* * *
В ночь под Новый, пятьдесят седьмой год я впервые вошла в квартиру Белкина. Было много гостей. Мы веселились в первой комнате, а во вторую входить было неловко — музей. Прошло шесть лет со дня смерти его жены Нины Петровны, но все вещи лежали как при ней, по стенам и на столе — ее снимки. …Есть люди, в дружбу с которыми входишь сразу, легко. А есть иные, дружбе с ними надо учиться, как надо учиться читать непривычные книги. Абрам Александрович при жадном интересе к людям был человеком строго избирательным, в душу свою пускал с трудом. Он был старым другом Льва, но мои с ним отношения строились медленно, нам обоим надо было преодолевать некое сопротивление. Сравнительно скоро он стал для меня просто «Боба». Взрослого человека странно так называть, имя звенело по-детски и чуть смешно. Он был небольшого роста, некрасив, но это забывалось сразу же, в первые минуты знакомства. Такое он излучал обаяние, так сразу покорял. На вечере, посвященном его памяти, актер Монюков точно назвал белкинскую доброту «яростной», а ум — «аккумулятором мыслей, чувств, которые жили не только в нем и для него, эти заряды заражали и заряжали». Он был привержен затейливым, старомодным ритуалам. Как-то мы ехали к нему, Лев остановился у цветочницы. — Цветы мужчине? — это я удивляюсь. И научилась приносить цветы мужчине безо всякого внешнего повода. Очень любил красивые вещи, изящные безделушки, подарки. Он все меньше выносил многолюдье, почти перестал ходить в наш шумный дом, к себе же звал настойчиво. У себя он подбирал людей, как японцы подбирают букеты. Не должно быть никого случайного. Важно еще, чтобы собравшиеся подходили друг к другу. Каждый раз спрашивал: «В каких вы отношениях с Оксманом? Белинковым? С Заманским? С Шитовой? Синявским?» «…чтой-то вы все нежнее и любовнее мне пишете, а видимся все реже и случайнее, незначительнее. Надо бы поговорить об этом» (21.11.1965). Я сознавала и тогда, что мы видимся с людьми, гораздо менее внутренне необходимыми нам, чем Белкин, и которым мы нужны гораздо меньше. Видимся только потому, что те настойчивее, что приходят без звонка, что ближе живут или требовательно зовут нас к себе. Да мало ли еще почему… Самой страстной любовью его жизни была русская литература XIX века. На уже упомянутом вечере В. Заманский говорил: «Удивительно родственно чувствовал он себя в русской литературе», и В. Виленкин: «Мне казалось, что ему неудобно, но он несет русский девятнадцатый век на своих плечах ранящими краями». Он рассказывал небольшому кругу друзей свои новые работы, новые прочтения чеховского «Дома с мезонином» и «Студента», пушкинского «Моцарта и Сальери», «Легенды о Великом Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых». Такое чтение — не просто прийти в гости. Он приглашал заранее. К такому-то часу. Опоздать — было смертным грехом. Никакой обычной болтовни, сразу к главному. Замечания мы записывали по ходу чтения, потом обсуждали. Подчас резко спорили. Вскоре Белкины <он женился вторично) купили магнитофон, и каждое чтение записывалось. При несовременности хозяина дома магнитофон сначала казался чужим, а как мы потом благословляли возможность слушать его голос. Чтение его работ все в большей степени превращалось в ритуал. И этому я вначале внутренне сопротивлялась. Пока не поняла: в этом не было ничего суетного. Он очень серьезно, едва ли не благоговейно относился к тому, о чем писал: Пушкин, Достоевский, Чехов. Серьезно относился и к работе исследователя, критика. Познакомившись с ним, я узнала, что во время кампании против «космополитов» (1949–1951) Белкина травили на собрании, потом выгнали из университета. В травле участвовали и некоторые студенты.
С семьей Е. Эткинда в Версале под Парижем. Апрель 1981 года
Думаю, что в его пристрастии к торжеству сказался и этот горький опыт: его гордость, долго попиравшаяся. Человека топтали, а он не дал себя растоптать, не дал себя унизить, сохранил душу. И вот теперь он говорил, распрямившись, освободившись, вернее — освобождаясь на наших глазах, сейчас, здесь, в этой комнате. Ему нужно было не только снова и снова утверждать свое, особое прочтение классики, нужна была не только нравственная победа над темными силами. Белкину нужно было еще решить интеллектуальную задачу. Ему надо было докопаться до сути, понять: почему талантливый студент X. тогда так себя вел (впоследствии они подружились, бывший студент стал автором многих хороших книг). И задача относилась вовсе не к одному человеку — едва ли не ко всем нам. Решить эту задачу надо было вовсе не только потому, что сам Белкин в прошлом был гонимым. Но и потому, что в нем жила постоянная потребность ощутить и выразить парадоксальные переплетения добра и зла на глубинах души человеческой. Его тяготение к Достоевскому отнюдь не случайно. Выгнанного из университета Белкина вскоре взяли на работу в Энциклопедию и в школу МХАТ. И там, и там он оставался до смерти. Сентябрь 1965 года. Слушаю его лекцию в школе МХАТ. Он приводит слова Достоевского о различии между честностью (верность своим убеждениям) и нравственностью (верность самих убеждений). — Тридцать лет тому назад я был убежден, что Сталин ведет нас к гармонии. И вел себя в соответствии с этими убеждениями. Был ли я нравственен? Как вы считаете? Многоголосый студенческий хор отвечает — да. — Нет, не был. Ибо мои убеждения были неверны, а я не проверял их. Белкин не прятался за «обстоятельствами». Он требовал ответа и ответственности прежде всего от себя. С 1957 до 1970 года — время нашей дружбы — было и для Белкина годами крутой внутренней ломки. Процесс этот у него, как и у многих из нас, проходил болезненно. С прежними верованиями он расставался трудно. Боялся поддаться либеральной моде, тогда еще вполне безопасной и весьма распространенной. Боялся остаться в пустоте. Не хотел перечеркивать прожитую жизнь. Но свойственная ему интеллектуальная честность, но стремление к истине не оставляли пути назад. Он не мог перестать знать, не мог и не хотел делать вид, что все обстоит как прежде. Испытанное Белкиным глубокое душевное потрясение сказывалось в каждой прочитанной лекции, в каждой написанной строке. Для него, как и для многих других, это потрясение олицетворялось прежде всего в личности и творчестве Александра Солженицына. Белкин много о нем думал, расспрашивал, говорил. Оказалось, что и Солженицын помнил, как перед войной сдавал Белкину экзамен по русской литературе XIX века. На переданное ему от Абрама Александровича письмо ответил не просто вежливо — ласково. Но увидеться им не пришлось. Особенно заинтересовали Солженицына занятия Белкина народными рассказами Толстого. Он в этой связи писал Белкину: «…как бы оторвать прозу от всех литературных условностей, сделать ее доступной не шибко грамотному человеку и в простейших предложениях, почти без прилагательных, косвенных дополнений, перечислений и вставных фраз (вроде „Кавказского пленника“) излагать очень многое в малом объеме. То есть проза, грубо говоря, антипозднебунинская». Нам Белкин писал из Щелыкова (7.8.1963. Дом Островского, сейчас — Дом творчества актеров): «Вот читаю тут Лескова. Давно его не читал для себя, да и вообще многое его не читал вовсе. Черт знает сколько еще есть прекрасного — не читанного. Так вот рассказ „Несмертельный Голован“. Я теперь после Солженицына всюду натыкаюсь на тему п_р_а_в_е_д_н_и_ч_е_с_т_в_а. Может быть, Александр Исаевич и не подозревает, что тема праведничества, возможно, важнейшая, хотя и самая не ясная на свете, и в его рассказе, и вообще в литературе, а особенно в наше время. У Лескова разговаривают автор и его бабушка об удивительном человеке Головане и любимой им женщине. — Да ведь они из-за него все счастье у себя и отняли! — Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего… — Бабушка, — воскликнул я, — ведь это удивительные люди! — Праведные, мой друг, — отвечала старушка». Белкин был постоянно окружен учениками и отвечал за судьбу каждого из них. Выпускник школы МХАТ говорил: «Абрам Александрович был для меня Учитель, слово, распространенное в средние века, и он любил, чтобы его так называли». Белкин не мог позволить себе оставить учеников в пустыне скепсиса. Не мог лицемерить. По самому устройству жизни искал истину не только для себя, искал истину, которой мог бы поделиться с учениками. И находил в книгах великих русских писателей. Он умел увлекаться людьми. Так, он увлекся Аркадием Белинковым — щедро восторгался его талантом, на короткое время сблизился, чаще яростно спорил. Но произведения классиков никогда не становились для Белкина, в отличие от Белинкова, поводом для иносказания, средством для достижения целей, находящихся вообще вне литературы. То, что писал Белкин для печати, я читала сравнительно равнодушно. Но слушала его, неизменно обогащаясь. Никакого вещания, никаких абсолютных истин. Постоянная интонация вопроса: попробуем так, а не здесь ли наиболее плодотворная дорога? Он неизменно ссылался на своих предшественников. Он приводил и доводы против себя, против зарождающихся концепций. Нередко провоцировал, озадачивал слушателей, пытался задеть их, сбить с толку, даже и повести по ложному следу, и такое бывало. Игры его не всегда были безобидными. Он подчас испытывал своеобразное удовольствие от чужих ошибок: «Ага, поймал!» В том числе и от ошибок друзей. Быть может, это и школа Энциклопедии, в той, где работал он, тщательно проверяли каждое слово, название, имя, точность библиографии. С ошибками яростно сражались, они злобно высмеивались. Но эта работа совпала и со складом личности. «Экзамены у него были страшные, — вспоминал студиец Михаил Завадский, — не столько проверкой знаний. Проверялось другое: а чего ты стоишь?» Бывал и строг, придирчив, подчас и несправедлив. Однажды на экзамен пришла девушка в сильно декольтированном платье, и он, пуританин, рассердился. Хотя она была хорошо подготовлена, он сбивал ее все новыми вопросами. …Он излагал гипотезу, всматриваясь в лица слушающих. Особенность его педагогического, лекторского обаяния рассчитана на немедленный отзвук, на сиюминутный отклик. На скрещении его догадок, открытий и реакции слушателей и рождалось новое понимание классики. Диалог входил в самую плоть его метода исследования. Новое он открывал в книгах, знакомых с детства, с юности, — в «Доме с мезонином», в «Моцарте и Сальери». Это стало возможным и потому, что он освобождал свою душу, освобождался от груза прошлого. В том числе — от психологии «винтика», так тщательно насаждавшейся. Как никто умел он ценить Пушкина или Чехова. Но в каждом разборе есть еще и личность Абрама Белкина. Его нелегкий путь, его опыт, его судьба — похожая на другие судьбы и вместе с тем — особая. Это проявлялось не в автобиографических отступлениях — их-то и почти нет, — а в самом подходе к старым книгам. Могло быть на поверхности. Как и многие, он в те годы вновь и вновь возвращался к вечному вопросу о соотношении между средствами и целями, потому так сильно звучал его разбор «Легенды о Великом Инквизиторе». Лиричность анализа могла находиться и на глубине — в незавершенной работе о Тютчеве. Тут он почти не касался общественных проблем, говорил о жизни и смерти, о трагедии и абсурде.
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Пусть бой и неравен, борьба безнадежна…
…И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе…
«Левушка! Я понимаю, что ты потом будешь огорчаться от моей критики и даже частично принимать ее. Прошу тебя — и огорчайся, и принимай — частично. Пойми — бывают ситуации, в которых определенным образом и_с_т_о_р_и_ч_е_с_к_и сложившиеся личности вроде тебя переживают следующее: т_а_л_а_н_т_л_и_в_о_с_т_ь оборачивается л_е_г_к_о_в_е_с_н_о_с_т_ь_ю, а с_и_н_т_е_т_и_ч_н_о_с_т_ь и разносторонность оборачиваются р_а_с_с_р_е_д_о_т_о_ч_е_н_н_о_с_т_ь_ю. Вот этого я в тебе не хочу. Ибо я тебя очень люблю и ревную, когда могут подумать о тебе дурно. Боба P. S. Желаю от тебя и себе истинной критики».
* * *
Десятого февраля 1968 года — день рождения Белкина. На этот раз новая работа: «Достоевский и Эйнштейн». Закончился судебный процесс над Гинзбургом и Галансковым. Лев написал письмо протеста. Прочитал это письмо за праздничным столом. Именинник был глубоко взволнован: «Я еще больше боюсь за тебя, чем обычно. И я горжусь тем, что — твой друг. Но поступить так, как ты, не могу». Белкин не хотел обращаться к правительству ни с какими петициями — ни индивидуальными, ни коллективными. Его взгляд на мир был мрачнее и скептичнее. Ну, и боялся, конечно. В письмах Льва была надежда. А у Белкина надежд не было.…И смысла нет в мольбе…
34. Предтеча
Мы пришли знакомиться с Аркадием Белинковым под вечер в апреле 1961 года в писательском Доме творчества «Малеевка». Лицо — из тех, что встречаешь не на московских улицах, а в залах Эрмитажа, на картинах итальянских мастеров. Бледность резко контрастировала с темнотой комнаты. Позже я поняла, что это бледность болезни. Ему могло быть и семьдесят и сорок лет. Он полулежал, что-то не припомню я в Малеевке кресел-качалок, но то был не стул и не кровать, нечто удлиненнопокатое. Накрыт клетчатым пледом. Почти неподвижен, только узкие черные глаза загорались, гасли, метали молнии. Двигались и руки, руки с длинными пальцами, ухоженные руки барина. Что эти руки держали лопату, кирку, жестяную миску с баландой — представить себе было трудно. Вообще Аркадия в лагере, на этапе, на нарах мне не вообразить. Зато в светские гостиные, в Башню Вячеслава Иванова, в «Бродячую собаку» — так мне кажется — он вписывался бы легко. Он вещал медленно, томно, не давая себя перебить. Рядом с ним, в его присутствии остро ощущала наше плебейство. Каким-то знаком дал понять, что утомлен, что аудиенция окончена. Знаки перевела на обычный язык его жена Наташа. Барственность поведения Аркадия могла бы выглядеть смешной. Но гораздо сильнее было — этот человек просидел двенадцать лет! И он — автор талантливой книги. Впечатление от первой встречи — не просто магнетизм таланта, но излучение сильной личности. Герцен называл это «демоническим магнетизмом». Меня поначалу Аркадий притягивал. Тогда в Малеевке он писал автобиографию для вступления в Союз писателей. Начиналась она фразами: «На мне были клетчатые штаны» и «В консерваторию вошла девушка». Попытки объяснить ему законы бюрократического жанра остались тщетными. Для критики Белинков делал то же, что для всей духовной жизни делал Солженицын: освобождал. Показывал, что можно по-иному. Мы прочитали книгу о Тынянове еще в рукописи с мыслью: вот как можно писать о литературе. Вот как нужно пытаться писать о литературе. В короткую оттепель шестидесятых годов Белинков изведал шумный успех: издание и переиздание книги о Тынянове. Триумфальный прием в Союз писателей, восторженные отзывы членов приемной комиссии. Рецензия В. Шкловского, опубликованная в «Литературной газете» на книгу о Тынянове, называлась «Талантливо!». Когда на секции критики выдвигали кандидатов на ленинские премии 1962 года, я предложила книгу Белинкова: — Мы все единодушны в том, что премией должен быть увенчан труд старейшины нашего цеха Корнея Ивановича Чуковского «Мастерство Некрасова» — итог долгих лет работы. А почему бы и не предвосхитить премией литературную биографию, когда начало столь блистательно? Сейчас, меньше десяти лет спустя, все это звучит дико: Ленинская премия Белинкову (как, впрочем, и Л_е_н_и_н_с_к_а_я премия Солженицыну за «Один день Ивана Денисовича»). Но это и была оттепель, начало освобождения, тысячи людей, вышедших за ворота лагерей и тюрем, сотни тысяч, разбивших тюрьмы в душе. И невообразимое смещение самых элементарных понятий. По советским представлениям, Белинков благоденствовал: он получил квартиру (не кооперативную!) от Союза писателей. Готовилось третье издание «Тынянова» — случай почти беспрецедентный в нашем литературоведении. Его дважды пустили за границу. Евгения Книпович, официальный критик, автор отрицательной внутренней рецензии на ахматовский «Бег времени», она же редактор книги о Тынянове, называла Аркадия и Наташу «мои дети». Мы не подружились с Аркадием, хотя надписи на двух его книгах, подаренных нам, весьма восторженные. Встречались считанное число раз. Распространяли книгу о Тынянове и свое ею восхищение. Уговаривали и уговорили приятелей в издательстве «Искусство» заключить договор на книгу об Олеше. Когда заместитель редактора издательства прочитал сто страниц, он отшатнулся — столь это было нецензурно. Я взялась наметить необходимые купюры и получить согласие Белинкова. Лев добился, чтобы автору выплатили 60 процентов — одобрение. Все еще действовала инерция оттепели, многие еще хотели поддержать, любыми способами, человека, вернувшегося из лагерей, особенно если ходатай — тоже зек. Когда я бывала рядом с Аркадием, я продолжала испытывать излучение его таланта. Захлестывала сила его возмущения. Но выдерживать этот насыщенный раствор ненависти становилось все труднее. Летом 1961 года появилась глава Твардовского о Сталине из поэмы «За далью — даль». Белинковы снимали тогда маленькую комнатку в Переделкине, у речушки Сетунь. Мы пришли туда проведать его, спустились с мостика; Аркадий заявил, что Твардовского и Кочетова надо повесить на одной осине. (Или — «они будут висеть на одной осине».) Мы заспорили. Тогда я в первый раз почувствовала, какое расстояние нас разделяет. Это ощущение сохранилось до конца. Я сначала удивилась, когда узнала, что близкие Юрия Тынянова (в частности — В. Каверин с женой Л. Н. Тыняновой) многого не приняли в книге Белинкова. Поняла я их, когда прочитала рукопись работы об Олеше. В ней нагляднее обнаружилось, что горестная, а во многом и трагическая жизнь Олеши послужила средством, строительным материалом для обличения советской интеллигенции, которую Белинков обвинял в предательстве. Фактов Белинков, как правило, не выдумывал. Олеша, как и большинство его современников, стремился «быть со всеми заодно, и заодно с правопорядком». Это очень важно вспомнить и подчеркнуть сегодня, когда снова и снова — уже не только сторонники власти, а ее непримиримые противники — пытаются, в который раз, своевольно переписать нашу историю. В лучшем своем романе «Зависть» Олеша запечатлел ощущение неполноценности, столь характерное для советского интеллигента двадцатых годов, успешно внедряемое сверху. Запечатлел в образе Кавалерова, вызывающего у кого презрение, у кого жалостливое недоумение. Перечитала «Зависть» теперь, у меня не возникли как возможные реальные прототипы ни Мандельштам, ни Булгаков. Подобные ассоциации рождались у современников. Олеша хотел идти со всеми в ногу уже после того, как сам испытал травлю, загнанность, сомнения в своем таланте. Он писал в 1936 году: «…я читаю в газете „Правда“, что опера Шостаковича есть „сумбур вместо музыки“… Это сказала „Правда“. Как же мне быть с моим отношением к Шостаковичу? У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий… Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать нравиться то, что кажется мне таким обаятельным. Например, то, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле добычи угля и стал всемирно знаменитым… или то, что ответы Сталина Рой Говарду с восторженным уважением цитирует печать всего мира…И поэтому я соглашаюсь и говорю, что и на этом отрезке искусства партия, как и во всем, права… (Читаю эти слова сегодня молодым. Они смеются. Презирают Олешу. Сейчас думаю: оправдывает ли кто сегодня подобными доводами ссылку Сахарова? Афганистан? Новую ложь? Вряд ли. — P. О.) С этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, мне она продолжает нравится. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась какой-то пренебрежительной… Эта пренебрежительность к „черни“ и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича — неясности и причуды, которые нужны только ему одному и принижают нас. Вот причуды, которые рождаются из пренебрежительности, названы в „Правде“ сумбуром и кривлянием. Мелодия есть лучшее, что может извлечь художник из мира. Я выпрашиваю у Шостаковича мелодию, он ее ломает в угоду неизвестно чему, и это меня принижает… Товарищи, читая статью „Правды“, я подумал о том, что под этими статьями подписался бы Лев Толстой…» («Литгазета», 20 марта 1936 г.). Маргарита Алигер вспоминала об этом выступлении Юрия Олеши на дискуссии о формализме. Ее только что приняли в Союз писателей. Перед ней стоял автор «Зависти». По ее воспоминаниям — да и по интонации напечатанного — спорил сам с собой. Задавал вопросы, отвергал свои первые ответы. Не тогда ли возникли истоки конформизма и у самой Алигер? Читая Белинкова, вспоминая его книгу, я все пытаюсь защитить Олешу от Белинкова. Но почему же мне меньше жаль тех многих читателей, среди них интеллигентов следующих поколений, себя тоже, которых именно тонкий, талантливый, изысканный Олеша заставил поверить, хоть частично, тому, во что уже не могли заставить поверить ни Ставский, ни Фадеев, ни даже Горький? Прочитав эссе Бориса Ямпольского в «Континенте», поняла яснее то, что чуждо у Белинкова: трагедия Олеши представлена Ямпольским именно как трагедия. В этих воспоминаниях нет прямой полемики с Белинковым; написанное им соотносится с белинковским как трагический портрет, где существуют многие, необходимо присущие большой живописи пласты с одномерным гротескным изображением. Но ведь критика — это та же литература. Только не о людях, а о книгах. Значит, в критике могут быть и гротеск, и сатира. Мне-то просто чужды Свифт и Щедрин. Я не перечитываю этих писателей, и это мой пробел, мой вывих. Факт моей читательской и человеческой биографии. Потому чужд Белинков. Когда он начал писать как критик, еще не было современной прозы, адекватной его критическому методу. Представляю себе, как он написал бы о «Зияющих высотах», какой необходимой оказалась бы ему эта книга и вообще все творчество Зиновьева. И «Чонкин» Владимира Войновича. Вероятно, — тут я не уверена, — и книга Вениамина Ерофеева «Москва — Петушки». Аркадий начал книгу об Ахматовой. Было больше сотни страниц. Но это у него не получалось. Критический эпос, критическая ода — не его жанры. Восхищаться он не умел. Его особенная сила — в ниспровержении. Не получилась и книга о Солженицыне. Он рано — не раньше ли всех диссидентов— почуял: надо не только писать книги, надо еще и создавать свой образ. То, что на Западе называется image. И в этом он свое время предвосхитил. Во время процесса Даниэля и Синявского ходили слухи, что Белинков написал самое резкое письмо протеста. Так оно вроде и должно было быть. По тому, каким он себя представлял, каким хотел бы видеть. Но письма этого никто не читал. Он сидел на обсуждении романа «Раковый корпус» (ноябрь 1966 года) с готовым, написанным выступлением. Но не послал просьбы в президиум. Не принял участия в дискуссии (его речь потом была приложена к записи, появившейся за рубежом). В этой непроизнесенной речи была фраза: «Солженицын догадался написать свои книги». Очень меня тогда поразило слово «догадался». И сам Белинков тоже догадался, но на несколько лет, на полфазы не совпал с течением времени. Выступил чуть раньше. Тогда в Доме литераторов в перерыве и состоялось знакомство Белинкова и Солженицына. (А. Белинков раньше послал ему свою книгу о Тынянове, надписав: «Великому русскому писателю Александру Солженицыну». В ответ получил необыкновенно теплое письмо.) Александру Исаевичу хотелось расспросить Белинкова об особенностях метода Дос Пассоса, этим он был тогда озабочен. Продумывались, уже писались «Узлы»… Белинков при нас излагал трижды историю о том, как его следователь прямо во время допроса звонил В. Ермилову (тот был «экспертом КГБ по литературным проблемам»), и каждый раз — в новом варианте. О годах заключения рассказывал: сначала в камере смертников. Когда смертную казнь (у него был пункт «терpop») заменили 25 годами, — тогда все время на общих работах. В 1977 году я случайно встретилась с пожилой женщиной, которая была его солагерницей. Ее воспоминания я тогда же записала: «Мы узнали, что среди новеньких — студент Московского литературного института. Как мы ждали. Ведь у нашего набора, 37-го года, сколько времени никаких вестей из книжного мира. Обступаем его — красивый, умный, речистый. Знает всех писателей по именам-отчествам. У самого Шкловского бывал дома. Каждый вечер после работы — рассказы. Мы расстарались, его оставили у нас при больничке медбратом. Читал стихи; помнил наизусть и целые куски прозы. Какой талант! Вот и вы считаете его талантом, а представьте себе, что он для нас там за колючкой значил! Вернул мне и моим товаркам целый кусок отнятой жизни. Полюбили его, как сына. Теперь ждали посылок и чтобы его подкормить. Прошла у нас с ним трещина, когда он обидел девушку, тоже зечку, медсестру. Уж если мы, пожилые, влюбились, то она ясно — с первого взгляда. Забеременела. Она ни о чем не просила, не позволяла слова худого о нем сказать („Да что вы сравниваете, кто я такая и кто Аркадий Викторович?“). Когда уже нельзя было скрывать беременность, ее переводили на другой лагпункт. Стали собирать нашу девочку. Аркадий с ней даже не разговаривает. Нас четыре подруги — две учительницы, две библиотекарши — его каждая отзывала, каждая по-своему пробовала усовестить. Уперся: „Не вмешивайтесь в личные дела“. Так и не проводил до вахты — за десять лет я такое в первый раз увидела. Уже на бегу к вахте крикнула ему: — Аркадий, вы порядочный человек, потом этого себе никогда не простите! — А у кого из нас есть „потом“? Несколько дней мы не могли его видеть. Он сидел в своей комнатушке у больницы. Но прошло время, вернулись наши литературные посиделки — очень уж трудно стало без них обходиться. Появлялись и новые девицы, и все было так же: сначала он распускал хвост, потом грубо отталкивал. Ничего необычного, разве мы в нормальной жизни, на воле, не встречаемся с таким на каждом шагу? Но в нем-то увидели человека необычного. Остались в памяти его глаза, его голос. Потом я какую книгу стихов ни открывала, слышала голос Аркадия». Я сама наблюдала несколько его «романов» — разумеется, иного, чем в лагере, свойства, но схема осталась той же: бурное начало, охлаждение, разрыв. И потоки злословия, оскорблений, а порою клевета на того, кто только что был предметом влюбленности. В «романе» с ним, видимо, нельзя было заходить дальше определенной черты. Он не прощал отступничества или того, что он принимал за отступничество. Это тоже не только индивидуальная черта. Скольких, например, разжаловала, порою за безделицу, Надежда Яковлевна Мандельштам… В феврале 67-го года мы переезжали на новую квартиру. Перед самым началом переезда он дал нам свою тысячестраничную рукопись об Олеше (она выросла в десять раз). Не взять было нельзя не только потому, что хотелось прочитать, а еще потому, что его нельзя было ранить отказом. (В чужие жизненные обстоятельства он не входил.) Но читать в заданные им темпы было почти невозможно. А выдержать этот темп при грузчиках, упаковке, зимнем устройстве — тоже невероятно трудно. Но мне приходилось бросать в новом доме рабочих и среди полного разгрома бежать к нему — отдавать очередные главы. Высказываться о прочитанном. Он бывал и нежен, и ласков, и внимателен. Интересовался другими людьми, их рукописями, бедами, болезнями. Неизменно справлялся о здоровье, давал множество медицинских советов. Он неизменно звонил нам, когда появлялись наши публикации. Но столь же неизменно мне давалось понять, сколь велика пропасть между е_г_о делами и м_а_л_ы_м_и м_о_и_м_и и людей, меня окружающих. Это относилось и к самым близким людям. Белинковы встречали Новый год в Переделкине у Бабенышевых. Наташа забыла в передней (где они тогда жили) на подзеркальнике рукопись Аркадия об Олеше. Сразу же спохватившись, она побежала и принесла. Сели за праздничный стол. Аркадий придвинул жене блюдечко маслин: «Ешь!» Она съела. До конца. Потом выяснилось, что она терпеть не может маслин. Это было карой за то, что забыла рукопись — за преступлениё. Я рассказала ему, что дочь Сталина Светлана осталась за границей. Томность, медлительность движений мгновенно исчезла. Аркадий загорелся, кричал, ликовал, хотел выпить, просил меня повторять несколько раз, потом и сам повторял всем входящим. Я тогда считала, что это мстительная радость: вот тебе возмездие от собственного семени. Думала, что для него бегство Светланы — предвестие, начало предсказанного и страстно ожидаемого краха системы. Но кроме всего этого, вероятно, именно тогда зародилась мысль: можно. Можно так поступить и мне, Аркадию Белинкову. И тут победила целеустремленная воля. Две главы из книги об Олеше «Поэт и толстяк» успели проскочить в журнале «Байкал» весной 68-го года (эти главы и сейчас перепечатываются из журнала на машинках, с них делаются ксерокопии). А в мае 68-го года Аркадий просил политического убежища в ФРГ. Когда Белинков уехал (именно когда уехал, до того, как умер), я ощутила, как его не хватает. Ощутила вопреки тому, что испепеляющая ненависть мне чужда. Эмоциональная основа его таланта — ненависть к большевизму. Даже не основа — сама материя, плоть этого таланта. Его книги опрокидывали. Согласна, не согласна, частично согласна (впрочем, рядом с ним «частично» не удерживалось), все равно тебя опрокидывало. Не подчиниться потоку было нелегко. Себя он рассматривал как мессию (требовал, чтобы каждый писатель был пророком) и берег себя, как драгоценный сосуд. Окружающие люди принимались или отвергались, даже зло разоблачалось в прямой зависимости от того, служили ли они ему, Аркадию Белинкову, служили ли они его миссии на земле. Известие о том, что Аркадий за границей, вызвало у всех знавших его одну мысль: «Колокол». Русская вольная печать. Он сам был убежден в том, что теперь-то за ним, пророком, пойдут тысячи, сотни тысяч, а то и миллионы. За его правдой и силой его слова. На родине его сначала гноили в лагере, едва не убили, а потом затыкали рот. Но уж на свободном Западе все изменится. А там его ждало равнодушие — или то, что он принял за равнодушие. У людей, с которыми он столкнулся, оказались свои заботы, свои враги, свои цели. Задолго до Солженицына Белинков уже проклинал западных либералов за то, что они готовят новый «Мюнхен». Не понимая — и не пытаясь понять (он не знал иностранных языков и не учил) то, что происходит на Западе, Белинков с тем же аввакумовским пылом проклял западную интеллигенцию за сотрудничество с Советами. Он предложил исключить из Пен-клуба Лилиан Хеллман и Жана Поля Сартра (никогда не бывшего членом Пен-клуба), Вильяма Стайрона и Альберта Мальца. А вместо них принять в Пен-клуб А. Гинзбурга и Ю. Галанскова. И конечно же, Солженицына. Это открытое письмо Пен-клубам распространялось в самиздате, среди многих наших интеллигентов пользовалось и пользуется большим успехом. В письме перечислены иностранные писатели, которые бывали у нас и не призывали к бойкоту СССР. И прежде всего те, — Хеллман, Стайрон, — кто осудил Анатолия Кузнецова. Хотя они оба очень ясно и, на мой взгляд, верно написали, что осуждают Кузнецова за ту цену, которую он заплатил, отказавшись от советского гражданства, то есть за донос; но Белинков увидел в их письмах и другое — мысль о том, что самые смелые люди сражаются со злом у себя дома. В статье Хеллман эти люди были перечислены — Солженицын, Григоренко, Литвинов, Лариса Богораз… И стало быть, получалось, что он, Аркадий Белинков, не среди них. Вынести этого Аркадий не мог. И ответил ударом — вы считаете вслед за Камю, что одному из зачумленного города уезжать нехорошо, так ведь еще хуже в зачумленный город ездить с визитами. Мне же представляется, что, например, поездки к нам Генриха Бёлля ничуть не пятнают его. Много раз говорила, снова повторяю: — У вас родные и друзья в лагере. Надо им передать еду, лекарства, да и просто обнять их, дать почувствовать, что они не одни. Для того чтобы проникнуть в лагерь, надо войти в отношения с начальником лагеря, написать ему заявление, а то и просьбу. Как должен поступить честный человек — хранить незапятнанные ризы или пытаться облегчить участь других? Для меня ответ однозначен. Для Белинкова тоже однозначен, но прямо противоположен. После смерти Аркадия его вдова Наталья Белинкова выпустила сборник «Новый колокол». Лучшая статья там, по-моему, Раисы Лерт «О прелестях кнута» — против похвал царствованию Николая I в журнале «Молодая гвардия». Был там и белинковский очерк из неопубликованного при жизни, о том, как они бежали с родины. По жанру это вовсе не рассказ, с естественно неограниченным правом писателя на вымысел. Это документальный очерк (якобы), где автор однако, отбрасывает реальность (поездка от Союза писателей по приглашению в Венгрию и Югославию, а оттуда в ФРГ, просьба о политическом убежище, полет в США). Вместо этого читателям предлагается романтическая липа со следами занятий автора двадцатыми годами: нелегальный переход границы в Эстонии. Причем помогали ему и ей в этом не вымышленные, а реальные, оставшиеся в СССР люди, «вычислить» их имена не представляло ни малейшего труда. Эмиграцию, отъезды подчас называют бегством. Так вот, у него не может быть как у всех. И если уж бегство, так бегство по первоначальному этимологическому смыслу слова. Белинков считал, что до 45-го года в мире существовало два фашизма. После разгрома гитлеризма остался один. И все люди доброй воли на земле обязаны объединиться в борьбе против него. Те, кто так не поступают, подлецы. Те, кто позволяют себе заниматься чем-то иным — протестовать против войны во Вьетнаме, против расизма в ЮАР, против убийств в Пакистане, те, кто недовольны своим — американским, английским, французским — правительством, дураки или негодяи. Скорее — негодяи. В США Белинков стал профессором Йельского университета, побывал в Европе, читал лекции, давал интервью. Но того, чего он ждал, на что надеялся, он на Западе не получил. Некоторые его слушатели были разочарованы лекциями о советской литературе. «Мы пришли слушать о литературе 20-х годов, а лектор разоблачал советскую власть». Слушатели либо сами знали пороки советской власти, либо это им было совершенно неинтересно. Порою выявлялось и недостаточное знание предмета, он не мог ответить или отвечал неверно на простейшие библиографические вопросы. Элитарен ли его талант? Не думаю. Книгу о Тынянове прочитало много людей. Не просто читали, испытывали воздействие. И не трудно обнаружить «следы» Белинкова — чтения, усвоения, даже и полемического — у В. Непомнящего, у А. и М. Чудаковых, у Б. Сарнова, у В. Лакшина, у И. Соловьевой, у критиков высокоталантливых. Его недостатки бросаются в глаза, обнаружить их легко. Вот он, тонкий человек, очень плоско понял пушкинское стихотворение из Пиндемонте: «Когда прекрасна „тайная свобода“? Из этого стихотворения становится совершенно ясным — тогда, когда нет явной». Богатство пушкинской оркестровки, многозначность, реальная необходимость для Пушкина именно той внутренней свободы, тех прав, о которых он пишет, — все это осталось за пределами белинковского определения, ибо не влезало в его политическую концепцию. Оказалось, что в книге о Тынянове есть и много фактических ошибок; ведь для Белинкова если что не подходит под его вывод — «тем хуже для фактов». Лидия Чуковская полагала, что у Белинкова нет художественного слуха, что он вообще не должен был бы заниматься художественной литературой, а лишь политической публицистикой. Не думаю.Цокали копыта в полицейском государстве.
Цыкала цензура на господ поэтов.
* * *
Аркадий Белинков принадлежал к числу тех людей, среди которых проходила новая для меня и для моей страны эпоха. Начавшаяся в 1953–1956 годах. Первое ощущение, испытанное мною задолго до встречи, чувство вины: он т_а_м был, а я нет. Хуже: я не знала, что он там же, где еще миллионы моих соотечественников. Это чувство вины я испытала не к нему первому, не к нему единственному. Но именно в случае Белинкова мне легче это ощущение выделить, ибо оно не сопровождалось любовью. Новая эпоха проходила среди людей, которые знали все или почти все гораздо раньше меня. К ним принадлежал Белинков. И это возвышало их в моих глазах. У них, в их опыте я искала и до поры до времени находила нравственные опоры. У них училась. Надеюсь, что кое-чему и научилась. Изменялись мои взгляды, но я-то сама оставалась прежней. Свойственное и прежде культовое сознание, стремление возвеличивать других осталось. Изменились его «предметы». В начале оттепели, и общей, и моей личной, я разделяла взгляды моих новых кумиров: чем резче мы оттолкнемся от прошлого, чем сильнее, тем спасительнее и для страны в целом, и для каждого человека. Сейчас мне все представляется сложнее. Любые претензии на монопольное владение истиной тоже, пусть и по-иному, искажают картину мира. Потому, должно быть, все неотвязнее звучит и сегодня живая строка старого гимна:Ни Бог, ни царь и ни герой…
Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…

С дочерью Машей и внучкой Мариной в Комарове под Ленинградом, 1979 год
35. Вместо эпилога
Я прожила несколько эпох. Мое детство было розовым. Любящие родители, няня, отдельная комната и отсвет красных знамен. Мамина улыбка, обращенная к нам, ее детям, и ко всем людям, входящим в наш дом, сливалась со стихами Пушкина, с романами Диккенса, с детским Богом, с мировой революцией. Так возникало неопределенное, но и важнейшее понятие — добро. Я любила, и меня любили — так, во всяком случае, мне казалось. Детство длилось долго, унесенное оттуда чувство согласия с миром, доверия к нему, что бы ни препятствовало, длится и доныне. Им была пронизана юность со счастливой первой любовью. На цоколе пушкинского памятника, возле которого я играла в детстве, высечены слова: «…И милость к падшим призывал». В новой эпохе, в которую входила страна, эти слова становились анахронизмом. Моя родина превращалась в великую державу. Никакого порога я не почувствовала, хотя мироощущение перечеркивалось едва ли не во всем. Я хотела быть как другие. Отдельного «я» не ощущала в юности, разве что как силу враждебную, отзвуки «гнилой интеллигентности». Это было время приспособления к миру внешнему и подавления мира внутреннего. Новой эпохе не подходили старые лозунги: «С Интернационалом воспрянет род людской…», «Все трудящиеся — братья!». Начали действовать другие заклинания: «Кто не с нами, тот против нас», «Если враг не сдается — его уничтожают». Вторая эпоха рассеклась войной. Миллионы «я» полностью растворились в «мы»: «М_ы — Советский Союз…», «м_ы — Россия…», «Н_а_ш_и войска оставили…», «Н_а_ш_и войска освободили…» Этого приобщения не стыжусь и сегодня. Послевоенные восемь лет были в моей жизни самыми позорными. Я все еще пыталась верить, принимать, приспосабливаться к тому, что происходило тогда в обществе. Продолжать жить в согласии, продолжать шагать в ногу…
Портрет работы Б. Биргера
После смерти Сталина началось пробуждение страны. Тут рубеж между эпохами, рубеж всемирно-исторический и личный, совпали точно. Этот рубеж я осознавала. Все то, что произошло в моей жизни, вплоть до сегодня, — ближайшие или более отдаленные последствия немых взрывов 1953–1956 годов. Так возникли и эти воспоминания. Снова появилось утерянное было ощущение безграничности человеческих возможностей. Шестидесятые годы были временем надежд, сближения, общения. Я жила вовсе не среди инакомыслящих, а среди единомышленников. Мы, сверстники, друзья, приятели, коллеги, кто раньше, кто позже, кто менее, кто более последовательно, но выкарабкивались, вырывались из сталинизма. Ломка была острой и болезненной, а в памяти остались дружественное согласие и подхватывающий отзвук. Я была неразрывной частью «мы». М ы обсуждали роман Дудинцева «Не хлебом единым». М ы хоронили Бориса Пастернака. Нас потрясла повесть «Один день Ивана Денисовича». М ы просили отдать нам на поруки Синявского и Даниэля… В это время, когда господствовало «мы» — не державное, но и не государственное, и уж конечно не подпольное, и пробудилось мое «я».Тогда и начала писать эту книгу. Эта эпоха тоже кончилась. Ее старение и умирание есть и мое старение, умираниечасти моей души. Я сохранила этой эпохе немодные нынче благодарность и верность. Новейшая напоминает вторую не столько вновь появившимися портретами Сталина, сколько угрожающей, тяжелой поступью державы. И тут я окончательно разошлась со своим временем. Круг наших «мы» начал сужаться после 1968 года. Те две тысячи, что заполнили 1 июня 1960 года переделкинское поле от дома Пастернака до кладбища, или те же две тысячи, что пришли в московский Дом литераторов 30 мая 1967 года праздновать 75-летие Паустовского, — где они? Одних нет, другие далече, что может собрать их сегодня? Недавние единомышленники разошлись во взглядах, разошлись порою дальше, чем от России до Америки. Проницаемы ли человеческие сердца, проницаемы ли эпохи? Может ли одна понять другую? Верно ли, что наглухо захлопывается дверь и рассказ о прошлом не доносится до детей, до внуков? Они не слышат либо слышат иначе… Если бы я так думала, то не могла бы написать ни слова. По сегодня сохранила веру: детям доступны и мечты, и заблуждения, и тщетные надежды родителей. Внуки могут разделить радости, горести, страсти дедов. 12 ноября 1980 года за мною захлопнулись герметические двери самолета, потом было отнято право вернуться на родину. Но жизнь не кончилась. В последний раз я перечитывала и правила эту рукопись в Германии. Брехт описал сад на осыпающемся откосе. Все эти годы я пыталась не дать зарасти саду, не дать заглохнуть памяти. До плодов не доживу. Могут не дожить ни дети, ни даже внуки. Может не дожить никто. Но пока мысль еще ясна, пока рука держит перо, пытаюсь рассказать, как мы жили. Москва. Жуковка. Переделкино. Комарово. Кельн 1982


Последние комментарии
5 часов 24 минут назад
5 часов 30 минут назад
5 часов 33 минут назад
5 часов 34 минут назад
5 часов 39 минут назад
5 часов 56 минут назад