
ЗИНОВИЙ ДАВЫДОВ Разоренный год историческая повесть
Страшен и тяжек был 1612 год, и народ нарек его разоренным годом. В ту пору пылали города и села, польские паны засели в Московском Кремле. И тогда поднялся русский народ. Его борьбу с интервентами возглавили князь Дмитрий Михайлович Пожарский и нижегородский староста Козьма Минин. Иноземные захватчики были изгнаны из пределов Московского государства. О том, как собирали ополчение на Руси князь Дмитрий Пожарский и его верный помощник Козьма Минин, об осаде Москвы белокаменной, приключениях двух друзей, Сеньки и Тимофея-Воробья, рассказывает эта книга.Степан Злобин
 ДУДОЧКА
ДУДОЧКА
Солнце жарило вовсю, но до Сеньки ему было не добраться. Мальчик сидел на пеньке в густой тени орешника.
Плотной стеной поднялся здесь орешник, давая тень и прохладу. На лесной полянке ярко зеленела трава-мурава, а вверху голубело небо с одним-единственным облачком.
Облачко пробиралось над лесом к речке. Но, словно заметив белоголового мальчугана внизу, облачко остановилось и стало его разглядывать.
Сеньке на вид никак не дать больше десяти лет. На нем была холщовая домотканая рубашонка и домотканые портки. А голова была не покрыта и ноги не обуты.
В руке Сенька зажал отточенный ножик, которым орудовал очень ловко. Из ореховой тростинки Сенька мастерил дудочку. Время от времени он отрывался от своего дела и оглядывал полянку, всё ли на месте.
Но все было на месте, беспокоиться было не о чем.
Все пятеро овечек, которых привел на полянку Сенька, пощипывали траву.
У Сенькиных ног дремал Жук — песик неизвестно какой породы, черный, как сажа, с хвостом, туго закрученным в крендель. А сквозь просеку в орешнике Сеньке видна была речка и за речкой — родное село Мураши, с церковкой на пригорке и кузницей на въезде.
«Тинь-тинь, — доносятся к Сеньке из кузницы удары большого молота о наковальню: — тинь-тинь».
Это Сенькин тятя, кузнец Андреян, орудует у себя в кузнице, хватая то молот и щипцы, а то мех, чтобы раздуть в горнушке огонь. Сенька даже как будто слышит: дымком попахивает — сизым дымком, что чуть заметно стелется над кузницей, стелется и тает.
«Тинь-тинь», — выбивает молотком кузнец Андреян.
«Тук-тук», — выстукивает и Сенька, обколачивая свою тростинку черенком ножа.
И вот она уже готова — выдолбленная тростинка, ореховая дудочка с дырочками для переборов на разные лады, с косым срезом на одном конце, куда дуть и играть.
Сенька подул, пальцами перебрал…
«Тур-лир-ли», — заговорила дудочка.
— Работает! — обрадовался Сенька. — А ну как еще!
«Тур-лир-ли, тур-лир-ли», — повторила дудочка.
Сенька рассмеялся. Жук щелкнул зубами. Овечки перестали щипать траву. А облачко у Сеньки над головой словно ждало, что будет дальше.
Мальчик снова поднес дудочку к губам, разложил пальцы по просверленным вдоль ствола дырочкам и уже заиграл по-настоящему.
Турли, турли, ай, ду-ду,
Я играю во дуду
Во зеленом во саду, —
Зацветает яблонька.
Меня любит мамонька.
Турли, турли…
ВСАДНИКИ НА ДОРОГЕ
Еще Сенька не выбрался из орешника, когда услышал голоса на дороге, что вилась к броду. И Сенька разглядел сквозь листву всадников на рослых конях. Всадники были усаты и безбороды. Одеты они были в цветное платье. Кривые сабли были у них прицеплены к поясам, а длинные хохлы выбивались из-под заломленных шапок, сдвинутых набекрень. Перекликались всадники как-то странно. Ни людей таких Сенька никогда раньше не видывал, ни речи такой доселе не слыхал. «Поляки, — догадался Сенька. — Шляхтой называются. А то еще панами их кличут. Это вроде как у нас господа, помещики… Эвон какие!» И вспомнил Сенька отцовский приказ: «Как заметишь в лесу ли, на дороге, где ни придется, незнакомых людей, оружных, в цветном платье, — хоронись, Сенька, в кустах; а то и вовсе уходи прочь, загоняй овечек в овраг и жди, пока пронесет». Вспомнив это, Сенька тут же забежал вперед и сбил своих овечек в кучку. Жука он ухватил за холку и прижал к земле. А сам присел на корточки, чуть раздвинул кусты и уже не спускал глаз с панов, которые тем временем успели добраться до речки.
Оставаясь в седле, всадники один за другим въезжали в воду, которая была коням чуть повыше брюха. Кони фыркали и дергали головами, осторожно нащупывая копытами дно. Всадники задирали ноги, чтобы не дать воде просочиться к ним за голенища сапог. Выбравшись на берег, они зашумели, загуторили и толпой двинулись прямехонько к кузнице. Там, покинув свою работу, стоял в дверях, с засученными рукавами и в кожаном фартуке, кузнец Андреян. У кузницы всадники спешились. Голосов их Сенька, сидя в кустах, уже не слышал. Тятин голос тоже к Сеньке не доносился. Видно было только, как Андреян размахивал руками и как выхватил один хохлатый саблю из ножен и завертел ею у кузнеца над головой. У Сеньки захолонуло сердце. Он уже хотел бросить все и бежать домой, но тут услышал, как в кузнице снова заработал молот: заработал-заработал, яростно обрушился на наковальню — «тинь-тинь-тинь-тинь-тинь…» Ретивый хохлач упрятал свою саблю обратно в ножны. Всадники вились вокруг кузницы на своих горячих конях. Двое из них пустились вскачь по улице. За ними следом поскакали еще двое. По всему селу пошла суматоха. Тут уж до Сеньки стало доноситься все: лаяли собаки, мычали коровы, кудахтали куры, визжали поросята. Народ выбегал из дворов на улицу. Раздался выстрел. По улице промчался поляк. В руках у него еще дымился самопал. Сенька вскочил, ткнулся в одну сторону, в другую, не зная, за что приняться: гнать ли по тятиному наказу овец в овраг или бежать домой, на село, где, видимо, разразилась какая-то беда. А Жук метался и лаял — хорошо, что поляков не было близко! Думать долго Сеньке не пришлось. Удары молота о наковальню вдруг прекратились, и Андреян выскочил из кузницы. Он побежал вдоль плетня, потом перекинулся через плетень… А за Андреяном бросился поляк, и опять с обнаженной саблей. Из окраинной избы, где жила бобылка Настасея, повалил дым. Сенька, себя не помня, оставил овец в орешнике и помчался к речке. Жук понесся за ним стрелой.
РАССКАЗ РОДИОНА МОСЕЕВА
Все это случилось в ясный день конца лета, в 1610 году. За неделю до того проезжал через Мураши нижегородский служилый человек, вестник нижегородский Родион Мосеев. И пока Андреян перековывал ему коня, Родион рассказал кузнецу о великой беде, что навалилась в ту пору на Московское государство и терзала, терзала русский народ. — Уже тому много лет, — сказал Родион Мосеев, — как задумали польские короли и шляхта польская завоевать нашу землю и закабалить русских людей. Это, значит, так, чтобы польская шляхта пановала у нас в Москве и Нижнем Новгороде, на Волге, на Каме, по всему великому царству нашему. Панам, значит, власть и русская казна, им бы — угодья и поместья, им — покой и прохлада, а мы бы, русские люди, работали с зари и до зари, сеяли и жали и всё бы сносили пану в сусек. Панам — изобилие во всем, а нам — голод и во всем недостача. Панам и панеям — красные сапожки, а мы — босиком. Панам — хвала и честь, а русскому человеку на своей земле — стыд и поношение. Разлакомилась, размечталась польская шляхта, стали ей сниться долгими ночами сладкие сны о привольной жизни за русским горбом. Да вот сны-то долги, а руки коротки. Как такими руками захватить великое русское царство? Но отцаревал на Руси великий Иван Грозный, а за этим кончился век другого царя — Бориса Годунова. Настала неурядица в царстве нашем. Пришла смутная пора. А шляхте только того и надо! Стакнулся польский король с русскими изменниками и подсунул нам теперь в цари сынка своего, Владислава. Да не захотели русские люди, чтобы царем над ними был чужеземец и владела русской землей польская шляхта. Но гляди ты — не отступается польский король! «Подайте, — кричит, — мужики русские, сынку моему Владиславу шапку Мономахову, ту, которою в Московском Кремле венчаются на царство русские цари! А не дадите своею волею, так я вас, — кричит, — курицыны дети, приневолю!» И наслал на русскую землю поляков, и литовцев, и немцев… Разоряют они землю нашу, творят что хотят, и, видно, последние дни пришли, гибнет Русь.Андреян уже давно закрепил подкову на передней ноге у Родионова коня и теперь стоял потупив голову, с молотком в одной руке и клещами в другой. Когда Родион Мосеев умолк, Андреян встрепенулся, швырнул в темную пасть кузницы свой инструмент и сказал: — Да как же так, добрый человек! Шляхта нашу землю зори́т, а что же бояре наши и воеводы? — Измалодушествовались бояре, — ответил Родион. — Чем быть всем в такое смутное время в соединении, так каждый на свое тянет; а есть такие, что и вовсе на панскую сторону передались. Измалодушествовались бояре, и тоже сказать — воевод больших у нас не стало. Говорю тебе, кузнец: гибнет Русь… Медных денег тогда не чеканили: одно серебро. Андреян зажал в руке серебряную монету, которою расплатился с ним за работу Родион. И долго глядел кузнец Андреян вслед проезжему человеку, как пробирался он верхом между двумя рядами плетней. — Гибнет Русь, — вздохнул Андреян, и на глазах у него навернулась слеза.
ЛИХО ХОДИТ ТИХО
Польские отряды рассыпались по русской земле, но в Муратах они еще не бывали. О поляках, что они за люди и как они выглядят, в Мурашах знали только понаслышке: знали со слов Родиона Мосеева и других проезжих, которые останавливались у Андреяновой кузницы — кто перековать коня, кто склепать лопнувший на колесе обод, а кто и приделать новую рукоять к сабле или к старому дедовскому мечу. Работы с разным оружием у Андреяна в это лето что ни день становилось больше. Со всей округи стали теперь сносить к Андреяну в починку сабли в ножнах и без ножен; и длинные копья; и бердыши в виде топорков на долгих древках; и стальные кольчуги, которые надевались, как рубашки, и предохраняли грудь и живот от удара сабли или копья; даже пищали — тяжелые старинные ружья — и те проходили теперь через руки Андреяна, потому что к одной пищали надо было приделать курок, на другой — натянуть боевую пружину или привернуть винт. Пищалями, саблями, шлемами, кольчугами, всякими другими доспехами и разным прочим оружием у Андреяна уже завален был весь угол. А в кузнице и без того было тесно от молотков, щипцов, коловоротов, наковален, точил, горнушки с малым мехом и огромного горна, на котором Андреян раздувал огонь, когда требовалось раскалить добела многопудовый железный брус. Андреян понимал, почему так много принесено теперь оружия в починку. Ведь вот были у него прежде в работе почти одни бороны да сохи, косы и серпы. А гляди, чего только теперь не навалило — всякой снасти, чем от недруга обороняться! «Смутное время, — думал Андреян, рассекая воздух лезвием сабли. — Разве бывало такое на Руси? Кто скажет, что будет? Одно сказать можно: держи меч острым, беда ходит около». И по целым дням на въезде в село звенел в кузнице молот, пыхтел мех, шипела и вздымалась паром вода в долбленой колоде, когда Андреян швырял туда раскаленный кусок железа. «Тинь-тинь, — уходило из кузницы за речку, по проселочной дороге, — тинь-тинь, тинь-тинь…» Временами Андреян переставал стучать и выходил из темной кузницы разглядеть работу на свету. Сияло солнце, голубела речка, тишина стояла такая, что, казалось, можно было расслышать полет стрекозы над водой. И Андреяну чудилось, что он слышит шорох из-за леса, ржание коней на дороге, бряцание сабли о стремя, топот копыт — глухие удары по мягкой земле. С каждым днем все явственнее становились эти звуки, и все сильнее охватывала Андреяна тревога. Кто-то рыскал вокруг Мурашей, словно высматривая и принюхиваясь. «А Сенька и сегодня погнал овечек в лес, — вспомнил Андреян. — Лучше б не пускать было мальца нынче! Лихо ходит тихо; а грянет беда, что будет тогда?» И Андреян прислушался. Топот копыт был, как всегда, мягок, но слышен сегодня, как никогда. Он нарастал с каждой минутой… И вдруг из-за поворота появились первые всадники. У одного — переднего — был голубой флажок на длинной пике, у другого — рядом — с цветной перевязи свисал маленький барабан. Но барабан не бил, и голосов еще не было слышно. «Лихо ходит тихо», — подумалось опять Андреяну; он стоял у входа в кузницу и глядел на дорогу. А всадники тем временем, пара за парой, вытягивались из-за леса. Подъехав к речке, они пустили коней в воду и один за другим пошли бродом. Собравшись снова на берегу, они взяли направление на кузницу. Андреян решил, что осторожнее будет не торчать у себя в дверях. Он ступил назад и снова очутился в кузнице — в полумраке, среди разбросанного инструмента, подле кучи вещей, ожидавших починки.В КУЗНИЦЕ
— Эй, холоп! — крикнул сивоусый шляхтич, с пузом, как пивная бочка, и в собольей шапке, сбитой на затылок. Он остановил коня у раскрытой настежь кузницы, и вместе с ним остановился весь отряд. — Песья кровь! — снова крикнул пузатый. — Выходи на свет, покажись, каков ты. Андреян вышел из темного угла и стал в дверях. — Зачем, пан, лаешься? — спросил он нахмурившись. — Я тебе не холоп, а кровь моя не хуже твоей… — Молчи, собака! — И глаза у пана налились кровью. Он выдернул саблю из ножен и завертел ею у Андреяна над головой. С натуги у пана теперь все лицо побагровело, на лбу крупными каплями выступил пот. — Молчи! — прохрипел он. — Делай, что прикажу! Сабли наши уже притупились о ваши головы. Эвон у тебя точило. Наточи мне лезвие, а потом я на тебе его попробую — наточенной саблей голову тебе ссеку! — Я не оружейник, пан шляхта, — пробовал было Андреян уклониться от работы. — Я простой кузнец. На моем точиле впору мужицкие топоры точить. А сабля только зазубрится. Куда ее потом! — Топоры!.. — Тут пузатый пан заерзал в седле. — Мужицкие топоры!.. Зачем точить топоры? — Как — зачем? — молвил неопределенно Андреян, и в глазах у него блеснул недобрый огонек. А в кузнице у Андреяна уже хозяйничали поляки. — Врешь, бродяга! — услышал Андреян позади себя и почувствовал, как что-то тяжелое ударило его в спину. — Прямой ты оружейник. Гляди, вся кузница завалена. Тут оружия на целую роту хватит. Становись, работай, собака! Андреян понял, что обмануть врага ему не удастся. Он шагнул внутрь, к своей горнушке. — Чего работать? — спросил он угрюмо. — Панцирь! Ох, и хорош же! — сказал один из шляхтичей, копавшихся в углу. — В Индии делан. Только вмятин на нем — не счесть! Выровняй все, выгладь да пригони, чтобы пришелся мне впору. А потом, как сабли нам отточишь, с нами поедешь.
Андреян оторопел. — Ехать? — Кузнец переводил глаза с одного шляхтича на другого. — Как — ехать? Куда ехать? — А над этим ты головы не ломай. Куда мы — туда и ты. Нам оружейник надобен. Андреян молча взял из рук шляхтича панцирь, потрогал пальцами стальные пластинки, из которых он был составлен, рассмотрел замысловатые восточные письмена, что были выгравированы на большой, выпуклой пластинке на груди… и вспомнил, что только вчера дворовый человек князя Дмитрия Михайловича Пожарского привез этот панцирь из соседнего села Мугреева с наказом Андреяну от самого князя починить панцирь к субботе. «А сегодня четверг, — подумал Андреян. — Работы-то всякой сколько! И шляхта тут — прямо как снег на голову…» Мысли путались у Андреяна в голове. Он подкинул угля в горнушку и раздул мехом огонь. Андреян, чувствуя, что наливается жгучей яростью, замолотил молотком, высекая железом искры из стали: «Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь…» А паны топтались в кузнице: одни перебирали инструмент, другие всё еще рылись в углу, откладывая из оружия, что нравилось им. Все они то и дело покрикивали на Андреяна: — Живо, живо, лодырь! Поворачивайся, песья кровь! Русская речь их была необычна для Андреянова уха. Она была словно вся враскачку. Но Андреян понимал все. Обколачивая панцирь, он выравнивал на нем вмятины и вместе с тем за привычной работой мало-помалу собирался с мыслями и приходил в себя. Он стал исподлобья поглядывать по сторонам. Да, врагов тут наехало много, а он, Андреян, один. С полдесятка шляхтичей копается у него в кузнице. Другие — их целая толпа — спешившись, пустили стреноженных коней по луговине, сами толкутся за дверьми. И пузатый, в собольей шапке и с сивыми усами, — тоже там. Разостлал на земле конскую попону и разлегся на ней, выпятив живот. «Тинь-тинь, — выстукивает Андреян молотком, — тинь-тинь…» Выстукивает и соображает: «Сенька с овечками в лесу. Жена — за рекой, в поле. Уведут меня поляки — тогда не видать мне больше ни Сеньки, ни жены, ни родного угла». И чудится Андреяну, что железный молоток в руке у него не просто ударяет по стали, а словно вопросы задает настойчиво, неотступно, неуклонно: «Что делать? Что делать? Что делать?» А панцирная сталь словно в ответ: «Тинь-тинь, бе-жать. Тинь-тинь, бе-жать…» «Бежать? — раздумывает Андреян. — И верно: бежать. Через плетень — и в овраг. А дальше — как придется». На улице прогремел выстрел. Андреян перестал колотить молотком по панцирю и тут только услышал, как всполошилось все село. Он глянул в дверь и увидел какого-то щуплого шляхтича верхом, гнавшего к кузнице двух телков. Другой, тоже в седле, мчался по улице, размахивая саблей. Над околицей поднимались клубы дыма, сквозь который просвечивали языки огня. Поляки, сколько их было в кузнице, тоже заметили это и бросились все из кузницы на луговину ловить своих коней. Но пузатый, с животом, как бочка, впав в дремоту, оставался на своей попоне. Андреян в один миг швырнул молоток прочь и выскочил за дверь. Там он угодил ногами в живот пузатому так, что даже услышал, как что-то зашипело, как полная бочка, из которой выдернули затычку. Пузатый заревел и схватил Андреяна за ногу. Но Андреян дернул ногой и оглушил поляка ударом сапога по лицу. Пузатый сразу обмяк и так и остался на попоне, распластанный и уже совсем без памяти. Не раздумывая ни минуты, Андреян ринулся к плетню. Он бежал и слышал за собой конский топот. «Гонятся, — сверкнуло в голове у Андреяна. — Как поймают — конец». И, пробежав вдоль плетня шагов двадцать, он сделал прыжок и перекинулся через плетень как раз в том месте, где начинались заросли калины. Ее спелые кисти алели за плетнем по всему логу и пропадали в овраге. Обдирая себе до крови кожу на руках и лице, прорывался Андреян сквозь кусты, уже не слыша топота за собой. И вдруг сразу — обрыв и овраг! Не мешкая, Андреян нырнул в овраг, как в воду. И его сразу охватили сырость и прохлада. В овраге было сумрачно, укромно. Солнечный луч сюда едва проникал. И тихо было в овраге. Один только ручеек, торопливо пробиваясь к речке, еле слышно журчал на самом дне.
НАБАТ
Тем временем Сенька, выбравшись из орешника, скатился к речке и пробежал к лавам, по которым и перебрался на другой берег. А потом стремглав бросился к кузнице, которая чернела вдали близ брода. Жук все время бежал подле Сеньки, не отставая. Неподалеку от кузницы раскинула свои сучья ветла, старая, дуплистая. У ветлы этой Сенька остановился и снова ухватил Жука за холку. Отца не было видно. У раскрытых дверей фыркали кони, а поляки тащили из кузницы что пришлось и с грохотом швыряли в телегу, в которую впряжена была гнедая лошадь. Возле кузницы стояли еще телеги, и на них выше грядок были набросаны мешки — должно быть, с зерном, — куры с отрубленными головами, связанный баран и два, тоже связанных, телка. В одном из них — красном с белой звездочкой на лбу — Сенька узнал телка тетки Настасеи, той, чья изба у околицы была теперь вся охвачена огнем. И еще одна подвода стояла у кузницы. На ней не было ни мешков, ни телков, ни баранов. Но словно пивная бочка, покрытая конской попоной, была уставлена там поверх охапки сена. Из-под попоны торчала чья-то большая голова с сивым хохлом. Длинные усы, тоже сивые, свисали с лица, покрытого кровоподтеками. Сенька догадался, что не пивная это бочка упрятана под попоной, — нет, пан неимоверной толщины разлегся на подводе и выпятил живот, который ходил под попоной ходуном. Пан хрипел, глаза таращил и усами шевелил. «Ишь ты, — подумал Сенька, — тараканище! Таракан, таракан, — вспомнил Сенька поговорку. — Таракан, таракан, в лес ходил, дрова рубил, себе голову срубил… Но где ж это тятя?» Сколько ни высматривал Сенька, а тяти не было ни в кузнице, ни подле кузницы, ни возле речки у брода, ни на улице у плетней. Одна только шляхта хозяйничала здесь, а народ весь бежал к околице, где рядом с Настасеиной избой занялись овины с хлебом, ждавшим обмолота. Сенька припустил туда и, когда пробегал мимо церкви, видел, что церковный сторож Данилыч карабкается по приставной лестнице на колоколенку. Не добежал еще Сенька до околицы, как Данилыч ударил в набат. «Бам-бам-бам-бам…» — взывал большой колокол на колоколенке, оповещая всю округу о том, что в Мурашах стряслась беда. И народ сбегался в Мураши со всех сторон: с поля из-за речки, с выгона за околицей, из соседних деревень… Когда Сенька взбежал на пригорок, он обернулся. Подожженная панами, Андреянова кузница пылала, как костер. А сами паны, растянувшись по одному, снова шли бродом в ту сторону, откуда приехали. Здесь, на пригорке против церкви, Сенька наткнулся на мать. Она еще издали стала звать его: — Сенька-а! Сенюшка-а! Но гудел набат; народ кричал, метался подле горящих овинов; голоса матери Сенька не различал. Он обернулся на ее крики, только когда она уже была на пригорке. — Маманя! — бросился к ней Сенька. Мать запыхалась, она не могла сразу вымолвить слова. — Тятя… где тятя? — наконец выдавила она из себя, прижав к себе Сеньку. — Не было тяти в кузне, — сказал Сенька. — Я за ветлой спрятался, все глядел: нет и нет. Видал я там одного пана; пузо у него! Весь — как пивная бочка; и усами шевелит, прямо — таракан… Но мать не слушала. Она выпустила Сеньку и, взмахнув руками, схватилась за голову. — Горит! — вскрикнула она не своим голосом. — Кузня наша горит!.. Андреян! — стала выкликать она, бросаясь во все стороны. — Отец! Ой, лихо мое, кузня горит! И амбарушка… — Я и то гляжу: горит кузня, — заметил Сенька. — Глупый ты, несмышленый сыночек мой! — причитала мать. Она ухватила Сеньку за руку и потащила вниз. Они бежали к речке. Сенька едва поспевал, а мать, не выпуская его руки из своей, вопила: — Люди добрые, кузня горит! Запалили! Злодеи запалили! И амбарушка горит! Ой, лихо! Жук тоже мчался к кузнице. Он бежал и возвращался и снова летел вниз, как стрела, пущенная из лука. По дороге песик вдруг останавливался, приседал на минуту и, задрав голову, лаял, подвывая, на стлавшийся волнами по всему селу дым. «Бам-бам-бам…» — надрывался набат.КНЯЗЬ ПОЖАРСКИЙ
Село Мураши, родное Сенькино село, было поместьем князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Оно было пожаловано князю еще царем Борисом Годуновым за военную, ратную, службу. Исстари повелось это. Князья, бояре, воеводы, дворяне, находясь на государевой службе, не получали за эту службу никакого денежного жалованья. Они жили доходами со своих родовых вотчин и пожалованных им на время службы поместий. По деревням и селам крестьяне жили на таких помещичьих землях и работали не только на себя, но и на своего помещика-владельца. В Мурашах князь Дмитрий Михайлович бывал редко, обычно проездом в Москву или в Зарайск. Но случалось осенью: Андреян вдруг услышит за работой отдаленный собачий лай, но какой! Будто на сто голосов заливались псы, быстро приближаясь к Мурашам. Через минуту-другую вся княжеская охота выкатывалась из лесу; и верно, что была тут у псарей на сворах добрая сотня гончих, легавых и борзых. Сам князь Дмитрий Михайлович ехал впереди, в зеленом кафтане, с серебряной пряжкой на шапке. Князь был русобород, молод и статен. Статен был под князем и его серый в яблоках конь. Громко трубил рог, сзывая охотников к броду. Собаки рвались со свор. А серый конь уже выносил князя Дмитрия Михайловича на крутой мурашовский берег, где у кузницы своей, сняв шапку, стоял кузнец Андреян. Андреян хорошо знает приветливый нрав князя Дмитрия Михайловича. Никогда не бывало, чтобы князь Пожарский прикрикнул на кузнеца или обидел гневным словом. Наоборот, остановится князь Дмитрий Михайлович у кузницы и, пока длится переправа, расспросит Андреяна, как, мол, живется-можется кузнецу и много ли у него работы. Даже про Сеньку спросит, не балуется ли мальчуган. А случится подле кузницы Сенька, князь и с Сенькой поговорит и, отъезжая, непременно что-нибудь подарит — серебряную денежку, или роговой свисток, или другое что случится. Все это вспомнилось Андреяну, когда он очутился в овраге, спасаясь от шляхты, которая нагрянула в Мураши. И подумал Андреян, что одна только у него теперь защита — князь Пожарский. До села Мугреева, где жил теперь князь Дмитрии Михайлович, было недалеко. За какой-нибудь час Андреян добежит до Мугреева, повидает князя и расскажет ему о беде, что стряслась в Мурашах. Может быть, у князя хватит силы выгнать шляхту из Мурашей и отобрать у них мужицкое добро… Решив так, Андреян бросился по тропинке вверх по течению ручья. Пробежав с версту, кузнец очутился в поле, на глухой проселочной дороге, которая змейкой вилась от Мурашей до Мугреева. Андреян остановился перевести дух и увидел в стороне Мурашей огромный столб черного дыма. И оттуда, из-за дымного столба, рвался набат: «Бам, бам, бам…» — Худо, ой, худо! — пробормотал Андреян и, задыхаясь, припустил дальше, по дороге в Мугреево. Уж так-то надо было Андреяну рассказать князю Дмитрию Михайловичу о мужицкой обиде и спросить, что же им, мужикам мурашовским, теперь делать… Что делать, за что ухватиться?СЕЛО МУГРЕЕВО
Усадьба Дмитрия Михайловича Пожарского раскинулась по отлогому холму, огороженная острым тыном. Вела к воротам усадьбы широкая улица. Она начиналась от березовой рощи на берегу мелководной речки Лух. По улице, по обеим ее сторонам, шли сначала пустыри, плетни, овины, огороды; а после каменной церковной ограды тянулись в два ряда забранные низенькими изгородями крестьянские дворы. Все это вместе и называлось селом Мугреевым, княжеской вотчиной. Андреян прибежал в Мугреево, весь мокрый от пота. Рубаха на Андреяне была разорвана, и колпак с головы он где-то потерял — должно быть, еще в овраге. Ворота княжеской усадьбы стояли теперь по целым дням раскрытыми настежь. Сноповоз был в разгаре, и множество телег теснилось подле амбаров, вытянутых в ряд по правой стороне обширного двора. На телегах высились горы ржаных снопов, свезенных сюда с окрестных полей. В высоком, худом, как кащей, старике Андреян узнал княжеского приказчика. Звали старика Федосом Ивановичем, а прозвище ему было Суета. Андреян бросился к нему. Федос Иванович не сразу узнал мурашовского кузнеца в растерзанном человеке, с лицом в копоти и саже. Но Андреян сам напомнил ему о себе. — Али не признал, Федос Иванович? — молвил Андреян, подбежав к старику вплотную. Волосы у Андреяна были всклокочены; разорванная рубаха взмокла от пота; дышал Андреян тяжело. — Андреян же я! — твердил он задыхаясь. — Ну, Андреян из Мурашей. Кузнецы мы… Князя Дмитрия Михайловича людишки. — Фу ты, эк тебя! — крякнул Федос Иванович. — Словно повесили тебя, мужик, на высокой осине на гнилой веревке, а ты будто с петли сорвался и сюда прибежал. Ну, вижу, что Андреян ты. Что я, кузницы твоей не знаю? — Беда, Федос Иванович, сотворилась! Веди, отец, меня к князю. — Экой ты, мужик! Ты думаешь, тебе князя видеть — все равно что в кулак чихнуть. Князь-воевода только-только из Зарайска приехал… на побывку. Еще как следует не отдохнул с дороги. А ты — «беда… веди меня к князю»! Ну, какая у тебя беда? Ястреб цыпленка уволок? — Шляхта в Мурашах наездом. Вот какая наша беда! Тащат из амбарушек все, что гораздо. С Настасеиного конца село подпалили. Меня с собой увезти хотели силком, чтобы, значит, работал я на них. Им, вишь, кузнец надобен, сабли им ковать на наши головы… Андреяна уже слушал не один Федос Иванович: чинов окружила их обоих плотной стеной. — Это как же так? — пронеслось в толпе. — Наедут, поганые, достаток пограбят… — Не только что пограбят — в полон уведут. Сгинешь безвестно. — Кузнец им надобен, так они — Андреяна. — Кузнец надобен? Погибель им надобна! — Отколь взялись? Жили мы — такого горя не знали… — Веди, Федос Иванович, кузнеца к князю. Дмитрий Михайлович рассудит. — Сегодня шляхта в Мурашах пирует, а завтра жди их сюда, в Мугреево… — Это уж как повелось. — Худо оно повелось, братцы, ой, худо! — К князю! Все идем в князю! Айда за кузнецом к Дмитрию Михайловичу, Федос Иванович! Федос Иванович слушал все это, понурив голову. Но, когда заметил, что возчики всерьез задумали всей гурьбой идти к князю, сразу засуетился. — Что вы, что вы! — замахал он руками. — Пускай кузнец один идет. А вы тут оставайтесь. Наследите вы там, мужики косолапые, на высоком крыльце… Но возчики все до одного двинулись вверх, к княжеским хоромам, увлекая с собой и Андреяна. Федосу Ивановичу ничего не оставалось, как присоединиться к толпе.ОЛОВЯННЫЙ ПЕТУШОК
Дом князя Дмитрия Михайловича Пожарского был выстроен из толстых дубовых брусьев и состоял из нескольких светлиц, соединенных крытыми переходами. Высокое крыльцо перед домом было огорожено перилами и пузатенькими колонками и увенчано остроконечной кровлей с оловянным петушком на макушке. Петушок, служивший в одно время и украшением и флюгером, вращался на шарнире в ту либо в другую сторону, в зависимости от направления ветра. На крыльце не было никого. Только петушок чуть поскрипывал на кровле, тускло серебрясь в солнечных лучах. Но, когда толпа вместе с Андреяном повалила к княжеским хоромам, петушок совсем замер; один гул толпы нарастал, усиливаясь с каждой минутой. На крыльцо из раскрытой в светлицу двери выскочила горничная девушка в сарафане и с алой лентой в пышной косе. Выскочила, закрылась ладонью от солнца, глянула и бросилась обратно в светлицу. И тотчас вместо девушки на крыльце появился сам князь Дмитрий Михайлович. Князь был в шитой золотом тюбетейке и в белой рубахе. Острые носки желтых сапог круто завернулись кверху. К каблукам были прикреплены медные зубчатые шпоры. Чуть побрякивая ими, Дмитрий Михайлович спустился с лестницы и остался на нижней ступеньке. Остановились и возчики на полдороге, не смея двинуться дальше. Но выручил Федос Иванович. Старик протолкался вперед, снял шапку, ткнул Андреяна в бок и повел его прямо к князю. Толпа, осмелев, двинулась за ними вслед. Федос Иванович и Андреян поклонились князю. То же сделали и возчики. И вдруг загалдели все вместе — и возчики, и Федос Иванович, и Андреян. Даже петушок на кровле завертелся от набежавшего ветра и так заскрипел, словно тоже стал плакаться князю на какую-то свою обиду. Но князь поднял руку, и все умолкло. Один оловянный петушок не сдавался и все всхлипывал на своем шарнире. — Да стойте ж вы! — сказал князь. — Экую ярмарку развели! Что у вас приключилось? Говори один кто-нибудь. Федос Суета, говори ты. Федос Иванович еще раз поклонился Дмитрию Михайловичу, пригладил скрюченной ладонью растрепавшиеся седые космочки и сказал: — Приключилось, батюшка князь, чего не чаяли. Шляхта наехала. Дмитрий Михайлович встрепенулся: — Шляхта? Быть того не может! Откуда? Где? — В Мурашах, батюшка, в Мурашах, в поместьице твоем. Кузнец мурашовский прибежал. Вот он сам, собственной головой, Андреян-кузнец. И Федос Иванович снова ткнул стоявшего рядом Андреяна в бок. Андреян дернулся, выступил на шаг вперед, и князя поразил вид этого человека, который, казалось, только что выскочил из горящей избы. — Беда, князь Дмитрий Михайлович! — не сказал, а прохрипел Андреян, потому что горло у него пересохло, как комок земли в засуху. — Беда! — хрипел он, задыхаясь. — Лихо, что и не сказать! Шляхта в Мурашах озорует. Меня полоном хотели взять, насилу вырвался. Прибежал известить тебя. Рассуди, господин, как знаешь. А мы — малые людишки, холопы твои. Ты один нам защита. Князь топнул ногой, и шпора у него звякнула. — Сколько их? — крикнул он. — Шляхты сколько, спрашиваю? — Человек с тридцать будет, батюшка князь, — ответил Андреян. — Все на конях, оружны, с самопалами, при саблях… На панцирь твой булатный, что прислал ты мне вычинить, позарились… — На панцирь? — Князь обвел толпу глазами и нахмурился. — Как так? От дедов он наш. От отца к сыну панцирь переходил. Зачем же? Гей! — крикнул он и тряхнул головой. — Не жирно ли будет? Гони панов, бей шляхту! На коней! Псари, мужики дворовые!.. Отпирай оружейню, Федос, раздавай кому что — сабли, бердыши… Псари, трубите, созывайте народ! И князь бросился в светлицу. Федос Иванович побежал отпирать оружейную клеть. Возчики выпрягали лошадей из телег. Псари трубили сбор. Андреян получил от Федоса Ивановича здоровенную саблю в заржавленных ножнах. Прицепить ее было не к чему: пояса на Андреяне не было. И, держа саблю в руках, Андреян взгромоздился на подвернувшуюся ему мужицкую конягу, некованную, низкорослую, со вздутым брюхом. Странно, что, почувствовав на себе всадника, она взяла с места, как заправский скакун. Серый в яблоках жеребец, княжеский любимец, уже вился у крыльца, и конюх едва удерживал его на месте. А сам князь, в кольчуге, в шлеме, перепоясанный саблей и с большим пистолетом за поясом, сбежав с крыльца, вскочил в седло. — Трубачи! — крикнул он. — Трубите поход! Малый, бей в бубей! Безусый детина верхом на пегой лошади, случившийся рядом с Андреяном, выхватил из-за пазухи большой бубен и замолотил по нему кулаком.
— Трубачи! Трубите поход!
Княжеский жеребец вынесся вперед. За ним на разномастных конях повалили возчики, псари, дворовые слуги, вооруженные чем кому пришлось. Андреян скакал рядом с детиной, не перестававшим бить в свой бубен. Позади всех, изрядно отстав, трясся на старой-престарой, но зато вполне смирной кобыле княжеский приказчик Федос Суета. На дворе никого не осталось. Только княгиня Прасковья Варфоломеевна, жена князя Дмитрия Михайловича, бледная, в слезах, заламывала руки, и в подол ей вцепился светлоглазый малыш лет четырех, в красной шелковой рубашке, черной бархатной шапочке — павлинье перо. Топот копыт, гул голосов — все это замолкало, удаляясь, и наконец примолкло совсем. Но оловянный петушок на островерхой кровле по-прежнему не унимался. Вращаясь на шарнире, тянул и тянул он свою жалобную песенку, разрывая княгине сердце, и без того полное тоски я тревоги.
ПОГОРЕЛЬЦЫ
По всему Мугрееву вмиг разнеслась весть о беде, которая стряслась в Мурашах, и о приказе князя немедля собираться в поход. Заливчатые призывы рогов из княжеской усадьбы подняли на ноги все село; к ним сразу присоединились гулкие удары в бубен. Потом из ворот усадьбы ринулась вниз толпа верховых с князем Дмитрием Михайловичем впереди. По дороге к ним присоединялись другие всадники, выезжавшие из дворов верхом на рабочих мужицких лошадях, одетые в сермяжные зипуны, обутые в лыковые лапти. Пыль поднялась в Мугрееве густым облаком, а когда осела, отряда уже не было видно за березовой рощей. Солнце еще не садилось, но уже стояло низко. Чем ближе к Мурашам, тем сильнее пахло гарью пожарища. Когда отряд вынесся из-за леса и пошел на рысях к речке, Андреяна поразила какая-то сквозная пустота на противоположном берегу. Вглядевшись, он увидел, что кузницы его и амбара при кузнице как не бывало. Над грудкой черных головешек низко стлался сизый дым. Андреян заскрежетал зубами. Он хватил что было силы коня своего кулаком промеж ушей, и тот взвился и так рванул, что опередил серого жеребца князя Дмитрия Михайловича. На всем скаку Андреянов конь ринулся с берега в воду и в одну минуту вынес своего всадника на мурашовский берег. Не останавливаясь у сгоревшей кузницы, Андреян погнал дальше, на Настасеин конец. Андреян не разбирал, есть ли поляки или их уже нет в Мурашах. Он видел только дым за церковью и копоть, которая носилась в воздухе. А ведь сразу за церковью, второй двор от угла, — это и есть Андреянов двор. Но за церковью уже теперь не было ни плетня, ни двора — один пустырь с тлеющими головнями, погорелое место, повитое едким дымом… Народ метался подле церкви. Люди куда-то перетаскивали сундуки, узлы, корзины. На Андреяна никто не обратил внимания. Он сам, не слезая с лошади, стал хватать каждого встречного за рукав, но все словно обезумели в этот день, и сосед не понимал соседа. Даже не выслушав Андреяна, люди сразу отмахивались от него и пропадали где-то за дымной пеленой, которая поднималась над пожарищем. И вдруг, повернув коня вправо, Андреян увидел Сеньку. Мальчик сидел на большомузле, вокруг которого вился Жук. — Сенька-а! — крикнул Андреян. Жук взвизгнул и с громким лаем бросился к Андреяну. Но Андреян уже гнал коня к Сеньке и, подъехав, соскочил на землю. — Сенька! — стал он тормошить мальчишку. — Сенька… Что тут?.. Где мать?.. — Погорели мы, тятя, — молвил Сенька уныло. — Чисто все сгорело. Паны запалили у тетки Настасеи. От нее и пошло. Пять изб сгорело. И у нас погорело. Кузня твоя сгорела… И амбар… — Где мать? — снова спросил Андреян. — А мать все металась… Изба горит, а она мечется, тащит оттуда что придется, да только всего и натаскала вот этот узел. По селу все бегала, тебя искала. И теперь, верно, все бегает, ищет тебя. Люди говорили, что тебя паны с собой увезли. А мать не верит, бегает от околицы к околице, тебя все кричит… Да вон же она, мать! Вишь, сердешная, забегалась совсем… Маманя-а! По улице бежала женщина, простоволосая, в разорванном сарафане. Она останавливалась на минуту — должно быть, для того, чтобы дух перевести, — потом, всплеснув руками, бежала дальше. Услышав Сенькин голос, она снова остановилась. — Арина! — крикнул ей Андреян. — Мать! Чего ты? И они оба кинулись друг другу навстречу. Арина упала мужу на грудь и протяжно завыла. В это время к ним подъехал на своем сером жеребце князь Дмитрий Михайлович. Завидя его, Арина оторвалась от мужа и бросилась под ноги княжескому коню. Андреян схватился ее поднимать. — Что это она? — спросил Дмитрий Михайлович. — Убивается как! — Жена моя, — сказал Андреян. — Вон и Сенька, на узле сидит. Все наше сгорело. И двор и кузня с амбаром. Что нажито рухлядишко, все в дым ушло. И за что нам такое? Всё в дым… — Да… — молвил задумчиво князь. — А шляхты и след простыл. Из-под Шуи они, что ли, наехали? Ну да ладно! Отольются им и твои слезы. Вот что, кузнец: делать тебе теперь тут нечего. Ни кола, ни двора, ни кузни… Так вот: Сеньку с узлом на коня посади, бери жену — и айда в Мугреево ко мне. Как только в Мугрееве хлеб обмолотим, в Зарайск пойдем, а то прямо в Москву. И ты с нами туда. Вишь, как обернулось: чем панам сабли ковать на русские головы, ты мне в Москве такую саблю выкуешь, чтоб я той саблей всей шляхте голову ссек! Ох, пора, пора нам снова браться за сабли!.. Между тем весь мугреевский отряд подтянулся к князю. Опять рога трубили сбор. Но, прежде чем повернуть коня обратно в Мугреево, князь крикнул сгрудившейся подле него толпе мурашовских мужиков: — Эй вы, погорелые! Завтра лес валить, новые избы ставить. Да не какие-нибудь, а чтобы на сто лет! А как обмолочусь, приходите с мешками ко мне на двор. Сыты будете, живы будете, еще рано нам в гроб ложиться!.. Малый, бей поход! Восседавший на своей пегой лошади безусый детина снова выхватил из-за пазухи бубен… «Бум-бум-бум! Бум-чи-чи-чи, бум-чи-чи-чи…» — загремело, загудело, зазвякало, и мугреевцы вместе с князем Дмитрием Михайловичем повернули к броду. Опять позади всех раскачивался на старой кобыле княжеский приказчик Федос Иванович Суета. Но на этот раз рядом с ним шел кузнец Андреян с женой Ариной. Андреян вел под уздцы свою толстобрюхую конягу, верхом на которой сидел Сенька, придерживая руками узел. Полученную от Федоса Ивановича саблю Андреян по-прежнему нес в руках. Солнце садилось. Жук носился полем вдоль проселка взад и вперед и лаял на солнце, на худого, как жердь, Федоса Ивановича, на безусого малого, не перестававшего колотить: «Бум-чи-чи-чи, бум-чи-чи-чи, бум-бум-бум!»ПОЧЕМУ ДА ПОЧЕМУ
Об овечках, покинутых Сенькой в орешнике, вспомнили только на другой день. Андреян и Арина исходили в поисках всю округу, но даже на след не набрели. Если бы овечек зарезали волки, хоть что-нибудь бы осталось: копыта, клочья шерсти или запекшаяся на траве кровь. А тут — ничего! Должно быть, и овечек прихватили с собой поляки на обратном пути из Мурашей. Андреян с Ариной и Сенькой поселились в отдельной избенке на огромном дворе князя Дмитрия Михайловича. Вместе с другими крестьянами из Мугреева они стали возить с поля снопы и сбрасывать их на княжеские гумна. Даже Сенька оказался здесь при деле. Наложат Андреян с Ариной в поле полный воз ржаных снопов, подбросит Андреян Сеньку на снопы, даст ему в руки вожжи — и Сенька катит важно по широкой мугреевской улице. Кнутишком Сенька помахивает, вожжами подергивает, губами причмокивает… — Но-но-о, сивка-бурка! — покрикивает Сенька на запряженную в воз лошадку неопределенной масти. — Пошла-поехала, чего задумалась? У Сеньки в Мугрееве уже и товарищи нашлись. Вместе дергали волос из конских хвостов на лески; вместе стали купаться в речке и удить уклейку под старыми ивами. Тем временем сноповоз кончился, началась молотьба. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук», — стучали цепы по токам, подле гумен. Целыми днями, от утренней зари до вечерней, тукало по всему Мугрееву. Пока стояло вёдро, все торопились с обмолотом. Но больше всех торопился и других торопил князь Дмитрий Михайлович. Ему пора было в Зарайск, где он был воеводой; а там и в Москву, где решались судьбы русского царства. Пока шел обмолот, Сенька с другими ребятами бегал в Мугрееве от гумна к гумну. Там все они кувыркались на обмолоченной соломе и кричали в лад ударам цепов: — Сно-пы, сно-пы, по снопам це-пы — то-пы, то-пы, топытушечки! Мужики гнали ребят прочь; те разбегались и уже издали снова принимались за свое: — Сно-пы, сно-пы, по снопам це-пы… Но не кончился еще обмолот, как Андреян стал на другую работу: ковать лошадей, чинить князю всякую дорожную снасть, на колеса натягивать новые шины либо перетягивать старые. Так, за работой, и лето кончилось. Березовая роща, подходившая к речке, стояла словно одетая в золото. Листик за листиком бесшумно роняли на землю деревья; и казалось, что в золотую парчу была убрана и земля. Раным-рано забирались ребята в лес. У каждого лукошко либо сумка. Сенька тоже бродил по лесу и к обеду приносил матери полное лукошко отборных грибов. Тут были и белые грибы, и подберезовики, и подосиновики, и лисички, и белянки… После обеда Сенька отправлялся к сараям и амбарам глядеть, как грузят на телеги всякое добро. Оно было уложено в сундуках, насыпано в мешки, заколочено в ящики. Сенька знал, что в сундуки положено платье — шубы, кафтаны, зипуны, рубахи, шапки, пояса, рукавицы… В мешках была ржаная мука. В ящиках что-то побрякивало: там было оружие и снаряжение — сабли, копья, рогатины, топоры, пищали и пистоли, луки и самопалы, шлемы, кольчуги и панцири. Никогда столько клади не приходилось видывать Сеньке. Она была наложена на возы, укрыта рогожами и перевязана веревками. Под навесами, опоясывавшими конюшенный двор, она ждала отправления — какая в Зарайск, какая прямо в Москву. Всей укладкой распоряжался Федос Иванович. Он почему-то никогда не говорил «Москва», а всегда — «белокаменная». — Отсчитай, ребята, сто кулей в белокаменную, — говорил он грузчикам. — Остатнее ссыпай в сусеки. Однажды он осматривал починенную Андреяном колымагу на огромных колесах. Похвалив работу мурашовского кузнеца, он молвил при этом: — Выдержит колымага хоть какую дорогу: хоть путь, хоть распутицу… Докатит до белокаменной Москвы. — Дяденька Федос Иванович… — обратился Сенька к старику, обстукивавшему своим костыльком кузов колымаги и спицы на колесах. — А почему, дяденька, Москва — белокаменная? Но Федос Иванович был занят своим. Он только цыкнул на Сеньку и на вопрос его не ответил. Тогда неугомонный Сенька пристал к отцу. Андреян в это время, покончив с колымагой, собирал в ящик разбросанный на земле инструмент. — Тятя, — сказал Сенька, — почему дяденька говорит «Москва белокаменная»? — Экий ты, Сенька! — отмахнулся и Андреян, который тоже занят был по горло. — Почему да почему… Ступай, вон мать тебя кричит. — Нет, ты скажи! — А вот скоро поедем в Москву белокаменную, там своим умом дойдешь, почему. Москва, говорят, дураков не любит и слезам не верит. Там держи ухо востро! А то, брат, знаешь, Москва бьет с носка. У Сеньки от всего этого совсем в ушах заломило. Москва — она и белокаменная, и слезам почему-то не верит, и бьет с носка… Сенька решил, что и верно лучше всего увидеть все это собственными глазами. И он стал с нетерпением дожидаться отъезда в белокаменную Москву.ВОТ ОНА, БЕЛОКАМЕННАЯ!
С большим обозом и множеством слуг тронулся князь Дмитрий Михайлович в путь. Стоял октябрь. Ненастье кончилось, и на дорогах ночами уже подмораживало. Проехали Мураши с погорелыми избами на Настасеином конце: оставили далеко вправо от себя разоренную дотла Шую. Но ехали только днем. Ночевали в монастырях либо в больших селах, предварительно удостоверившись, что там нет поляков. Сражаться с ними по монастырям и селам не было толку. Князь Дмитрий Михайлович сберегал силы для более решительных боев, которые предстояли, конечно, не в этих глухих местах. По той же причине Пожарский со своим обозом объезжал и попутные города — Суздаль и Юрьев-Польской. От встретившегося на дороге нижегородского вестника Родиона Мосеева Дмитрий Михайлович узнал, что и в Суздале и в Юрьеве-Польском стоят постоем поляки. Несколько молодых псарей из княжеской охоты верхом на низкорослых, но резвых конях служили в пути разведчиками и связными. Они то и дело выезжали вперед, а потом скакали обратно к князю — уведомить его, что путь свободен и нечего опасаться засады либо открытого нападения. После чего княжеская колымага уносилась на рысях к горизонту, над которым висели иссиня-черные осенние тучи. А связные скакали к обозу с княжескими распоряжениями Федосу Ивановичу. Федос Суета ехал в обозе в особой кибитке. Князь Дмитрий Михайлович и его прихватил с собой. В такое время распорядительный старик мог оказаться и в дороге не лишним. И верно: за Юрьевом-Польским Федос Иванович остался единственным распорядчиком обоза. Княжеская колымага, сопровождаемая небольшой охраной, совсем отделилась от обоза и повернула к югу — на Покров, Егорьевск и Зарайск. Стромынская дорога, по которой подвигался теперь обоз, была широка, и народу всякого на ней попадалось немало. В кибитках либо в таратайках катили на бойких тройках купцы. Крестьяне шагали рядом со своими возами, нагруженными капустой и живностью. Закраины дороги утаптывали монахи, пробиравшиеся пешком из монастыря в монастырь. Большими ватагами брели нищие — слепые, хромые, калечные — и громко распевали песни о своем убожестве и злосчастье.
Несколько раз навстречу обозу попадались мелкие шляхетские шайки. Паны поглядывали на Федоса Ивановича, который высовывался из кибитки и охватывал взором весь обоз. Силы были слишком неравны, и поляки, щелкая зубами, проезжали мимо. А Федос Иванович только руки потирал. — Что — взяли? — кричал он в окошко кибитки. — То ли еще будет! И Сенька, который ехал невдалеке в крытой рогожей телеге, тоже был рад, что паны остались с носом, проехали несолоно хлебавши. Сеньку все в дороге занимало, ни к чему он не оставался равнодушен. Вон, под низкими облаками, потянулись на юг дикие утки. «Озера-то замерзают к зиме, — соображает Сенька. — Где утяти рыбки взяти? Эвон как шибко плывут в поднебесье… и утки с селезнями, и гуси-лебеди, и журавлики! Зяблики — ррр! — прошмыгнули целой стаей. Тоже, верно, в теплые края, где речки никогда не замерзают. Там уткам и зимой раздолье, и для зяблика есть семечко поклевать, и мушка есть — зяблику схватить на лету. Есть на свете такие края, тятя сказывал». А уж чего не нагляделся Сенька по монастырям и селам, где останавливались для полдника или на ночлег! Один раз попали в большое село на ярмарку. У Сеньки голова закружилась от всего, что довелось ему там увидеть: несчетно палаток и лотков — с пряниками, лентами, шапками, сапогами; горы расписных дуг и колес; мед в сотах, мед в бочках, и дегтя тоже целые бочки — подходи покупай: кто с ушатом, кто с дегтяркой, кому на грош, кому на полный алтын. А тут еще собаки лают, быки ревут, коровы мычат, куры кудахчут. Прасолы, торгующие рогатым скотом, и барышники, перекупающие лошадей, божатся и ударяют по рукам. Хором поют слепцы, а подвыпивший мужик пляшет под пронзительное жужжание волынки.


Хорошо, что Сенька вцепился тяте в полу зипуна, не то и потеряться недолго в такой толпе. На восьмой день пути, с самого утра, дорога втянулась в сосновый бор, которому, казалось, не будет предела. Андреян, со слов Федоса Ивановича, объяснил Сеньке, что это царский заповедный бор, где водятся лоси и олени. А подальше будет роща, где еще совсем недавно жили царские сокольники. Да в такую разруху сокольники разбежались, а соколы, верно, достались шляхте. Пожалел Сенька ясных соколов царских и еще больше озлился на шляхту Мало им Сенькиных овечек и всего, что они награбили в Мурашах, так они еще и до соколов добрались! — У-у! — погрозился Сенька. — Погоди! И вдруг кибитка Федоса Ивановича остановилась. Старик вышел из кибитки и снял шапку. Лицо его сморщилось и стало совсем жалким, точно он собирался заплакать. Вслед за кибиткой Федоса Ивановича стали останавливаться и следовавшие за ней возы. Андреян откинул рогожу и, схватив Сеньку, вытащил его из телеги и понес туда, где, тоже сняв шапки, толпились подле Федоса Ивановича подводчики. Там Андреян спустил Сеньку с рук и, в свой черед, снял шапку. Ничего не понимая, Сенька потоптался на месте, потом повернулся в ту сторону, с которой не сводили глаз подводчики, и обомлел. Перед Сенькой расстилалась широкая просека, а за просекой открылось Сеньке дивное диво. Множество кровель разнообразной формы, нарастая одна на другую, высилось в садах, уже потерявших листву. Кровли были двускатные и четырехскатные; были кровли круглые, в виде бочки; были кровли с перилами; были увенчанные золотыми яблоками либо раскрашенными теремками. Из-за кровель выглядывали белые колокольни и жестяные купола. В это время ветер разогнал облака в небе, и солнце брызнуло на открывшийся Сенькиным глазам город. У Сеньки дух перехватило. Над всем городом, выше всех куполов и кровель, взлетел ввысь белокаменный столб в золотой шапке с крестом на макушке. Сеньке показалось, что крестом своим столб уперся в самое небо. А вокруг белого столба толпилось множество белокаменных церквей — не с жестяными, а прямо-таки с золотыми куполами, с узорчатыми крестами… И все это было охвачено выбеленной кирпичной стеной, из которой вырастали и тянулись вверх белые башни. — Кремль-батюшка, — сказал Федос Иванович и снял шапку. — Гляди, и Белый город виден! Вот она, Москва белокаменная! Сенька встрепенулся. Помимо белой кремлевской стены, он тоже разглядел еще и другие стены, выкрашенные в белый цвет. Это были стены Белого города, которые огромной дугой окаймляли Кремль. Белые каменные церкви в Кремле и по всей Москве… Белые кремлевские стены… И стены. Белого города… Так вот почему Москва зовется белокаменной! Теперь Сеньке и самому ясно. Ах, до чего же хороша она, белокаменная Москва!
МОСКВА БЬЕТ С НОСКА
Двор князя Дмитрия Михайловича Пожарского в Москве, на Сретенке, был не меньше его мугреевского двора. И вокруг него тоже шел высокий тын. Княжеские хоромы в два яруса были, как и другие дома в старой Москве, построены из одного дерева. Подобно другим домам, стояли княжеские хоромы не к улице, а посредине двора. За домом был сад, где росли яблони и вишни. И кустов малины, смородины и крыжовника было полно в саду. Но кусты и деревья стояли без листьев, и осенний ветер шевелил голые прутья. Княжеские плотники живо сколотили Андреяну новую кузницу в углу двора, и кузнецу оставалось только прикупить кое-что из недостававшего инструмента. В Москве, как и в Мурашах и Мугрееве, кузнецу нужны были щипцы, и большие клещи, и тяжелый молот — кувалда… Попарившись в бане, Андреян отдохнул с дороги, осмотрел новую кузницу и сказал: — Ну, Сенька, не было бы счастья, так несчастье помогло. Кабы не спалила нас шляхта, не видать бы нам Москвы белокаменной. Пойдем, Сенька, на торг снасть присматривать и на Москву поглядим. Андреян в Москву попал тоже впервые. Плотники, строившие кузницу, сказали ему, что главный торг находится на площади у кремлевской стены. — Ты выйди за ворота и сразу возьми направо, — сказал Андреяну чернобородый плотник, от которого пахло сосновой стружкой. — Возьмешь направо и дойдешь до колодца. От колодца возьмешь чуть налево и дойдешь до церкви. А там, кузнец, спрашивай добрых людей. Язык и до Киева доведет, а тебе — всего только на торг. Андреян с Сенькой пошли к воротам, и Жук увязался было за ними… но на торгу пес мог легко потеряться. Пришлось запереть Жука в клетушку, которую плотники пристроили к новой кузнице. Андреян с Сенькой вышли на широкую улицу и сразу взяли вправо. В Москве народу сновало на улицах не меньше, чем на ярмарке, на которой Сеньке довелось побывать недавно проездом в попутном селе. Андреян с Сенькой миновали колодец, миновали и церковь и уже дальше шли, останавливаясь на каждом повороте. Путь был хоть и не дальний, но путаный. В одном месте дорогу показал человек в красном стрелецком кафтане; в другом — женщина, закутанная в платок, торговавшая на перекрестке квашеной капустой. Улица, потом переулок, затем заулок, после чего церковный проходной двор… Если бы не спрос да расспрос, Андреяну с Сенькой на площадь не попасть. Кроме того, тут помог еще какой-то детина в красном кушаке и в шапке, заломленной на левое ухо. Детина назвался Кузькой Кокорем, и пристал он к Андреяну с Сенькой с полдороги. — Я тебя, милый человек, — твердил Кузька Андреяну, — не то что на торг выведу — я тебя хоть куда могу привести! Мы-то здесь тутошние, от отцов и дедов мы московские, исходили Москву вдоль, поперек и наискось. Я тебя и по кузнечному ряду проведу. — Спасибо, Кузя, — поблагодарил Андреян. — Чать, некогда тебе, так мы по ряду и сами пройдем. — Некогда… — замялся было Кузька. — Некогда, оно так. Что верно, то верно. Да вишь ты, милый человек, дело какое… Тебя как звать-то? — Зовут Андреяном. — А мальца как кличут? — А мальчишку Семеном кличут. Сенька, значит. — Ну, и выходит по всем делам, что и мне, Андреян, надобно в кузнечный ряд. Железа понадобилось прикупить. Почем нынче железа прут? — Это, Кузя, смотря по пруту. Да и по месту цена разная. В Суздале — одна цена, в Муроме — другая, в Москве, верно, — опять же, цена своя. Вот придем на торг, там цена и объявится. Чем ближе к площади, тем чаще стали попадаться вооруженные группы поляков и немцев. Возы, которые тянулись на торг, поляки, да и немцы, иногда останавливали — тот либо другой воз, казавшийся им почему-либо подозрительным. Они ощупывали на возах мешки с зерном, тыкали копьями в сено, а если на возу были дрова, заставляли возчика сбрасывать тяжелые березовые плахи прямо на дорогу. — Ищут, — кивнул Кузька в сторону двух немчинов. Они копались в груде вяленой воблы на возу, который остановился посреди улицы. — Ищут, — повторил Кузька, подмигнув Андреяну. — А чего ищут, Кузя? — спросил Сенька. — Оружия ищут. Ножей долгих. Вот чего! — Шляхта это, Кузя, — заметил Сенька. — Не, — возразил новый Сенькин знакомец, — шляхта — она хохлатая, с хохлами на темени, а голова обрита. А эти — немцы. Да все одно: что пан, что немчин. Друг с дружкой они заодно. Наш брат лучше обходи и немчина и пана. Не ввязывайся! Наше дело — сторона. Тут из-за поворота словно из-под земли выскочил тот же белый каменный столб в золотом шлеме с крестом, подпиравшим самое небо. Но несколько дней назад, когда Сенька глядел на него с просеки в Сокольничьей роще, столб реял далеко-далеко, а теперь до него, казалось, рукой подать, и он словно валился на Сеньку. Сенька крепче вцепился в полу отцовского зипуна, он всю дорогу не выпускал его из рук. Вместе с тем Сенька успел разглядеть в каменном столбе проемы, а в проемах — здоровенные колокола. — Вовсе это колокольня! — крикнул Сенька и засмеялся. — А колокола… верно, здоровы звонить? — Здоровы, — заметил Кузька. — Как ударят в большой — земля колышется. Иван Великий называется колокольня, Иван Золотая Голова. Только теперь не звонят. Опасается шляхта, как бы в набат коли чего не ударили. Загудит на всю округу — народу набежит, будет потеха, тогда их за хохлы — да в реку. Ну, тут уж гляди в оба! А то и тебе голову с шеи свернут, да в болото голову ту и забросят. Ищи ее потом! А ты так: цапнул, что надо, и беги без оглядки. «Чего это он?» — удивился Андреян. — Постой, молодец, — сказал он. — Это как же? «Цапнул»… «беги»… Чего цапнул? — Ужели я молвил «цапнул»? — вроде смутился Кузька. — Цапнул… гм… Не цапнул, а… а… а бацнул — я сказал. Вот как я сказал! Ну, бацнул хохлатого по макушке — и всё. — Разве что, — заметил Андреян, пожав плечами. Между тем путники наши пришли на площадь и сразу попали в невообразимую давку. Из кремлевских ворот как раз вынесся польский конный патруль и врезался в толпу. Андреяна с Сенькой стало швырять из стороны в сторону. Андреян схватил Сеньку за руку. В это время ему показалось, что кто-то к нему за пазуху лезет. Андреян свободной рукой схватился за грудь и прижал к ней кошель с деньгами. Человеческий водоворот закрутил, завертел Андреяна с Сенькой и наконец выбросил обоих на лужайку за церковью красоты несказанной. И Андреян и Сенька дух еще не перевели после давки на площади, а загляделись на купола, на девять куполов, которые все были разной формы и разной расцветки и походили на огромные чалмы. А вся церковь напоминала пышную связку каменных цветов. «Ни в сказке сказать, ни пером описать», — подумал Сенька словами тетки Настасеи, которая горазда была ребятам сказки сказывать. Бывало, как начнет, так у Сеньки от разных чудес прямо дух захватывало. А площадь перед Кремлем гудом гудела, и торговцы драли здесь глотки на разные голоса. Кричали пирожники: — Пироги горячие с потрохами, с перцем, с рубленым сердцем! Им вторили сбитенщики: — Сбитень-кипяток, в нем инбирь и медок! Больно хорош! За кружку — грош. Кружка в ведро. Грей нутро! У каждого торговца был свой стишок, один другого замысловатей. Но тут из толпы выбился Кузька. — Кузя! — крикнул ему Сенька. — Мы тут с тятей! Гляди, Кузя… Кузька, словно чем-то смущенный, подошел. — Видали? — сказал он, почесывая правый бок. — Как бьет! — Кто бьет? — спросил Сенька. — «Кто бьет»… Москва бьет! Только держись! Как кинуло меня, как швырнуло!.. Москва бьет с носка. — Москва бьет с носка, — повторил Сенька. — Москва белокаменная. Теперь Сенька понял и это. Бока у него ныли, да и Андреян руки разминал и кошель свой за пазухой ощупывал. — Верно, что с носка, — подтвердил он. — А это, молодец, что же за храм будет? — Храм это Спаса-на-Рву, Василий Блаженный прозванием, — объяснил Кузька, которому, видимо, на самом деле все в Москве было знакомо. — Царь Иван Грозный построил, эвон кто! Вот каков это есть храм! — Да уж… что уж… — только и развел руками Андреян. — Чудеса! Чу-де-са… Так как же нам, добрый человек, добиться в кузнечный ряд? — Пойдем! — сказал Кузька. И он повел Андреяна с Сенькой по торговым рядам, где люди тоже продавали и покупали, но не было ни такой давки, ни такого крика.ПОЛТИНА БЕЗ АЛТЫНА
Рядов этих в Москве на торгу было множество. Для каждого товара был свой ряд лавок, где сидели купцы и толкались покупатели. В одном ряду торговали мужскими шапками, и ряд этот так и назывался: шапочный мужской ряд. В другом ряду продавались лапти, и он назывался лапотным. В охотном ряду можно было купить живую и битую птицу; в домерном продавались домры и бубны; в суровском — шелковые материи. Андреян и Сенька только дивились всему этому изобилию разнообразных товаров, когда проходили вместе с Кузькой по пушному ряду, по коробейному, москательному, скорняжному, подошвенному, свечному, ветчинному, медовому, калашному… Казалось, все богатства русской земли были свезены сюда, в белокаменную Москву, — покупай, что хочешь, только денежки выкладывай! А Кузька все таскал и таскал Андреяна с Сенькой по рядам, переходя из одного торгового ряда в другой. Попутно он словно высматривал кого-то в толпе, но ни Андреян, ни Сенька не замечали этого, потому что в каждом ряду открывались новые чудеса. Вот целая гора Козьмодемьянских сундуков, обитых белой жестью либо желтой латунью. Вот бухарский ковер величиной с целый огород. Вот индийская парча — такой не увидишь ни у попа на ризе, ни на шубе у боярыни. Ни Андреян, ни Сенька не обратили внимания, что было их с Кузькой трое, а каким-то путем стало четверо: рядом с Кузькой шагал теперь какой-то хват с серебряной серьгой в ухе, вышагивал как ни в чем не бывало, перекидываясь с Кузькой отрывистыми словами. В сапожном ряду над дверьми лавок развешаны были сапоги разных цветов и размеров. У Андреяна сапоги совсем прохудились — дырки от пропалин и заплата на заплате, — и он решил заодно, на всякий случай, прицениться и к сапогам. Приглянулись Андреяну добротные юфтевые сапоги на толстой подошве и железных гвоздях. «Таких сапог, — подумал Андреян, — вовек не сносить, если не работать в них у горнушки. В кузне-то ведь искры летят во все стороны — и от горнушки и от раскаленного железа, когда обковываешь его на наковальне. Ну да ладно! — решил Андреян. — В кузне и в старых сапогах еще потопчусь. А новые пока что пускай в сундуке полежат». У Сеньки сапожонки тоже были не больно казисты. У Арины же и вовсе нет сапог: в лаптях ходит. Нет, не укупить Андреяну столько. Придется с этим подождать: может быть, как-нибудь прикопятся денежки. А пока что только прицениться. — Уважь — скажи, — обратился Андреян к владельцу сапожной лавки: — во сколько эта пара станет? Но торговец словно не расслышал слов Андреяна. Насупившись, он глядел куда-то мимо. Андреян обернулся. Кузька со своим вдруг объявившимся приятелем стоял в стороне, а позади Андреяна остановились с полдесятка хохлатых панов в богатом платье и с саблями на боку. Андреян поглядел на шляхту, вспомнил о Мурашах, о сгоревшей кузнице и об избенке своей, от которой тоже остались одни головешки… вспомнил… и ничего не сказал. Он только рукой провел внизу, по сборам зипуна, чтобы убедиться, здесь ли Сенька. Но Сенька был на месте; он тоже разглядывал товар, висевший на жерди над входом в лавку; и поглядеть Сеньке тут было на что. Сапоги с высокими голенищами и сапоги вовсе без голенищ… Сапожищи такие, что Илье Муромцу были бы впору, и крохотные сапожонки на годовалого младенца… Сапоги черные, сапоги красные, желтые, голубые, зеленые… Андреян снова повернулся к торговцу и повторил вопрос: — Так как же? Цена, спрашиваю, вот этим какая будет? Торговец словно очнулся от сна. — Цена? Вот этим? — затараторил он, ухватив Андреяна за рукав. — Бери-выбирай любые, мил человек. Юфть казанская, работа рязанская. Сто лет носить будешь — не износишь. Какие тебе?.. Вот эти? Цена этим полтина с алтыном, а с тебя для круглого счета ровно полтину возьму. Ты, мил человек, сам-то откуда? — Из-под Шуи мы, — сказал задумчиво Андреян, окончательно решив, что к таким сапогам ему не подступиться. — О! — всполошился торговец. — Выходит, земляки мы с тобой! И я-то ведь шуйский! — Какой деревни? — заинтересовался Андреян. — Деревни?.. — замялся торговец. — Так как же? Фу ты, запамятовал! Ну как же? Вспомнил, вспомнил, мил человек! — И он просиял весь. — Деревня Трубачеевка, под самой под Шуей. Ты-то сам не из Трубачеевки ли? — Нет, — ответил Андреян, — мы из Мурашей; мурашовские мы, князя Дмитрия Михайловича Пожарского крестьяне. А Трубачеевка… не слыхал я на нашей стороне такой деревни. Это какая же Трубачеевка? — Не все равно какая? Говорю тебе — земляки. Для такого случая я тебе, шуйскому, еще алтын скину. Провались я на этом месте, себе в убыток! Полтина без алтына. Всё. Только сказал это торговец, как поляки сдвинули Андреяна с места, так что он с Сенькой едва устоял на ногах. — Полтина без алтына, — сказал длинноусый шляхтич, сорвав с жерди приглянувшиеся Андреяну сапоги. — Выноси еще такие. Берем пять пар. Полтина без алтына. — Ты, пан, — молвил торговец, ухмыляясь, — либо на ухо туг, либо в русской речи не доспел. Какая полтина без алтына? Я сказал: полтина и полтина. Выходит, цена таким сапогам две полтины. Ну, пять пар — десять полтин. — Врешь, собачье мясо! — крикнул шляхтич. — Я не оглох еще! Ты с мужика этого спросил полтину без алтына, а с меня содрать хочешь? — Я, может, этому мужику, — сказал торговец, — и даром отдам. Потому это, что с этим мужиком мы земляки, а с тобой, пан-шляхта, мы чужаки. Так я тебе и совсем продавать не хочу. Давай сюда товар! Но тут паны загалдели, замахали кулаками, один даже выхватил из ножен саблю… — Ты и нам даром отдашь, собачья падаль! — гаркнул этот, с обнаженной саблей. — Держи карман шире, ищи дураков глупее! — процедил торговец, стиснув зубы. — Мой товар — моя воля. Ни продавать, ни отдавать не хочу ни тебе, ни твоему королю. Около лавки уже собралась толпа. — Поезжайте, паны, в свое место, — сказал какой-то старичок с чинеными валенками под мышкой. — Там себе сапоги и добывайте. — Там, где я стою, — там мое место! — крикнул низенький шляхтич с рыжим хохлом, свесившимся из-под шапки. Рыжий тоже выхватил саблю из ножен и ударил ею старичка с валенками плашмя по голове. Старичок покачнулся и выронил валенки. А поляки стали срывать с жерди сапоги. — Не хотел, падаль, ценой продать? Га-а! — кричали они, громя лавчонку. — Научим тебя торговать! Будешь знать, как с королевскими людьми разговаривать! — Ой, лихо наше! — завопил торговец, видя свое разорение. — Люди, не попустите, русские люди! — Бей шляхту! — крикнул кто-то в толпе. — Не давай панам воли! — отозвался другой. — Саблюками шляхта машет! — Наших режут! — раздался пронзительный женский вопль. Андреян ринулся было опять к лавчонке, где толпа теснила поляков, отбивавшихся саблями, но вспомнил о Сеньке. Мальчишка ухватил отца за ногу и потащил прочь. А конные поляки уже вломились в сапожный ряд на помощь своим. Они давили народ копытами коней, и снова женский вопль покрыл все крики, топот копыт, лязг обнаженных сабель. — Ой, младенчика, младенчика моего злодеи… Люди-и!.. Младенчика-а!.. Что учинилось с младенчиком, о котором вопила женщина, не разобрал Андреян. Он тут же схватил Сеньку, посадил его к себе на плечи и стал протискиваться к переходу. За переходом был еще ряд. Тут словно гром погромыхивал: что-то обо что-то ударялось, колотило, стучало, брякало. По всему ряду навалено было железо в прутьях, в полосах, в листах. Почти у каждой лавки лежали кучи железного лома. В самих лавках Андреян разглядел с улицы и молотки, и щипцы, и клещи, и наковальни — всякий потребный в кузнечном деле инструмент. Наконец-то Андреян очутился в кузнечном ряду! — За тем и пришли, — сказал Андреян. — Слезай, Сенька! Он тут же спустил Сеньку с плеч, и тот сразу снова вцепился ему в полу зипуна. Обернувшись, Андреян увидел Кузьку и хвата с серьгой в ухе. Обходя кучи железного лома и полосовое железо в штабелях, Кузька и хват направлялись прямо к Андреяну.ДЕРЖИ ВОРА!
В кузнечном ряду, кроме торговцев, было много и покупателей: все большей частью такие же кузнецы, как и Андреян, и даже чем-то смахивавшие на Андреяна. Это были рослые богатыри, чернявые, будто подкопченные на кузнечных горнушках. Бороды словно подгорели на огне; зипуны от прожогов дырявые; сапоги — с рыжими пропалинами. Андреян сразу узнавал своего брата-кузнеца или безусого детину-молотобойца, каким в молодости был он сам, когда учился своему ремеслу. С одним таким кузнецом Андреян разговорился у груды продольной проволоки для вязки печей. Кузнец этот охотно объяснил Андреяну, что всякий кузнечный инструмент лучше всего покупать у Петра Митриева, пятая лавка по левому ряду. Мол, Петр Митриев ни железом, ни проволокой теперь не торгует, у него этим товаром не раздобыться. Зато всякая потребная в кузнечном деле снасть у Петра Митриева — лучше не надо. И Андреян, ведя Сеньку за руку, пошел по левому ряду, отсчитал пятую лавку и вошел внутрь. В лавке было множество всякого инструмента на продажу, но покупателей не было никого. Кузька Кокорь и его приятель с серьгой в ухе заглянули на минуту в лавку, но тотчас же вышли и стали у входа. Хоть и темновато было в лавке, но Андреян и Сенька разглядели старичка с седой бородкой клинышком и большими железными очками на носу. Старичок сидел на высоком табурете в глубине лавки, за стойкой, на которой горела восковая свечечка и лежала большая раскрытая книга. — Не ты ли, отец, будешь Петр Митриев? — спросил Андреян, подойдя к старичку. — Ась? — откликнулся старичок и сполз с табурета. Сенька заметил, как при каждом движении трясется у старичка кончик бородки. — Не слышу, родимец: глуховат я. Чего тебе требуется? Старичок приложил ладонь к уху. Сенька увидел, что уши у старичка заткнуты комочками пакли. — Здравствуй, Петр Митриев! — крикнул Андреян, наклонившись к старичку. Старичок снял очки и заулыбался. Мутноватые глаза его осветились, и от них побежали во все стороны лучистые морщинки. — Да, да, — закивал он головой. — Выбирай, что требуется, что по душе тебе… Совсем оглох, — вздохнул он и вышел из-за стойки. — Пятьдесят лет в рядах торгую. Раньше и железом торговал Петр Митриев. Тут у меня в лавке что стуку день-деньской бывало от железа! Мне лекарь-немчин сказывал, что от стука этого я и оглох. Достукался, значит, Петр Митриев. — И старичок снова улыбнулся. Бывало, Андреян, если что нужно было по ремеслу, искал это в ближних селах на ярмарках и торжках. Вещи попадались не всегда добротные и соразмерные. А здесь, у Петра Митриева, были, можно сказать, наборы инструментов для целых кузниц. На прилавках, на полу, по стенам — повсюду были разложены и развешаны щипцы для хватания раскаленного железа; молотки всевозможных размеров; железные сопла для кузнечных мехов; наковальни, маленькие, пудовые, и другие, пудов на двадцать, каких Андреян никогда не видывал… А уж напильников было на прилавке! И таких, и сяких, и этаких. Сенька даже на скамью взобрался, чтобы получше разглядеть горку сличных напильников — самых мелких. Но рядом со сличными лежали напильники-брусовки — самые большие. И были у Петра Митриева в продаже напильники плоские, напильники круглые и полукруглые, напильники треугольные; были напильники тульской работы и напильники немецкого дела. — Хороша снасть, так и работа всласть, — сказал Андреян, беря с прилавка большой напильник с крупными насечками и тупым краем. — А без снасти — ну просто пропа́сти!
— Ась? Чего это? — тотчас откликнулся Петр Митриев. — Бери, бери, родимец; бери, пока есть. Не будет больше таких напилков. Ничего не будет. Откуда ему взяться? Паны польские стали на дорогах заставами. Ни тульскому мастеру, ни архангельскому купчине с товаром в Москву не проехать. Все шляхта отнимает силою. Одно слово — разорённый год на Руси, лихая година, конец пришел. — Верно, что разорение русской земле, — согласился Андреян. — Чистое разорение! — Я, родимец, — продолжал Петр Митриев, — сидельцев-приказчиков распустил, потому что не торгую я теперь, а распродаюсь. А как распродамся, так замок на лавку повешу, а то и так брошу — пускай гуляет ветер. — Ну, а сам-то, отец, куда подашься? — спросил Андреян. — Сам-то? А залезу, родимец, в доме у себя, у Спаса-на-Песках, на печь. Еще стоит домок мой! — И старик вздохнул: — Стоит еще. В лавку стал набиваться народ. Кузька Кокорь и хват с серьгой в ухе снова очутились в лавке. Даже двое шляхтичей стали проталкиваться к прилавку, на котором у Петра Митриева разложены были напильники. Сенька увидел шляхтичей и сполз от страха со скамейки. Петр Митриев переходил от покупателя к покупателю. — Ась? Чего? — тряс он бородкой и подносил ладонь к уху. — Бери… бери, народ русский, чего требуется тебе. Покупатели кричали глухому Петру Митриеву каждый свое, и галдеж поднялся в лавке — хоть прочь беги! А Петр Митриев все повторял: — Не будет, ничего не будет. Конец пришел; совсем пришла русскому царству погибель; одолела нас поганая шляхта… — Чего-о? — заревел вдруг шляхтич, стоявший рядом с Андреяном у прилавка с напильниками. — Поганая? Ах ты, пес! При этом шляхтич резко взмахнул рукой и с силой угодил локтем Андреяну в грудь. — Ну ты, шляхта! — крикнул Андреян. — Не больно размахивайся! А то сдачи получишь! — Я, холоп, так размахнусь, что голова у тебя с плеч шаром покатится! И шляхтич повернулся к Андреяну. Началась суматоха. Кричал Петр Митриев, кричал народ, кричали паны, но громче всех кричали Кузька Кокорь и хват с серьгой в ухе. Сенька, топчась в ногах у Андреяна, все же заметил, как протиснулись Кузька и хват к Андреяну и стали тут вертеться, толкаться, кулаками размахивать… И вдруг Сенька видит, как протягивается у него над головой рука Кузьки Кокоря и лезет к Андреяну за пазуху. Очень удивился этому Сенька, но понял, в чем дело, только тогда, когда увидел у себя над головой тятин кошель, который мелькнул и исчез. Сенька вскрикнул и стал дергать Андреяна за полу зипуна. А Кузька и хват уже пробирались к дверям. — Тять! — выбивался Сенька из последних сил в давке и реве, который стоял вокруг. — Тять! Украли! Кошель украли! Кузька украл! Вон он — Кузька. Тять, кошель! Андреян наконец вспомнил о Сеньке, барахтавшемся у его ног. — Сенька! — крикнул Андреян. — Где ты? — Здесь я, тятя, — донеслось к Андреяну словно из-под полы зипуна. — Кошель твой… Кузька украл… Андреян схватился за пазуху. Зипун был на груди расстегнут, и кошеля за пазухой как не бывало. Андреян обомлел. — Кошель украли! — завопил он вдруг. — Держи вора! Он шибанул кулаком в грудь хорохорившегося перед ним шляхтича. Не только шляхтич, но и вся толпа позади него подалась, и Андреян вырвался к двери. А Кузька с хватом были уже на улице. — Держи вора! — крикнул Андреян, выскочив за дверь. Бежал Андреян; обгоняя один другого, бежали продавцы, выскакивавшие из лавок; бежал народ, сколько его случилось на ту пору в кузнечном ряду. И все кричали: «Держи вора!» Но резвее всех бежали впереди всех Кузька Кокорь и хват с серебряной серьгой в ухе. Они тоже вопили «Держи вора!» и даже тыкали пальцами куда-то в пространство. Юркнув в переход между кузнечным рядом и соляным, Кузька и хват притаились там за большой бочкой и пропустили мимо себя всю погоню. Когда вопли «Держи вора!» заглохли где-то в дальнем переходе, Кузька и его приятель вышли из-за бочки и стали, оглядываясь и таясь, выбираться из торговых рядов. Узенькими проулками, а потом задворками, заваленными мусором, оба вора обошли торг на площади и вышли к Неглинной речке, протекавшей вдоль северной стены Кремля. Там, под кремлевской стеной, у самых Троицких ворот, стоял на берегу речки кабак — невзрачное строение, грубо срубленное из кое-как ошкуренных бревен. Кабак этот служил сборным местом для всех московских мошенников. Войдя в кабак, Кузька и хват забрались в самый дальний угол и спросили вина. На столе появились оловянные кружки с мутноватым зельем. — Пей, Кузька! — сказал хват, подняв свою кружку. — И ты, Ероха, пей! — молвил Кузька. — Выпьем господу во славу, нам с тобой во здравие, за кузнеца-дурака — чтоб не зевал, по торгам шатаючись. Отпив из кружек, оба мошенника принялись считать деньги в Андреяновом кошеле и делить добычу.
ОПЯТЬ — ПУЗАТЫЙ ПАН!
Толпа, бежавшая по торговым рядам с криком «Держи вора!», вскоре стала редеть. Люди убеждались, что вора, которого никто из них в лицо не видел, все равно не поймать. И они, по нескольку человек сразу, отставали от погони и возвращались каждый к своему месту. Вскоре Андреян заметил, что из всей погони он остался один. Но он продолжал, задыхаясь, весь мокрый от пота, обегать ряды. На поворотах Андреян налетал на людей, чуть не сшибая их с ног. Он проталкивался сквозь толпу; народу было особенно много там, где начиналась какая-нибудь заварушка с поляками. И снова бежал Андреян, высматривая, не мелькнет ли где Кузька в латаном кафтане и красном кушаке или хват с серьгой в ухе. Но шушеры и в латаных и просто в дырявых кафтанах околачивалось в рядах гибель, и никто из них не был Кузькой. И молодчиков с серьгами в ушах было тоже немало — и с серебряными серьгами, и с золотыми, и с алмазными… Однако Кузькин хват, как и сам Кузька, словно дымом развеялся. Прощай, Кузька с хватом, прощай, значит, и Андреянов кошель!
Андреян уже почти пришел к такому заключению. Он остановился и, стиснув кулак, погрозил им в пространство. — Ну попадись ты мне только! — прошептал Андреян. — Попадись ты мне, злодей!.. — Песья кровь! — услышал он чей-то окрик. — Это мне ты, собака, кулаком грозишь? Я — шляхтич польский! Голос шляхтича показался Андреяну знакомым. Андреян взглянул и в первую минуту собственным глазам своим не поверил. Серединою ряда Андреяну навстречу шел пузатый пан в сбитой на затылок собольей шапке. Словно не человек шел, а пивная бочка перекатывалась; и были у этой бочки сивые усы и сивый хохол… Батюшки! Да ведь это тот самый пан, который еще в Мурашах похвалялся ссечь своей острой саблей голову Андреяну! Положим, голова осталась у Андреяна на плечах. Но ведь это, кажется, он своим сапогом в один миг превратил тогда лицо пузатого пана в огромный кровоподтек? Вон, гляди! Нос у пана как будто своротило на одну сторону, а рот — на другую. И глаза у пузатого тоже стали совсем раскосыми: как говорится, один глаз смотрит на вас, а другой в Арзамас. Сомнений быть не могло. Все эти перемены в панской наружности произвел, конечно, не кто иной, как кузнец Андреян, когда оглушил пузатого ударом сапога в лицо. И перемены эти были велики. Тем не менее Андреян сразу узнал пана и вспомнил родные Мураши и злосчастный день, когда пан этот нагрянул к ним в село. Неизвестно, узнал ли пузатый пан Андреяна. Вряд ли узнал. Иначе он сразу ринулся бы на мурашовского кузнеца, каквзбесившийся бык. Но пан выступал неторопливо, вперевалку… Четверо поляков несли за ним очень, по-видимому, тяжелый ящик. В ящике временами что-то глухо стучало или со звоном брякало. И пока пан медленно, точно черепаха, надвигался на Андреяна, у того хватило времени и на то, чтобы вспомнить свою сгоревшую кузницу в Мурашах, и на то, чтобы молвить чуть слышно: — Погоди, шляхта, и ты у меня! Будет у нас с тобой еще встреча! Сказав это, Андреян забрался в толпу, в самую гущу. Тут только он спохватился, что нет с ним Сеньки. — Сенька! — позвал негромко Андреян. — Сенька! — молвил он еще раз, но погромче. — Ан вот я, Сенька, — услышал Андреян позади себя чей-то сиплый голос. — Ты, что ли, дядя, меня кликал? И кто-то потянул Андреяна за рукав. Андреян обернулся. Перед ним стоял, осклабясь, приземистый мужичонка, с распухшей щекой, обвязанный красным платком. — И что же ты, дядя, к примеру, теперь мне скажешь? — спросил мужичонка и так заулыбался, что платок сполз у него со вспухшей щеки. — Ничего я тебе не скажу, — процедил сквозь зубы Андреян, у которого объявилась теперь новая забота: Сенька пропал. — Ступай, мужик, ненадобен ты мне! — попробовал Андреян отмахнуться от мужичонки. — А коли не надобен, так зачем кликал? — Не кликал я тебя. — Нет, кликал, — не сдавался мужичонка. — Ты кликал: Сенька! «Вот еще напасть!» — подумал Андреян. — Не один ты тут Сенька, — молвил Андреян, следя глазами за пузатым паном. Пузатый в эту минуту как раз поравнялся с толпой, в которую втерся Андреян. — Не один ты тут Сенька, — повторил Андреян. — Тут в ряду, кроме тебя, еще семь Симеонов, и все на тебя не похожи, а всяк молодец на свой образец. — Разве что так, — готов был согласиться мужичонка и стал тут как-то жаться к Андреяну, забираясь то с правой стороны, то с левой. — А ежели ты, мужик, кошель у меня хочешь скрасть, — продолжал Андреян, — так не хлопочи понапрасну: кошель у меня уже украли. — Когда же это? — заинтересовался мужичонка. — А это не твоя печаль. Убедившись, что пузатый, пройдя по ряду, пропал за поворотом, Андреян стал выбираться из толпы. — Вот народ! — снова услышал он позади себя сиплый голос все того же мужичонки. — Уже украли… Это что же такое получается? — Опоздал, брат, — вот что получается! — бросил ему напоследок Андреян. И, не медля ни минуты, Андреян бросился обратно к Петру Митриеву в кузнечный ряд.
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ…
Когда все, кто был в лавке Петра Митриева, метнулись к выходу ловить вора, Сенька тоже стал пропихиваться к двери. Но тут он очутился в ногах у шляхтича, которому Андреян минуту назад обещал дать сдачи, если тот будет чересчур размахиваться. Шляхтич этот пробрался было к выходу, но почувствовал, что в ногах у него что-то копошится. Не молвив слова, он схватил Сеньку за шиворот, приподнял и с силой отбросил прочь. Сенька турманом пролетел через всю лавку и грохнулся на пол уже за прилавком. Было больно и обидно, и Сенька заревел. Петр Митриев видел все это. Видел, как Сенька летел через лавку… Видел, как пан вынул из кармана шелковый платок и вытер им руку, точно обмаралась панская рука, прикоснувшись к Сеньке… — Не больно важничай, шляхта! — вскипел Петр Митриев и затопал ногами, затряс бородкой. — Не скрутили тебе головы мужики польские, так русские скрутят! Но пан уже был на улице и вряд ли за общим шумом слышал, о чем кричал в лавчонке своей глухой старик с козлиной бородкой. А старик этот еще покричал, еще ногой топнул и стал искать глазами Сеньку. — Эй, малец! — звал Петр Митриев. — Куда ты завалился? Сенька, сидя на полу за прилавком, ревмя ревел, но глухой Петр Митриев рева его не слышал. Старик зажег слюдяной фонарь и пошел искать Сеньку по темным углам. Обнаружил Петр Митриев Сеньку за прилавком, в каком-то закутке, куда сам он редко заглядывал. Старик поставил фонарь на пол и выволок Сеньку на середину лавки. — Расшибся ты, парень? — спросил участливо Петр Митриев. — Где болит? Дай я маслицем помажу! — Не-э! — заливался слезами Сенька. — Не боли-ит! У Сеньки, положим, порядочно ныл бок и щемило в загривке, но сознаваться в этом он не хотел. Бывало, и прежде, в Мурашах или в Мугрееве: ушибется Сенька — на пень ли напорется в лесу, либо зимой где-нибудь на речке на льду растянется… С колена кожа у Сеньки содрана, на лбу — шишка с куриное яйцо… Больно… На глазах у Сеньки слезы, но он только зубы стиснет; смотришь — ан и боль прошла! И тут тоже, у Петра Митриева в лавке, Сенька заметил, что боль в боку и загривке понемногу проходит — казалось, плакать бы нечего, однако Сенька продолжал заливаться в три ручья. — Так-таки ничего не болит? — счел нужным еще раз спросить Сеньку Петр Митриев. — Ни-че-го не бо-лит! — ответил Сенька, плача навзрыд. — А зачем в рёвы ударился? — продолжал допытываться Петр Митриев. — Обидно-о! — Обидно-то оно обидно. Ты обиды не забывай, парень; а плакать брось. Брось, говорю! Слезами горю не поможешь. Москва слезам не верит. Сенька перестал плакать и вытер рукавом мокрое от слез лицо. «Москва слезам не верит, — повторил он мысленно слова Петра Митриева. — Вишь ты! Ведь и тятя еще в Мугрееве однажды так сказал!» А старик с добрыми глазами и трясущейся бородкой продолжал поучать Сеньку. — Слезы — что? — твердил Петр Митриев, усадив Сеньку рядом с собой на скамью. — Слезы — вода! Потри глаза сырым луком — и слеза пойдет. А Москва, брат, — она, у-у, орешек!.. Слезами ее, матушку, не проймешь. Москве, парень, не слезы твои нужны, а руки. Это чтобы железо ковать, доски стругать, сапоги тачать, а лютых ворогов — в пень рубать. Сенька вспомнил шляхту, как паны в Мурашах всё у тяти спалили, и сказал: — Буду, дедушка, шляхту в пень рубать! Эк они в Москве-то озоруют! — Ась? — И Петр Митриев поднес ладонь к уху. — Озоруют, говоришь? Вот и надо, сынок, рубать их, пока не замирятся и не уйдут, откуда пришли. Тебя Сенькой кличут? — Сенькой. — Что я, Сенька, тебе покажу! Петр Митриев полез в ларь, полный всякого хлама, и вытащил оттуда какую-то тускло отблескивающую, покрытую пылью вещицу. Это были два оловянных брусочка, и на одном из них, на верхнем, распластался вырезанный из жести шляхтич. Два молодца в русских кафтанах склонились над шляхтичем, держа в руках каждый по жестяному прутику. Петр Митриев поднес палец к губам. — Тсс! — протянул он. — Гляди, что будет. Он зажал в пальцах концы брусков и стал сводить их и разводить. От этого оба молодца в кафтанах сразу замолотили шляхтича по спине, так что звон пошел и пыль полетела. Сенька только рот от удивления разинул. — Гляди, а? — приговаривал Петр Митриев. — Хитрая штука, а? Секи шляхту, рубай ее в пень, гони прочь, прочь, прочь!.. Сенька уже хохотал во все горло. Смеялся и Петр Митриев, и кончик бороды дрожал у него одним волоском, как паутинка на ветру. Игрушка перешла затем в Сенькины руки, и Сенька тоже стал ловко управляться с нею. Молодчики в кафтанах всё яростнее мочалили шляхтича, с размаху, откидываясь и вновь нагибаясь. А Петр Митриев, притопывая ногой, все приговаривал: — Прочь, прочь, прочь!.. Гони, секи, рубай!.. Но Сенька отложил игрушку в сторону и глянул исподлобья на дверь. — Где тятя? — молвил он с тоской в голосе. — Чего же тятя не идет? — Придет тятя, не кручинься! — стал Петр Митриев снова успокаивать Сеньку. — Велика Москва, да ведь и тятя не иголка. Небось не потеряется. — Кошель у нас украли, — вздохнул Сенька. — А? Кошель? Кошель — это да! — разделил Петр Митриев с Сенькой его кручину. — Много теперь ворья этого расплодилось в Москве. Смутная пора — вот ворам и раздолье. — Тя-ать! — протянул Сенька, и слезы снова готовы были брызнуть у него из глаз. Но Сенька вовремя вспомнил, что Москва слезам не верит и плакать в Москве не полагается. Он крепко зажмурил глаза, чтобы не дать ни одной слезинке выступить наружу. — Сенька, ты здесь? — услышал он тятин голос. Когда Сенька открыл глаза, Андреян уже шагнул через порог.…А СВЕТ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Андреян, когда увидел Сеньку на скамье, рядом с Петром Митриевым, сразу успокоился и тоже опустился на скамью. — Поймал ты Кузьку, тятя? — Поймаешь его! Как стал сигать из ряду в ряд! Бежит, а сам вопит: «Держи вора! Держи вора!» И никому невдомек, что вор-то он, Кузька, и есть. — Чего это? — поднес ладонь к уху Петр Митриев. — «Держи вора» кричит? А это у них, у воров, известная уловка. Бежит, след заметает, «держи вора» кричит. — Ты-то, Петр Митриев, его не примечал в рядах? Кузькой Кокорем зовется. — И-и, милый! — махнул рукой старик. — «Кузькой Кокорем»… Сегодня он Кузька Кокорь, а завтра Митрофаном Грязным называется… А денег-то в кошеле много ли было? Велика ли казна? — Как тебе сказать… По мне, так велика. А по тебе, купец, если мерить, так, может, и совсем мала покажется. Хотел у тебя того-другого прикупить, да вот ворочусь к себе на подворье с пустыми руками. — А ты знаешь, что, добрый человек? — подмигнул Петр Митриев Андреяну. — Тебя звать-то как? Имечка твоего не знаю. — Андреяном звать. Кузнецы мы. — Я за версту бы спознал, что кузнец. Я вашего брата нюхом угадываю. А ты, Андреян, чей будешь? За кем пишешься? — Приписаны мы ко князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. — О-о!.. — протянул Петр Митриев. — Это ты зарайского воеводы мужик будешь? Слыхали мы про зарайского, как он там под Зарайском шляхту крошил. Крепкий человек, великого духа человек… — Господин — никому другому в ровню не станет. Сам не обидит и другому в обиду не даст… Ну, Сенька! — И Андреян встал со скамьи. — Пришли налегке, и пойдем отсель еще легче. Чай, мать заждалась. — Постой, мастер! — придержал Петр Митриев Андреяна. — Погоди! Тебе что требуется по ремеслу — отбирай. На веру, на совесть, значит. Двор у вас на Сретенке, близ церкви Введенья? Знаю, знаю я ваш двор. Так ты отбирай, что надобно тебе, и волоки к себе на Сретенку. А мы уж сочтемся. Не на тебе взыщу, так на князе Дмитрии Михайловиче. Да я и тебе, Андреян, верю. Андреян растерялся. Как-то чудно показалось ему, что рядский купец, в чужом городе, с первого знакомства предлагает ему взять товар в долг, на веру. Робко, словно нехотя, стал Андреян отбирать с прилавков то напильник, то щипцы, то молоток… Петр Митриев прикинул: получилось товару на восемь гривен с деньгой. «Неужто ж поверит мне Петр Митриев столько?» — подумал Андреян. А Петр Митриев достал из-под прилавка рогожный кулек и положил его на отобранный Андреяном товар. — Сам отбирал — сам и укладывай, — сказал Петр Митриев. — А деньги тебе, отец, когда же? — спросил Андреян смущенно. — А вот как разживешься, так и деньги принесешь. Вижу, не обманешь старика. — Не обману, отец. Принесу деньги. Слово мое крепко. — А чай, снасть-то эта тебе, Андреян, требуется теперь не печные ухваты для баб работать? — И Петр Митриев стал весело потирать руки. — Может, для чего другого тебе, кузнец, эта снасть теперь понадобилась? Ха-ха-ха! — Может, для чего другого, — улыбнулся Андреян. — Ну и хорошо! Ну и дело! — приговаривал Петр Митриев, потирая ладонь о ладонь. — Волоки ее, снасть эту, к князю Пожарскому на Сретенку. А это вот — в придачу, не в счет. Да не тебе, а Сеньке. И старик взял со скамьи игрушку с вырезанным из жести шляхтичем и положил ее поверх рогожного кулька. — А это… это… что же это? — недоумевал Андреян. — А это, тятя… — схватился Сенька, — это, тетя, гляди! Он взял в руки игрушку, и молодцы в кафтанах стали снова обколачивать прутья о шляхетскую спину. — Вот так штука! — удивился Андреян. — Ловко придумано! Главное дело — ко времени. — Как? Ко времени? Это ты верно говоришь, кузнец, — согласился Петр Митриев. — Ко времени, очень даже ко времени! — Ну, Сенька, — сказал Андреян, — поклонись дедушке за добро, за ласку и за подарок. Скажи: спасибо, дедушка Петр Митриев. Сенька снял свой колпачок с головы и низко поклонился приветливому старику. — Спасибо, добрый дедушка Петр Митриев! — звонко выкрикнул при этом Сенька. — Ну-ну, — сказал Петр Митриев, потрепав Сеньку по спине. — Чего уж! Идите с миром. И бородка у Петра Митриева затряслась, а морщинки снова к вискам лучиками разбежались. Когда Андреян с Сенькой вышли на улицу, короткий осенний день уже был на исходе. Купцы, грохоча тяжелыми засовами и пудовыми замками, запирали лавки. В рогожном кульке у Андреяна позвякивал металл. Андреян и Сенька, поминутно спрашивая у встречных дорогу, вышли в охотный ряд и стали подниматься вверх, к Лубянской площади. Оба шагали молча. Когда поверх заборов и кровель показался золоченый крест на колокольне Введенской церкви, Андреян повернулся к Сеньке и молвил: — Вот видишь, Сенька, как это выходит: Москва, говорят, слезам не верит, а свет-то все-таки не без добрых людей!ПОЧЕМ ДРОВА?
Зима накатила в одну ночь. Выбежал Сенька ранним утром из избушки, видит — всюду белым-бело. Сенька сразу слепил снежок и запустил им в Жука. Пес увернулся, снежок пролетел мимо. «Что, взял!» — должно быть, подумал Жук и помчался вдоль тына, печатая лапами по свежей пороше. А снегу легло, снегу!.. И по кровлям, и по карнизам… Белый, чистый… Однако на улицах, по которым проезжали крытые возки на полозьях либо тяжелые обозы, снег спустя несколько дней стал бурым и зернистым, как крупная соль. Всю зиму Андреян колотил молотком по металлу в своей новой кузнице на Сретенке, в дальнем углу просторного двора. И верно, что Андреян в кузнице у себя ковал не печные ухваты. Другая теперь требовалась работа. Федос Иванович приказал огородить кузницу тесовым забором, чтобы ненароком чужой глаз не заметил, сколько сабель и бердышей выходило теперь из умелых Андреяновых рук. На Сретенку из Зарайска и в Зарайск со Сретенки все время пробирались гонцы. И зарайский воевода князь Пожарский, сидя в Зарайске, хорошо знал, что творится в белокаменной Москве. А Москва глухо клокотала. По-прежнему то в одном месте, то в другом возникали ссоры и стычки между москвичами и польскими захватчиками. Паны то запирались в Кремле, то скакали к московским заставам и метались как угорелые из одного конца города в другой. Паны догадывались, что в Москве готовится мятеж. Москвичи, как раньше так и теперь, не давали шляхте спуску. Стоило только бритоголовым, хохлатым панам показаться где-нибудь на рынке, как торговцы пускали им вслед ругательства. Мясники, хлебники, шапочники и сукновалы, торговавшие на московских рынках, не стеснялись прямо в глаза называть панов плешатыми, короля их, в их же присутствии, честить старой собакой, а королевича Владислава — собачьим сыном и щенком. Похоже было, что москвичи и в самом деле по доброй воле никогда не примут к себе этого щенка, навязанного русскому государству в цари. Все это было известно и князю Дмитрию Михайловичу, и он прислал сказать Федосу, что скоро будет в Москве. — Жду не дождусь, — велел ответить князю старый приказчик. — Все готово для твоей милости. Спустя неделю конюхи перевели из Зарайска в Москву любимого коня Дмитрия Михайловича. Серый в яблоках жеребец фыркал на холоду, и пар клубами так и валил у него из ноздрей. Приняв его от конюхов, Федос Иванович сам поставил его в конюшню. «Ну, князь теперь и впрямь скоро будет!» — решил старик и не ошибся. Стоял трескучий мороз. Деревья обросли инеем, как серебряной бахромой. Молочного цвета туман стлался по дорогам, и трудно стало разбирать, кто свой, кто чужой, кто стрелец с пищалью и кто мужик с посошком. В тумане, не замеченный польскими дозорами, князь Пожарский, ведя за собой тысячное войско, подошел к Москве. В город князь не вошел. Люди, которых он привел с собой, стали сами — поодиночке, по двое, по три человека — просачиваться в город. Глухими переулками, пряча оружие под полами зипунов, они пробирались на Лубянку, к Введенской церкви. Там, за церковной оградой, их поджидал Федос Суета. Подходившие, разглядев в тумане за решетчатой оградой худого, как жердь, старика, останавливались. — В Зарайске, — обращались они к Федосу Ивановичу, — дрова по гривне с воза. Почем платят в Москве? — Дам с воза по пяти алтын, — отвечал Федос Иванович, убедившись по этому заранее условленному разговору, что имеет дело с людьми князя Дмитрия. А люди эти по ответу Федоса Ивановича видели, что надо им отдаться на волю этого человека. Так им было наказано от князя Дмитрия Михайловича. Федос Иванович зорко оглядывал каждого. У одного пола зипуна вздулась — конечно, от тяжелой пищали; у другого низ, верно, оттопырила кривая сабля, что прицеплена к поясу кафтана под зипуном. А люди, перемолвившись со старым Федосом, приплясывали на месте от донимавшего их мороза и спрашивали: — Куда, дед, сбрасывать? — Ступай дальше, на Сретенку, по левой стороне шестой двор. Сеньку из-за мороза мать не выпускала из избы, и мальчишка через слюду в окошке не различал, что творится на улице. Он только на другой день со слов отца понял, что этой ночью в Москву на свой сретенский двор пожаловал князь Дмитрий Михайлович. Княгиня Прасковья Варфоломеевна не приехала, осталась в Зарайске.ВОЗЧИКИ
Прошла неделя, потом другая, и как-то вдруг пропали морозы и кончилась зима. Наступил март 1611 года, и хотя снег еще держался, но днем звенела капель и в воздухе пахло весной. Всех потянуло на улицу. Высыпали на улицу и поляки, стоявшие постоем в домах за Китайгородской стеной. С десяток панов пошли слоняться по Китай-городу, хохоча во все горло. При этом шляхта без всякой нужды бряцала саблями. В одном месте шляхтичам перегородил дорогу обоз. Возчики шли подле саней и хмуро поглядывали на распоясавшихся чужеземцев. Но был среди подводчиков молодой парень, по имени Матюша, по прозвищу Весноватый. До лета еще далеко и весна не пришла, а на лице у Матюши полным полно веснушек. Матюша глядит и улыбается. От мартовского солнца, от просини в небе играет у озорного Матюши душа. — Эй вы, хари! — бросил Матюша вдогонку панам. — Пан Галка и пан Тёлка, чего сабельками брякаете? Паны остановились. Один из них, черный, длинноносый, и верно был похож на галку. Он погрозил Матюше палашом и крикнул: — Пёстрый, заткни рот онучей! А то я тебе заткну! — Заткнись сам, проклятый! — И Матюша показал пану Галке кнутовище: — Во! Недолго тебе тут сидеть! Скоро собаки тебя за хохол потащат, если добром не уйдешь из Москвы! Паны о чем-то переговорили, потоптались и пошли прочь. А у подводчиков лица посветлели. — Эк отбрил Матюша! — заметил подводчик, у которого из дыр в валенках торчала солома. — Отбрил-таки: ступай, мол, прочь, не то собаки за хохол потащат. Хо-хо!.. И только сказал это подводчик в дырявых валенках, как из переулка выбежала новая толпа усачей, с хохлами, торчавшими из-под шапок. — Сворачивайте, холопы, в переулок! — кричали возчикам хохлачи. — Зачем в переулок? — удивились возчики. — Переулком этим, пан, никуда не проедешь: в тупик упрешься. — В тупике сани и покинете. А сами — за работу! — Какую работу? — недоумевали возчики. — У нас, вишь, работа — кули скинуть в мучном ряду. — А мы вам работу — на башни пушки таскать. — Что ты, пан, опомнись! Какие пушки? — Нашел, пан, дураков! Пушки ему таскать… А потом ты, пан, из пушек из этих по мне палить станешь? Ишь ты, хитер, как муха! — Долго вы тут, холопы, разговаривать будете? — А мы с тобой, пан, и разговаривать не хотим, — заметил возчик в дырявых валенках. — А на пушки твои, пан, я плевал. Тьфу! — добавил Матюша и плюнул так, что угодил пану на носок сапога. Пан вскипел: — Ах, вы так? — Мы — так, — сказал Матюша. — А вы как? — А мы — так, — ответил пан и влепил Матюше здоровенную плюху. Матюша покачнулся, но удержался на ногах. — А мы — вот как! — рявкнул он во всю глотку и, боднув пана головой в живот, сшиб его с ног. Паны выхватили сабли — и пошло. Сбежавшийся народ не дал возчиков в обиду. На помощь панам примчался отряд конников — усатых и хохлатых. Началось великое побоище на улицах Москвы. Панам оно было на руку. Они подожгли город с нескольких концов и начали резню и грабеж. И снова Сенька, как летом в Мурашах, увидел дым, который поднимался в стороне Никитской улицы черным столбом. И опять услышал Сенька рев набата, но звонили где-то далеко. Когда стемнело, мать уложила Сеньку на теплой печке и укрыла полушубком. Сенька засыпал, а подле него на печке лежала игрушка, подаренная ему Петром Митриевым: два молодца в русских кафтанах и распластавшийся шляхтич. С месяц назад Сенька с отцом побывали в лавке у Петра Митриева. Андреян поздоровался с хозяином, достал из-за пазухи кожаный мешочек, в котором держал теперь деньги, и вернул Петру Митриеву долг. Старик потирал руки — он был, видимо, очень доволен, что и деньги получил и в Андреяне не обманулся. — А что, Андреянушка, князь твой? Каково здравствует? — Ничего, отец. Слышно, живет в Зарайске поздорову с княгиней и детками. — А нет ли такого разговора, Андреян, что князь-де в Москву жалует? — Есть такой разговор, Петр Митриев. Слух есть, что скоро пожалует. Петр Митриев и этим остался доволен. — Хорошо, это хорошо! — твердил он, провожая Андреяна с Сенькой к двери. — Ась? Чего? Ну, дай бог!.. Сенька, засыпая, вспомнил, как подрагивает у дедушки Петра Митриева на кончике бородки то один волосок, то сразу два. Дрожит волосок… и еще дрожит… и вот перестал дрожать. Сенька заснул и, разоспавшись в избяном тепле, не услышал, как ударили в набат совсем близко, на Введенской колокольне. Первая услышала набат Арина. А вслед за набатом она услышала стук в окошко и голос Федоса Ивановича. Арина тотчас разбудила Андреяна. Кузнец натянул зипун, открыл дверь избушки и сразу очутился на дворе.ОСТРОЖЕК НА ЛУБЯНКЕ
На дворе по снегу пробегали алые отсветы пожара. Огонь уже гулял на Лубянке, подбираясь к Сретенке. На колокольне Введенской церкви не умолкая колотил набат. Князь Дмитрий Михайлович стоял у ворот, в кольчуге и шлеме. В настежь открытые ворота мимо князя Дмитрия Михайловича выходили на улицу ополченцы. Федос Иванович велел Андреяну заняться вместе с другими работными людьми укладкой бревен на дровни, которые целым обозом вытянулись вдоль забора. Лошади, поднятые среди ночи, пугались зарева на снегу. Их с трудом удавалось осаживать, потому что они рвались из оглобель. Чуть рассветало, когда обоз тронулся со двора и подтянулся к Введенской церкви. Князя Дмитрия Михайловича нигде не было видно. «Может быть, — подумал Андреян, — бьется теперь князь со шляхтой где-нибудь на Лубянке; стоит за русскую землю и мужиков русских». Вокруг Введенской церкви тянулась на добрую версту в окружности низенькая каменная ограда с сорванными воротами, кое-где совсем обвалившаяся. В ограде распоряжался всем хозяйственный старик Федос Суета. По его приказу и Андреян взял в руки топор, и пошло тут: стучат плотницкие топоры, связывая бревна по углам; бьется пудовый язык в большой колокол на Введенской колокольне; плещут вверху, над церковными куполами, голуби, спугнутые с карнизов небывалым переполохом. К утру внутри церковной ограды выросла вокруг Введенской церкви деревянная крепостца-острожек с двумя башенками, на которые были поставлены пушки. Работа подходила к концу, когда на своем сером жеребце прискакал князь Дмитрий Михайлович. Он наскоро осмотрел все, что было сделано в церковной ограде за эти короткие часы. — Вязь крепка, — одобрил он работу плотников: — стена в стену, ярус к ярусу. Башни бы еще поднять… Ну, да теперь уж поздно! А здесь… — и он указал на не заделанный еще проем в стене: — здесь завалить чем придется. Не мешкай, заваливай сейчас же! Пока Дмитрий Михайлович распоряжался, Федос Иванович стал перевязывать ему полотенцем левую руку, которая была в крови. Шум боя становился все ближе, князь торопил Федоса Ивановича… Когда с перевязкой было кончено, князь дал своему жеребцу шпоры, вздыбил его и помчался обратно на Лубянку, в гущу боя. Андреян вколачивал в гнезда сруба деревянные шипы, когда на церковный двор прибежал Сенька. Почему-то Андреян не придал этому значения. Он в Москве уже привык к тому, чтобы Сенька всегда находился подле. Работал ли Андреян в новой кузнице или отправлялся на торг прикупить что-нибудь, Сенька всегда был тут. «Ничего, — думал Андреян, — пускай приглядывается мальчишка. Придет его пора — и сам возьмет молот в руки». Но на этот раз дело обернулось иначе. Очутившись на церковном дворе, Сенька поглядел сначала, как отец управляется с шипами: «бахх!» — удар обухом топора, и полуаршинный шип вонзается в гнездо. Потом Сенька обежал вокруг церкви и заглянул на колокольню, где бил в набат какой-то красный с натуги мужик. Но, когда мальчишке вздумалось взобраться по приставной лестнице на башню, кто-то схватил его за ноги и дернул так, что, скользнув набок, Сенька шмякнулся вниз — хорошо, что в кучу снега. — Не лазь! — рявкнул чей-то голос. Сенька успел только заметить зеленый пушкарский кафтан на человеке, поступившем столь невежливо. Пока Сенька отряхивал с себя снег, пушкарь в зеленом кафтане сам взобрался на башню и стал там вправлять болт в станок, на котором лежала тупорылая пушка-коротышка. «Ой, пальнет!» — испугался Сенька. Он никогда не видел пушечного боя и знал о нем только понаслышке. Федос Иванович несколько дней назад рассказывал на дворе царским мужикам, что есть в Кремле пушка, большая-пребольшая… Если из пушки этой пальнуть, то стекла, где они есть в Москве в окнах, сразу — вдребезги, и люди наземь попадают, а которые так и вовсе оглохнут. «Станут, — решил Сенька, — как дедушка Петр Митриев, кричать: «Ась? Чего, чего? Не слышу!» А на диковину эту, говорит Федос Иванович, и поглядеть теперь нельзя. Кремлем завладели поганые, и русский человек лучше в Кремль не суйся! Издали, из Замоскворечья, откуда-то с Нижних Котлов, доносились на Сретенку пушечные выстрелы; но звуки были приглушены расстоянием, гудением набата и гулом, стоявшим над всей Москвой. Могло казаться, что не пушкари орудуют в Нижних Котлах, а просто какой-то очень большой человек — прямо сказать, великан — отдувается после тяжелой работы: «Ух! Ух!» Но этот, в зеленом кафтане на башенке у тупорылой пушки, — до него было, как говорится, рукой подать. Что, как в самом деле пальнет? Чего доброго, оглохнет от этого Сенька и тоже будет кричать «ась!» Чтобы избежать такого, Сенька заткнул руками уши и зажмурил глаза. Стоя так под башней, Сенька ждал, что вот раздастся выстрел, и тогда неизвестно еще, что будет. Но выстрела не было. Зато какие-то звуки другого рода стали прорываться в Сенькины уши, хотя Сенька крепко-крепко стиснул их руками. Все же Сенька чуть приоткрыл глаза и увидел, что в распахнутые ворота острожка хлынули толпы княжеских ополченцев. И трубы трубили, как летом в Мурашах, и тот же мугреевский малый, стоя на дровнях, бил в бубен. Сенька сразу разжал уши и услышал крик: — Гей, сторонись, сторонись! Пропустите князя! Князя пропустите, черти! Оглохли вы, медведи зарайские? Толпа раздалась, и серый в яблоках жеребец прянул в острожек, неся на себе князя Пожарского. Лицо у Дмитрия Михайловича было окровавлено, а левая рука в белой повязке висела как плеть.ТИМОФЕЙ-ВОРОБЕЙ
Все Замоскворечье было охвачено огнем. А по сю сторону Москвы-реки Никитская улица уже выгорела; поляки и немцы жгли теперь Лубянку. Несчетно раз бросался Пожарский со своими ополченцами на немцев и поляков, крошил их в крошево и отгонял от Сретенки прочь. Князь Дмитрий Михайлович был уже ранен и в скулу, но правая рука его еще крепко сжимала обнаженную саблю. А пламя пожара все надвигалось; оно летело, оно рвалось с Лубянки к Сретенке, и ничто не могло преградить дорогу огню. Ополченцы Пожарского наскоро устроили на Лубянке завал через дорогу, от забора к забору. Мигом выросла гора из накиданных дров, опрокинутых саней, срубленных берез — из всего, что подвернулось под руку. Сидя за завалом, ополченцы разили шляхту из пищалей и сшибали с завала копьями и рогатинами. На помощь ополченцам сбегались люди со всех дворов. Но полякам удалось поджечь и завал. Сначала где-то незаметно тлело внизу; откуда-то, совсем близко, тянуло дымком, но в пылу боя никто этого не замечал. И вдруг вся эта гора рухнула, и ополченцам снова открылась вся Лубянка, которую запрудила немецкая пехота и польская конница. — В острожек! — крикнул Пожарский. — Все в острожек! Не мешкай! Трубач, труби отход! Ополченцы отхлынули от завала и бросились к Введенской церкви. Пропустив всех, князь, держа в правой руке и поводья и саблю, дал жеребцу волю. Горячий конь, возбужденный огнем пожара и грохотом боя, мигом внес князя в ворота острожка. Сразу после этого створы свели, засов задвинули и привалили к воротам бревна и сани. Дмитрий Михайлович окинул взором остатки своего войска. Людей еще много. Пищальники стоят у бойниц. На башенках — пушкари в зеленых кафтанах с зажженными пальниками в руках. У ворот устроился кузнец Андреян; за поясом у него — топор, в руке — рогатина. «Но как это, — удивился Дмитрий Михайлович, — мальчишка затесался сюда, в самую гущу ратных людей? Да ведь это Сенька, Сенька кузнецов. А нехорошо! Надо бы прогнать мальчишку. Убьют, что тогда? Да пусть хоть под ногами не болтается!» — Прогони мальчишку куда ни есть, — сказал Дмитрий Михайлович стоявшему подле ополченцу. — Нечего ему тут! Ополченец подбежал к Сеньке. — Пошел отсюда! — крикнул он, топнув ногой. — Ишь выдумал! Пошел, откуда взялся! — Я, дяденька хороший… — пробовал было что-то объяснить Сенька. — Вот спущу с тебя портки и покажу, какой я хороший! Так отдеру, что век помнить будешь! Услышав такое, Сенька бросился бежать, споткнулся, упал, опять вскочил на ноги и снова побежал. За церковью было небольшое кладбище — погост. Сенька притаился там за крохотной часовенкой, в снегу по колена. Тут-то Сеньку и оглушил первый пушечный выстрел, словно огромные ворота хлопнули на диком ветру. И пошло теперь хлопать раз за разом. Опомнившись от первого испуга, Сенька с радостью убедился, что не оглох. Потому что все, все было ему слышно — и пальба, и крик, и голос князя Дмитрия Михайловича; даже тятя, кажется, что-то крикнул… Сенька рассмеялся. — Ась? Чего? — выкрикнул он весело и выглянул из своего укрытия. — Ничего, — услышал он позади себя. Сенька обернулся и увидел черномазого мальчугана, выглядывавшего из-за могильного креста. Черномазый насмешливо посматривал на Сеньку, скаля белые зубы. — Видел я, как ты уши заткнул. Эх ты, пушки испугался! — Я оглохнуть боюсь, — сказал Сенька. — А я вот не боюсь! — стал похваляться мальчуган. — Хоть ты из Царь-пушки выпали, все равно не боюсь. — Какая еще такая Царь-пушка? — удивился Сенька. — Какая такая… А та, что в Кремле. Не видывал ты, что ли? — Не видал. Я в Москве недавно. Федос Иванович… приказчик он у князя Пожарского… сказывал Федос Иванович тоже про пушку — должно, про эту. Еще сказывал — в Кремле поглядеть теперь на нее нельзя: там, говорит, шляхты полно. — А я шляхты не боюсь! — продолжал похваляться мальчуган. — Моего батьку паны саблями зарубили, а все равно не боюсь. — А у нас кузню спалили паны; избу тоже спалили. А тятю хотели в полон взять, да он не дался хохлатым: улучил время, когда зазевались, и дал дёру, прямо к Пожарскому побежал. — Так вы воеводины, пожарские? — Мы — пожарские! — ответил гордо Сенька. — Вот здорово! — молвил завистливо мальчуган. — Пожарские… А мы тут в церковной сторожке живем, с дедом. — Тебя как зовут? — Батька Тимохой звал, а так все Воробьем кличут. Тимофей, говорят, воробей. А тебя как звать? — Я — Сенька. А ты — Воробей. Воробей-воробушек. Что я, Воробейка, тебе покажу-у!.. Гляди! И Сенька вытащил из кармана подаренную ему Петром Митриевым игрушку. — Это что же такое за фуганок будет? — заинтересовался Воробей и подошел к Сеньке. — Фуганок! — рассмеялся Сенька. — Это, Воробейка, совсем даже не фуганок. Это… гляди. Видишь, стрельцы-молодцы прутьями замахиваются? — И верно, замахиваются! — воскликнул Воробей. — А это что? Гляди! — Это… О-о!.. Это шляхта в ногах у стрельцов валяется. — А теперь, — сказал торжественно Сенька, — во! — и стал тянуть и сводить оловянные бруски. Замелькали, зазвенели прутики, молодцы в кафтанах замолотили ими по спине шляхтича. — Ой, здорово! — пришел Воробей в восторг. — Вот диво! — На, попробуй сам, — предложил Сенька и протянул Воробью игрушку. У Воробья дело пошло не хуже. Молодчики в кафтанах так мочалили шляхтича, что, будь он не игрушечный, из него сразу бы дух вон. А Воробей, дергая оловянные брусочки, только твердил: — Ой, братцы, здорово! Вот штука так штука!.. Ну и диковина же! Пушечный выстрел большой силы несколько отрезвил ребят, которые не вовремя увлеклись занятной игрушкой. Картечь рассыпалась барабанной дробью по крытым жестью церковным куполам. Все неистовей становились крики сражавшихся; все ближе пламя пожара; все чаще пальба из пищалей и пушек. Поляки и немцы уже были под стенами острожка. — Знаешь что? — сказал Воробей, возвращая Сеньке игрушку. — Давай шляхту бить! — Давай, — согласился Сенька. — Только вот… — А что? — Меня ополченец один обещался выдрать, прочь гнал оттудова. — А мы туда, Сенька, не пойдем. Пойдем эвон куда… глянем, что там. Я тут такое место знаю… И ребята, проваливаясь между могилами в рыхловатом снегу, забрались в канаву и пролезли под бревенчатой стеной острожка и под каменной церковной оградой. Сенька и Воробей очутились у обрыва, на задворках, где там и сям валялись никому, очевидно не нужные вещи: бочка с замерзшей водой; пустой ящик, занесенный снегом; полные снега розвальни на самом краю обрыва, готовые при малейшем толчке свалиться вниз. Но снизу, из-под обрыва, к ребятам донеслись голоса: речь не русская, а польская либо немецкая. Сенька остался ждать, а Воробей подполз к краю.
Под обрывом сидели несколько человек вражеских воинов. Воробей, отлично разбиравшийся в таких вещах, сразу увидел, что здесь были польские солдаты и немецкие наемники. Целая груда цветного платья брошена была перед ними на снегу. Воробей различил в этой груде дорогую — должно быть, боярскую — шубу на каком-то пушистом меху, парчовый сарафан, несколько собольих шапок… Тут же светло отблескивала золотая посуда. Большой открытый ларец был полон жемчуга. Поляки и немцы хватались то за одно, то за другое; набирали из ларца полные пригоршни жемчуга и швыряли его обратно в ларец; один хохлач насыпал горсть жемчуга в свою пищаль и пальнул в воздух. «Награбили, — решил Воробей. — Теперь делят». Он отполз от края, поманил Сеньку и шепнул ему что-то. Оба мальчугана подошли к розвальням и ухватились за отводы. — Ра-аз… два-а… три! — скомандовал Воробей. Ребята понатужились, крякнули, нажали, и розвальни с целой горой нападавшего в них за зиму снега сорвались вниз, на головы благодушествовавших грабителей. Что там поднялось, увидел только Воробей, который тотчас же снова подполз к краю обрыва. Несколько человек поляков и немцев сразу бросились наутек, покинув свою добычу. Другие, с перешибленными костями, воя, катались на снегу. А человека два — три лежали недвижимо, раздавленные тяжелыми розвальнями. — Это вам за батьку моего! — крикнул Воробей вниз и заскрежетал зубами. — За все, за все… Тут Воробей заметил, что один из шляхтичей стал, торопясь, устанавливать на рогатку свою тяжелую пищаль. «В меня станет метить, собака! — мелькнуло у Воробья в голове. — На-кась, вот тебе!» И, повертев с обрыва кукишем, Воробей поднялся, взял Сеньку за руку и потащил его обратно в канаву. Через минуту оба снова пролезли под церковной оградой, а потом и под стеной острожка и опять очутились на погосте, позади церкви.
ВЫСТРЕЛ ИЗ МУШКЕТА
Между тем в острожке шла злая сеча. Поляки и немцы уже хозяйничали и на Лубянке и на Сретенке. Всюду по боярским дворам пылали теперь хоромы, людские избы, амбары с хлебом и сараи со всяким иным добром. Держался в этой стороне только один Введенский острожек. Однако обе башенки, по которым беспрерывно палили вражеские пушкари, были разрушены, и пушки на них замолчали. Русский пушкарь в зеленом кафтане, стащивший Сеньку с лестницы, лежал теперь, раскинув руки, на красном от крови снегу. Рядом с пушкарем уткнулась дулом в кучу снега сбитая с башни пушка-коротышка.
Когда умолкли русские пушки, вражеские солдаты приступили к острожку вплотную. Они пытались поджечь острожек, подбрасывая к срубленным из сосновых бревен стенам снопы соломы и горящие пучки пакли. В нескольких местах уже занялось; смолистое дерево, облизанное огнем, отлично разгоралось на мартовском ветру. Ворота острожка были еще накрепко заперты на засов и заложены целой горой опрокинутых саней. Но короткое прясло, примыкавшее к воротам, было сбито. Образовался узкий пролом, около которого с рогатиной, взятой на изготовку, стоял Андреян. Уже несколько шляхтичей совались в пролом, пробуя удачи. Но Андреян стукал их рогатиной по шапкам, и шляхта катилась обратно. Убедившись, что в этом месте их ждет неудача, шляхта отстала. Бой отошел в сторону от ворот. Никто больше в пролом не совался. Андреян опустил рогатину и оперся о ее длинное древко. Кузнецу уже надоело ждать новых гостей через пролом. Но Федос Иванович передал ему наказ князя стоять у ворот неотступно, а если понадобится, то кликать подмогу. Андреян и остался у ворот, следя за проломом и прислушиваясь к тому, что творится подле. И вдруг видит Андреян: тычется в пролом пивная бочка. Андреян прижался к стене и замер. Бочка оказалась одетой в польскую шубу. Лезла она в пролом боком, к Андреяну спиной, не замечая его. Но Андреян, кроме шубы, разглядел на бочке соболью шапку, из-под которой свисал сивый хохол до плеча. Андреяну и в лицо шляхтичу не было нужды заглядывать: кузнец и со спины, облеченной в шубу, узнал пузатого пана, с которым теперь встретился в третий раз. «В третий и последний», — решил Андреян. А пузатый, тужась пролезть в пролом, увяз в нем, как свинья в подворотне. Одна нога была у него в острожке, другая — за острожком. Смех, да и только!

— Сейчас, шляхта, я тебя казнить буду!
Но Андреяну было не до смеха. На глазах у него сгорала дотла Москва, подожженная захватчиками. Народ метался по всему краю, не находя прибежища. Не избежали общей участи даже далекие Мураши. Враг свирепствовал злее волка. Пропадало все. А пузатый, застряв в проломе, тужился, дергался, хрипел и охал, вздыхал и стонал. Убедившись в бесплодности своих усилий, совсем изнемогший, пан стал звать на помощь. Но где и кому тут было услышать его крик, когда все кругом было полно неистового крика, оглушающей пальбы, грохота и треска, грозного гула не затихавшего сражения! Тогда пузатый, совсем выбившись из сил, заплакал. Андреян видел, как обмякла у него шея и намок толстый, долгий сивый ус. Поплакав немного, пузатый стал молиться. Он поднимал руку и опускал, задирал голову к небу и ронял ее обратно на грудь. Он твердил слова, не совсем понятные Андреяну, но можно было не сомневаться, что это были слова молитвы. — Матка боска! (Божья матерь!) — взывал пузатый, поднимая голову и опуская. — Матка боска! Андреян оторвался от стены, шагнул к пузатому и глянул ему прямо в глаза. Так мурашовский кузнец оказался лицом к лицу перед своим заклятым врагом. Заметив Андреяна, пузатый перестал молиться. — Холоп, — еле прохрипел он, — подтолкни меня плечом. — Я тебе, шляхта, еще в Мурашах сказывал, что тебе я не холоп, — процедил сквозь стиснутые зубы Андреян. — Твои холопы в Польше от тебя стонут; ждут, горемычные, не дождутся шею тебе свернуть. — Что ты, мужик, плетешь? В каких Мурашах? — В Мурашах, за Шуей. — Отродясь за Шуей не бывал. — Врешь, проклятый! Это твои люди спалили у нас полсела. — То не я был, а мой брат. На меня похожий, как капля воды на каплю воды. Мать родная не различала нас. — Не брат, не сват! — вскричал Андреян. — Это ты, окаянный, был в Мурашах! И тебе, вор, я сапогом нос на сторону своротил! Сейчас, шляхта, я тебя казнить буду! — Не казни меня, мужик! — взмолился пан. — Я тебе полный кошель золота насыплю. — Пропади ты со своим золотом, злодей! — крикнул Андреян. Он швырнул прочь рогатину, выхватил из-за пояса топор, откинулся, замахнулся… и упал навзничь, на утоптанный, как ток на гумне, снег. Выстрел из мушкета, грянувший позади Андреяна, свалил его с ног.
НА СЕВЕР!
Ни пузатый шляхтич, ни, конечно, сам Андреян не заметили немецких наемников, которые по приставной лестнице взобрались на деревянную башенку острожка. С башенки, сильно потрепанной вражескими ядрами, давно были сбиты и пушка и русские пушкари. Всего только с полминуты, но с немалым удивлением наблюдали немцы за беседой русского мужика и польского шляхтича, который, казалось, только для этого и высунулся наполовину в образовавшийся в стене пролом. Но когда Андреян откинулся, чтобы нанести топором удар, один из немцев успел спустить курок мушкета. Вслед за этим немец сделал прыжок и очутился в острожке. Не мешкая, ухватил он лестницу, валявшуюся на снегу, и приставил ее к башенке. И тотчас в острожке появились немецкие мушкетеры. Кто-то снаружи пропихнул наконец и пузатого пана в острожек. Проход сквозь пролом был свободен, и в него, как тараканы, полезли длинноусые шляхтичи. Пузатый совсем обессилел от всего, что с ним только что приключилось. Лицо у него было мокро от слез и пота. Все кости ныли. Шуба изодралась в клочья, когда его пропихивали в пролом. У пузатого едва хватило силы вытащить из ножен саблю и полоснуть ею Андреяна по лицу. После этого пузатый затесался в толпу своих, на которых нагрянули русские ополченцы. Но острожек к этому времени уже почти не представлял собой укрытия для русских воинов. Стены были разрушены в нескольких местах, ворота острожка широко раскрыты… Князь Пожарский спешился и дрался, какрядовой ополченец, плечом к плечу вместе со своими людьми. А Федос Иванович с двумя дворниками и церковным сторожем, дедом Воробья, сновали по всему острожку, подбирая раненых. Когда бой передвинулся от ворот в глубь острожка, Федос Иванович наткнулся на распростертого на снегу мурашовского кузнеца. У Федоса Ивановича сжалось сердце. С тех пор, как судьба свела Федоса Ивановича с Андреяном, прошло всего полгода. За это время Федос Иванович успел полюбить кузнеца. Обстоятельный был мужик кузнец Андреян и мастер на славу. Не проходило дня, чтобы старый приказчик не заглянул к Андреяну в кузницу. Не было случая, чтобы при встрече с Андреяном Федос Иванович не молвил ему приветливого слова. И вот лежит Андреян и не дышит. И Арина теперь вдова, и Сенька стал сиротой. Слезинка выступила у Федоса Ивановича из одного только глаза и растеклась по морщинистой щеке. Эх, горе горькое! И не захотелось Федосу Ивановичу оставлять даже тела Андреяна на поругание врагу. «Вывезу я и кузнеца отсель, — решил старик. — Авось как-нибудь схороню честным обычаем!» При помощи церковного сторожа Федос Иванович перенес Андреяна в конец двора. Там была узенькая, едва приметная калитка, забранная железным болтом. За калиткой белел пустырь и чернели на снегу дровни, розвальни, парные сани… Лошади стояли в упряжке и пугливо озирались. Федос Иванович уложил Андреяна в пустые розвальни. Рогожки, которая нашлась в розвальнях, хватило только накрыть Андреяну залитое кровью лицо. А там, за оградой, в сторожке, все еще кипел бой. Сабля Пожарского все еще разила и валила. Но у Дмитрия Михайловича временами уже мутилось в голове. Весь день, с самой зари утренней, не выпускал князь Пожарский сабли из рук. Но день уже кончался. И даже ночь — принесет ли она конец яростной схватке с врагом, который все время вводил в бой свежие силы? Конец, однако, пришел — пришел еще до наступления ночи. Редели ряды русских воинов; мало их оставалось с Пожарским. Что-то, как бревном, шибануло Дмитрия Михайловича в колено, даже позеленело в глазах. А время шло, и день погас. В пылу боя, в сгустившихся сумерках, не различить было, какой это дьявол, поляк или немец, вырос вдруг перед Дмитрием Михайловичем с двумя саблями — по сабле в каждой руке. Дмитрий Михайлович не растерялся, но ударом сабли, зажатой в левой руке, нападавший отразил блеснувший у него перед самыми глазами клинок, а правой рукой поразил Пожарского в шею — в узенькую полоску тела между кольчугой и шлемом. На кольчугу Дмитрию Михайловичу хлынула кровь. Он покачнулся, выронил саблю и рухнул, как дуб, сваленный грозой. — Люди! — крикнул он, распластав руки. — Умер бы я раньше! Не видать бы мне, что увидеть довелось! Едва произнес он это, как впал в беспамятство. А дьявол с двумя саблями как возник, так и пропал. Ополченцы оттеснили шляхту на минуту обратно к воротам, а подоспевший со своими помощниками Федос Иванович вынес князя на плаще за церковную ограду, на пустырь. И борзые кони в парных санях, спасая князя Пожарского от плена, помчали его из разоренной вконец Москвы на север, по Троицкой дороге. Вслед за этим туда же потянулся обоз с раненными в бою людьми. Схватка в острожке затихала. Трубы трубили отход… Малый где-то на погосте, прячась среди могил, бил в свой бубен. Но скоро и бубен замолк. Малый выбрался из рыхлого сугроба и побежал вслед за обозом. Люди князя Пожарского рассеивались кто куда мог. В чистом от облаков небе зажглась первая звезда.ИОНА-ВРАЧ
Пустырями, задворками, выгоревшими переулками двинулся обоз Федоса Ивановича. Сидя в дровнях рядом с Андреяном, Федос Иванович снял шапку и качнулся в поклоне. — Прощай, белокаменная! — сказал он вздохнув. — Прощай, Иван Золотая Голова! Среди общего разрушения Иван Великий в Кремле стоял нерушимо на своем месте. Ночь пришла, а золотой купол, «голова», сиял-отблескивал пламенем незатихавшего пожара. Когда обоз пошел огородами, раскинувшимися позади двора Пожарского, Федос Иванович приказал остановить лошадей. Как и прочие дворы на Сретенке, двор князя Пожарского — все строения — был охвачен огнем. Задними воротами присоединились к обозу Федоса Ивановича несколько запряжек с женщинами и детьми. В жалких дровнишках сидела на узелке Арина и голосила: — Ой, пришли черные годы, разлилися красные реки! Ой, и приплыло же по тем рекам горькое горе! Она уже знала о том, что произошло с Андреяном. Вскинув руки, она потрясла кулаками и, уронив их на колени, продолжала: — Да и на кого же ты нас, Андреян Ильич, покинул? Да и на кого ты нас, свет, оставил? Да и как же я буду без тебя, Андреянушка, век вековати? Да и кому же будет Сенюшку твоего уму-разуму учити? В течение дня Арина несколько раз беспокоилась о Сеньке. Но кто-то ей сказал, что Сеньку видели в острожке подле Андреяна. Теперь же от Арины все заслонила свалившаяся на нее беда. Когда дровнишки, в которых она маялась и вопила, подъехали к обозу, она сразу бросилась к Федосу Ивановичу. — Где Андреян? — крикнула она, подбежав к его розвальням. — Со мной, — ответил старик. Она всплеснула руками и повалилась в розвальни, не видя ничего кругом. — Гони, не мешкая! — пошел по обозу приказ Федоса Ивановича от саней к саням. Заскрипели полозья по ухабам; пошли лошадки перебирать ногами; потянулись вдоль Троицкой дороги брошенные деревни, пустые поля, голые перелески, бескрайние полотнища голубоватого под звездами снега. Ехали всю ночь, не останавливаясь нигде. Лошади, чтобы передохнуть, переходили временами с резвой рыси на размеренный шаг. Волчий вой сопутствовал обозу всю ночь, то приближаясь, то удаляясь. Когда он становился особенно заливчатым и громким, лошади храпели и, дергая головами, бросались по дороге вскачь. На рассвете волчьи стаи отчетливо обозначились по обеим сторонам дороги. Изголодавшиеся за долгую зиму волки ничего не находили в брошенных крестьянами деревнях. Запах крови, который, несомненно исходил теперь от обоза, привлек к себе волков со всей округи. С рассветом стало видно, как идут они цепочкой вдоль горизонта. Одновременно с лошадьми в обозе они пускались то рысью, то шагом, то вскачь. Не решаясь подойти к обозу близко, они подвывали с голоду и тоски. Но чем больше светлело от занявшегося дня, тем меньше становилось волков. Они пропали совсем, когда из белой дымки утреннего тумана стали выступать целыми группами церковные купола. Это был Троице-Сергиев монастырь. Опоясанный толстыми каменными стенами с бойницами, монастырь представлял собой настоящую крепость. Двенадцать башен поднимали свои зубчатые верха выше стен, на которых стояло до сотни пушек. Недавно эта твердыня выдержала долгую польскую осаду. Шляхте так и не удалось поживиться несметными сокровищами, накопленными в троицких погребах. Еще на исходе ночи ворота Водяной башни в монастыре широко распахнулись. На монастырский двор проехали парные сани, в которых лежал князь Пожарский, укрытый мужицким тулупом поверх суконного плаща. Дмитрий Михайлович уже очнулся от беспамятства. Он дышал ровно, но был бледен, белее мартовского снега вокруг. Монахи уложили Дмитрия Михайловича на носилки и понесли в жарко натопленную палату. Водяные ворота не закрывались после этого весь день. Поодиночке и целыми обозами шли люди из сожженной Москвы. В эти тяжелые дни богатый монастырь не отказывал никому в приюте и куске хлеба. Когда Арина очнулась в розвальнях от первых приступов отчаяния, она словно окаменела. Она не замечала ночного холода, не слышала волчьего воя, не различала слов утешения, которыми пытался ободрить ее старый Федос. Впрочем, на восьмом десятке лет Федос Иванович и сам был удручен сверх всякой меры от всего, до чего довелось ему теперь дожить. Скрючившись в своей шубенке, он уронил голову на грудь и задремал. Задремала наконец и Арина. Скрипели сани, падал снежок; стонали раненые, когда подбрасывало на ухабах; подвывали волки; храпели кони. Ни Арина, ни Федос Иванович не расслышали тихого стона, который издал Андреян, лежавший по-прежнему с головой, накрытой рогожей. Спустя некоторое время Андреян под рогожей открыл глаза. Он почувствовал озноб, и вместе с тем ему казалось, что к правой лопатке ему словно приложили кусок раскаленного железа. Андреян догадался, что его везут куда-то. Кто везет? Куда и зачем везет? Андреян не в силах был не только спросить, но даже и пальцем пошевельнуть. Он снова закрыл глаза и лежал, как неживой, потому что жизнь только чуть теплилась в нем. В Троице-Сергиеве, на монастырском дворе, к розвальням, где лежал Андреян, подошел сухонький монашек; все кругом называли его Иона-врач. Иона откинул рогожу, которою накрыто было лицо Андреяна, и сразу угадал искру жизни, которая, видимо, еще не погасла в этом теле, распростертом на охапке соломы. — На второй ярус! — молвил Иона. — Ты, жёнка, что же? — обратился он к Арине. — Как тебя звать? Арина — говоришь? Арина, — повторил он задумчиво и перешел к следующим саням. Андреяна понесли в каменное здание, на второй ярус, и шла за Андреяном одна Арина. Федос Иванович, как только въехал на монастырский двор, тотчас же бросился в палату, где обмытый, перевязанный, в чистом белье, на чистой постели лежал Дмитрий Михайлович. Арина шла, недоумевая, зачем же это Андреяна несут в этот длинный-длинный дом, куда-то на второй ярус, когда впору было бы покойника сразу вынести в церковь. К тому же в длинный дом, куда внесли Андреяна, Арину не пустили. — Жди на дворе, жёнка, — сказал ей какой-то силач в подряснике, один из тех, что принесли сюда Андреяна. — Вот ужо отец Иона придет, он тебе это самое дело обскажет. Арина осталась на дворе, на ветру. Монахи за короткое время пронесли мимо нее в это длинное двухъярусное здание множество людей. Силач в подряснике уходил со своими товарищами и снова возвращался, неся еще и еще. Со слов силача Арина узнала: длинный дом, перед которым она топталась в ожидании, — монастырская больница. «Так зачем же сюда Андреяна?» — дивилась она, коченея от холода. Вот идет Иона-врач. Он должен что-то Арине обсказать. Иона просеменил мимо, остановился, пожевал губами. — Арина, — сказал он. — Это ты, Арина? Стой тут, Арина. Никуда не уходи. Арина поклонилась и заплакала. — Стою, отец, — сказала она и поклонилась снова. — Твой это коваль? — спросил Иона. — Андреяном кличут? Федос Иванович привез? Мне Федос сказал, что кличут Андреяном. — Все так, родимец, — подтвердила Арина. — Стой тут, — сказал еще раз Иона и вошел в дом. Арина не помнила, сколько она простояла так. На монастырской колокольне ударили к обедне, и монахи потянулись в соборную церковь. Раненых перестали носить в больницу, потому что, должно быть, перенесли всех. А Иона-врач не показывался. Арине уже казалось, что все в ней застыло: все жилки и косточки — всё внутри. Она опустилась на каменную ступеньку, и ее стала обволакивать дремота. И сквозь дремоту услышала она: — Арина! Арина! Она откинула голову и взглянула на черного человечка, который вдруг вырос перед нею. «Никак, Иона-врач? — мелькнуло у нее в голове. — Он и есть!» Иона посмотрел на нее внимательно. — Молись, Арина, угоднику, коего мощи почивают в сем святом месте, — сказал он. — Молись святому Сергию. Будет жив Андреян. — Жив? — спросила Арина, и черный человечек словно завертелся у нее перед глазами, как спица в колесе. — Будет жив, — повторил Иона. — А ты не спи тут. Не ровен час, еще замерзнешь. Ступай в гостиницу — эвон за собором она. Там обогреешься и щей похлебаешь. Ну, вставай, не засиживайся. Вишь, ветрище! Позёмка так и стелет. Арина, не совсем еще понимая, что же это такое делается, пошла искать монастырскую гостиницу. Закоченевшая, измученная, она шла, спотыкаясь, и ветер безжалостно рвал у нее с головы завязанный тугим узлом платок.СЕНЬКА ПОТЕРЯЛСЯ!
В темноватой прихожей Арину встретил гостиный монах. Он отвел Арину в трапезную, где за длинными столами сидело множество людей, спугнутых из Москвы пожарами и уличными боями. В трапезной было тихо, разговаривать в монастыре за едой не полагалось. И в этой тишине гулко отдавался под высокими сводами голос молоденького монашка, который громко читал нараспев что-то молитвенное из большой книги с медными застежками на кожаном переплете. Гостиный монах молча указал Арине на свободное место за столом и принес ей горячих щей в деревянной миске и ломоть хлеба. С каждой ложкой, которую подносила ко рту Арина, словно куски льда оттаивали у нее в груди, в ногах, во всем теле. Она уже хорошо понимала, что Андреян жив и будет жить: это несколько раз повторил ей у крыльца больницы Иона-врач, которому ведь не к чему было бросать слова на ветер. И чувство благодатного покоя стало обволакивать Арину. Не доев своих щей, она положила руки на стол, уронила на них голову и сразу заснула мертвым сном. Сколько ни будил ее гостиный монах, добудиться не мог. Арина проспала весь день до глубокой ночи. В монастырских церквах шли службы дневные, вечерние и ночные. По-разному всякий раз перезванивались на колокольне колокола. Бой башенных часов разносился далеко по полям и лесам, окружавшим монастырь. Ничего этого Арина не слыхала. Она только раз проснулась среди ночи и увидела себя на полу, на подостланном войлоке, в большом коридоре, который был тускло освещен слюдяным фонарем. Рядом с Ариной лежали вповалку на полу другие женщины. Неподалеку от себя, на полу же, Арина заметила деревянный ковш, в котором была вода. Арина припала к нему, пила долго и жадно, потом снова повалилась на войлок и заснула опять. Рано утром, на заре, Арина поднялась вместе с другими. Скатывая свой войлок, она услышала, как подле переговаривались женщины. Одна рассказывала что-то о каком-то Якуньке. Было, дескать, Якуньке всего одиннадцать годочков, и вороги даже его не пощадили. Зашли в избу, где был один Якунька, зажгли пук соломы, бросили на полати… И сгорела изба вместе с малым Якунькой. У Арины в голове вдруг словно ветряная мельница завертелась. Якунька… Было ему одиннадцать годочков… Сгорел Якунька… Сенька… Что же Сенька?.. В розвальнях с Андреяном, которого считала убитым, в страшной беде, Арина совсем забыла о Сеньке. — Сенька-а! — завопила она. И, всплеснув руками, стала расталкивать людей, пробираясь к выходу. По монастырскому двору сновали монахи, стрельцы в алых кафтанах, мужики в лаптях либо в валенках — много всякого народа, укрывшегося за монастырскими стенами из погорелой Москвы. Не глядя ни на кого, ничего не разбирая, Арина обогнула собор и бросилась к больнице. В дверях больницы она наткнулась на Федоса Ивановича. — Что ты, что ты! — замахал старик руками, когда увидел ее бегущую, с черным, словно обгорелым лицом, с блуждающими глазами. — Жив, жив Андреян! Что ты? — Сенька! — крикнула Арина и повалилась Федосу Ивановичу в ноги. — Где Сенька? — Сенька?.. — удивился Федос Иванович. И вдруг понял. В самом деле: где же Сенька? — Ах ты, грех какой! — всполошился старик. — Был Сенька будто в острожке. Словно мелькнул он пред моими очами. Когда, при каком случае, не упомню. Не спрашивать же теперь об этом Андреяна! Нельзя. Что ты, что ты, опомнись! Слаб Андреян, слаб еще, ох, слаб! Потерялся Сенька — будем Сеньку искать. Не убивайся, только не убивайся. — И Федос Иванович помог Арине подняться на ноги. — Сейчас снаряжу в Москву человека. А ты, Аринушка, не убивайся. Через полчаса на худых дровнишках, в которые впряжена была неказистая лошаденка, выехал из монастырских ворот малый, ходивший у князя Дмитрия Михайловича в бубенщиках. Стоя на монастырской стене, Арина видела, как выбрались дровнишки с малым на Московскую дорогу и, прогромыхав по ухабам, словно растворились в белом пространстве. Малый вернулся в монастырь только на четвертый день, вернулся пешком. Уже на обратном пути ему пришлось выдержать жестокое нападение волков. Сначала малого выручал бубен, который, к счастью, оказался у него за пазухой. Когда волки очень уж наглели, малый своим бубном поднимал такой шум, что звери отбегали в сторону. Но серые скоро привыкли к бубну. Малый, видя, что другого выхода нет, бросил на съедение волкам свою лошаденку, а сам кое-как, хоронясь и плутая, добрался до Сергиева. В Москве же малый нашел на месте Сретенки сплошное пепелище. Но двор князя Дмитрия Михайловича он по нескольким уцелевшим приметам разыскал. И там тоже — всюду одинаково — черные головни и кучи пепла. Уцелела в околотке одна Введенская церковь, да и та стоит с пробитой кровлей и рассеченными образами. И гуляет по церкви ветер, наметая сквозь сорванные двери перекатные волны рассыпчатого снега. На Сретенке малый никого, кроме шляхты, не видел; людей в Москве осталось немного, а Сенькин и след простыл.ЧТО ПРОИЗОШЛО С СЕНЬКОЙ
После того как Сенька и Воробей низринули на головы шляхты розвальни, полные снега, и потом вернулись на церковный двор, в острожке на Лубянке началось самое страшное. На глазах у обоих мальчиков пронесли на плаще тяжело раненного князя Пожарского. На глазах у них острожек был взят поляками и на церковный двор набилось шляхты видимо-невидимо. Мальчики, не разлучаясь, сначала сновали то тут, то там, но, когда заметили, что русских воинов ни в острожке, ни вокруг не осталось, решили и сами спасаться. Бежать с церковного двора было, однако, уже поздно: всюду шныряла шляхта с обнаженными саблями, с озверелыми лицами… Особенно напугал Сеньку какой-то пузатый пан, толстый, как пивная бочка, с перекошенным ртом и косой на оба глаза. Пузатый, переваливаясь с ноги на ногу, проталкивался сквозь толпы польских и немецких солдат и размахивал обнаженной саблей. Заметив распростертого на земле, бездыханного ополченца, он подбирался к нему и тяпал саблей по мертвому телу. Сенька не узнал пузатого, не вспомнил, что видел его уже однажды, когда тот лежал на возу около тятиной кузницы в Мурашах. Перепуганному Сеньке было теперь не до воспоминаний. Гляди, смеркается ведь!.. Тяти нигде не видно, и Федоса Ивановича не видать… Сердитый пушкарь, скинувший давеча Сеньку с лестницы, лежит на снегу недвижимо. Где-то, все удаляясь, ревут трубы… Где-то, перебегая с места на место, бубнит бубен все одно и то же: «бу-бу-бу-бу!» Один Воробей еще подле Сеньки; он тащит снова Сеньку куда-то за руку; он бежит, и Сенька едва за ним поспевает. Так вместе с Воробьем Сенька очутился в церкви, в пыльном закутке, где были сложены наколотые дрова подле не остывшей еще печки. В закутке было совсем темно, хотя вверху, под куполом, играли, как зарницы, отблески пожара. Давно умолк набат на колокольне; заглохли трубы; и ударов в бубен больше не было слышно. С улицы в церковь доносились только возгласы ликующей шляхты. Скоро ворвалась она, шляхта, и в церковь. Хохлатые паны, не снимая шапок, рыскали по церкви, переворачивая все вверх дном. Они рубили в щепы образа; сдирали с них залоченые оклады, украшенные жемчугом; и пробовали даже пошарить в закутке, где за дровами притаились Сенька и Воробей. Шарили, но подняли при этом такую пыль, что, расчихавшись, махнули рукой и пошли прочь. С улицы тянуло холодом, но у теплой печки Сенька и Воробей не зябли. У Воробья в кармане дырявого полушубка нашлось несколько хлебных корок, и он поделил их с Сенькой. Скоро обоих мальчуганов разморило от печки, и они заснули в своем закутке крепким сном. Но печка быстро остывала от холода, ветра и снега, проникающих в церковь через дверь на улицу, которая оказалась сорванной с петель. В ночи несколько раз принимался орать уцелевший в каком-то сарайчике петух, но Сенька и Воробей не просыпались. Проснулись они, когда сарайчик сгорел вместе с запертым там петухом и на дворе уже стоял белый день. Было тихо, невозмутимо тихо после вчерашней пальбы, набата, криков и стонов, рева труб и ударов в бубен. Ребята выглянули на двор. Там было пусто; на снегу лежали убитые; их уже и сверху припорошило выпавшим ночью снегом. От церковной сторожки, в которой жил со своим дедом Тимоха Воробей, даже золы не осталось: всю разметал ветер. А самого сторожа, Воробьева деда, не видно было нигде. Ребята совсем зазябли к утру. Им хотелось есть, а есть было нечего. Сенька позвал Воробья к себе: — Пойдем, Воробей, к нам на двор! Маманя нам печеного хлебца даст и капустки квашеной. Когда Воробей услышал про квашеную капусту с печеным хлебом, у него под полушубком ходуном заходил живот. Он и в обычное-то время не всегда у деда своего получал такой завтрак, а за последние два дня Воробей так изголодался, что, казалось, мог бы сразу съесть каравай хлеба и капусты целое ведро. Только подавай! Поэтому Воробей, не раздумывая, согласился без всяких отговорок. Он счел только нужным справиться: — А не прогонят? Может, прогонят, да еще и шею накостыляют? — Что ты? — возразил Сенька. — Маманя у меня добрая. И тятя не дерется. Один раз — было это — посек меня розгой, когда я в горнушку песку насыпал. А мне вот ну нисколечко не было больно! Розга была дрянная, из обтёрханной метлы… Тятя хлестнул раз-другой, а розга возьми и сломайся. Пока тятя дергал из метлы другую розгу, я к мамане убежал. А к вечеру тятя вернулся из кузни, да и забыл совсем, что хотел меня другой розгой посечь. Во как! Так пойдем, что ли, Воробей? — Пошли! — сказал решительно Воробей, и ребята стали пробираться по кучам золы, перемешанной со снегом, и по головешкам, еще теплым и исходившим дымками. Ребята, однако, скоро поняли, что идти, собственно, некуда. Они видели, когда оборачивались, Кремль с башнями, палатами, соборами, с Иваном Великим… Несколько обгорелых церквей еще тянулось вверх своими закопченными куполами… Остальное, за малым исключением, представляло собой огромное и однообразное пожарище, где стаи воронья с истошным карканьем перелетали с места на место. Сенька и Воробей долго плутали все вокруг да около, не находя двора Дмитрия Михайловича Пожарского. Все же по каким-то неприметным, непонятным для него самого признакам Сенька догадался, что попал наконец на то самое место, где они с отцом и маманей прожили почти полгода. Вот здесь как будто стояла их избушка… Вон там, подальше, огороженная забором, была новая Андреянова кузница. Сгорел забор, но на снегу остался словно очерченный углем квадрат. А посредине квадрата — зола и головешки. И торчит из-под черных головешек в одном месте железная наковальня, свалившаяся со сгоревшего деревянного обрубка, в другом — большой кузнечный молот с обуглившейся рукоятью. Сенька наконец не выдержал: он заплакал навзрыд. Он плакал, размазывая по немытому лицу копоть и грязь, и приговаривал: — Мамонька моя! Ой, не могу я больше! Куда я пойду? Быки бодаются, и волки зубами ляскают. Ой-ой-ой! Хлебца хочу-у… Воробей постоял, поглядел вокруг, послушал, как разливается в плаче Сенька, и пошел копаться в золе и головешках. Наковальня была очень тяжела, и отощавшему у нищего деда своего Воробью ее было с места не сдвинуть. Тяжеленек был и кузнечный молот с обуглившейся ручкой. И то и другое Воробей оставил на месте, даже присыпал золой. А вот вытащенные им в разных местах из-под золы и снега щипцы, клещи, напильники, точила Воробей, присев на корточки, очистил от всего, что на них налипло, и сложил в железную коробушку, которую тоже нашел среди уцелевшего инструмента. Покончив с этим, Воробей встал, выпрямился и, повернувшись к Сеньке, сказал: — Пойдем, Сенька, хлеба добывать. А плакать — что? Москва слезам не верит. Сенька притих. — А куда пойдем? — спросил он только. — Куда пойдем? В ряды пойдем, Сенька. Снасть эту загоним, и будет у нас выручка. Не то что хлеба — пирогов купим и меду! Еще как поедим! Вот увидишь! Таясь где придется при встречах с поляками и немцами, ребята пробрались в торговые ряды. Впрочем, прошедшей ночью и ряды почти все выгорели, и уже трудно было разобрать, где был ряд кожевенный и где кружевной. Но кузнечный ряд, куда Воробей вел Сеньку, легко было среди общего пожарища отличить по штабелям полосового железа и кучам железного лома. Они не поддавались огню и уцелели. Рядские торговцы бродили понуро среди всеобщего разрушения, выкапывая из-под обломков остатки товара. В одном месте, кутаясь в баранью шубу, сидел на ржавом печном коробе старичок и тряс бородкой. Сенька сразу узнал его: это был добрый дедушка Петр Митриев.ЧТО ДАЛЬШЕ ПРОИЗОШЛО С СЕНЬКОЙ
— Сгорело, все сгорело! — твердил Петр Митриев, разговаривая сам с собой. — А что не сгорело, то растащили. Осталось у тебя, Петр Митриев, всего имения — веник в углу да мышь в подполье. Спалили Москву… Ась? Чего? — схватился он вдруг, словно самого себя не слыша. — Спалили, говорю, Москву, город великий. Ах, окаянство! — Дедушка Петр Митриев! — сказал Сенька и тронул старика за рукав. Тот взглянул на Сеньку, потом на Воробья, потом опять на Сеньку. — Ты что, Семен? — обратился он к Сеньке. — Ась? Видал Петра Митриева, купчину московского? Вот он я! — Петр Митриев обвел рукой вокруг и повторил: — Вот он я! Весь тут на пепелище своем. Разорили. Всю Москву разорили. Царство русское, Семен, разорили. — Нас, дедушка, тоже шляхта спалила, — сказал Сенька. — В Мурашах чисто все сгорело, а теперь тут спалили. Что было на дворе строения, ничего не осталось. Мы, дедушка… — Постой, постой! — прервал Сеньку Петр Митриев. — А воевода где, князь Пожарский? Слух вчера был — бьется-де Пожарский со шляхтой насмерть. Не дает спуску. — Должно, убили князя, — ответил Сенька и тут только понял, как жалко ему Дмитрия Михайловича. Старался Сенька сдержать слезы, но они брызнули у него из глаз. — Понесли князя, — сказал он, — на плаще, не знаю куда и понесли. И тятя де и маманя, не ведаю. — Как так? — удивился Петр Митриев. — О-о! — покачал он головой. — Куда же ты? — Не знаю, дедушка. — О-о! — опять покачал Петр Митриев головой и поднялся с короба. — Ась? — крикнул он, приложив ладонь к уху. — Я ничего, дедушка, — откликнулся Сенька. — Ничего… Как так — ничего? А это, Сеня, кто с тобой? — Это, дедушка, Воробей. — Чего-чего? Воробей? Какой воробей? — Тимоха Воробей, дедушка. Мы с ним вчерашний день тоже шляхту били. Как двинули им на головы розвальни с обрыва, так небось сразу покатились. Это Воробей все придумал. — Ишь ты! Ну-ну! — сказал старик и махнул рукой. — Теперь что воробей, что соловей — все равно уж. Хоть свищи, хоть чирикай, а зернышек поклевать нету!.. Ты, Воробей, откудова прилетел? — Не летал я, а так, — буркнул Воробей. — Воробьева батьку паны саблями посекли, так он с дедом в сторожке жил, — объяснил Сенька. — А дед Воробьев — что же он? — спросил Петр Митриев. — Не знаю я, где дед, — ответил Воробей. — Сторожка сгорела; дед, должно, побежал куда… — Эх вы, горемычные! — закручинился Петр Митриев. — Пропадете вы, соловьи-воробьи, в разоренный год. Чать, думаю, и не ели вы ничего нынче. — Ничегошеньки не кушали, дедушка Петр Митриев, — пожаловался Сенька. — Хоть бы хлебца печеного кусочек! — Хлебца печеного… — повторил старик. — Сироты вы сироты! Что с вами делать? Ну, пойдем! — сказал он, вставая с короба. — Пойдем, соловьи-воробьи! Он повел их по пожарищу и вышел с ними на площадь, к храму Василия Блаженного. Там он остановил пирожника и купил ребятам по большому пирогу с требухой. И пошел с ними дальше, вздыхая и сокрушаясь. Шли долго, по дороге и без дороги, пробираясь между тлеющими головнями и наметенными сугробами. Всюду еще летала копоть, черными точками оседая на снегу. В одном месте им попались навстречу несколько поляков. Долговязый пан, шедший впереди, остановил их, взял из рук Воробья коробушку, погремел ею и вытряхнул из нее все содержимое на снег. Выбрав себе из Андреянова инструмента два немецких напильника, долговязый носком сапога отбросил далеко прочь железную коробушку и пошел своей дорогой дальше, весело переговариваясь со своими товарищами. Воробей побежал за коробушкой, а Сенька стал собирать разбросанные на снегу щипцы и клещи. Петр Митриев стоял молча в распахнувшейся шубе и качал головой. Бородка его при этом тряслась и глаза слезились. Старик привел ребят в глухой тупичок близ церкви Спаса-на-Песках. Там, в стороне от людной улицы, у него был маленький домик за сосновым тыном, укромно притулившийся под горкой. Домик чудом уцелел от пожара — может быть, потому, что с подветренной стороны, откуда шел огонь, не было поблизости почти никакого строения. В этом домике и вековал свой век Петр Митриев вместе со своей старушкой и с дворником — пожилым, молчаливым человеком, которого звали Аггеем. Две взрослые дочери Петра Митриева были давно выданы, обе в Нижний Новгород. Они жили там: Наталья Петровна — с мужем и детьми, Марфа Петровна — бездетной вдовой. Обе изредка пересылались с отцом и матерью вестями, которые по дружбе проносил в обе стороны нижегородский вестник Родион Мосеев. Старик постучался у ворот своего домика, и дворник Аггей отпер ему калитку. Петр Митриев провел ребят в поварню, где вкусно пахло свежеиспеченным хлебом, снял там шубу и присел на лавку. — Сгорели мы, Евпраксея Фоминична, — сказал он, обратившись к жене. — Как есть, дотла. Были мы купцы, а стали гольцы. Евпраксея Фоминична прикрыла стол со свежеиспеченными хлебами чистой холстиной, поморгала, вздохнула и не сказала ничего. Она только посмотрела на Воробья и Сеньку, потом перевела глаза на мужа. — А это, Евпраксея Фоминична, — стал объяснять Петр Митриев, — соловьи-воробьи. Молодший, Сеня, потерялся в суматохе, теперь отца с матерью не сыщет. А отца его я знавал — у зарайского воеводы в кузнецах жил. Ну, а этот, востроглазый, — это есть сущий воробей, такая ему и кличка. — Это как же так, Петр Митрич, сущий? — удивилась старушка. — Воробей сущий? — Ну, воробей, соловей — всё, мать моя, едино. Воробьева батьку паны саблями порубали; сирота, вишь. Пускай соловьи-воробьи хоть до теплого солнышка поживут у нас. Помилосердствуй, Евпраксея Фоминична: дай ребятам умыться и напитай. А я их стану уму-разуму учить. — Твоя воля, Петр Митрич, — поклонилась Евпраксея Фоминична мужу. — Ты в доме своем хозяин. А и я так думаю — приютить сирот, так это хорошо. Когда ребята, умытые и накормленные, пошли вслед за Петром Митриевым в светлицу, они остановились на пороге в полном изумлении. Вся светлица состояла из одних чудес. На печных изразцах были изображены охотники, пахари, жнецы, музыканты, скоморохи, львиные морды и оленьи головы. В простенке стоял старенький, украшенный перламутром органчик. На подоконнике щурился на выглянувшем солнышке необыкновенной дородности золотисто-рыжий кот. На круглом столике в углу большая стеклянная чаша, в ней плавали крохотные рыбки. В медной клетке, подвешенной к потолку, заливался ярко-желтый кенар. А по стенам были развешаны часы и качались маятники — одни торопливо, словно боясь куда-то опоздать, а другие медленно, ровно, чинно, уверенно: тук-тук, тук-тук; вправо… влево; вперед… назад… В довершение всего часы стали бить, и почти все в одно время. Светлица сразу наполнилась звоном, хрипением, кукованием и звяканьем. А дедушка Петр Митриев расхаживал по жарко натопленной светлице в домашнем кафтанчике и потирал руки. — Ну-кась, соловьи-воробьи, такие-сякие! — кричал он, силясь перекричать все разнородные звуки, которыми вдруг наполнилась светлица. — Воробушки в коробушке. Ась, чего? И остались «соловьи-воробьи» жить у Петра Митриева в поварне, приходя каждый день к нему в светлицу дивиться на его чудеса.УЧЕНЬЕ — СВЕТ
Когда малый, ходивший у Пожарского в бубенщиках, вернулся из Москвы в Троицкий монастырь ни с чем, Арина метнулась было сама бежать в Москву искать Сеньку. Но ее удержал Федос Иванович: — Куда ты, голубка, побежишь? На кого Андреяна покинешь? Сенька коли жив, так будет жив. Ну, а коли… Федос Иванович не договорил. Он хотел сказать: «Ну, а коли нет Сеньки в живых, так и в Москву бегать незачем». Хотел сказать, но вовремя удержался. Вместо этого сказал: — Сыщется твой Сенька. Вот сердце мне говорит, что сыщется. Великое дерево буря ломит, а малая былиночка цела бывает. Тебе, Арина, теперь об Андреяне надобно думать. Не заживемся мы тут — ни князь, ни люди. Чуть передохнём — и потянемся в Мугреево. Не мешкая, до вешней распутицы… От взора Арины не укрылось, что людей в монастыре за последние два дня сильно поубавилось. Федос Иванович стал тишком да исподволь рассылать их по княжеским вотчинам пахать, сеять и ждать, что князь прикажет. «Верно это: скоро ехать и Андреяну», — решила Арина, выслушав уговоры Федоса Ивановича. — В Мугреево, — молвила она вслух. — Скоро… — Да, Арина, скоро, — подтвердил Федос Иванович. — Чаять надо — до полой воды. А ты, Арина, чшш! Знай помалкивай. Сказав это, Федос Иванович внимательно посмотрел вокруг и пошел прочь, поминутно оглядываясь. А под вечер он разыскал Арину в толпе женщин и шепнул ей, чтобы она нынешней ночью не ложилась. Как стемнеет совсем, пусть соберет свой узелок и выходит к больнице. Арина так и сделала. У больницы ждало двое розвальней в простой, крестьянской упряжке. Монахи вынесли Андреяна из больницы и уложили в розвальни на рядно поверх свежей соломы. Потом обе упряжки тронулись с места и остановились у палат, где находился Пожарский. Поддерживаемый Федосом Ивановичем и Ионой-врачом, Дмитрий Михайлович, заметно хромая, вышел на крыльцо. На Пожарском поверх шубы был мужицкий армяк; на голове — баранья шапка. У Дмитрия Михайловича хватило сил спуститься с крыльца, но внизу он качнулся от слабости. Монах-силач, одетый в ямщицкий тулуп, подхватил Пожарского, поднял на руки и опустил в пустые розвальни на матрац, накрытый рогожей. Глава монастыря архимандрит Дионисий, высокий, красивый монах, и другой — келарь, ведавший всем монастырским хозяйством, Авраамий Палицын, проводили князя Пожарского до монастырских Красных ворот. У Красных ворот суетился с зажженным фонарем всего только один привратник. Погромыхивая ключами, он отпер ворота, и двое розвальней выехали из монастыря. Впереди — Иона-врач с князем Пожарским и монахом-силачом, служившим возницей. Следом, не отставая, шли розвальни, в которых лежал Андреян. В ногах у него устроились Арина и Федос Иванович. Старик правил лошадью. Арина сидела к нему спиной и не спускала с Андреяна глаз. Путь лежал на восток. Путь был труден и долог, потому что монахи везли Пожарского не по большой дороге на Стромыню, а глухими окольными проселками. Розвальни пробирались через отягощенные рыхлым снегом чащи либо ползли с ухаба на ухаб бескрайним полем с синей полоской неба на горизонте. В затерянных в сугробах и чапыжнике деревушках останавливались на дневки и ночевки. В Мугреево приехали на пятый день. И тотчас Федос Иванович послал в Зарайск за княгиней Прасковьей Варфоломеевной. Монахи остались в Мугрееве: Иона-врач — лечить Пожарского, а заодно и Андреяна; а силач в ямщицком тулупе слонялся без дела, дожидаясь конца лечения, чтобы доставить отца Иону обратно в монастырь. Тем временем Воробей и Сенька, ничего не ведая, продолжали жить у сердобольного Петра Митриева и во всем с ним согласной Евпраксеи Фоминичны. В домике у Петра Митриева было множество затейливых тайничков, где еще не перевелись мучица с крупкой и солонинка и соль. Хозяйственный старик рассчитал, что всего этого хватит на него с женой, на дворника Аггея и на «соловьев-воробьев» еще месяца на два. На долю Аггея придется добрый кус и тогда, когда он один останется стеречь домик Петра Митриева у Спаса-на-Песках. А сам Петр Митриев, вместе с Евпраксеей Фоминичной и «соловьями-воробьями», как откроются реки и сойдет полая вода, погрузится на струг. И поплывут они по Москве-реке и по Оке; будут плыть и плыть, доплывут до Нижнего Новгорода на Волге и там сойдут на берег. Дочери давно поджидали стариков из оскудевшей Москвы в Нижний Новгород, где еще хватало всякого изобилия. Родион Мосеев, нижегородский вестник, приезжая в Москву, даже останавливался теперь у Петра Митриева. И как прежде, в благополучное время, так и теперь, в разоренный год, сносился Петр Митриев через Родиона Мосеева с обеими своими дочерьми. Родион Мосеев, разъезжая по всему замосковному краю, знал много из того, что творилось в то время на русской земле. Они запирались с Петром Митриевым в светлице, и старик, приложив к уху ладонь, жадно слушал рассказы всезнающего Родиона. От Родиона Мосеева узнал тогда Петр Митриев, что жив князь Пожарский. Думали, пал князь Дмитрий Михайлович в сече за русскую землю либо в плен его взяли; ан жив, только поранен сильно, и лечит его добрый лекарь из троицких монахов — Иона-врач. И еще рассказывал Родион — очень ожесточились русские люди против польских панов за то, что паны Москву спалили. И есть уже в Нижнем Новгороде среди народа такие толки, чтобы объединиться всем, всею землею, и грудью стать за край отцов. Собираются в Нижнем на площади мясники, хлебопеки, шорники, алмазники, книгописцы и держат совет, как бы помочь родине в роковую годину. А больше всех в этих делах, сообщал Родион Мосеев, всегда выказывается нижегородский мясник Козьма Минин.
Петр Митриев слушал, прямо-таки затаив дыхание. Он уже не очень тужил о том, что были они с Евпраксеей Фоминичной купцы, а стали гольцы. Старик верил в лучшее будущее — в то, что придет час, когда ни одного захватчика не останется на русской земле. Так бежали дни и недели; уже лед прошел по реке, и разлилась она огромным озером по низкому луговому берегу. В ожидании спада вешней воды Петр Митриев достал однажды свои железные очки из очешника, раскрыл большую книгу, взял в руки указку и кликнул своих «соловьев-воробьев». — Ну-кась, такие-сякие, — сказал он им, — хватит вам слоны слонять! Я за вас буду в ответе. Ученье — свет, а неученье — тьма. И велел смотреть в книгу, всматриваться в буквы, запоминать каждую по ее стати и осанке. И твердить вслух их названия: — Аз, буки, веди, глаголь, добро… С тех пор почти не проходило дня, чтобы Петр Митриев не усаживал Сеньку с Воробьем рядом с собой за стол, где лежала раскрытая книга. Окошко во двор было распахнуто, и туда из светлицы, вместе с боем часов и пением кенара, вырывались голоса Петра Митриева и его юных учеников. Все трое вместе дружно повторяли: — Аз, буки — аб; аз, веди — ав. Буки, аз — ба; веди, аз — ва… Но, расшалившись к концу урока, ребята принимались кричать: — Аз — алажки, буки — букашки, веди — валяшки… Ко дню, когда приспела пора грузиться на струг, ребята уже порядочно разбирали по складам.
ПЛАЧ О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
Все лето прожили Петр Митриев и Евпраксея Фоминична со своими «соловьями-воробьями» у вдовой дочери своей Марфы Петровны. Дом у Марфы Петровны был просторен, сад и огород сбегали по крутому берегу прямо к Волге… Сенька и Воробей поливали огород, пололи гряды, таскали из ближнего леса хворост вязанками и раз по десяти в день купались в реке. Петр Митриев продолжал учить их грамоте и наставлять уму-разуму. Что он будет делать дальше со своими питомцами, Петр Митриев пока и сам не знал. Время было неясное. Как определится жизнь на русской земле, было неизвестно. Все зависело от того, одолеет ли русский народ своих заклятых врагов. Ну, а пока что для Сеньки и Воробья в большом доме Марфы Петровны дело всегда могло найтись. Сам Петр Митриев терпеливо ждал… Старик верил, что русский люд прогонит пришельцев и снова устроится русская земля. По средам и субботам Петр Митриев, прихватив с собой Сеньку и Воробья, отправлялся на базар. На базаре теперь не столько торговали, сколько судили и рядили о том, как помочь государству русскому, которое разорилось вконец. Петр Митриев, походив по базару и прикупив того и сего, кончал тем, что останавливался у мясной лавки Козьмы Минина, где бывало особенно людно. В Нижнем Новгороде Петра Митриева уже знали: московский купец, торговал в Москве в кузнечном ряду, умеет грамоте, старик достойный. Козьма Минин, управлявший в своей лавке среди бараньих туш и бычьих голов, приветствовал Петра Митриева, как только тот появлялся на пороге: — Московскому купцу Петру Митриеву честь и место! И придвигал гостю скамейку. Петр Митриев усаживался и, улыбаясь, щурил глаза. — Московскому купцу… — повторял он, тряся бородкой. — Да, были мы купцы, а стали гольцы. Козьма Минин швырял в угол топор, которым рассекал говяжьи части, и отвечал: — Не так, Петр Митриев. Надо: стали мы гольцы, а будем купцы. Вот как надо! Подобно Петру Митриеву, Козьма Минин тоже верил в окончательную победу русского народа над польскими панами. Так прошло лето. Снова в золото оделись белые березы, и огненно-красным стал наряд у осин. Засиделся сегодня Петр Митриев в лавке у Козьмы Минина, а когда возвращался с ребятами, уже засумерничало. У Ивановской башни Петр Митриев заметил суматоху. К воротам подъехал всадник, и из приворотной избушки выскочили городовые стрельцы. Они бросились к всаднику, схватили под уздцы коня: — Кто таков? С чем едешь? Стрельцы поступили по наказу, так требовала служба. — Родион Мосеев я, — ответил всадник. — Еду из Троицкого монастыря с грамотой к нижегородским людям. Стрельцы и так узнали своего Родю, Родиона Мосеева, который считался в Нижнем Новгороде бесстрашным человеком. Несмотря на смутную пору, Родион по-прежнему беспрерывно сновал по всем дорогам, расходившимся в разные стороны от Нижнего Новгорода. И через вестника своего, через Родиона Мосеева, нижегородцы и теперь сносились с другими областями русского государства. — Проезжай, Родя, — сказал приветливо стрелецкий десятник. — Сейчас тебе рогатки прочь сдвинем. Пока стрельцы снимали рогатки у ворот, Родион Мосеев окликнул Петра Митриева: — Здорово ли, Петр Митриев, живешь? Вот из Сергиева скачу. — Из Сергиева? Чай, ты и в Москве бывал? — спросил Петр Митриев. — Ну, как там домишко мой? Аггея видел? — Нет, Петр Митриев, в Москву сей раз не заезжал. — Что ж так, Родион? — Вот, — показал Родион на свою беличью шапку: — грамота у меня тут. Сказал троицкий архимандрит: скачи, говорит, не мешкай, никуда не заезжай. Верно, завтра в соборе читать будут эту грамоту. Приходи, коли что, завтра в собор, Петр Митриев! — Да уж приду, Родион, приду. — Ну, прощай, Петр Митриев. Скачудале. — Скачи, скачи, Родион. И Родион с драгоценной грамотой в шапке поскакал знакомой улицей к Преображенскому собору. Не было человека в городе, который уже на другой день не прослышал о привезенной Родионом грамоте. И чем идти на базар, где по воскресеньям бывал особенно оживленный торг, народ уже с утра потянулся в Нижегородский кремль, на Соборную площадь. Петр Митриев пришел очень рано, но вряд ли старику удалось бы пробраться в собор, если бы не Сенька и Воробей. Ребята так работали локтями, что проложили дорогу и себе и дедушке Петру Митриеву. В соборе было очень душно от множества людей и от бесчисленных свечек и лампад. Сиял иконостас, весь в позолоте, и невидимый хор певчих гремел где-то наверху. Когда служба отошла, на кафедру поднялся соборный протопоп Савва Евфимьев. В руке у него была грамота, которую накануне привез из Троицкого монастыря Родион. — Господа и братия, — сказал протопоп, прежде чем приступить к чтению послания Нижнему Новгороду от троицких монахов. — Господа и братия, горе нам, горе! Пришли дни гибели нашей. Погибает наше русское царство. Польская шляхта, паны польские замыслили русское государство наше разорить. Кто не заплачет и не обольется слезами? И протопоп развернул грамоту. Петру Митриеву почти ничего не было слышно. Заметив в руках у протопопа развернутый лист, Петр Митриев начал кое-как проталкиваться вперед. Старика и ребят, которые были с ним, все же пропустили, и они очутились у самой кафедры. Протопоп подождал, пока все успокоится, и стал читать притихшей толпе: — «Паны выжгли государство русское, Москву разорили, людей перебили, бесчисленную кровь пролили. Все до конца разорено и поругано…» Народ в соборе наконец не выдержал. Вздохи и плач отдались под гулкими сводами храма. — Горе! — слышалось со всех сторон. — Погибла Москва, царствующий город! — Гибнет русское государство! Нижегородцы были подавлены в этот час общей великой бедой. Все они плакали о погибели русской земли. Петр Митриев, стоя у самой кафедры, еще крепился. Но вот дрогнул у него волосок-другой на кончике бородки, и из глаз покатились обильные слезы. Глядя на Петра Митриева, заплакал и Сенька. А Воробей, поморгав глазами, только стиснул зубы и сжал кулаки.КОЗЬМА МИНИН
Но тут из толпы к помосту, на котором стояла кафедра, пробился мясник Козьма Минин. Не было человека в соборе, который не знал бы Козьмы Минина Захарьева-Сухорука. Незнатного рода, но большого ума, Козьма Минин был недавно выбран в Нижнем Новгороде земским старостой. — Братья! — обратился Минин к сгрудившимся в соборе землякам своим. — Не пожалеем ничего, чтобы помочь русскому государству. Начнем первые! Какая же великая хвала будет всем нам от русской земли, когда от такого малого города, как наш, произойдет святое дело спасения родины! Я знаю: только примись мы за то, а и другие города к нам пристанут, и мы избавимся от ига чужеземцев… Петр Митриев, полагая, как все глухие, что говорит шепотом, вдруг выкрикнул на весь собор: — Дело говоришь, Козьма! Все взоры устремились к Петру Митриеву. — Кто таков? — пронеслось гулом по собору. — Старец как будто не здешний и не окольный… — Купец московский Петр Митриев, — отвечали те, кто встречал старика у Козьмы Минина в лавке. — Марфы Петровны Кичигиной родной батюшка. — A-а… Вишь ты как! Из белокаменной. А Петр Митриев, не слыша ничего и не замечая, что Сенька дергает его за рукав, продолжал: — При мне Москва горела. Великий город лежит распростертый. Ветер разносит пепел. Шляхта в Московском Кремле пирует, потешаясь над сиротскими слезами. Вот они — сироты московские, вот, вот! Старик совсем разошелся. Он подтолкнул Воробья и Сеньку, но так, что оба мальчугана сразу очутились на помосте, над которым возвышалась кафедра. Так они и выстояли на помосте, пока Козьма Минин не кончил своего призыва к нижегородцам объединяться и ополчаться, чтобы постоять за землю отцов. — Надо нам всем быть в соединении и за русское государство стоять, — говорил и народ, выходя из собора. — Неужто русскому человеку ходить под польским королем! Огромная толпа заполнила теперь Соборную площадь. Минин, увидя, сколько людей собралось здесь, вскочил на пустую бочку из-под лампадного масла и снова обратился к своим землякам. — Братья! — разносился зычный голос мясника Минина по всей площади. — Не пожалеем ничего! Отдадим все, чем владеем, для спасения нашего царства!
— Братья! Отдадим все, чем владеем, для спасения нашего царства!
Он рванул на себе зипун и выдернул из-за пазухи свой здоровенный кошель. Кошель этот был так туго набит серебром, что оно даже не брякало. Минин развязал кошель, опрокинул его, и серебряные монеты, звеня, ринулись водопадом в оказавшееся подле бочки пустое ведро. — Братья! — кричал Минин, вытряхивая в ведро все содержимое кошеля, без остатка. — Ничего не пожалеем! Отдадим все! — Отдадим! — дружно кричали нижегородцы в ответ Минину. — Начнем первые! Соберем новое ополчение! Пойдем вызволять Москву! И стали люди нижегородские тут же сносить Минину на площадь всякое добро. Несли деньги, золотые ожерелья, драгоценные камни и жемчуг, куски парчи и сукна. А у кого ничего не было за душой, тот снимал с себя медный крест и клал его в общую кучу на общее дело. Подле бочки, на которой стоял Минин, откуда-то появились большой грубо сколоченный стол и деревянная скамья. И уже на столе выросла груда дорогих собольих шкурок, серебряной и золотой посуды и многого другого, чем богат был Нижний Новгород, сколачивавший свою казну ремеслами и великими торгами по Волге и Каме, по необъятной Сибири, по всему азиатскому миру. — Погодите, люди! — крикнул Минин. — Не пойдет так. Деньгам и всякому добру надобны счет и запись. Кто сейчас постоит у казны? Приказывайте! И записывать кому? — Ждан Болтин пускай у казны постоит, — раздалось в толпе. — А книгописцу Патрикею записывать. Дворянин Ждан Болтин, высокий, статный человек с нарядной тростью в руке, стал у стола. Другой — Патрикей-книгописец — был, наоборот, невзрачен и сутул — сутул потому, что промышлял перепиской книг на продажу. Целую жизнь провел он, скрючившись в своей избушке над маленьким столиком, скрипя гусиным пером по шероховатой бумаге. Все принадлежности ремесла Патрикея оказались в его кожаной сумке: лист бумаги, гусиное перо, перочинный ножик и оловянная чернильница. Патрикей сразу же скрючился над угольником стола и пошел скрипеть. А Петр Митриев отвернулся в это время в сторону и велел Сеньке и Воробью заслонить его. Задрав рубаху под кафтаном, он развязал порты и снял с голого тела двойной кожаный пояс. Потом привел себя снова в порядок и, держа снятый с себя пояс высоко в руке, пошел с ним к Минину. — Дай-кась мне острый ножик, Козьма, — сказал он Минину, показав ему пояс. Минин понял. Он достал из-за голенища большой «засапожный» нож, из тех, что в ту пору носили вместо оружия многие русские люди. Петр Митриев ножом этим стал подрезать свой пояс и доставать зашитые в нем золотые монеты. — Прими и мою лепту, Козьма, — сказал Петр Митриев. — Носил при себе, в поясе, на черный день, на крайний случай… Так вот же он, крайний случай! Дальше некуда. Получай! Вот те итальянские цехины и французские флорины; вот два дуката из Цесарской земли; а это гульдены немецкие… Двадцать золотых монет, полновесных и полноценных, выложил старик Козьме Минину на стол, у которого стоял Ждан Болтин и где вел свою запись книгописец Патрикей. Затем Петр Митриев вернул Минину нож и швырнул прочь свой изрезанный в клочья пояс. — Спасибо тебе, купец, что порадел о русской земле! — сказал Минин Петру Митриеву и низко ему поклонился. — Это тебе, Козьма, спасибо, — ответил Петр Митриев, кланяясь Минину в свой черед. — Ты начал великое дело, с тебя и пойдет оно. Строй ополчение, да и о воеводе, не долго мешкая, подумай. Ополчение без воеводы — что тело без души. — Думал я и об этом, Петр Митриев. — Ну, и надумал? — Надумал. — Кто же, Козьма? — Кому, как не Дмитрию Михайловичу князю Пожарскому, быть над нами воеводой! — ответил Минин.
НЕ ЗА ВЫСОКИМИ ГОРАМИ
Иона-врач прожил в Мугрееве у князя Дмитрия Михайловича до половины лета. Лечил он Дмитрия Михайловича и Андреяна какими-то травами, которые сам собирал в окрестных полях и лесах. И на ранней заре и среди дня, а, случалось, и ночью мугреевские мужики и ребята встречали за селом у себя сухонького монаха с посошком и берестяной коробушкой. Бывало, наклонится монашек, сорвет былиночку, расправит ее, разглядит и в коробушку положит. Вся горница у Ионы-врача в мугреевских хоромах Пожарского была увешана пучками шалфея, дикой мяты, укропа, повилики, мака, полыни, ромашки, чемерицы, волкобоя, сон-травы. Они лежали грудками и на подоконниках и на столе. Сладкий, немного дурманящий дух шел из горницы Ионы-врача; и от самого Ионы приятно пахло — пахло полем, лугом, лесом, землей, когда она вся в цвету. Из трав этих Иона готовил отвары, настойки, бальзамы и мази. Князь Дмитрий Михайлович и Андреян принимали из рук Ионы лекарства и делали всё, как наказывал Иона-врач. В июне зацвела липа, цвел тысячелистник, лиловые колокольчики покачивались на легком ветру по бережку речки Лух. К этому времени князь, припадая на одну ногу, уже выходил в сад. Андреян, с зажившим на лице шрамом, подолгу сиживал теперь у раскрытого в избе окошка. Однажды князь, издали заметив Андреяна, подошел к окну. Андреян хотел было встать, но Дмитрий Михайлович не дал ему этого сделать. — Сиди, сиди, Андреян, — сказал ему Пожарский. — Сиди уж! Ну, как у тебя, Андреянушка, боевой мой товарищ? — Слава богу, — ответил Андреян. — Затянулись, зажили мои раны. Поздорову ли у тебя, князь Дмитрий Михайлович? — И я не больно жалуюсь, Андреян. Хоть и прихрамываю, а — видишь? — ногами шевелю. Поставил-таки меня на ноги Иона-врач! — Поставил, князь Дмитрий Михайлович! Спасибо ему! Знающий монах. Ведает, какая к чему трава идет, какую когда срывать, какой травой когда пользовать. Не будь Ионы — не сидел бы я теперь у окошка, а лежал в сырой земле. — Верно, Андреян! — заметил князь. — Это верно. Ну, а как с твоим Сенькой? Неужто ничего? В избе, в темном углу за печкой, кто-то всхлипнул. Это Арина, когда Дмитрий Михайлович неожиданно вырос у нее под окном, в испуге забилась туда. И она заплакала тихо и протяжно, едва Дмитрий Михайлович спросил о Сеньке. У Арины в душе была своя рана, которую никакими травами не залечил бы и Иона-врач… Но вот и липа отцвела, начала земляника созревать… Князь Дмитрий Михайлович расхаживал по двору с Федосом Ивановичем, заглядывая в амбары и сараи… Андреян посылал бубенщика под Шую на ярмарку прикупить чего-нибудь из инструмента, потребного по кузнечному ремеслу. А Иона-врач стал собираться в дорогу. Собирался он недолго и уехал на рассвете в крепкой тележке, в которую впряжен был сытый, широкозадый, мохноногий конь. Силач в подряснике помог Ионе усесться поудобней и положил у него в ногах два мешка. В одной был дорожный харч на двоих, в другом — овес для лошади. В овсе была запрятана благодарственная грамота от князя архимандриту Дионисию и золотая чаша в дар монастырю. Нижегородский вестник Родион Мосеев в Мугрееве не бывал. Ему хватало теперь дела ездить от Козьмы Минина в Троицкий монастырь к архимандриту Дионисию и обратно — в Нижний Новгород от Дионисия к Минину. Погожим летним днем, на обратном пути в Нижний, Родион Мосеев, подъезжая к Киржачу, встретил тележку, в которой катили два монаха. Одним из них был хорошо известный и Родиону Мосееву Иона-врач. Иона рассказал нижегородскому вестнику о своей жизни в Мугрееве и о князе Пожарском. Пользовал, дескать, Иона-врач князя Дмитрия Михайловича отварами и травами, и выжил князь, оправился от тяжких ран; ходит по двору и по саду, только тяжелой сабли еще не держат ослабевшие руки. Но ничего: придет пора, и снова обнажит князь саблю либо разящий меч. Все это передал Родион Мосеев Минину, когда прискакал в Нижний Новгород. Минин после памятного дня в соборе и на площади стал подбивать нижегородских людей, чтобы послали от себя к Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Сказали бы посланцы князю, что строят нижегородцы новое ополчение и собрали на это дело много добра. Только нет у них воеводы. И хотят они воеводой к себе не кого иного, а князя Пожарского. Поехали с этим в Мугреево посланцы из Нижнего, и Минин с ними ездил туда, а вернулись ни с чем. Дмитрий Михайлович не согласился: слаб он еще здоровьем, не все залечены раны; и ходит Дмитрий Михайлович, когда устанет, волоча ногу, — совсем охромел. Думал, думал Минин, не день и не два думал и снова заговорил в земской избе о том же. — Уже ратные люди съезжаются к нам в Нижний Новгород, а воеводы нет. Кого же мы будем просить на воеводство? — Проси, Минич, князя Василия Андреевича Звенигородского, — предложил, тяжело дыша, скорняк Кринкин, средних лет человек с испитым лицом. — А не Звенигородского, так Андрея Семеновича Алябьева проси. — Не надо Звенигородского, — раздался чей-то голос. — С панами он дружил? Дружил. Ну, верно, и не рассорится с панами. — Тогда что ж? Алябьева будем просить? — заметил нерешительно Кринкин. — Мелковат Алябьев, жидок; где ему! — Попытка — не пытка, — сказал Минин и головой тряхнул. — Попытаемся еще раз в Мугреево послать. Лучше не придумать! — Верно что так. Не придумать лучше. — Так вот, Козьма, ты к князю Дмитрию Михайловичу и поезжай, — заговорили тут сразу несколько человек. — Поезжай, Козьма; Мугреево не за высокими горами. — Спасибо за честь, — ответил Минин. — Только мне, люди добрые, ехать нынче несподручно. Мне и казну, что собрана, считать, мне и казну хранить, мне и ополчение строить. — Тогда Ждана Болтина пошлем просить князя на воеводство. — Что ж, Ждан Болтин — это хорошо, — согласился Минин. — Человек с умом и собой сановитый. Только одному Ждану ехать не годится для такого дела. Да и я бы один не поехал. Это не бычков на ярмарке покупать. — Еще подберем, чтоб стали Ждану в ровню. Вон пускай со Жданом Болтиным Петр Митриев едет. Петра Митриева просим… Печерского архимандрита тоже просим… Петр Митриев не отказался ехать в Мугреево к князю Пожарскому и стал немедля собираться в дорогу. Старик решил захватить с собой Воробья, который знал и лошадь запрячь, и овса ей засыпать, и на базар, за чем понадобится, сбегать, обернувшись в один миг. На другой день раным-рано Воробей и подал к крыльцу Марфы Петровны кибитку с кожаным верхом, на хорошо смазанных колесах. А Сенька, когда увидел Воробья с вожжами в руках, вдруг захныкал: — Дедушка Петр Митриев, возьми и меня с собой! — Ась! Чего? Куда? — замахал Петр Митриев руками. — Пш! — Дедушка, хочу в Мугреево-о… — В Мугреево хочешь? Может, ты, Сенька, в Москву хочешь? — В Москву не хочу-у… В Мугреево хочу-у… — Ишь ты, Москва ему не годится! Мугреево, вишь, ему годится. Что ж так? — Мурашовские все равно что мугреевские, — не унимался Сенька. — Мы тамошние. — А, стой! — спохватился Петр Митриев. — Тамошние? Верно! О-о… Так-так. Ну-к что ж — поезжай! Сенька только сбегал за тулупчиком и шапкой. Швырнув их в кибитку, он одним прыжком очутился в кибитке сам.«СЕНЯ, СЕНЮШКА!..»
Выехали из Нижнего с восходом солнца, которое, однако, только изредка показывалось из-за облаков в этот серенький осенний день. Леса стояли словно призадумавшись. И летели, летели над ними целыми станицами дикие гуси, дикие утки, журавли. Птица торопилась в теплые края до наступления холодов. Ехали послы берегом Волги: Ждан Болтин в тарантасе, а Петр Митриев в кибитке. Рыдван печерского архимандрита Феодосия выглядел совсем избушкой на колесах. Позади, оставляя за собой длинное облако пыли, скакали пятеро конных стрельцов. В Балахне нижегородцы остановились на роздых и обедали у земского старосты Фролова. Фролов занимался соляным делом: вываривал соль из соляных ключей, которых много в окрестностях Балахны. Соляные амбары Фролова тянулись по берегу Волги. Берег — низменный, его заливает полой водой, и фроловские амбары стояли на толстых сваях. Фролов знал, куда держат путь нижегородские посланцы. — Свято дело ваше, добрые люди, — сказал он, потчуя гостей наваристой волжской ухой. — Скажите Минину, что два амбара соли погружу вам еще до того, как Волга станет. А как сойдет лед, слать стану, сколько будет вашей потребы. Скажите Козьме: дает, мол, Антип Фролов безденежно, на общее дело. Петру Митриеву очень понравилась речь Фролова. Антип Фролов был здоровенный купчина с красным лицом и зычным голосом. Привыкший перекликаться с грузчиками своими и солеварами, он и дома не говорил, а кричал, словно в доме у него все были глухие. Но ведь Петр Митриев и верно был глуховат. Поэтому голосина Фролова пришелся здесь очень кстати. — Да, да, да, — затряс Петр Митриев кончиком бородки. — Не зря, Антип Лукич, говорят: торовата Балахна, стоит полы распахня. А Ждан Болтин поклонился Фролову и поблагодарил за щедрый дар: — Будет ополчение с хлебом, будет и с солью. Спасибо, Антип Лукич! И еще спасибо, хозяин, что нас напитал. После обеда отдыхали, разлегшись у Фролова по горницам, на лавках и сундуках, застланных тюфяками и коврами. А Воробей и Сенька пошли бродить по базару и дивились, сколько в Балахне навалено этой соли. Балахнинцы, казалось, только и знали, что взвешивать соль на огромных весах, перетаскивать мешки с солью с места на место, ссыпать соль в подклети и закрома, принимать соль и отпускать. И соль здесь была всякая: белая, как мел; рыжая, как греча; мелкая, как прах у дороги; крупная, как просо. Наглядевшись вдоволь на это соляное преизобилие во всех его видах, Воробей и Сенька вернулись к Фролову на двор. Нижегородцы уже поднялись и выходили на крыльцо. Петр Митриев, стоя посреди двора в бараньей шубе, высматривал своих «соловьев-воробьев». — А, такие-сякие, соленые-неперченые! — закричал он, как только ребята показались в воротах. — Вот я вас! Запрягать! Сейчас запрягать! Отдохнули люди, передохнули и лошади. Они тоже были довольны Антипом Фроловым. В разоренный год дома у себя, в Нижнем, они не часто лакомились солью. А у Фролова в Балахне солью хоть завались! Лошади шли бодро, и в Мугреево приехали еще задолго до ночи. Князь Дмитрий Михайлович был в это время у себя, в своих покоях. Дело, видно, шло к перемене погоды. Раны у Дмитрия Михайловича, правда, все зарубцевались, но сегодня они ныли. Чтобы заглушить боль, Пожарский большими шагами, чуть прихрамывая, расхаживал по горнице. Пройдет от печки к окошку, повернет и взглянет на саблю, висящую на стене, на ковре над широкой лавкой. Но с улицы вдруг донеслись голоса, скрип колес, топот копыт. По двору, огибая купу берез посредине, бодро катил тарантас, за ним кибитка, а потом и рыдван, порядочно потрепанный на путях-дорогах. И стали выбираться из тарантаса, кибитки, рыдвана люди: какой-то старик с козлиной бородкой, одетый в баранью шубу, крытую синим сукном; монах в черном клобуке и теплой рясе вылез из рыдвана… Впрочем, монаха этого Дмитрий Михайлович знал. Печерский архимандрит Феодосий, когда ездил из Нижнего Новгорода в Москву, случалось, заворачивал для роздыха в Мугреево. И этого, что первым поднялся на крыльцо, Дмитрий Михайлович тоже знает: нижегородский дворянин Ждан Болтин. «Достойный человек — Ждан, — думает Пожарский, разглядывая нижегородцев в окошко. — Да их тут опять целое посольство! Неужто снова с тем же? Так ли, сяк ли, а надо встретить гостей!» И Дмитрий Михайлович, совсем забыв о своих ноющих ранах, заторопился гостям навстречу. Вошли архимандрит Феодосий, Ждан Болтин, Петр Митриев. Поклонились князю, и князь поклонился им. — Благословение честно́му дому твоему и древнему твоему роду, боярин! — сказал архимандрит. Все сели, остался стоять один Болтин. — Князь Дмитрий Михайлович! — сказал он и кашлянул в рукав. — Земно кланяются тебе нижегородские люди. А в Нижнем Новгороде мы пришли в соединение всем миром: ополчаемся на смертный бой за русское государство. От земского старосты Козьмы Минина пошла наша общая дума — собрать новое ополчение всей земли, земское ополчение. «Козьма Минин… — вспомнил Дмитрий Михайлович. — Приезжал в Мугреево Минин. В прошлом году. Скот закупал… Мясник он; человек дельный. Федосу Ивановичу Минин, помнится, тоже понравился. И с месяц назад Минин приезжал в Мугреево; приезжал не один. Земское ополчение он затеял… Со мной советовался, а кончил тем, что меня — в воеводы. Отказал я: рука еще слаба и нога… А эти, видно, с тем же. Послушаю». Ждан Болтин, как бы угадав мысли Пожарского, снова кашлянул в рукав и продолжал: — Всем миром челом тебе, князь Дмитрий Михайлович, бьют нижегородцы и просят на воеводство. Быть бы тебе, князь Дмитрий Михайлович, набольшим воеводой земского ополчения нашего! Возьми в руки меч и рази им врагов, гони их прочь с родной земли! Не отвергни же просьбы русского люда, что стонет и плачет под игом пришельцев, и будет тебе хвала навеки по всей широкой русской земле! Болтин поклонился Пожарскому, и Пожарский ответил ему тоже поклоном. Потом говорил печерский архимандрит, и Пожарский выслушал его стоя. Не без раздумья согласился наконец Дмитрий Михайлович стать военным предводителем нового ополчения. И согласился он только при условии, чтобы вся денежная и хозяйственная сторона этого большого дела была поручена Козьме Минину. — Вы знаете Козьму Минина, — сказал Пожарский. И я его узнал. Человек он бывалый. Ему все счеты и расчеты — все привычно. — Уж чего лучше! — подхватил Петр Митриев. — Денежки счет любят, а Козьма денежкам счет знает. Народной копейки на ветер Козьма не пустит. В это время вошла княгиня Прасковья Варфоломеевна. За нею шли девушки. В руках у них были подносы, уставленные кувшинами и кубками. Пока в княжеских хоромах шли переговоры между нижегородскими послами и князем Дмитрием Михайловичем, пока княгиня Прасковья Варфоломеевна потчевала гостей стоялыми медами и старым, выдержанным в дубовой бочке вином, Сенька и Воробей выпрягли лошадь из кибитки Петра Митриева и надели ей на морду торбу с овсом. И Сенька, не теряя времени, повел Воробья по усадьбе. — Вон гляди, Воробей, — показал Сенька на избу в ряду других людских изб. — Тут вот жили мы прошлым летом. А теперь кто живет? — Кто живет… — заметил Воробей. — Верно, кто-нибудь живет. Не пуста изба стоит. Конечно, не пуста. Из избы вышла женщина, темноликая, повязанная коричневым платком… И вдруг тишину двора прорезал пронзительный крик: — А-а-а… Ма-а-а… Крик донесся и в покои к Дмитрию Михайловичу. Все, кто сидел там, переглянулись. Князь Дмитрий Михайлович подошел к окошку. В бежавшем через двор мальчугане он сразу узнал Сеньку. — Ма-а-а… Ма-ма-ня-а! — вопил Сенька, летя к темноликой женщине в коричневом платке. — Ма-а-а… — И Сенька широко раскинул руки. Арина покачнулась, но удержалась на ногах, схватясь за притолоку. Сенька подбежал к матери и обхватил ее руками. — Сеня, Сенюшка! — только и вымолвила Арина, не в силах больше сказать ничего. Она одной рукой все еще держалась за притолоку, а другой прижала к себе Сеньку. Потом стала повторять одно и то же — всё те же два — три слова: — Сеня, Сенюшка!.. Сеня, мой Сенюшка!.. И не понимала Арина, наяву ли все это с ней происходит или только сон ей такой снится.СКАТНЫЙ ЖЕМЧУГ
Домишко Федоса Ивановича стоял за хлебными амбарами. Это был потемневший от времени сосновый сруб, с бурой тесовой крышей в свежих, белых заплатах. В последние дни Федоса Ивановича совсем разломило. Он лежал на перине, укрытый тулупом, и события последнего дня прошли мимо него. Только на другой день, когда посольство уже уехало, Федосу Ивановичу рассказали о том, что произошло накануне. Очень был рад старик, что в Нижнем Новгороде Козьма Минин сбивает новое ополчение идти на Москву — вышибать оттуда шляхту. Не был только уверен старый Федос, что сам примет участие в этом походе. Годы брали свое: Федос Иванович хворал все чаще, становился все слабее. И еще радовался Федос Иванович тому, что Сенька нашелся. Сенька, конечно, остался в Мугрееве, у отца и матери. Вернулся в Нижний Новгород с Петром Митриевым один Воробей. В Нижнем Новгороде послы сообщили о согласии Пожарского командовать ополчением; сообщили они и об условии, которое при этом Пожарский поставил: ему — князю Пожарскому — военное дело, а Козьме Минину — вся хозяйственная сторона. Узнав об этом, весь базар нижегородский хлынул к Минину в земскую избу. Базарные торговцы, ремесленники, весь нижегородский люд — все они приступили к Минину с просьбой взять на себя в народной армии обязанности главного начальника по хозяйственной части. Однако и Минин согласился не сразу. Этого, во-первых, требовали скромность и обычай. Но, главное, это давало Минину возможность тоже поставить свои условия. — Пойду на то дело… — сказал Минин заполнившей всю земскую избу толпе, — только тогда пойду, если вы, мужики нижегородские, будете во всем слушаться меня и князя Дмитрия Михайловича, будете давать деньги на содержание войска. А давать не будете, то силою стану брать с вас, чтобы воинам нашим ни в чем недостачи не было. — Согласны, Козьма Минич! — загуторили в толпе. — Понимаем. — Дело — великое, значит и жертва великая. — Это хорошо! — присоединился к общему мнению и Петр Митриев. — Хорошо, говорю, ты, Козьма, надумал. Идем Москву выручать, государство русское освобождать… Ты, Козьма, и будь у нас старший. Отдаем себя во всем на твою волю… День клонился к вечеру, и люди стали расходиться. Пошел к себе домой и Минин. Он шел базаром, где в лавках горели фонари, а торговцы подсчитывали дневную выручку. Минин прошел мимо своей лавки в мясном ряду, не останавливаясь. Лавка была заперта, на ней висел замок. Она уже не открывалась много дней. Минин весь ушел в новое дело, и ему теперь было не до говядины с бараниной, не до бычьих голов и бараньих туш. Дома Минин снял шубу и остался в легком кафтане. Тяжелые юфтевые сапоги, облепленные осенней базарной грязью, он сменил на комнатные сапожки из мягкой козловой кожи. — Никак, это для меня, Татьяна Семеновна, ты вырядилась сегодня? — сказал он жене, когда она вошла к нему в светлицу. — Для тебя, отец. Для кого же, как не для тебя! Каждый год так в Кузьминки — день ангела твоего. На голове у Татьяны Семеновны была парчовая, бисером шитая повязка, в ушах — крупные золотые серьги. — Татьяна, — молвил задумчиво Минин, — принеси мне твои жемчуги, те, что привез я тебе с Макарьевской ярмарки. Молоды мы были тогда… — Зачем, отец, понадобился тебе мой жемчуг? — спросила Татьяна Семеновна. — Принеси — скажу потом. Татьяна Семеновна принесла окованную медью шкатулку и поставила на стол перед мужем. Вошел Нефед, сын Минина, и стал у дверей. — Садись, Татьяна Семеновна; и ты, Нефед, присядь. Сказав это, Минин открыл шкатулку и вынул оттуда низанное в три ряда жемчужное ожерелье. Потом стал горстями брать из шкатулки еще не низанный, не сверленый скатный жемчуг — отборный, круглый, жемчужина к жемчужине — и обратно сыпать его в шкатулку. На столе в оловянном подсвечнике горела восковая свеча. Крупные жемчужины, падая из рук Минина в шкатулку, вспыхивали нежно-розовыми, светло-зелеными и небесно-голубыми огоньками. — Хорош жемчуг и чист, зерно к зерну, — сказал Минин. — Жемчуг персидский, жемчуг китайский, и русский жемчуг из холмогорских рек, и немецкий жемчуг тихих вод… Не жаль тебе будет, Татьяна, отдать эту красоту? — А зачем же, Козьма Минич, отдавать ее? — удивилась Татьяна Семеновна. — Надо, жена, надо! Все отдают. Один даст сто рублей, другой — целую тысячу; а у кого ничего, тот и грошик несет. Мы же с тобой должны быть первыми в деле таком. Татьяна Семеновна вздохнула. Она провела рукой по глазам и потрогала шкатулку, словно прощалась с нею. — Что ж, — сказала она, склонив голову. — Надо так надо, Козьма Минич. Коль уж такое время подошло… Вот еще возьми! — Она вынула из ушей свои серьги и положила в шкатулку. — Вот еще… — И она стала снимать с пальцев драгоценные перстни, сняла с головы парчовую повязку и отвернулась, стыдясь своей непокрытой головы. Когда Татьяна Семеновна освободилась от всего, что красило ее столько лет, она показалась Минину еще краше. Совсем еще не старая, с русыми косами, уложенными вокруг головы, голубоглазая и белолицая… «Лебедь белая», — подумал Козьма. Он захлопнул шкатулку и подошел к жене. В уголках глаз у нее крупными жемчужинами блестели слезы, но она радостно улыбалась. «Вот он, подлинный жемчуг скатный!» — подумал Минин, заметив эти слезы. — Молодец ты у меня, Татьяна! — сказал он и погладил ее волосы.ВОТ ЗДОРОВО!
В короткий срок Минину удалось собрать большую армию. И не только собрать, но и одеть ее и снарядить. Значительны были и запасы провианта, заготовленного Мининым для прокормления войска. А в это время в Мугрееве шла своя подготовка. Князь Дмитрий Михайлович уже совсем оправился от ран. Проходя мимо кузницы, он останавливался у раскрытых дверей и смотрел на Андреяна — как работает кузнец. Андреяну помогал Сенька: то огонь в горнушке раздует, то щипцами схватит кусок раскаленного добела железа и сунет в ведро с водой. Ох, и зашипит же сразу железо, окунутое в воду! «Как Змей Горыныч», — думает. Сенька, вспоминая сказку, которую бобылка Настасея, бывало, рассказывала в Мурашах ребятам. Вскоре после возвращения своего в Мугреево Сенька спохватился: — Маманя, а где же Жук? Арина так и стала с ухватом в руках возле топившейся печки. В самом деле, за протекшие месяцы она столько тужила о больном Андреяне и пропавшем Сеньке, что ей на ум ни разу не пришла мысль о Жуке — черном, как сажа, песике с хвостом, туго закрученным в крендель. — Вона! — сказала она наконец в крайнем удивлении. — Гляди ты, и Жук потерялся! — Жук! Жук! — стал звать Сенька свою собачку. Но Жука не было. — Потерялся, — сказал печально Сенька, натянул полушубок и выбежал на мороз. В кузнице у отца он забыл о Жуке. Близился день, когда Пожарскому предстояло снова выступить со своими людьми, чтобы стать во главе ополчения, собранного в Нижнем Новгороде. Кузнец Андреян и на этот раз должен был принять участие в походе. Решено было, что вместе с Андреяном опять отправятся и Арина и Сенька. Федоса Ивановича Пожарский с собой не брал: старик был уже совсем плох. Однако у старого Федоса хватило сил выйти из своего домишки к воротам, как только он услышал звуки труб и удары в бубен. Мимо Федоса Ивановича проехал Пожарский, проехал на гнедом коне, потому что серый в яблоках жеребец был брошен во время боя, в суматохе, после того как тяжело раненного князя уложили в парные сани и умчали из Москвы в Троицкий монастырь. И красовался теперь на сером жеребце, должно быть, какой-нибудь чванливый пан… Зима в том году завернула рано. Насыпало снегу, набило ухабов… До Нижнего Новгорода добирались — одни верхом, другие на дровнях, в розвальнях, пошевнях. — Берегись, Сенька, — смеялся Андреян: — как подкинет — того гляди, язык себе откусишь! Так, или, вернее, почти так, оно и вышло. Сенька зазевался на ворону, которая сидела на придорожной вешке, а тут, как на грех, на ухабе здорово тряхнуло. Сенька вскрикнул и прикусил язык до крови. — Ой-ой-ой-ой! — захныкал Сенька от щемящей боли. Потом обернулся к вороне и погрозил ей кнутовищем. Но ворона здесь была ни при чем. Впрочем, Сенька сразу же перестал думать об этом, потому что путники уже въезжали в Нижний Новгород и навстречу им валили толпы людей. У воеводской избы в Нижегородском кремле ополченцы поджидали своего воеводу. Минин, Ждан Болтин и Петр Митриев поднесли Пожарскому хлеб-соль. Колокольный звон разливался по всему городу и уходил в окрестные поля. — Воробей-эй! — вдруг закричал Сенька, заметив белозубого, черномазого паренька, не отстававшего от Петра Митриева. — Тимоха-а! Воробей, в новом овчинном тулупчике, поднял голову, хмыкнул носом и, найдя глазами Сеньку, подбежал к нему. Они схватили друг друга за руки. — Вот здо́рово! — воскликнул Сенька. — Воробей, Воробейка… Ох, ты! Воробей, айда в Москву шляхту бить! — Петр Митриев не пускает, — сказал Воробей. Он наклонился к Сеньке и шепнул ему на ухо: — А я все равно убегу. — Ой! — крикнул Сенька, вспыхнув от восхищения. — Вот это здорово! Но к ним уже семенил Петр Митриев. — Ась? Чего? — твердил он, поднеся ладонь к уху. — Вона что! Опять вместе! Соловьи-воробьи… воробушки в коробушке… — И морщинки, как лучики, пошли у него вокруг глаз. — Пусти, дедушка Петр Митриев, Воробья в Москву! — вдруг выпалил Сенька. — Шляхту мы с ним будем бить. — Чего, чего? — Волосок на кончике бородки у Петра Митриева задрожал, как былиночка под ветром. — Шляхту? От горшка два вершка — и туда же, в Москву, шляхту… Вот спущу я вам обоим портки — и розгой вас, розгой!.. Родио-он! — крикнул он, заметив Родиона Мосеева, который, торопясь, пробирался куда-то сквозь густую толпу. — Родя, помоги мне моих соловьев посечь! — Некогда, некогда! — замахал руками Родион Мосеев. — В другой раз. Всю осень Родион Мосеев скакал с грамотами от Минина то в Рязань, то в Казань, то в Свияжск, то в Чебоксары. В грамотах Минин призывал все города русской земли участвовать в ополчении деньгами и ратниками. И потом всю зиму то один город, то другой слал своих ратников в Нижний, где они вливались в общее ополчение — в земское ополчение всей русской земли. Пожарский только диву давался, какая уйма народу скопилась за одну эту зиму в Нижнем Новгороде. На дворе еще держались морозы. Снег стал колким и сыпучим. Но дни становились светлее, утра — прозрачнее. В одно такое прозрачное утро, когда небо рассинилось полосами промеж серебристых облаков, ополчение Минина и Пожарского выступило в поход освобождать Москву. Ополчение двигалось медленно, набирая в попутных городах новых ратников. И всюду, куда приходили со своим ополчением Минин с Пожарским, восстанавливался нарушенный польскими захватчиками государственный порядок и народ возвращался к мирному труду. Так, переход за переходом, ополчение, после остановки в Балахне, выступило на Юрьевец, потом пришло в Решму, оттуда пошло в Кинешму… Сенька счет потерял попутным городам и селам, всё в Сенькиной голове слилось и кружилось, как карусель: дома́, базары, церкви, купцы в лавках и грузчики на пристанях. Уже совсем прошла зима. Возвращались из чужих краев на родину журавли. В высоком небе пели полевые жаворонки. И ясным днем, под курлыканье журавлиных стай и голосистые трели жаворонков, земское ополчение вступило в Ярославль. Огромный табор раскинулся под валами Ярославля, вдоль по берегу Волги. Весь табор дымил кострами, над которыми подвешены были котлы. У одного такого костра стоял Сенька и, чихая от дыма, подбрасывал в огонь сухую щепу. Вдруг Сеньке показалось, что кто-то дернул его за рукав. Сенька быстро обернулся… и увидел Воробья. На Воробье был его овчинный тулупчик, за спиной — котомочка, в руке — жердина. Пот с Воробья катился градом. В первую минуту Сенька не смог выговорить ни слова. Придя в себя, он всплеснул руками. — Убежал? — крикнул он, ликуя. — Убежал, — ответил Воробей. — Шляхту бить? — Шляхту бить. — Вот здорово! — выкрикнул Сенька, захлебываясь от восторга. — Это… это… Ух, и здорово ж!ПУТЕШЕСТВИЕ ВОРОБЬЯ
Петр Митриев не стал беспокоиться о том, куда девался Воробей. Ну, не пришел Воробей к обеду — явится к ужину. Куда денется? Только сели ужинать у Марфы Петровны в столовой светлице, как со двора послышались шаги, залаяли собаки. — Воробей, вона! — сказала Марфа Петровна. — Воробей, где ни есть, зернышко клюнет и тем сыт бывает, — сказал Петр Митриев, кроша черный хлеб в тарелку с молоком. — Посечь бы надо Воробья. И чего это я все откладываю? Марфа, — обратился он к дочери, — Воробей как взойдет, дай ему поужинать; а я, как поужинает, ужо его высеку. Из прихожей в столовую светлицу вошел кто-то, но это был не Воробей. Вместо Воробья к Петру Митриеву шагнул Родион Мосеев. Он был покрыт пылью, из голенища торчала нагайка. — Я к тебе, Петр Митриев, сказать только, — молвил Родион. — Нынче я на Балахнинской дороге Воробья встретил. — Кого? Чего? — встрепенулся Петр Митриев. — На дороге? Воробья? Соловья? — На дороге же, — повторил Родион. — Идет парнишка берегом Волги, за плечами сума, жердинкой помахивает… «Передавай, говорит, Родион Мосеич, поклон дедушке Петру Митриеву и скажи, чтобы не серчал. Я, говорит, как шляхту выгоним, так вернусь к Петру Митриеву и буду ему все делать — в кибитку запрягать и на базар с ним ходить, что прикажет, за то, что он добрый». У Петра Митриева сразу глаза покраснели и бородка затряслась. — Садись, Родион, ужинать, — сказала Марфа Петровна, ставя на стол оловянную тарелку. — Благодарствую, Марфа Петровна, — поклонился Родион, — только некогда мне; еще и домой не заезжал. Прямо с дороги. Родион еще раз поклонился и вышел. На дворе у самых ворот был привязан к сухостойкой березе его конь-воронок. Родион провел коня через калитку на улицу и привычным движением вскочил в седло. Рыжий кот, которого Евпраксея Фоминична привезла из Москвы, ходил под столом, ко всем приставая. Петр Митриев налил ему молока в чашку, потом зажег восковую свечечку и поплелся к себе в чулан, где он спал на большом сундуке, на перинах и подушках. Там он присел на сундук и задумался. «Надо бы мне еще вчерашний день Воробья высечь, — пожалел он. — Вон лозы сколько припасено!» Лозы в углу был целый пук. Но делать было нечего, сечь было некого. Петр Митриев стал раздеваться. «И где ж это теперь Воробей? — думал он засыпая. — Заночует Воробей где-нибудь под кустиком или в стоге сена. Эх, сиротина, пичуга бездомная! Совсем Воробей теперь одичает.Воробушек-воробей,
Сколь далеко отлетел? —
О-о-о-о-ой!
Шагам крепче, друже,
Ложись в лямку туже…
РАЗБОЙНИКИ
Делать было нечего. Андреян пожурил Воробья за самовольство, за то, что побегом своим нанес обиду Петру Митриеву… И тут же сказал Воробью, чтобы пристал к их возу. Будет Воробей, как и Сенька, помогать Андреяну в кузнице, станут жить все одной семьей и кормиться из одного котла. Вместе и двинутся в Москву, когда время придет, когда воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский поведет туда из Ярославля свои полки. Спустя несколько дней вся семья перебралась из таборов на посад. На посаде Андреян и развернул свою кузницу — в старом шалаше, у воды, на топком берегу Которости. Однако работа в кузнице не мешала Воробью и Сеньке поспевать повсюду, все видеть, все слышать и все замечать. Андреян не изнурял своих подручных работой. И мальчишки всюду, где собиралась толпа, уже были тут как тут. А дни бежали, в лесу созрела ягода, и как-то сразу из-под хвои на земле и опавших в прошлом году листьев дружно полезли грибы. В воскресенье работы в кузнице не было, и Сенька с Воробьем с утра собрались в ближний бор. Вековой, пахучий и чистый, он высился, казалось, почти до неба, до летучих облаков. Ребята не отдалялись друг от друга, и чуть только один пропадет в кустах, как другой уже кричит ему «ау!» Проходив с час, Сенька и Воробей набрали полные лукошки боровиков и лисичек, и брать их уже стало больше некуда. Ребята разлеглись в тени на теплой хвое, слушая, как стрекочут на поляне кузнечики и пташка возится в гущине куста. Вдруг что-то хрустнуло за поляной, словно из пищали выпалило. Сенька так и присел. — Медведь! — молвил он, замирая. — Ишь, прет, куда ему надо, напролом. — Так уж и медведь! — откликнулся Воробей. Он лежал с закрытыми глазами, лениво позевывая. — Лось сохатый к водопою пробирается. — А ты откуда знаешь?.. Ой! — не вскрикнул Сенька, а только губами шевельнул. Он схватил Воробья за локоть: — Гляди! Воробей открыл глаза, сел и увидел громадного лося с рогами, как лопаты. Животное вышло на поляну, постояло, прислушалось, дернуло рогатой головой и пошло дальше, прокладывая себе дорогу сквозь молодой сосняк. И спустя минуту на поляну выбежал… Сенька сразу узнал его… выбежал Кузька Кокорь. На московском воре был тот же красный кушак и та же шапка, заломленная на левое ухо. Кузька остался точно таким, каким увидел его Сенька в первый раз. А было это в тот памятный день, когда Кузька Кокорь в лавке у Петра Митриева вытащил у Андреяна кошель. За протекшее время только кушак на Кузьке обмахрился да шапка пообтерлась. Сенька во все глаза глядел на Кузьку, который, выбежав на поляну, остановился, сунул в рот два пальца и свистнул. И сразу из кустов выставился хват с серебряной серьгой в ухе. Сенька и его узнал. — Надо взять сохатого, — сказал хвату Кузька. — Об эту пору смирны они. Подобраться и всадить ему нож в загорбок, а то из пистоля выпалить в упор. Красная дичь, лесная… Знатный будет гостинец князю! — Не за тем сюда из Москвы притащились, чтобы гостинцы князю дарить, — возразил хват. — Забыл ты наказ? А то сегодня — сохатый, завтра — рогатый… А дело-то как же? Решать надо князя скорей — и дальше от этой стороны! — Чудной ты, Ероха! — И Кузька высморкался, словно в рог протрубил. — Право, чудной. Нешто я не понимаю либо забыл наказ? Да ведь как доступиться к князю? Казак у него Ромашка — видал ты его — прямой черт; глаз, говорят, с Пожарского не спускает. Мимо Ромашки так, здорово живешь, незнаемому человеку к Пожарскому не пройти. Сейчас этот Ромашка ухватит за шиворот: «Что за люди? Кто таковы? Откуда идете? Зачем к Дмитрию Михайловичу понадобилось?» Плети ему что хочешь, а он все равно враз расплетет. Говорят тебе — черт. — Ну, так как же? — тряхнул Ероха серьгой. — А вот так, как я сказал. Молвишь Ромашке: дескать, пришли мы величать князя. Промыслили, мол, сохатого в темном бору, так хотим поднести князю в почесть — мяско, рога, шкуру… — Ну, а дале? — А дале? Смекай, Ероха. С такой причиной нас Ромашка за шиворот хватать не станет, к князю допустит. А как взойдем к князю в светлицу, так уж там как доведется. Да как ни довелись, а уж там над самим князем промышлять будем. Чать, нож, Ероха, у тебя отточен? — Верно, Кузька: отточен мой ножик. Прямо — бритва. — И нож-от у тебя за голенищем? — За голенищем нож. — А это, Ероха, видал? — И Кузька, задрав полу зипуна, показал Ерохе дуло пистоля. — Так айда ж, Ероха, по следу, сохатого брать! — Айда по следу! — То-то! — произнес самодовольно Кузька и шмыгнул в сосняк. Вслед за ним пропал в сосняке и хват Ероха. А Сенька и Воробей не шелохнулись, за кустом сидя, в густой тени. Но Кузька с Ерохой ушли в сосняк, и Воробей шепнул Сеньке: — Это разбойники… Князя они собрались убить. Сиди, Сенька, не выказывайся! А Сенька наклонился к Воробью. — Кузька это, — молвил он тоже шепотом. — И другой вот — Ероха… Знаю я обоих. Воры. В Москве кошель у тяти украли. Притерлись к нам на торгу… — Говорю тебе — разбойники… душегубы! Чшш, Сенька, молчи! И только когда совсем замерли в сосняке хруст и голоса, ребята вскочили на ноги и, прихватив лукошки с грибами, бросились в город. Когда они уже были в дубках, которыми поросла опушка, они услышали выстрел. И словно бычьим ревом сразу огласился бор. Ребята остановились и прислушались. Разбуженное в бору эхо пошло гулять по полянам, отдаваясь во все концы. — Доняли-таки сохатого! — чуть не плача, сказал Сенька. — У-у, воры! — Доняли, — согласился Воробей. — Свинца ему влепили. Вишь как ревет! Но тут сразу оборвался рев. Одно эхо еще гуляло, отдаляясь и затихая. — Ножом доконали, — объяснил Воробей. — Должно, Ероха этот, что с серьгой, и всадил свой засапожный нож под самое под сердце. И ребята снова ринулись вперед, к городу, который уже виден был за пустым полем, на высоком берегу Волги.ГОЛОВА ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Андреян внимательно выслушал рассказ Воробья и Сеньки о том, что произошло в бору час назад. В избе при кузнице было тихо, только муха где-то отчаянно билась — должно быть, запутавшись в паутине. Арина чистила грибы. Она разложила их на столе: боровики отдельно — сушить на зиму, и лисички тоже отдельно — нажарить к обеду. — Да верно ли, Сенюшка, это те самые воры? — спросила она, продолжая работать ножом. — Может, опознался ты? — Не опознался, маманя, — ответил Сенька. — Я сразу их узнал: и Кузьку и другого, с серьгой; Ерохой кличут. — Да не о том, Арина, печаль, те или не те, — сказал Андреян, сняв с колка у дверей свой летний колпак. — Ведь что умыслили злодеи, ты подумай!.. Ну, я тут схожу. Не вернусь к обеду — обедайте без меня. — Куда ты, Андреян? — забеспокоилась Арина. — Чего так сразу с места сорвался? — Сорвешься тут! — бросил ей Андреян и шагнул в сени. Он шел по посаду, высматривая казака Ромашку в толпах людей, которые валом валили с базара и на базар. И толкучка же была в то лето в Ярославле! Как в Нижнем Новгороде, и сюда каждый день шли с разных сторон всё новые отряды. Минин вооружал их и снабжал одеждой и продовольствием. Пожарский проверял их боевую готовность. Уже и татары казанские влились в общеземское ополчение, и черемисы пришли из Заволжья, в островерхих шапках, на степных конях, вооруженные луками и стрелами и короткими мечами. Казак Ромашка, которого разыскивал Андреян, пристал к ополчению недавно, на одном из переходов между Решмой и Кинешмой. В шелковой вишневого цвета рубахе, красивый и удалый, Ромашка был очень приметен и скоро полюбился князю за прямой и легкий нрав и за смышленый ум. Дмитрий Михайлович оставил Ромашку при себе; и Ромашка так понял свою должность, что обязан он охранять князя от всякой напасти, какая могла бы приключиться с набольшим воеводой в столь смутную пору. Андреян высматривал Ромашку на посадской улице и на базаре напрасно. В Ярославле Ромашка почти не покидал двора, на котором стоял постоем Дмитрий Михайлович, и отлучался оттуда только вместе с князем. «Неужто и в воскресенье топчется у ворот Ромашка? Верный слуга, ничего не скажешь!» Подумав так, Андреян свернул с базара и прошел в Рубленый город. Там кузнец взял напрямик, берегом Волги, высоким, как гора. Двор, на котором стоял Пожарский, был забран частоколом, ворота — на запоре. Но и в этом месте было на улице людно. Ополченцы, пригородные крестьяне, бурлаки с судов, монахи, татары — все сновали здесь взад и вперед, спускались вниз, к реке, либо брели по крутым тропкам вверх — с реки, в город. Андреян постоял у ворот, тронул калитку, но, заложенная со двора засовом, она почти не подалась. Однако Ромашка уже был тут, и Андреян услышал со двора его голос: — Козьма Минич, ты? Сейчас отопру. Ждет тебя воевода. Калитка приоткрылась, и Ромашка выглянул на улицу. — О! — воскликнул он от неожиданности. — Я думал — Минин, ан это ты? Зачем пожаловал? — Не тут, казак, говорить. Дело это такое… — Андреян подумал и нашел нужное слово: — Страшное это дело. Соизволь, взойду на двор. — Вот как! — И глаза у Ромашки сверкнули. — Взойди, Андреян. Страшное дело? Он пропустил кузнеца, захлопнул за ним калитку и снова запер ее на засов. Тем временем два человека вышли из бора и пересекли поле, которое лежало между дубками на опушке и городом. На одном был красный кушак, у другого — серьга в ухе. Тот, что в красном кушаке, тащил огромные рога сохатого лося, взвалив их на спину. У другого было что-то завернуто в лосиную шкуру. Кузька Кокорь и Ероха-хват сделали свое дело. Но это только начало. Главное еще было впереди. Встречавшийся народ с любопытством оглядывал обоих молодчиков, взявших в лесу такую крупную дичь. Их пробовали расспрашивать, каким способом они зашибли сохатого, но Кузька с Ерохой, видимо, торопились и шли, не останавливаясь. Только на минуту пристали они за часовней. Там к ним подошли трое, и один, скуластый, глянув по сторонам, спросил: — Ну как? — Орел или решка, — ответил замысловато Кокорь, — чет или нечет, выйдет али нет. А не выйдет, так промышляйте, Обрезка со Стенькой, сами. Этот, который звался Обрезкой, был с виду сущий калмык, хотя считался казаком с Дона. Обрезка тряхнул головой. — Ты, Кузька, сам не плошай, делай, — сказал он. — На меня не переваливай. — Ты что же, Обрезка, на попятный? — Да не на попятный, а по уговору: ты начинай. — Мы по уговору, как, значит, уговорились, — поддержал Обрезку тот, что звался Стенькой — рыжий парень в рысьей шапке. — То-то же! — погрозился Кузька. — А как месяц взойдет над бором, приходите в яму. И ты, Хвалов, приходи. Хвалов, кривоногий мужичонка, жил на дворе у Пожарского, таскал в поварню дрова и носил из колодца воду. Когда Кузька обратился к нему, глаза у Хвалова забегали, он закашлялся и прохрипел: — Ну, а деньги, Кузя, когда же? Задаток, как договорено… пять рублей… И сапоги тоже… — Задаток, остаток!.. Сказано: приходи в яму! Только месяц взойдет, я сразу гукну филином. Так ты тогда сразу в яму полезай. Не опасайся, Хвалов!
И Кузька с Ерохой, кивнув своим товарищам, снова тронулись в путь. Они вышли к нагорному берегу Волги. До двора Пожарского осталось шагов пятьдесят, не более. Вот они — резные ворота, крытые тесовой кровелькой, и рядом с воротами калитка… Но Кузька вдруг остановился и рога убитого лося сразу с плеч спустил. Остановился и хват с серьгой. Кузька с Ерохой увидели, как открылась калитка и со двора на улицу вышел человек, за ним — другой. В одном из них Кузька и его товарищ сразу узнали Ромашку. А другой кто? Будто и другого Кузька где-то видел… Но где и когда? За полтора года, что пробежали с того осеннего дня, как Кузька водил кузнеца в Москве по торговым рядам, Андреян почти не изменился. От солнца, ветра и копоти в кузнице шрам на лице у Андреяна был уже едва различим. А у Кузьки Кокоря память хорошая: он узнал кузнеца. Вспомнил, как обхаживал он Андреяна на площади и в рядах, пока не завладел его кошелем. Ох, и завопил же тогда кузнец, заметив пропажу! «Что как узнает меня? — мелькнуло у Кузьки в голове. — Схватит за ворот, а Ромашка тем временем в Epoxy вцепится. Сбежится народ. Пропала тогда вся затея. Пропало и золото, что обещано было от панов за нож, всаженный Пожарскому в грудь…» А двое у ворот, Ромашка с Андреяном, не уходили. Напротив, они расселись на приворотной лавочке и, видимо, переговаривались друг с другом, поглядывая направо и налево. Мало того: из калитки вышел стрелец и тоже присел на лавку. «Ну, нет! — решил Кузька. — Золото золотом, а голова дороже». — Признал ты мужика, что рядом с Ромашкой? — спросил он Epoxy. — Что-то будто… — стал лепетать Ероха. — «Что-то будто»! — передразнил Кузька своего товарища. — С виду хват — сам чёрт не брат, а в деле — прямой ты Ероха-воха! Ну, некогда разговаривать! Заворачивай оглобли! Заулками, которых в Ярославле было, пожалуй, не меньше, чем в Москве, Кузька с Ерохой пробрались на базар. По дороге Кузька напомнил Ерохе о кошеле, который они вытащили в запрошлом году у заезжего кузнеца. Но кошелей было много. Ероха с Кузькой тащили их из пазух и карманов у кузнецов и жнецов, у стрельцов и сапожников, не разбирая ремесла и звания. Сколько ни моргал глазами Ероха, сколько ни тряс серьгой, а вспомнить Андреяна не мог. Но все равно встреча с Андреяном меняла все дело. Проникнуть сегодня к князю нечего было и думать. И, конечно, уже не Кузьке с Ерохой надо было теперь начинать. Решив так, Ероха с Кузькой, не дорожась, продали на базаре всю свою добычу. На вырученные деньги они накупили пирогов, калачей, жареной рыбы и здоровенную баклагу хлебного вина. Со всем этим они выбрались за город, на берег Волги, к большой ямине, в которой литейщики отливали в это лето пушки. Яма была брошена литейщиками, потому что всего через несколько дней им предстояло выступить вместе с передовыми полками ополчения к Москве. Сидя в яме, Кузька с Ерохой пили вино, закусывали и ждали, когда над бором покажется месяц. Прошло немного времени, и над бором словно заструилось. А там и молодой месяц выставил поверх темных сосен свои серебряные рожки… Заметив это, Кузька сразу же загукал в кулак: — Бугу, бугу, бугу… И тотчас в яму скатились Хвалов и Стенька с Обрезкой. Кузька дал и им хлебнуть из баклаги, после чего все поговорили, поспорили, чуть было не подрались и наконец условились обо всем.
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ
В казачьих полках, стоявших под Москвой, было много смутьянов и изменников во главе с атаманом Ивашкой Заруцким. Заруцкий боялся земского ополчения, которое вот-вот должно было выступить из Ярославля. И казачьему атаману казалось, что хорошо бы задобрить князя Дмитрия Михайловича, перетянуть его на свою сторону. Чтобы подкупить Пожарского, к нему приехало из подмосковных казачьих таборов целое посольство. Послы, в рваных кафтанах и дырявых сапогах, с удивлением разглядывали ратников Пожарского, которые были хорошо одеты и, видимо, сытно накормлены. Пожарскому казаки привезли жалованную грамоту на владение богатым селом Воронином, недалеко от Костромы. Усмехаясь, разглядывал Пожарский грамоту, писанную на ошмётке бумаги — должно быть, пьяным писарем казачьим. А послы принялись стращать Пожарского всякими бедами, если он не передастся на сторону Заруцкого. Дмитрий Михайлович пожал плечами. — Мы ничего не опасаемся, — сказал он послам, — ничего не боимся и скоро будем в Москве. Так и передайте атаманам вашим, от кого пришли сюда. Послы уехали ни с чем. А Дмитрий Михайлович тут же назначил смотр своей армии, которая была теперь совсем готова выступить по Московской дороге. Ночь пришла; небо полное звезд; Дмитрий Михайлович крепко спал в своем покое за закрытым ставнем. Но Ромашка совсем не ложился этой ночью. Он провел ее, сидя на крыльце, которое вело к князю в хоромы. Вышел из-за бора месяц и поплыл к Волге. Когда он был уже на луговой стороне, кто-то дернул калитку. Ромашка открыл. В калитку ввалился пьяный Хвалов. «Дрянь мужичонка, — подумал Ромашка о Хвалове. — Вот не разберу — дурак он природный или дурачком прикидывается». Хвалов кое-как по приставной лестнице взобрался на сеновал, а Ромашка пошел снова открывать калитку. Вернулись стрельцы, посланные Ромашкой разведать о Кузьке с Ерохой. Стрельцов было двое. Они прошли по всем кабакам на посаде, но там ничего не знали о парне в красном кушаке и о хвате с серьгой в ухе. На берегу Волги, у пристаней и причалов, и ночью толкался народ: бурлаки, ратники, уличные торговцы, которые торговали вразнос всякой снедью… У посланных Ромашкой стрельцов был слюдяной фонарь с зажженным огарком. Но и фонарь не помог стрельцам: ни Кузьки, ни Ерохи они не обнаружили и у причалов. Оставалось еще заглянуть на базар, хотя, начиная с сумерек, там только кошки мышей ловили и бродячие собаки в мусоре копались. На базаре, в избушке у сторожа, горела плошка. Стрельцы пошли на огонек и застали в избушке старуху — жену сторожа, торговавшую на базаре луком. Старуха рассказала стрельцам, что только стала она разбирать свои корзины и подсчитывать дневную выручку, как на базар пришли два человека. Один — верно это — был в красном кушаке и тащил с собой лосиные рога. У другого, что с серьгой в ухе, было в шкуру лося завернуто лосиное мясо. Молодчики живо сбыли с рук и мясо и рога со шкурой, купили у старухи зеленого луку, что-то еще приторговали себе на базаре и пошли восвояси. Где их теперь, ночной порой, сыщешь? Может, утром где и объявятся — на базаре или у причалов… — Ну, — сказала старуха, — ступайте с богом, люди добрые, и не хлопочите. Мне спать охота. И старуха стала стлать себе на лавке. Разостлала тулуп, на тулуп положила армяк, поверх армяка — холстину. Любила, должно быть, поспать на мягком старая. Стрельцы вернулись к Ромашке. Рассказали, как ходили по кабакам и причалам, на базаре побывали, а воров не нашли. — Было б вам наперво на базар кинуться, а вы по кабакам весь вечер таскались, потом к причалам пошли… — пожурил Ромашка стрельцов. — Кто ж его знал? — молвил стрелец постарше, десятник с проседью в черной бороде. Он смущенно почесал затылок, зевнул и перекрестил рот. Устал он и от кабаков, и от причалов, и от скитания по темному базару. — Спать пошли, — отпустил стрельцов Ромашка, а сам снова уселся на крыльце. Едва заря занялась над приволжской ширью, князь Дмитрий Михайлович вышел на крыльцо. Рубаха на нем была расстегнута, через плечо перекинуто вышитое шелком полотенце. Ромашка не хотел до времени беспокоить князя, а теперь решился. — Опасаться надо, князь Дмитрий Михайлович, — начал Ромашка. — Опасаться? — удивился Пожарский. — Чего же нам, Роман, опасаться? И тут Ромашка поведал князю о том, что произошло вчера в бору и как прошла эта ночь. — Я теперь, князь Дмитрий Михайлович, и на шаг от тебя не отойду, — закончил Ромашка свой рассказ — я и кузнец Андреян. Мы оба с Андреяном… Пожарский, казалось, не придал особенного значения тому, что услышал от Ромашки. У Дмитрия Михайловича были другие заботы. Он только пощурился на утреннее солнышко, стиснул кулаки, размялся и сказал: — Что ж, Андреян — хорошо! Спустился с крыльца и пошел двором к колодцу. У колодца брал воду для поварни Хвалов. Увидя подле себя князя, он завертелся, как овца в вертячке, и выронил из рук бадью. Та, громыхая цепью и колотясь о колодезный сруб, рванулась вниз. А Хвалов стоял, моргал, потел, не в силах вымолвить слова. — Оплошал, Хвалов! — И Дмитрий Михайлович рассмеялся. — Чего же ты? Не проспался еще? — Э-э… мэ-э… — мямлил Хвалов, топчась на месте. — Ну, полно! Дай, Хвалов, умыться. Поторапливайся. Руки у Хвалова дрожали. На князя он взглянуть не смел. Однако он налил князю воды в ковш и лохань, после чего, ковыляя на кривых ногах, поплелся в поварню. Дмитрий Михайлович вымыл руки и лицо студеной колодезной водой и стал утираться полотенцем, вышитым еще в Зарайске княгиней Прасковьей Варфоломеевной. По краям полотенца словно луговые травы цвели, садовые цветы распускались, летали заморские птицы в ярком оперении. Князь Дмитрий Михайлович вспомнил Прасковью Варфоломеевну, оставшуюся с детьми в Зарайске… «Мастерица она, рукодельница, — подумал он. — Каково-то она там теперь без меня?» На стук в калитку князь обернулся. Он увидел Ромашку у калитки и Андреяна. Из-за спины Андреяна выглядывал Сенька. И еще какой-то паренек топтался там… «Птичье у него прозвище, — стал припоминать Дмитрий Михайлович. — Это он, сказывали, придумал в острожке дровни на панов обрушить. Вдвоем с Сенькой они это панам и поднесли. А теперь, говорит Ромашка, каких-то злодеев пареньки эти в бору выследили. Как же парнишке этому прозвище?.. Воробей! — вспомнил Дмитрий Михайлович. — Ну что ж! Зовись Воробьем, только летай соколом. А что Андреян тут — это хорошо», — окончательно решил Дмитрий Михайлович. Он еще раз пощурился на солнышко, улыбнулся и, широко размахивая полотенцем, зашагал к дому.ХОЛОДНАЯ
Когда князь верхом, сопровождаемый Ромашкой, подъехал к Ильинской церкви, площадь перед нею уже кишела народом. Подходили ратники — один полк за другим. В тучах пыли проносилась то татарская, то башкирская конница. Скрипели дубовые станки на колесах, подвозя стопудовые пушки. Набольший воевода хотел осмотреть свое войско, перед тем как выступить с ним к Москве. Андреян, Сенька и Воробей пробрались на площадь пешком. Вслед за ними, не теряя их из виду, туда пришли оба стрельца, которые накануне искали Кузьку с Ерохой по причалам. Были со стрельцами теперь еще трое — тоже стрельцы, но переодетые в мужицкие сермяги. Под сермягами у них были веревки и ножи. Сенька и Воробей еще издали увидели князя. Он стоял на высоком крыльце сборной избы, без кольчуги и шлема, но с саблей. Большой стол позади Пожарского весь был завален бумажными свитками. За столом сидели Козьма Минин и двое писцов-подьячих. Скрючившись, скрипели подьячие гусиными перьями, разнося что-то по длинным листам бумаги. На площади Андреян оставил Сеньку и Воробья и присоединился к Ромашке. Впрочем, Андреян старался не очень выказываться, а то Кузька с Ерохой могли ведь еще издали узнать его, и тогда бы вся затея провалилась. Поэтому Андреян и устроился в тени, за выступом. Ромашка же в своей вишневой рубахе стоял под самым крыльцом на виду. Оба напряглись, вытянули шеи и глотали пыль. Воробей и Сенька, как и было наказано Ромашкой, подождали стрельцов и пошли вместе с ними сначала только по краю площади. Они обошли ее дважды, потом стали пробираться из конца в конец, и всё напрасно. Сенька и Воробей все глаза себе проглядели. Но ни в толпах любопытствовавшего люда, ни среди ратников, которые всё подходили и подходили, нигде не видно было никого, кто хоть чем-нибудь походил бы на Кузьку Кокоря либо на Ероху-хвата. А солнце уже начинало припекать, и нагретая пыль лезла Сеньке и Воробью в глаза и в нос. Вдруг у края площади, который подходил к оврагу, толпа качнулась и раздалась. Прямо на Сеньку, на Воробья, на стрельцов, которые были с ними, шел, громыхая обрывком цепи, здоровенный медведь. На медведе была рваная, вся в лохмотьях, шапка; с шеи свисал на грудь дырявый бубен. Медведь шел на задних лапах и выглядел в толпе людей великаном. Наперерез медведю бежал человек в скоморошьем колпаке с бубенцом. Человек подбежал к медведю и схватил его за обрывок цепи. — Сорвался-таки! — сказал он, потрепав медведя по холке. — Ах, шалун! Как есть шалун… Медведь затоптался на месте, повернулся и подставил скомороху свою холку. Скоморох принялся гладить медведю холку по шерстке и против шерстки, приговаривая: — Нравится, Михайлыч? Ну, вижу — нравится, нравится… Медведь урчал, покачиваясь; урчал так самодовольно, что Сеньке казалось — улыбается Михайлыч. Но скоморох неожиданно с силой дернул медведя за обрывок цепи и стукнул его кулаком по шапке. Михайлыч упал на передние лапы, рыкнул и оскалил зубы. Толпа подалась от него прочь, выжав из себя двоих мужиков. Сенька так и раскрыл рот. Воробей вцепился стрелецкому десятнику в рукав. Ребята узнали мужиков. Кузька Кокорь и Ероха-хват, должно быть изрядно только что помятые в толпе, стояли, оправляя на себе зипуны. — Ну, пошли, что ли, Михайлыч? — сказал скоморох и пнул медведя лаптем в зад. Медведь тихонько заскулил и покорно двинулся вслед за скоморохом. А Воробей, дергая стрелецкого десятника за рукав, все твердил: — Они, они, дядя! Имай их! Те самые, злодеи. Вон — в красном кушаке. И этот, серьга у него. Имай их! Десятник уже и сам видел и пояс и серьгу — и Кузьку и Epoxy. Он легонько отстранил от себя Воробья, шепнув ему: — Возьми своего Сеньку, и отойдите оба. Не мешайтесь. Потом повернулся к своим товарищам, переговорил с ними о чем-то вполголоса, и они, все пятеро вместе со стрелецким десятником, разошлись в разные стороны. Воробей и Сенька стояли в отдалении, ожидая, что будет дальше. Они видели, как стрельцы, разойдясь, стали затем мало-помалу смыкаться вокруг Кузьки с Ерохой. — Эх, Маланья! — крикнул вдруг десятник. — Ходила по квас, ан квас не про нас! И только выкрикнул он это, как на спине у Кузьки и Ерохи, стискивая им горло, уже сидело по стрельцу, а остальные стрельцы вязали мошенникам руки. Кузька с Ерохой пытались кричать, но только хрипели; они стали пинаться ногами, но не прошло минуты, как оба лежали на земле, связанные и по ногам. — Что такое? — прошло по толпе. — Поймали… Кого поймали? — Злодеи это, люди добрые, — объявил десятник. — Вот вам и весь сказ. — Какие злодеи? — пронеслось в толпе. — Еще надо посмотреть. А то — хватают, вяжут… — Какие злодеи, кто, чего — узнаете потом, — объявил десятник. — Люди добрые, не мешайтесь, отойдите! Кузька с Ерохой не могли ни пальцем шевельнуть, ни слова молвить. В кисти рук им впились веревки, рот у каждого был набит какими-то тряпками. Не мешкая, стрельцы поволокли обоих за Ильинскую церковь, задами подтащили их к сборному двору, отперли там «холодную» — глубокий и темный погреб — и пихнули туда Кузьку с Ерохой, сразу обоих. Те, обгоняя друг друга, с грохотом покатились вниз. Ребята не отставали от стрельцов и все время шли с ними вместе, когда они тащили пойманных злодеев на сборный двор. Когда Кузька и хват уже были в холодной, Сенька сунул туда голову и крикнул: — Кузька, где тятин кошель? Тьфу тебе, дохлый! И Воробей тоже не устоял. Хотя стрельцы уже заперли холодную, но Воробей присел на корточки и крикнул в крошечный продух: — Хваты! Попались? Ишь, что затеяли! Будет вам ужо! Двое стрельцов остались у холодной караулить. Остальные вместе с Сенькой и Воробьем вернулись на площадь, довольные, что изловили преступников и в точности выполнили Ромашкин наказ.СПЕРВА ДОЗНАТЬСЯ…
На площади ребята разыскали Андреяна, который все еще держался в тени за выступом. — Поймали, тятя, — сообщил отцу раскрасневшийся Сенька. — Поймали? — обрадовался Андреян. — Обоих? — Обоих, тятя, поймали: и Кузьку и Epoxy. В холодную обоих и кинули. Надо бы у Кузьки где под зипуном поискать: авось, твой кошель сыщется. — Где уж! — махнул рукой Андреян. Пока Сенька рассказывал отцу, как это ловко все устроилось, перед сборной избой скопилось много пушек. Одни из них лежали на особых станках, другие были свалены на обыкновенные телеги, прямо на солому. Пушки были разной величины и различные по виду. Сенька уже научился разбираться в них. Вот здоровенная пушка с турьей головой на задней части. Из такой пушки ядро летит прямо, словно настилом; и как выпалить из нее — хоть какую крепостную стену пробьет. А рядом — целый десяток других: коротышки, тупорылые с широкими жерлами, похожие на ступы. «Мортиры», — решил Сенька. А из мортир — Сенька уже знал и это — бьют навесным огнем. Ударить из такой «ступки» — вырвется, вместе с огнем и дымом, ядро из жерла, пройдет по воздуху не прямо, а дугой и упадет сверху на голову врагу. «Сверзится, — подумал Сенька, — как те розвальни, полные снегу, что с Воробьем мы тогда на шляхту обрушили с обрыва. Вот было дело!» Но где же Воробей? А Воробей тем временем уже подобрался к пушкарям, что в зеленых кафтанах стояли подле пушек и мортир. Ну, где Воробей — там и Сенька. И Сенька тоже стал подбираться к пушкарям. Мортиры — «ступки», всего неделю назад отлитые в литейной яме на берегу Волги, — видимо, заинтересовали и князя Дмитрия Михайловича. Он, чуть прихрамывая, стал спускаться с крыльца, Ромашка подал ему руку… И тут… Это увидели и Сенька с Воробьем; это заметил и Андреян, выглянувший из-за выступа. Все произошло в одно мгновение. В воздухе мелькнула чья-то рука, в которой зажат был нож. Ромашка сделал прыжок и заслонил собой князя. И тут же упал, обливаясь кровью. — Братья! — завопил Ромашка. — Хватайте злодеев! Не то они князя порешат! В князя метил душегуб! У Ромашки сразу потемнело в глазах. Он уже не видел, как склонился над ним князь Дмитрий Михайлович и как Андреян выскочил из-за выступа… Кузнец с маху обхватил, как клещами, рыжего парня в рысьем колпаке так, что у того ребра хряснули и он выронил окровавленный нож из рук. А пушкари уже держали другого, широкоскулого, похожего на калмыка… И у Обрезки — это, конечно, был Обрезка, — и у него в руке был нож. Теперь здесь не хватало только Хвалова. А то вся шайка была бы собрана, перевязана и держала бы ответ. Но за Хваловым дело не стало.

Ромашку, раненного в живот и в ногу, внесли в сборную избу. Пожарский поднялся на крыльцо. Вместе с Мининым сели они за стол, и Андреян поставил перед ними рыжего, у которого с головы сам свалился его рысий колпак. Сенька и Воробей остались внизу, но им все было видно, и они слышали, как Козьма Минин произнес: — Ишь, рыжий! Черт тебя красил! — Что за человек? — спросил, обратившись к рыжему, Пожарский. — Откуда родом? Как зовут? Рыжий глядел исподлобья, сопел носом и ответа не давал. В это время пушкари втащили на крыльцо Обрезку. Обрезка сразу выложил всю правду-матку: как умыслили они убить князя Дмитрия Михайловича — он, Обрезка, и этот рыжий, Стенькой его зовут; еще двое — Ероха и Кузька, московские воры, — были с ними, с Обрезкой и Стенькой, заодно; в сговоре со всеми с ними был и дворовый человек князя Пожарского, гугнивый мужичонка, по прозвищу Хвалов. Князь Дмитрий Михайлович откинулся на лавке, раскинул руки. — Как? — еле вымолвил он, изумленный до предела. — Хвалов? Так сказал ты? — Хвалов, — повторил Обрезка. — Почему же?.. — недоумевал Дмитрий Михайлович, — Хвалов… Минин встал и, выискав внизу, под крыльцом, стрелецкого десятника, того, что ловил Кузьку с Ерохой, поманил его пальцем. Только два — три слова шепнул Минин стрельцу, и тот кивнул головой. Минин вернулся на место, а стрелец, спустившись с крыльца, исчез в толпе. По всей площади, из края в край, уже катилось, что поймали злодеев, целую шайку; подосланы изменником, донским атаманом Ивашкой Заруцким, извести князя; а не станет набольшего воеводы — распадется земское ополчение, и шляхта останется царевать, пановать и пировать на русской земле. — О-о-о-о! — вопила охваченная яростью тысячеголосая толпа, напирая к сборной избе. — Где злодеи? Сюда их, на расправу! — В Волгу их кинуть! — На кусочки порубаем! Минин снова встал из-за стола и спустился вниз, к народу. — Люди ярославские! — выкрикнул он, сколько силы хватало у него в груди. — Стой! Тише! — пронеслось в толпе. — Козьма Минин говорит. Дай, братцы, Минину слово сказать. — Да полно вам, горлопаны, драть глотки! Дайте же Минину слово молвить! — Братья-а! Слушай Минина-а! Крики и вопли постепенно утихли. Только гудело на площади, словно осиный выводок вылетел из гнезда. — Люди ярославские! — повторил Минин, и слова его были теперь явственно слышны во всех уголках площади, от Ильинской церкви до оврага. — Ратники, пушкари, стрельцы, городовые! Не суматошьтесь и не смущайтесь, потерпите. Дайте дело распутать. Не уйдут злодеи. Всех перехватаем. До всего дознаться надо, а потом судом их судить и казнью казнить. — Дело, братцы! — пробежало в толпе. — До всего дознаться. А коли сразу спустить в Волгу — ничего и не разведаешь. — Дело, Козьма, дело! — кричали Минину из толпы. — Сперва дознаться… А Минин обвел глазами площадь и поднял руку: — Полкам конным и пешим, также пушкарям и стрельцам расходиться стройно по таборам. На площади в карауле быть одному головному полку набольшего воеводы. Люди земские, не опасайтесь, расходитесь по домам!.. Гей, трубачи!.. Взревели трубы, загремели литавры, поднялась пыль… Пустеть стала площадь, на которой скоро остался с огромным распущенным знаменем только один головной полк князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
ТАРАКАН ЗАПЕЧНЫЙ
Тем временем стрелецкий десятник, с которым перемолвился на крыльце Минин, прихватил с собой двоих своих подручных и отправился к князю Дмитрию Михайловичу на двор. Там, на дворе, в пустой поварне сидел у окошка Хвалов и ничего не делал. Хвалов способен был так сидеть с утра до вечера — ничего не делать, ни о чем не думать, только хрипеть, кашлять и сплевывать на пол то вправо от себя, то влево. Однако когда он заметил в окошко троих стрельцов, направлявшихся прямо к поварне, то сразу почуял недоброе. Поднявшись с лавки, он залез за печку и решил, что спасен. Голова и туловище Хвалова были спрятаны, а о ногах он не подумал. Они торчали из запечья в грязных холщовых портках и размочаленных лаптищах. Вошедшим стрельцам они сразу бросились в глаза. Стрелецкий десятник расправил свою черную с проседью бороду и крикнул: — Эй ты, таракан запечный, вылезай из запечья! Хвалов молчал. — Хвалов, где ты? Скажись! И опять ни звука в ответ. — Хвалов, это твои лапти из запечья торчат? — Не, не мои, — отозвался Хвалов и стал убирать ноги за печку. — Ну полно, будет! — сказал десятник. Он схватил Хвалова за ноги и выдернул его из запечья. Хвалов, весь в паутине и саже, остался лежать на полу, не в силах от страха подняться. Десятник взял его за шиворот, тряхнул и посадил на лавку. — Сбежать гугнивый никуда не сбежит, а скрутить руки ему все же надо. Вяжи его, ребята! — распорядился десятник. Когда стрельцы вели Хвалова на веревке по нагорной улице, за ними шла толпа народу, которая по мере приближения к площади все росла. Люди уже знали, что пойман еще один злодей — кухонный мужик князя Пожарского, прозвищем Хвалов. За баклагу вина, пару новых сапог, заячью шапку и десять рублей деньгами Хвалов тоже взялся извести князя, но своим способом. Хвалов должен был подсыпать князю Дмитрию Михайловичу яду в кушанье, если бы Стеньке или Обрезке не удалось порешить князя ножом. Хвалов ковылял, сопровождаемый стрельцами, и его кривые ноги подгибались у него от ужаса. Мальчишек сбежалось поглядеть на злодея видимо-невидимо, и все они улюлюкали, забрасывая Хвалова кусками высохшего коровьего навоза. Наиболее шустрые бежали перед Хваловым, то и дело оборачиваясь, чтобы плюнуть ему в лицо. Стрельцы гнали мальчишек прочь, но стрельцов было только трое, а мальчишек — туча. Заплеванного, замаранного, обливавшегося холодным потом, стрельцы привели Хвалова на площадь и заставили подняться на крыльцо сборной избы. Хвалов, как только увидел князя Дмитрия Михайловича, тотчас повалился ему в ноги. И услышал голос Минина: — Езжай, князь Дмитрий Михайлович, с богом. Давно обедать пора. Пообедай и отдохни. Ужо я сам злодеям учиню расспрос, все петли распутаю, все узлы их развяжу. Дмитрий Михайлович глянул на связанных Стеньку с Обрезкой, кинутых в угол, и встал. Хвалов обхватил руками его сапог и завопил: — Не погуби, князь Дмитрий Михайлович! Не отдавай меня Козьме. Все скажу, что было и чего не было, что тебе угодно будет. А Козьма палачам меня отдаст, палачи мне головушку ссекут… Пожарский выдернул свою ногу из рук Хвалова, и Хвалов опрокинулся навзничь. Он лежал на спине, распялив руки и ноги, пошевеливая усом, — ну прямо запечный таракан! Пожарский переступил через него и спустился с крыльца. Стрельцы (их был теперь целый десяток) поволокли Стеньку, Обрезку и Хвалова в холодную. Они отперли погреб и каждого турнули с лестницы вниз по очереди: сначала Стеньку, потом Обрезку… Последним, обгоняя и Стеньку и Обрезку, турманом завертелся по лестнице Хвалов. Все трое шмякнулись вниз, придавив собой Кузьку с Ерохой, которые лежали в холодной на сырой земле, все еще связанные по рукам и ногам. Уже не трое стрельцов, а весь десяток остался караулить холодную. Воробей и Сенька пытались заглянуть туда сквозь продух, но там было темно. Они хотели расслышать что-нибудь, но оттуда не доносилось ни звука. Один Хвалов принялся было скулить, но скоро и он замолк. А на площади трубили трубы, гремели литавры, пели волынки, бубнил и вызвякивал бубен. Головной полк сходил с площади, выступая вслед за набольшим воеводой. Набольший, опустив голову на грудь, покачивался в седле. Он ехал шагом, один: Ромашки, к которому он привык, теперь не было подле. Удалой казак остался в сборной избе на лавке. Он бредил широкой степью, высоким небом и белым кречетом. А в Троицкий монастырь уже скакал гонец за Ионой-врачом.ВОЕВОДЫ И ПОЛКИ
Иона-врач приехал ночью, в новом тарантасике, выкрашенном в желтый цвет. В тарантасик впряжена была пара монастырских караковых, управляемых все тем же монахом-силачом. Ночные караулы, стоявшие на перекрестках Рубленого города, пропускали Иону беспрепятственно. Впереди, перед тарантасиком, в котором ехал Иона, скакал с зажженным факелом гонец. Он еще издали кричал караульным: — По указу набольшего воеводы!.. Гей, гей! Поворачивайся! Раздвигай решетки, опускай цепи… И решетки, которыми на ночь перегораживались улицы, сразу раздвигались; цепи, звякая, падали. Тарантасик, подпрыгивая на бревенчатой мостовой, с грохотом проносился мимо. У сборной избы тарантасик остановился. Иона поднялся на крыльцо, держа в руках небольшой кожаный чемодан. В чемодане были узелки с травами, стеклянные пузырьки с отварами и берестяные коробочки с мазями и порошками. Иона, стоя на крыльце, перекрестился на Ильинскую церковь и вошел к Ромашке. При свете факела, который высоко поднял в руке гонец, Иона увидел бледное лицо и шелковистую бородку цвета воронова крыла. У изголовья стояла старуха, которую звали Одаркой, единственная лекарка во всем городе. Одарка, однако, не столько лечила, сколько морочила себя и других. Иона сразу понял это. Он строго посмотрел на старуху и приказал ей согреть воды в котле. — Роман! — окликнул Иона раненого, все еще находившегося в забытьи. — Летал кречет выше солнца, — стал бормотать в бреду Ромашка, — пал кречет ниже леса. Иона раскрыл чемодан и стал выкладывать на стол свои узелки и коробочки. Вошла старуха с котлом крутого кипятку. До самого рассвета хлопотал Иона-врач около раненого Ромашки. Казак уже не бредил степью и кречетом… Он даже открыл на минуту глаза… Иона тут же влил ему в рот ложку какого-то снадобья. Ромашка проглотил, закрыл глаза и заснул. На рассвете Иона велел запрягать. Монах-силач поднял спящего Ромашку с лавки и перенес в тарантасик. Приказав гонцу передать поклон Пожарскому и Минину, Иона сел в тарантас и устроился там в головаху лежавшего пластом Ромашки. Уже сидя в тарантасике, Иона обратился к старухе Одарке, которая вышла на крыльцо проводить отца Иону: — Ты, баба, с какой стороны родом? — Из… из Белгорода мы, святой отец… белгородские мы, — пролепетала Одарка, заметно робея. — А в этих местах давно? — Давно. Уж и не упомню, когда привезли меня сюда. Девчонкой еще была. — А лечишь давно? — Давно, святой отец. — Чем же ты, баба, лечишь? Одарка смутилась и молчала. — Вот что, Дарья, скажу тебе, слушай. Есть в Белгороде женская обитель. Ступай в Белгород, припади к игуменье Таисии, чтобы остаться тебе в обителе жить, грехи свои замаливать и всякую честную работу работать, какую прикажут: в поле, на огороде, в скотной избе, либо шить, либо прясть, либо что. А лечить я тебе запрещаю. Слышишь? Запрещаю! А не перестанешь, то попомни! Иона так рассердился, что даже кулаком в кузов тарантасика стукнул. Старуха испугалась — так и присела на ступеньке и лицо передником закрыла. А монах-силач тронул вожжи, и тарантасик двинулся к Московской заставе, медленно увозя тяжело раненного Ромашку в Троице-Сергиев монастырь. Когда Минин с восходом солнца, сам управляясь в своей таратайке, подкатил к сборной избе, баба Одарка все еще сидела на ступеньке ни жива ни мертва. Насилу добился от нее Минин толку, поняв наконец, что ночью приезжали троицкие монахи, лечили казака Ромашку всякими снадобьями, а на рассвете увезли с собой в Сергиев. Минину показалось, что Одарка вроде умом тронулась: заикается и глаза бегают… Но ему некогда было заниматься этим, и он, шагая через ступеньку, поднялся в избу. Стрельцы уже успели там убрать, и Минин послал их в холодную привести всю пойманную вчера шайку. И вот она — вся пятерка — стала перед Мининым и двумя подьячими: Кузька в красном кушаке, Ероха с серьгой в ухе, рыжий Стенька, калмыковатый Обрезка и замызганный Хвалов. В углу подбоченился человек с четыреххвостой плетью через плечо — городовой палач Осип Зыбин. Минину не стоило большого труда разобраться в деле. Все без исключения преступники стали разговорчивы наперебой. Даже рыжий Стенька не хранил больше молчания. Что же до Хвалова, то он, рассказав все, как было, даже готов был перейти к рассказу о том, чего никогда не было. Но Минин велел ему замолчать и объявил приговор. По закону божескому и человеческому, говорилось в приговоре, все преступники подлежали жестокой пытке и смертной казни. Но набольший воевода по великой доброте своей велел всех до единого злодеев пыткой не пытать и смертью не казнить. А потому он, Козьма Минин Захарьев-Сухорук, выборный человек всей земли, рассудил: главных воров Кузьку и Epoxy, которые из Москвы пришли и все злодейство здесь затеяли, сослать на Белое море, в Соловецкий монастырь, и там запереть в каменной тюрьме; Стеньку с Обрезкой посадить в тюрьму в Вологде; а Хвалова отдать палачу, чтобы прогнал в три шеи, дабы и духу Хвалова больше не было ни здесь, ни около. Хвалов ногами засучил от радости, да и остальные четверо не ожидали такого мягкого приговора. Кузьку с Ерохой и Стеньку с Обрезкой отвели обратно в холодную, а Хвалова палач ухватил за шиворот и потащил вон из избы. Палач вел Хвалова по улице, и опять толпы народа валили за Хваловым вслед и ругали его на чем свет стоит. А мальчишки, как и накануне, швыряли в Хвалова всякою дрянью. И Сенька с Воробьем были тут; они тоже швыряли в Хвалова чем ни попадя… Вместе со всей толпой Воробей и Сенька вывалились за заставу и пошли берегом Волги. Палач Осип Зыбин, выбрав на берегу место покруче, поставил на нем Хвалова лицом к реке, спиной к городу. Засучив рукава своей кумачовой рубахи, Зыбин размялся, поплевал себе на руки и сжал их в кулаки. Сенька даже ахнул, разглядев, какие у палача кулачищи. Каждый из них был размером с двухпудовую гирю и весил, верно, не меньше двух пудов. И вот такой свой кулачище Зыбин выбросил Хвалову в загривок, одновременно пнув того ногой в зад. Хвалов взлетел было кверху, потом завертелся в воздухе и камнем пошел вниз. Он плюхнулся в воду и не показывался, только шапка его всплыла. «Утонет», — решил Сенька, следя за кругами, которые все шире расходились по воде в том месте, куда упал Хвалов. Но Хвалов выплыл. Поймав в воде свою шапку, он выбрался на песчаную кромку берега, которая желтой полоской тянулась у самой воды. На берегу Хвалов отряхнулся, отплевался, напялил на себя свою насквозь мокрую шапку и побежал. Вверху слышно было, как хлюпает он лаптищами. А Воробью, забравшемуся на березу, которая нависла с берега высоко над водой, даже виден был зипун Хвалова и его разбухшая в воде шапка. Но скоро Хвалов пропал за излучиной реки, и больше его в Ярославле не видели. Воробей слез с березы. Они решили с Сенькой искупаться и спустились к Волге. Оба, скинув с себя одежонку, бросились в воду и поплыли наперерез речной волне. Ребята ныряли, фыркали, хлопали по воде ладошками, а потом принялись искать раков между корягами. Так резвясь, Сенька и Воробей хотя и слышали колокольный звон, но не знали, что уже закурилась пылью Московская дорога, по которой сейчас только выступили из Ярославля в Москву передовые полки. Вел эти полки седобородый воевода Михайло Дмитриев. Он имел наказ набольшего воеводы идти скорым походом и, придя в Москву, стать со своим войском у Петровских ворот. Спустя несколько дней выступил со своими полками двоюродный брат Дмитрия Михайловича князь Дмитрий Петрович Пожарский-Лопата. Ему от набольшего воеводы было указано расположиться в Москве у Тверских ворот. А вода в Волге стала тем временем студеней: иволга в бору прокричала в последний раз. На ранней заре, росистой и прохладной, стали выходить из Ярославля главные силы ополчения. Их вели набольший воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский и выборный человек всей земли Козьма Минин. В Троицком монастыре, который стоял на пути в Москву, Дмитрий Михайлович навестил Ромашку. Казак сидел на каменной монастырской стене, на деревянном настиле, и глядел перед собой. Перед ним раскинулся край в золоте опадающих листьев, с голубыми ручьями и высоким небом. Ромашка увидел князя, который быстро приближался по настилу, в серебряном шлеме и развевающемся плаще. Однако встать князю навстречу у Ромашки не хватило сил. Дмитрий Михайлович, подойдя, склонился над ним, обнял и крепко поцеловал… Наступили тихие дни бабьего лета. В воздухе проносились серебряные паутинки… В один из таких дней войско, которое вели Минин и Пожарский, вступило в Москву и расположилось станом у Арбатских ворот. Здесь ратники народного ополчения сразу же соорудили острог и окопали его рвом.ШЛЯХТУ БИТЫ
Немногим больше года прошло с того дня, как Сенька и Воробей погрузились с Петром Митриевым на струг и покинули погорелую Москву. И вот ребята снова в Москве, трясутся в телеге по Арбату, глядят направо и налево. То тут, то там покажется им редкий домик, чудом уцелевший от пожара, либо шалаш, сбитый на живучку из чего пришлось. В тени между высокими кучами мусора крепко взялась густая крапива. Из крапивы тянет вверх свою длинную шею закопченная печная труба. Еще в Нижнем Новгороде Петр Митриев наказывал Андреяну: — Как добьетесь Москвы, ступай, Андреян, сразу к Спасу-на-Песках, становись у меня на дворе. Там у меня две избушки, кроме дома. В одной избушке теперь Аггей живет, дворник; в другой становись ты. По кузне что надо работать — работай у меня в сарае. Только будь осторожлив, не спали, родимец, мне сарая и дома не спали. Еще, чай, доведется мне пожить в Москве. Аггей по-прежнему был малоразговорчив. Но он заметно обрадовался и вестям от Петра Митриева и тому, что Андреян пристанет у него на дворе. Очень истомила даже Аггея совсем одинокая жизнь. А кузнецу с семьей жить с ополченцами в таборе тоже было бы тяжело. Что же до двора Дмитрия Михайловича Пожарского на Сретенке, то от него только куча золы осталась. Сенька и Воробей, едва сгрузились, как сразу же толкнулись к домику Петра Митриева. Очень им хотелось узнать, по-прежнему ли тикают и бьют часы, развешанные в светлице по стенам. Но двери домика оказались на запоре, а ставни заколочены. От Аггея мало-помалу стало в этот день известно и ребятам, что стоят в Москве буйные казаки и воеводой теперь над ними князь Трубецкой. Шляхту на улице не встретишь. Сидят паны с полковником своим Струсем в Кремле в осаде, и уже спеси с них посбито. Какая тут спесь, когда голодом помирают! Жрут собачину и поджидают себе подмоги. Слух есть, что из Польши идет к ним на выручку гетман Ян Ходкевич, ведет войско, везет провиант. Ждать Ходкевича пришлось недолго. Стал Андреян на другой день с утра разворачивать в сарае свою кузню, как вернулся с базара Аггей. Он присел в сарае у Андреяна на обрубок, помолчал, потужился и брякнул: — Ждали и дождались. И снова замолчал. Андреян взглянул на Аггея, даже руку, в которой держал молот, опустил. Аггей продолжал молчать. «Не в молчанку же мне играть с ним!» — подумал Андреян и спросил: — Чего это мы, Аггей, дождались? — А того дождались, — объяснил наконец Аггей, — что еще ты, коваль, и горнушки не раздул, а пан Ходкевич — вот он, тут как тут. Уже на Поклонной горе. — Да что ты? — откликнулся Андреян. — Ходкий, видать, гетман; за то и прозвище ему Ходкевич. Да только еще надо посмотреть, куда ходу даст. Я так думаю, Аггей, что ход теперь им все равно один: за реку Днепр, на свою сторону. Но гетман Ходкевич уходить не думал. Прошел еще день, и Ходкевич у Новодевичьего монастыря перешел со своим войском Москву-реку и раскинул свой стан у Чертольских ворот[1]. Так они и ощетинились одна против другой, две рати; от одной до другой, казалось, рукой подать: солдаты Ходкевича и ополченцы Пожарского. Трубецкой со своими казаками остался в Замоскворечье. Пожарский послал ему пятьсот своих воинов и просил помочь, если дело обернется круто. Воробей, один, без Сеньки, уже успел побывать на поле между Чертольскими и Арбатскими воротами. Он видел вражеских всадников в тяжелых панцирях, на огромных конях; слышал, как в стане Ходкевича долго и пронзительно протрубили фанфары. Воробей бросился домой. В сарае на горнушке у Андреяна лежал раскаленный кусок железа. Работы у кузнеца было невпроворот. Сенька помогал отцу как мог. — Куда бегал? — набросился Андреян на Воробья. — Гляди, как хвачу, забегаешь у меня! — Я, дяденька Андреян… Сейчас ударят, провались я, сам видел… — Чего видел? Куда ударят? Что врешь-то! — Видел пушкарей. Трубы трубят, фитили на пальниках горят… — Какие трубы? — Трубы панские, а фитили нашенские. — То-то! — молвил назидательно Андреян, но Воробей так и не понял, к чему это относилось. Впрочем, раздумывать Воробью не пришлось, потому что тут как раз и ударило. Ударило, словно кто-то с силой ставень захлопнул. Андреян бросил молоток в угол, залил из ушата огонь в горнушке и пошел за ворота. Воробей с Сенькой скользнули на улицу вслед за ним. Аггей уже был за воротами. Арина стала, торопясь, снимать развешанное по двору белье. А за первым выстрелом последовали почти одновременно два других. И пошло раз за разом после небольших промежутков. — Началось-поехало, — сказал Андреян. — За тем сюда и ладились князь Дмитрий Михайлович с Козьмой Мининым. Ну, теперь, значит, биться до смерти. Беда, не отлучиться мне: эвон сколько работы! Все давай, давай! Сабли давай, кольчуги давай, бердыши, панцири… Сенька! Сенька, где ты? Воробей! Но ни Сеньки, ни Воробья не было на улице. Не было их и во дворе. Андреян слишком долго глядел, моргая, на дымки, которые возникали в небе от пролетавших в стороне Арбатских ворот ядер. Моргал Андреян и проморгал Воробья и Сеньку. Те уже со всех ног бежали к Арбатским воротам, вопя во весь голос: — Шляхту бить! Айдате шляхту бить!ХОДКЕВИЧ-СОБАКА
Когда ребята прибежали на Арбатскую площадь, там все было в бурном движении. Полки перемещались; конница стремительно прорезала пространство между острогом на Арбате и Чертольем; одни пушки на колесных станках оставались на месте, но подле них хлопотали раскрасневшиеся пушкари. Пожарский сразу понял, что драться придется на две стороны. От Новодевичьего монастыря напирал Ходкевич; а из Кремля надо было ждать вылазки и удара в тыл. Сенька и Воробей сновали между людьми и пушками, в пыли и суматохе. Никому здесь до ребят не было дела, потому что каждый теперь был занят своим. А кроме того, много московских жителей сразу же в этот день присоединилось к ополченцам и сражалось вместе с ними плечом к плечу. И для ребят тоже здесь скоро нашлось настоящее дело. Они пристроились подле мортиры, которая стреляла калеными ядрами. Воробей, тужась, стал накладывать чугунные ядра на жаровню, а Сенька, схватясь за ручной мех, принялся раздувать огонь. Около самой мортиры управлялись четверо пушкарей: один сыпал в дуло мортиры порох, набирая его деревянным совком из бочонка; другой после этого делал в мортире прокладку из щебня и мокрых тряпок; третий хватал железным ковшом раскаленное докрасна ядро с жаровни и сбрасывал его в дуло орудия. Наконец четвертый, веселый старичок с пыльной бородой, делал затравку: насыпал щепотку-другую пороха в запал — в маленькое круглое отверстие в задней, «казенной», части орудия. После всего этого мортира готова была к выстрелу, и тот же старичок подносил к запалу пальник с зажженным фитилем. Мортира, словно остервенясь, чуть подскакивала при выстреле, извергая огонь, дым, щебень, горелые тряпки и каленое ядро. Старик пушкарь, ожидая, пока после выстрела немного поостынет его орудие, принимался напевать:А Ходкевичу-собаке не сносить головы,
Не доступить ему, собаке, белокаменной Москвы…
А Ходкевичу-собаке не сносить головы…

Старый пушкарь был прав. Круто для русского войска оборачивалось дело у Чертольских ворот. Дмитрий Михайлович приказал своей коннице спешиться, и начался кровопролитный бой врукопашную. Ворота Кремля тем временем открылись, и оттуда стала вылезать отощавшая в осаде шляхта. Это были уже не люди, а словно тени людей. Паны шли пешком, потому что лошади в Кремле были все съедены. Но шляхта еще топорщила усы, размахивала саблями и надеялась прорваться к провианту, который силился доставить в Кремль пан Ходкевич. Стрельцам Пожарского не стоило большого труда загнать голодную шляхту обратно в Кремль. В грохоте пушек и кликах сражавшихся бежали часы. Солнце с Замоскворечья перекатилось к Чертолью, и длиннее стали тени. К этому времени в сражении у Чертольских ворот произошел перелом. В роковую минуту, когда под напором великолепных польских гусар могли уже дрогнуть ополченцы, Пожарскому пришли на помощь казаки Трубецкого. Разъяренные, почти голые, они, как степные коршуны, набросились на щеголеватых воинов Ходкевича. — На слом! — крикнул Пожарский, бросая свои полки в атаку. И тут смешалось всё — казаки Трубецкого, ополченцы Пожарского, гусары Ходкевича… А старый пушкарь все палил и палил, все напевал и напевал, пока к нему не подскакал верховой: — Оглох ты, дядя Маркел? — Есть маленько, — отозвался пушкарь. — Кабы ты походил около пушек с мое, оглох бы и ты, Афоня. Чего тебе, шалда-балда? — «Чего тебе»!.. А того, что бросай палить: своих перекалечишь. — Никак, значит, одоление врагов? — А то как же! — сказал верховой. — Бежит шляхта себя не помня. Есть которые уже вспять до Поклонной горы добежали; там и становятся. — Ну, слава те! — Старик словно разрубил рукой воздух. — Заливай, ребята, жаровню; разбирай к месту снаряд — что куда!
А Ходкевичу-собаке не сносить головы…
В ЧУЖЕДАЛЬНЮЮ СТОРОНУ
Весь обратный путь к дому, от Арбатских ворот до Спаса-на-Песках, Сенька допытывался у Воробья: — Очень, Воробей, на нас станет серчать тятя? — Станет серчать, — ответил Воробей. — Это за то, что, не спросясь, убежали к ополченцам? — За это самое. — А скажи, Воробей: может нам тятя за это самое плюх надавать? — И плюх может надавать. Очень просто. — Еще, чего доброго, высечет? — Если случится лоза под рукой, так и высечет. — А больно будет, как сечь станет? — Это уж, Сенька, как пойдет у него, в какую силу рука размахнется. — Обоих тятя высечет? — Нет, Сенька, высечет тебя одного. — Почему так? Вместе ж с тобой, Воробей, убежали! Надо, чтобы и тебя высек. Помнишь, дедушка Петр Митриев говорил, что вместе — всё лучше; на миру-де, говорил, и смерть красна. — Красна, Сенька, не красна, а я не дамся сечь. — Как же это ты, Воробей, не дашься, когда тятя тебя на лавку кинет да ноги твои коленом прижмет? — Я вот как начну ногами дрыгать, а потом вырвусь и убегу. Совсем, Сенька, убегу, к ополченцам, в таборы. Ищи меня! Буду с ополченцами из пушки палить, и всё тут. — А кормиться как? — И кормиться буду с ополченцами. У них знаешь хлеба сколько? Всего им Минин припас: и хлеба и толокна, солонины, капусты квашеной, круп, всякой одёжи… Пристану к дяде Маркелу огонь ему дуть, ядра калить… Чем ближе к дому, тем больше замедлял Сенька шаг, да и Воробей не больно домой торопился. Не хотелось ему ни взбучки, ни трепки, а ведь дома можно было теперь ожидать и того и другого. «Что, как обойдется? — подумал Воробей. — Да как бы ни обошлось, а дядя Андреян с Аггеем, уж наверно, запрут нас с Сенькой в пустую клеть, чтоб к ополченцам не бегали». Воробью и этого не хотелось — томиться в пустой клети, где мышами пахнет и скука смертная. Когда ребята подходили к Спасопесковскому переулку, Воробей вдруг остановился и сказал: — Ты, Сенька, как хочешь, а я домой не пойду. У Сеньки даже сердце ёкнуло от неожиданности. — К-как, Воробей, не п-пойдешь? — спросил он заикаясь. — А как сказал тебе. В пушкари подамся. Думаешь, не управиться мне с пушкой? На войну стану ходить с пушкарями в чужедальнюю сторону… Сенька во все глаза глядел на Воробья — на Тимоху, который представлялся ему в эту минуту храбрецом из храбрецов. — Воробей! — воскликнул Сенька, содрогаясь от ужаса и восторга. — И я с тобой в чужедальнюю сторону! — Тебе, Сенька, нельзя, — и Воробей качнул отрицательно головой. — Ступай к матери! — Почему, Воробей, нельзя? — вскричал Сенька. — Не хочу домой! — Чувствуя, что его охватывает отчаяние, он вцепился в рукав рубахи Воробья. — Нет, ты скажи, почему нельзя! — твердил он, дергая Воробья за рукав. — Тебе можно, мне нельзя… — У тебя, Сенька, отец, мать… Мать плакать станет, горевать: «Сеня, Сенюшка!..» А по мне, Сенька, плакать некому. Вот и выходит, что я вольный казак. — А я матери с чужедальней стороны вестей пришлю и гостинца — сукна на шубу. Мать и перестанет плакать. Воробей молчал, раздумывая. Потом, решившись, сказал: — Только у меня чтобы не хныкать! А то враз подам Андреяну весть; он прибежит за тобой в табор да перво-наперво крапивой выпорет. Весь будешь обстреканный ходить: ни сесть, ни лечь. — Не, не! — испугался Сенька. — Не стану хныкать, провались я на этом месте! — То-то же! Уговор дороже денег. Пошли? — Пошли, Воробей! — выкрикнул звонко Сенька. — В чужедальнюю сторону. И ребята, взявшись за руки, повернули обратно к Арбатским воротам. Темнело, когда они снова очутились на площади. Запах гари и дыма, стоявший там весь день, уже разошелся. Воздух был чист и свеж. По всему пространству от Арбатских ворот до Чертольских горели костры. У одного костра сидел со своими пушкарями веселый дядя Маркел. Из котла над огнем валил пар. На земле, на ряднине, лежал ржаной каравай и стояла деревянная чашка, полная серой комковатой соли. Завидя ребят, дядя Маркел крикнул: — Гей вы, помощнички — божьи работнички! Где пропадали? Чего искали? Дошло уж до вечера, искать теперь нечего, ложки эвон, в кузовке.А Ходкевичу-собаке тру-ти-ти, три-ти-ти… —
РАНЕНЫЙ
Ночь прошла спокойно. Воробей еще с вечера обнаружил телегу, которая с поднятыми оглоблями приткнулась к бревенчатой стене острога. В телеге нашлась охапка сена и несколько пустых мешков из-под овса. Ребята разлеглись на мешках и мешками же накрылись. Зябковато стало к рассвету. Солнце еще не поднялось, а синие дымки от костров уже стали тянуться кверху, и лагерь наполнился человеческими голосами, скрипом колес, конским ржанием. Воробей сполз с телеги и пошел к костру, над которым грел и потирал руки дядя Маркел. Вскоре вся пушкарская артель дяди Маркела была у костра. Воробей и Сенька хлопотали здесь больше всех: они и дрова подкладывали, и огонь раздували, и воду кипятили, и толокно в котел сыпали. Дядя Маркел был, видимо, не совсем в духе. У него поламывали кости и ныли старые раны, которых было немало на груди у него, на спине, на руках и ногах. Дядя Маркел участвовал в Ливонской войне, еще при Иване Грозном; а потом кого только не было у дяди Маркела за долгий пушкарский век: поляки, шведы, крымцы, литва… Повсюду поспевал пушкарь Маркел Колобок и едва ли не отовсюду уносил с собой на память шрам ли, дырку либо просто царапину. Сидя теперь у костра, дядя Маркел молча совал в свой беззубый рот деревянную ложку с горячим толокном и не заводил больше речи о собаке Ходкевиче. Но Ходкевич сам напомнил о себе. Подъехал Афоня верхом на своем пегом мерине и сообщил, что шляхта из войск Ходкевича пролезла на рассвете к Донскому монастырю. Видно, норовит подобраться к своим в Кремле, на этот раз со стороны Замоскворечья. Потому указано пушкарям становиться со своими пушками и «ступками» за Москвой-рекой. — Станем за рекой, — сказал дядя Маркел, оживившись. — И «ступки» перетащим. Он вытер кулаком усы, на которых налипли комочки толокна, и расправил отсыревшую за ночь бороду. — Тебя, Афоня, сегодня к набольшему воеводе на пироги звали! — выпалил он вдруг. — Меня? — удивился Афоня. — Ясно — тебя, не меня. Меня, Афоня, звать не станут. Говорят — сиволапый, копченый, пороховым дымом провонял. — Ничего о тебе не говорят, Маркел Колобок, — возразил Афоня. — На тебя набольший-то и не взглянет. — Вот-вот! И я тоже так разумею: не взглянет, не позовет… Больно я шершавый, и борода, мол, пыльная. А ты эвон какой чистюлька! Шапка у тебя, Афоня, с заломом, и перышко на шапке… Вестовой гонец… Вестовой гонец головного полка… Скачешь то к набольшему, то от набольшего. Чай, и тебе сегодня от стола у набольшего кусок пирога перепадет. — Не перепадало еще, — буркнул Афоня, не понимая, к чему дядя Маркел клонит свою замысловатую речь. Но дядя Маркел, не обратив внимания на Афонины слова, продолжал: — А как станут, Афонюшка, в шатре у набольшего пшеничный пирог рушить, хвалить и кушать, так ты скажи всем большим и набольшим: кланяется, мол, дядя Маркел, тот, что пшеничных пирогов отродясь не ел. — Только к тому твоя речь? — И Афоня пожал плечами. — Нет, Афоня, не только к тому. Вчера счетом сколько шляхты уложили? — За ночным временем, Маркел, не сосчитано еще. Ужо нынче считать будут. — Так вот, Афоня, ты, как пирога поешь, не икай, чинно себя держи. Молви только набольшему воеводе: оказал бы он ворогам честь — набил их столько, что и не счесть. Просил, мол, Маркел, что пирогов не ел. Афоня с седла глянул пристально на дядю Маркела и сказал: — Чудной ты, Колобок! Крутишься, вертишься… Эвон чего накрутил! Пироги, вороги… Тебе бы в пору в скоморохи писаться. А ты, Колобок… — «Колобок, Колобок»… — перебил Афоню дядя Маркел. — Вот он, мой колобок! — И дядя Маркел погладил рукой круглое, как колобок, чугунное ядро, откатившееся к костру. — Я с этими колобками из Москвы ушел, свет прошел и опять сюда пришел. Потому и зовусь Колобком. Афоня, заметив, что дядю Маркела не переговоришь, тронул коня и отъехал прочь. А дядя Маркел крикнул укладывать пушкарский снаряд на подводы. По плавучему мосту часть артиллерии Пожарского переправилась через Москву-реку и присоединилась к казакам Трубецкого, стоявшим в острожке на Пятницкой, у Климентовской церкви. Но боя в этот день не было; он возобновился только на следующий день с утра. На улице, под стенами острожка, гарцевали казаки. У ворот стояли со своими длинными пищалями стрельцы. Опять Сенька и Воробей калили ядра на жаровне. И снова, орудуя зажженным фитилем, пускал в ход свои неисчислимые прибаутки дядя Маркел. Однако шляхта теперь совсем остервенела. Ходкевич решил прорваться к Кремлю любой ценой. Польская конница надвигалась к Климентовскому острожку по Ордынке, от Серпуховских ворот. Когда шляхта стала подходить к Екатерининской церкви, среди казаков в Климентовском острожке началась паника. Беспорядочными толпами выбегали они из острожка, неслись словно вперегонки к Москве-реке и бросались через нее вплавь. В острожек прискакал Афоня-гонец с приказом от набольшего воеводы — ратникам, стрельцам и пушкарям тоже уходить из брошенного казаками острожка, уходить немедля. Пошла сумятица; все повалило к воротам… Но пушкари, увлеченные своим делом, продолжали палить. Афоня примчался во второй раз и гаркнул в раскрытые ворота: — Отступ! А пушкари всё палили. Только на третий раз, когда Афоня ворвался в острожек с воплем, что ослушники будут повешены, пальба прекратилась. Заскрипели подводы… Впрочем, одна «ступка» еще продолжала вести огонь. В дальнем углу острожка дядя Маркел не видел Афони и не слышал его воплей. Оглянулся Маркел: батюшки! В острожке пусто — ни казаков, ни ратников, ни пушкарей. Только лошади дяди Маркела, привязанные к грядкам телег, жуют сено, подергивая головами. А за стеной острожка голосят фанфары, совсем близко… голосят не на русский распев, а так, как приходилось слышать дяде Маркелу в Ливонии и в Литве. Дядя Маркел, не мешкая, сунул бороду в прорубленную в стене острожка бойницу, и в глазах у него засверкало: серебряные фанфары неприятеля, его цветные знамена, на стальных шлемах страусовые перья — белые, голубые, красные… А за фанфарами и шлемами, за знаменами и лесом копий вьется по Ордынской дороге обоз. Неисчислимо возов! На возах — мешки, тюки, ящики, бочонки… Это провиант для польского войска, для шляхты, помиравшей голодом, запертой в Кремле. Фанфары и знамена приближались. Через пять минут они будут на Пятницкой, у Климентовской церкви. Не знавал дядя Маркел плена — ни польского, ни крымского, — а тут на-поди! Рейтары пана Ходкевича спустят с дяди Маркела шкуру — только пыль от бороды пойдет. — Запрягай! — крикнул дядя Маркел, и голос у него захлестнуло. — Стой! — прохрипел он. — Поздно… Бросай всё, садись на коней, скачи к мосту. Дядя Маркел отвязал первую подвернувшуюся лошадь, вскочил на нее и устремился в раскрытые настежь ворота острожка. Вслед за ним вырвались из острожка верхом на лошадях и его пушкари. Сенька сидел на крупе гнедой кобылы, крепко обхватив живот пушкаря, того, что подносил к мортире каленые ядра с жаровни. Позади другого пушкаря устроился верхом на сером коне Воробей. Вся ватага понеслась к Москве-реке, слыша позади себя надрывное пение фанфар, клики победителей и частые выстрелы. Воробей повернул голову, чтобы взглянуть на торжествовавшую шляхту, но где-то совсем близко хлопнуло. Воробью прожгло шлык на колпаке, а пушкарю вгрызлось в лопатку. У пушкаря на зеленом кафтане выступило алое пятно. Пушкарь покачнулся и сник на шею коня. Воробей едва успел перехватить у него повод. — Стой! — услышал Воробей вправо от себя. Там у какой-то обрушившейся стены уже суетился, до пояса укрытый бурьяном, дядя Маркел. — Сворачивай сюда! — крикнул он, взмахнув рукой. — Указано хорониться до поры кому как гораздо. Воробей повернул к дяде Маркелу. Сенька и прочие пушкари уже были там. — A-а это?… — ахнул дядя Маркел, увидя пушкаря, приникшего к лошадиной шее, и кровь, проступившую у него на спине сквозь зеленый кафтан. — Что ты скажешь? Никифор! Ох, Никифор! Раненого пушкаря бережно сняли с лошади и положили наземь. Люди дяди Маркела побежали занять где-нибудь свободный от поклажи воз. А сам дядя Маркел достал у себя из сумки чистую холстинку, фляжку с водкой и кожаный мешочек с порохом. Он обмыл Никифору рану крепкой водкой, присыпал ее порохом и наложил на нее холстинку. Потом перевязал раненого пушкаря по спине и груди какой-то ветошью, которую извлек из той же своей сумки. Никифор все это терпеливо перенес, хотя водка обожгла ему живое мясо, а порох действовал на рану так же, как если бы на нее насыпали соли. Но что было делать! Лекаря поблизости не предвиделось, а дядя Маркел лечил как знал. Никифор лежал на земле, на левом боку, бледный, с закушенной от боли губой. Для пушкарского дела, на сегодня по крайней мере, он не годился. За обрушившейся стеной, в густых зарослях крапивы, Воробей увидел брошенный кем-то воз, в который впряжена была рябая лошадь. На возу были только соломенный сноп и торба с овсом. Воробей, не раздумывая, вывел воз из крапивы и покатил к дяде Маркелу в бурьян. Раненого подняли на воз, на соломенную подстилку. Торбу с овсом подложили ему под голову. — Воробей, и ты, Сенька! — сказал дядя Маркел. — Отвезете Никифора в Божедомку и скажете божедомным старцам, чтобы выходили мне пушкаря. А как не выходят, то быть им, скажите, от Минина и Пожарского в немилости. Воробей с Сенькой взобрались на воз и по тому же плавучему мосту вернулись на городскую сторону. Скоро обнаружилось, что рябая лошадь, запряженная в воз, хромает едва ли не на все четыре ноги. Она припадала то на одну ногу, то на другую и при этом дергала, задирая голову. Воз шел неровно, рывками, где — по настланным на дороге бревнам, где — по крутым ухабам. Все это беспокоило раненого, и он временами тихо стонал. В Божедомке ребята сдали раненого божедомным старцам. Воробей в точности пересказал им слова дяди Маркела о немилости, которая от Минина и Пожарского постигнет их, если они не позаботятся о раненом пушкаре. Но при этом Воробей еще и от себя прибавил и так напугал старцев, что те только руками замахали: — Что ты, что ты, малый! — То-то же! — сказал Воробей, строго взглянув на старцев. — Но-о, рябая-хромая, на все четыре разбитая! Но-о! И Воробей потащился с Сенькой через всю Москву назад на Ордынку, причмокивая и подергивая вожжами.ШЛЯХТА ПОБЕЖАЛА
Легко ли было теперь ребятам разыскать на Пятницкой улице дядю Маркела! Часа четыре прошло, пока они отвозили раненого пушкаря в Божедомку на рябой-хромой. За это время произошли важные события. На Климентовской церкви развевалось польское знамя — малиново-голубое, с вензелями и коронами. С кремлевских башен шляхта видела, как приближается обоз Ходкевича к плавучему мосту. Изголодавшимся в Кремле обжорам, давно съевшим там всех крыс, грезился теперь богатый ужин — жареные куры, пшеничный хлеб и венгерское вино. Но вдруг на переправе через Москву-реку опять показались казаки Трубецкого. Вид польского знамени на русской церкви в Замоскворечье привел казаков в ярость. Лавиной обрушились они на Климентовский острог и выжали оттуда солдат Ходкевича. Донской казак Ефим Селезнев взобрался на колокольню, сорвал нарядное польское знамя и швырнул его вниз своим ликовавшим товарищам. Шелковое полотнище было мгновенно втоптано в пыль и грязь.
— Идем дальше, братья! — кричали казаки. — Не воротимся назад, пока всю шляхту не перебьем! — Гиги-и! — раздавался вокруг боевой клич казаков, с которым они бросались в атаку. В это время по Ордынке проскакал Пожарский с молодым Хворостининым. За ними неотступно следовал Афоня-гонец. — Донцы-молодцы, и вы, мои ратники, — сказал Пожарский, придержав на минуту коня, — пойдем вперед и не отступим! Биться нам до смерти за землю отцов и дедов. Прогоним шляхту за Днепр! Втопчем в болото! Казаки скрежетали зубами. — За Днепр прогоним! — вопили они. — Утопим шляхту в болотах! — Слава набольшему воеводе! — кричали ополченцы. — Веди нас, отец наш! Медленно, сурово и жестоко нажимали ополченцы. Кончался день, а битве еще не предвиделось конца. Но Козьма Минин с тремя сотнями конных ратников тоже перешел реку и ринулся на поляков, стоявших у Крымского брода. Ратники Минина на диковатых степных конях надвигались, как смерч. Сын Козьмы, Нефед, обнажив саблю, скакал вместе с другими, держась левого крыла. Польским дозорным, повернувшимся на крики и топот копыт, показалось, будто они увидели ветер, черный ветер, который пошел на них от пылавшего на закате неба. В ужасе они стали отмахиваться руками. У них едва хватило сил вскинуть горны и протрубить тревогу. Лязг оружия, боевые призывы — все это длилось несколько минут. Оставив убитых на поле боя, шляхта бросилась к Ходкевичу на Ордынку и с разбегу смяла там своих же. Дрогнуло на Ордынке войско Ходкевича. Пожарский это сразу заметил. Он взмахнул саблей, и Афоня уже был подле него. — Выкрикни, Афоня, всех на слом, — сказал он и поднял высоко саблю. — На слом! — вскричал Афоня, резанув шпорами бока своего мерина. Пегий взвился и понес всадника к Москве-реке. — Все на слом! — кричал Афоня, нигде не задерживаясь. — По указу набольшего воеводы! На сло-ом! И русское ополчение двинулось «на слом» — в атаку. Крики и вопли в обоих станах заглушали временами даже пушечную пальбу. Однако пороховой дым, не переставая, густо стлался по Пятницкой и по Ордынке. Где-то вместе с другими пушкарями палил — из своей ли, из чужой ли «ступки» — дядя Маркел. Ни в бурьяне у разрушенной стены, ни в отбитом у поляков Климентовском остроге Воробей и Сенька не нашли дядю Маркела. Бой передвинулся к Серпуховским воротам. В каком месте установился дядя Маркел с пушкарским снарядом, ребята дознаться не могли. Они поднялись со своим возом и рябой-хромой на вал, который был насыпан у Серпуховских ворот, и с вала увидели, как побежали поляки. Шляхта бежала, бросая все: пушки, фанфары, литавры, знамена, шатры и обоз, огромный обоз — без счету возов, нагруженных доверху ржаными сухарями, пшеничной мукой, связками окороков, салом и солониной, вином, пивом и медом. Найдется, чем отпраздновать победу русскому войску — ратникам, казакам, стрельцам и пушкарям! Сеньке и Воробью с вала и с воза, на котором они стояли, видно было, как солнце, все больше багровея, клонится к Дорогомилову. Дорога, уводившая от Серпуховских ворот в поле, была вся повита розовой пылью. В пыли мелькали ноги и спины солдат Ходкевича, спасавшихся бегством. В конце вала, у самого обрыва, ребята увидели князя Дмитрия Михайловича Пожарского и Козьму Минина. Минин и Пожарский стояли, спешившись, окруженные воеводами и вестовыми гонцами. Минин протянул руку вперед, на что-то указывая Пожарскому. А Пожарский всматривался в даль, поднеся ладонь к глазам. — Прикажи, князь Дмитрий Михайлович, гнать шляхту за реку, — сказал Минин. — Истомлено войско наше, — ответил Пожарский, — и ночь, гляди, приступает. А я так думаю, Минич, что на один день довольно и одной радости. Минин собирался еще что-то сказать, но на крутой вал, храпя, вскарабкался пегий Афонин мерин. Афоня скользнул на землю, сорвал с себя шапку и подбежал к Минину. — Козьма Минич, — задыхался Афоня, — Козьма Минич… У Крымского брода… Нефед… сын твой… Минин резко повернулся. Афоня в смятении увидел, что глаза у Минина наливаются кровью. — Что — Нефед? — прохрипел Минин сквозь стиснутые зубы. — Лежит у самой воды… убитый… Минин покачнулся и закрыл лицо руками. Пожарский шагнул к нему и прижал к своей груди. — Ступай, Минич, — сказал он, — к броду, отыщи Нефеда, похорони честно. Минин взвалился на коня и ринулся с вала вниз. Пожарский мигнул Афоне, и гонец бросился вслед за Мининым. Воеводы, гонцы, люди, оставшиеся с Пожарским на валу, — все молчали. Ничего не сказал больше и сам Пожарский. А в это время на Екатерининской колокольне ударили в большой колокол. За ним пошли в работу малые колокола и средние, и слышалась в этом ликующем перезвоне великая радость. К Екатерининской колокольне сразу присоединилась Климентовская, вот звон уже перекинулся на городскую сторону; и пошло звонить по всем концам во все колокола. Пошло разносить по всей Москве весть о победе. Сенька и Воробей повернулись друг к другу, посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. — Побежала шляхта, а, Воробей? — крикнул Сенька, взмахнув руками. — Побежала, Сенька, — откликнулся Воробей и положил свою руку Сеньке на плечо. — Хорошо пели, а где сели! Ой, и бегут же! И здоровы ж, черти, бегать! Ребята вглядывались в происходившее там, в стороне Воробьевых гор, но уже совсем стемнело, и только редкие огоньки перебегали на Калужской дороге с места на место, да еще доносился оттуда какой-то лязг. Должно быть, там, несмотря на наступившую ночь, еще не кончились отдельные стычки: еще ратники Пожарского в увлечении боя сыпали шляхте в хвост и в гриву.
КАЗАЧЬИ ИГРЫ
За весь день у ребят не было во рту и крошки хлеба. Поели чуть свет горячего толокна — и всё. У обоих теперь сильно скребло в желудке. И каждый, должно быть, подумал с сожалением: «А хорошо теперь дома, у Спаса-на-Песках! Лучинка в светце горит; раскаленные угольки, отваливаясь от лучинки, падают в чашку с водой и гаснут; дымком в избушке попахивает… дымком и чем-то съедобным — ленивыми щами или пшенной кашей?..» Воробей даже охнул от неожиданно представившейся ему картины. — Может, Андреян для великой радости, что победа такая, не станет драться? — молвил он вслух. — И в клеть не запрет… — Как ты сказал, Воробей? — мгновенно схватился Сенька.

— Я говорю — не станет тятя нас сечь за то, что к ополченцам убежали, — сказал уверенно Воробей. — Для такой радости… Слышь, как гудит кругом! Айда, Сенька, домой! А? Сенька только всплеснул руками. От счастья у него дыхание перехватило. Ему уже не хотелось на чужбину — в чужедальнюю сторону. Душа его рвалась домой, только домой, к мамане, к тяте, который на радостях может простить ребятам все. «Даже наверно простит», — решил Сенька. И все уладится; будут они с Воробьем, как и раньше, дрова колоть, воду таскать и в кузнице дуть огонь и сметать окалину с наковальни. — Домой!.. — прошептал Сенька. — Домой хочу… Ребята слезли с воза. Воробей взял под уздцы рябую-хромую, видимо никому здесь не нужную, и свел ее с вала вниз. А внизу под самым валом стоял отбитый у Ходкевича обоз с провиантом. Четыреста возов! На возах и на земле подле возов сидели казаки Трубецкого и пировали при свете слюдяных фонарей. — Берегись, ушибу! — крикнул казак, черный, как цыган, и швырнул в Воробья здоровенным кусом солонины. Воробей едва увернулся, а солонина шмякнулась к нему прямо в воз. — Ловок казак с Дона! — сказал другой, рыжебородый, со шрамом через все лицо. — А мы вот с Янка, так неужто мы плоше? Сказав это, он схватил связку копченых окороков — штук пять или шесть, — поднялся и завертел всю связку у себя над головой. Потом вскинул ее; она черной стаей взвилась высоко вверх, на мгновение словно остановилась — казалось, под самыми звездами — и ринулась вниз, к ребятам в воз. И пошла потеха. Сенька и Воробей отбежали прочь, чтобы не зашибло их чем-нибудь, что неслось в их сторону, запущенное из жилистых казацких рук. Ведь от яицких казаков уже не хотели отставать астраханские, от астраханских — сибирские… К ребятам в воз летели копченые гуси и куры, соленая и вяленая рыба, ржаные сухари и пакеты с леденцом. Но превзошли всех двое, которые объявили, что исетские казаки тоже не сплошают. Были эти двое, видимо, родные братья — одинаково приземистые, раскосые, с редкой на лице растительностью. Они скинули с плеч полушубки и остались в одних латаных портах. Подхватив мешок муки, они раскачали его и подбросили. Мешок тяжело взлетел и грузно упал к ребятам в воз. При этом он выпустил облачко мучной пыли и всполошил рябую-хромую. Та рванула, и нагруженный всякой снедью воз покатил по Ордынской дороге. Воробей с Сенькой побежали следом за ним. — Стойте! — кричали им казаки, хохоча во все горло. — А самарские казаки как же? Эвон они вам сейчас бочку пива метнут. Но Воробей что было силы тащил рябую-хромую за узду, а Сенька бежал рядом, понукая ее кулаком. Ребята знали, что от своенравных казаков можно было ожидать всего. В эту ночь вся Москва полна была ликования. Ни рогаток на перекрестках, ни цепей через улицу, ни стрелецких дозоров. На пустырях люди собирались толпами; в уцелевших домишках светились огоньки; удалая песня звенела у колодцев, где конники поили лошадей, и у костров, где, усевшись в кружок, ратники ждали ужина.
А Ходкевичу-собаке не сносить головы… —
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Дядя Маркел подошел. Глаза у негоблестели, от него слегка попахивало винцом. Видно, успел малость хватить на радостях, что разбит наголову Ходкевич. — А мы, дядя Маркел, уж искали тебя, искали… — сказал Воробей. — Не мудрено, — заметил дядя Маркел. — Тут, Воробей, были дела! А Никифора сдали божедомным? — Сдали, дядя Маркел, с твоим наказом сдали, чтобы выходили пушкаря, а то Минин и Пожарский их повесят на осине. — Я про осину, помнится, ничего не наказывал, — и дядя Маркел недоуменно пожал плечами. — Не говорил, что старцев вешать станут. Как так? Воробей смутился. — Это я, дядя Маркел, от себя, — пояснил он. — Чтобы, значит, старцев постращать. — А ты не мудри, малый. Ты делай, как говорят тебе те, что постарше тебя да поумней. «Постращать старцев»… А ты бы взял в толк, что старцы народ ветхий, могут и помереть с перепугу. Кто тогда мне Никифора выходит? Да ладно уж!.. Ну что? — вскрикнул он, вдруг повеселев. — Пушкари набили шляхты? Ой, и было же дела у дяди Маркела! — О-о! — только и смогли произнести ребята. — Ну, так куда ж вы теперь, ребятки, ладитесь с возом? Ребята молчали. — Чего молчите? Нас, может, завтра к Можайску кинут. Не таскать же мне вас, горемычные, с собой к Можайску, да на Вязьму, да к Смоленску, да к рубежам государским… А что, как пушкарский голова увидит? Беда! — Мы, дяденька, домой ладимся, к тяте, — сказал Сенька, чуть не плача. — Наш тятенька — Андреян Ильич, кузнец. Мы у дедушки Петра Митриева теперь живем. — Так у вас тут тятя? Гляди ты! — удивился дядя Маркел. — А я-то в суматохе и не расспросил вас толком, откуда вы свалились ко мне. Думал — так, безродные вы. Ну-к что ж! К тяте — это хорошо. Самое подходящее. Катите прямо к тяте. И кобылу ему отдайте. Хромая, на что она тут годится? С нею в ход, ни в поход — никуда. Одно горе! А на возу что у вас? Постойте, постойте… — И дядя Маркел стал раздувать свое потухшее полено. — Это, дядя Маркел, с нами казаки сыграли, — стал объяснять Воробей. — Как принялись метать нам в воз, чуть до смерти нас не зашибли. Это они с польских возов нам набросали. — Ловко они! — заметил дядя Маркел. — Всегда уж так, исстари: где добыча, там и казаки. И что ж, ребятки? На то война. Каков промысел, такова и добыча. Везите к тяте, не смущайтесь. — Дядя Маркел поднял ярко вспыхнувшее полено. — Эк, они вас нагрузили! — сказал он, рассматривая разнородную кладь у ребят на возу. — А ты бы, дядя Маркел, нас облегчил маленько, — предложил Воробей. — Куда нам столько? Чай, и рябая-хромая столько на горку не вытянет. — Это ты — дело, Воробей! — оживился дядя Маркел. — Пусть-ка мои пушкари тоже полакомятся сегодня ради праздничка такого. А то на войне так: казаки на борзых конях и с легким оружием — всегда первые, а мы, пушкари, с тяжелым снарядом последними приходим. Остаются нам после казаков одни рожки да ножки. Ну, давай, Воробей, что там у тебя? И Воробей принялся нагружать дядю Маркела окороками, сухарями, леденцом в пакетах… Дяде Маркелу пришлось даже полено свое бросить в сторону. — Хватит, хватит! — И он тряс бородой, принимая от Воробья в полы кафтана одно, другое, третье… — Куда столько? Что ты! Дядя Маркел наконец не выдержал и отбежал в сторону. С шеи на грудь у него свисали два копченых окорока. А полы кафтана готовы были лопнуть от наваленного в них груза. — Езжайте к отцу-матери, — сказал он ребятам на прощанье. И, словно угадав их мысль, добавил: — А как захочет вас тятя посечь, скажите: мол, дядя Маркел сечь не велел. И старый пушкарь, спотыкаясь, пошел прочь со своей поклажей и пропал в темноте. Воз тронулся дальше. В небе вызвездило. Серой лентой тянулась перед ребятами дорога. Вдали под кремлевской стеной поблескивала река. А Кремль стоял черный, темный — ни фонаря, ни плошки, — и притаилась в Кремле шляхта, у которой с голоду ноги пухли и животы сморщило. Голод, однако, давно и мучительно томил и ребят. — Сенька, — сказал Воробей, не выпуская из рук узды, — возьми там чего на возу, поешь. И мне отломи кусочек. — Возьму! — обрадовался Сенька. — Сейчас. Он сунул руку и поддел с воза что-то жирное, пахучее… «Курица либо утица», — подумал Сенька, и у него потекли слюнки. Он оторвал кусок и запихал его в рот. Ох, и вкуснота! Сенька оторвал еще — изрядный кусище — и передал Воробью. Воробей только крякнул: — Ну и кусочек!.. Кусочек с коровий носочек. Но тут он почувствовал, что в животе у него словно что-то ходуном заходило. Воробей сразу рванул зубами от того, что держал в руке… рванул и обомлел. Отродясь Воробей не пробовал такого; он даже не подозревал, что подобное может существовать. Вмиг управился Воробей со всем кусищем и потребовал еще. Сенька, не мешкая, подкинул еще, и Воробей и тут не дал маху. А и рябой-хромой хотелось хоть бы сенца пожевать, она только спросить не знала как. Когда ребята насытились, что уж в глотку больше не лезло, Сенька догадался предложить лошади ржаной сухарь. Та очень ловко захватила его губами и с хрустом перетерла на зубах. Сенька сунул ей еще сухарь, и рябая-хромая проделала то же. Так, не переставая жевать, она протащила воз по всему Арбату, и ребята, уже без всяких приключений, добрались до домика Петра Митриева. На стук в ворота в калитку высунулся Аггей. Он взглянул на ребят, осмотрел воз, помолчал и, так-таки ничего не сказав, отпер наконец ворота. Андреян наработался за день и теперь крепко спал в избушке на лавке, укрытый армячиной. Но Арина еще не спала. Услышав стук в ворота, она вышла в сени и приоткрыла дверь. По двору кто-то прошел, похожий на Аггея. Да, верно — Аггей это. Он сунулся в калитку, потом ворота распахнул И Арина увидела, как, скрипя колесами, вкатил на двор воз… и Воробья увидела… увидела Сеньку! Арина рванулась, побежала по двору, себя не помня… И опять началось, как в прошлом году в Мугрееве. — Сеня, Сенюшка! Сеня, мой Сенюшка! — лепетала Арина, не веря своему счастью. Рябая-хромая стояла понуро, видимо стоя спала. Аггей возился у ворот, запирая их на засов и замок. Воробей смотрел на Арину и Сеньку и думал, что по нем, по Тимохе, некому плакать и, глядя на него, некому радоваться. Арина наконец опомнилась. Понемногу разобралась она в том, что произошло с ребятами за три последних дня. Поняла и то, почему ребята медлили домой возвращаться. И сказала им, что ради красного дня для всех русских людей Андреян гневаться не станет. Все, мол, будет хорошо. Кладь с воза была перенесена в сени, и там же, в сеничках, Арина ребятам сразу и постлала. Они наотрез отказались от ужина: по дороге домой они наелись всякого, и теперь им хотелось только пить и спать. Все говорили шепотом, Аггей же и вовсе молчал. В избушке на лавке, укрытый армячиной, Андреян ничего не слышал.НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА
Разбитый на голову гетман с жалкими остатками своей армии остановился на ночь в Донском монастыре. Ян Ходкевич вовсе не ложился эту ночь и все расхаживал из угла в угол. Время от времени он без плаща, с непокрытой головой выходил на монастырскую стену. За рекой распростерся город в развалинах. Городом гетману не удалось овладеть. Оттуда доносился колокольный звон и пальба из ружей и пушек. Город ликовал. За рекой же была Можайская дорога. Через Можайск и Вязьму она уходила на запад, к польско-литовским рубежам. Для Ходкевича она должна была стать дорогой бегства и позора. Но чванливый гетман не мог этого стерпеть. В бешенстве начинал он метаться по монастырской стене, кусая бороду и царапая ногтями лицо. Часовые, прячась в испуге за выступами и в нишах, видели отчаяние своего полководца. На рассвете Ходкевич переправился через Москву-реку и поскакал к Можайску. Следовали за гетманом только четыреста всадников. Нигде не задерживаясь, Ходкевич почувствовал себя в безопасности только в Орше, за Днепром. А в Москве, за высокими стенами Кремля, все еще укрывался полковник Струсь со своим помиравшим с голоду отрядом. Все лошади и собаки были съедены. Но в это время в Кремле был объявлен приказ полковника Струся. Завтра, в одиннадцать часов, польское войско должно покинуть Кремль и сдаться победителю. Стоял осенний сырой и промозглый день, когда на площадь перед Кремлем повалили толпы народа — поглядеть на выход поляков. Андреян с Ариной, Сенька с Воробьем, даже Аггей — все были на площади. Кое-как протиснулись они к храму Василия Блаженного и стали против Фроловских — Спасских — ворот. Им видна была отборная сотня пеших и конных ратников, которая выстроилась у Спасской башни. Перед строем временами проезжал шагом на поджаром иноходце князь Иван Андреевич Хворостинин. На молодом воеводе была нарядная палевая шуба и бархатная шапка с собольей опушкой. Воеводе не терпелось… Он вставал в стременах, задирал голову и смотрел на башенные часы. Часовая стрелка приближалась к одиннадцати. До одиннадцати осталось только несколько минут… Осталась только одна минута… Осталось… Уже ничего не осталось. Часовая стрелка показывала ровно одиннадцать часов. И грянули часовые колокола. Сначала они выбили вступление, повторив его четыре раза. Потом начался бой в большой часовой колокол. — Раз… два… три… — стал вслух считать Сенька; насчитал до десяти; потом часы ударили в одиннадцатый, в последний, раз. «Гу… гу… у… у… у…», — стал колыхаться в воздухе и замирать вдали отгул последнего удара. На площади было тихо. Только в дальнем углу, там, где начиналась Тверская дорога, казаки Трубецкого подняли суматоху.
— Гиги-и! — неслось оттуда. Но вот и казаки умолкли. Слышно стало, как зазвякали цепи перекидного моста у Спасских ворот. С грохотом опустился он, перебросившись через ров с водой, который шел вдоль кремлевской стены. Медленно, с долгим скрипом раскрылись затем дубовые, окованные медью ворота. Наконец и тяжелая железная решетка с визгом, скрежетом и остановками пошла вверх. Но польские фанфары не пели, не гудели литавры; нарядные с золотыми кистями знамена не развевались над беспорядочным скопищем людей, которые двинулись из Кремля. Впереди шел полковник Струсь. Полковник, видно, и в Кремле не голодал. Он еще хорошился в своей атласной шубе и в собольей шапке с золотой кистью. Он еще пробовал покручивать ус… Но вся его свита — коменданты и ротмистры, все поручики его войска, все солдаты, рейтары, кавалерийские ковали и обозные погонщики, — все они шли, от слабости еле волоча ноги, охая и вздыхая, цепляясь друг за друга. С поникшими головами заковыляли они к Лобному месту, подле которого верхом на рослых конях ждали их выхода Пожарский, Трубецкой и Минин. А казаки снова подняли возню. — Всю шляхту сейчас передушим! — кричали они. — Гляди-ко, пан Струсь еще чванится, ус накручивает. Оборвем ему усы с головою вместе! Гиги-и! К казакам поскакал Трубецкой. Ополченцы стали стеной перед казаками и не дали им прорваться к Спасским воротам. А шляхта медленно, толпа за толпой, вываливалась из Кремля, и последним проковылял на мосту пан, даже на человека не похожий. Он подвигался, опираясь одной рукой на какое-то подобие жезла. В другой руке, обмотанной окровавленною тряпкой, у него было железное ведерко с остатками варева. Весь он был словно мешок костей. Все на этом пане смялось и обвисло — шуба, шапка, кожа на лице, губищи под усищами, нос, свернутый на сторону, мешки под глазами, из которых один глаз глядел на вас, а другой в Арзамас. Несмотря на новые перемены, происшедшие в наружности пана, Андреян сразу узнал его. Конечно же, это он — тот самый, что Мураши пожег, а в Москве, во Введенском острожке, тяжело раненного пулей Андреяна саблей полоснул. Андреян вздрогнул, затоптался на месте, стал было проталкиваться к пану… Но в это время воевода Хворостинин взмахнул рукой и что-то крикнул своим ратникам. Иноходец легко пронес Хворостинина вдоль строя и взнес его на мост через кремлевский ров. Иноходец словно в литавры забухал, пронося всадника по деревянному мосту. Гулко отдался конский топот и под воротами Кремля. Вслед за Хворостининым, который первым вступил в освобожденный Кремль, туда двинулись ратники отборной сотни и хлынул народ. Толпа вынесла и Андреяна к Спасским воротам и всех, кто с ним был. Уже шагая по Кремлю, вдоль стены Чудова монастыря, Андреян подумал: «Старые у нас счеты с паном этим. Да что с него взять! Было у пана пузо наедено — и где оно? Нет его. Экий стал дохлый! Да и от князя Дмитрия Михайловича указано — шляхту не задирать и не побивать, а по городам разослать. Не надо, мол, напрасного кровопролития». И Андреян тут же забыл о встрече с мерзким паном: столько в Кремле диковинного сразу открылось мурашовскому кузнецу. Аггею с Воробьем — им что! Они природные московские и в Кремле бывали не раз. Но Андреяну, Арине и Сеньке все здесь было ново: царские палаты; монастыри Вознесенский и Чудов; Успенский собор, в котором русские государи венчались на царство; Архангельский, где их погребали; колокольня Ивана Великого, в которую теперь можно войти и подняться по лестницам под самые колокола. И тем не менее в царственном Кремле не все было ладно. На каждом шагу — следы грабежа, запущенности и дикого своеволия. Над нечистотами и кучами мусора ветер носил ошметки прелой соломы. В церквах валялись на полу ободранные иконы, разрубленные на куски. Медленно бродили люди по кремлевским улицам и площадям, горюя и вздыхая. — Что сделано, что сделано с такой красой! — сокрушался и Андреян. — Иконописного дела художники писали, чеканщики чеканили, резчики разводили узоры… Пришли чужого короля люди, все поломали, обругали, осквернили… Но тут внимание Андреяна привлекла громадина Царь-пушка. Воробей с Аггеем видели ее много раз, но для Андреяна с Ариной и для Сеньки она была в новинку. Сенька посидел на пушке верхом, затем попробовал сдвинуть с места каленое ядро. Где там! В ядре было сто двадцать пудов весу. — Видать, заезжий немец делал либо на войне с бою взято, — заметил Андреян. — Не немец делал, не с бою взято, мил человек, — услышал Андреян позади себя. Он обернулся и увидел худенького человечка неопределенных лет в залосненном зипунишке. С кожаного пояса у человечка свисала медная чернильница. Из-за пазухи торчал пучок гусиных перьев и несколько листов бумаги, свернутых в трубку.

Сенька взобрался на Царь-пушку…
«Подьячий, — сразу сообразил Андреян. — Площадной подьячий — чернильная душа. За две копейки хоть какую кляузу напишет. Вот крапивное семя!» Но подьячий не выражал никаких намерений писать подле Царь-пушки кляузу либо донос на кого-нибудь. Он благодушно улыбнулся и стал объяснять Андреяну вполне обстоятельно. — Не немец делал, мил человек, — повторил он, помаргивая глазками и продолжая улыбаться. — Русское художество. Лил пушку мастер Андрей Чохов при царе Федоре Иоанновиче. Вот, мил человек, гляди: видишь, конник изображен на дульной части? Это и есть царь Федор. А пушка — это есть наша Царь-пушка. А ты говоришь — в бою взято! Андреян смутился. — Неведением это я, — пробовал он оправдываться. — Спроста сболтнул. Мужики мы дальние. Впервой это нам такое художество видеть. — Дальние, да еще впервой… — опять заулыбался подьячий. — Простота! А ну-ка, простота, как думаешь, сколько пудов потянет пушка? Возьми-ка ее в охапку, попробуй взвесь-ка! — И подьячий залился смехом. — Не сено, не дрова, чтобы в охапку брать, — сказал Андреян. — А как прикинуть… — Андреян обошел вокруг пушки. — А как прикинуть… — Тут Андреян обгладил пушку обеими руками. — А как прикинуть… — сказал он в третий раз и задумался. — А-а! — торжествовал подьячий. — Прикинь! Прикинь-ка! Э, простота-а!.. Но Андреян наконец прикинул. — Хоть литейного художества и не постиг я, — сказал он подьячему, — так — кузнец; ну, по оружейному мастерству кой-чего смыслю… Так если прикинуть, не меньше тысячи пудов пушка вытянет. Смешливый подьячий, услышав это, задергался весь, замахал руками и прямо-таки закатился смехом. Чернильница у него на животе заплясала, бумага из-за пазухи вывалилась. Он подхватил ее с земли и снова запихал за пазуху. — Уморишь ты меня, кузнец, через простоту свою! — лепетал он, держась за живот и содрогаясь от смеха. — «Тысячу пудов потянет»… Эх, мужики дальние!.. Успокоившись немного, он вытащил из рукава застиранную холстину, вытер ею выступившие на глазах слезы и сказал: — Две тысячи пудов, а сверх того, еще четыреста эта пушка тянет. Вот, мил человек, вес ей каков! Две тысячи четыреста, пуд в пуд. Видал ты когда такое? — Диво! — воскликнул Андреян. — Эко, право слово, диво! Не видал досель и не слыхал. — Где уж! — махнул рукой подьячий. — А видал бы ты, что тут делается, когда наедут ханские послы из Крыма, татарва!.. Ну, известно, народ сырой. Как глянут на пушку, так сразу наземь мечутся и лежат ничком. «Ай, выстрелит! — кричат. — И халатов от нас, поди, не останется». Ну, приведут это их в память, поставят на ноги, а они: «Вернемся в Бахчисарай, поклонимся милостивому хану и скажем ему: «Велик русский царь, большая у царя пушка, уважать надо русского царя. А то в Москве стрельнет — в Бахчисарай попадет! Что тогда будет?» — Ну уж — из Москвы в Бахчисарай! Это они сдуру, — заметил Андреян. — Я же, кузнец, говорю тебе — народ совсем сырой, ни бельмеса не смыслит. Нет, ты вот послушай… Может быть, словоохотливый подьячий еще порассказал бы Андреяну о Царь-пушке, о крымских послах или о чем-нибудь другом, достойном не меньшего удивления… Но черный песик, неизвестно откуда взявшийся, стал обнюхивать у подьячего обшарпанные полы его залосненного зипунка. — Пшш! — шикнул на песика подьячий и топнул ногой. Песик мгновенно метнулся в сторону, забежал за Царь-пушку… — Ой! — крикнул Сенька. — Жук! Жук! Это же Жук! Нашелся! Сюда, Жук, сюда!.. Песик показал из-за пушки взъерошенную морду. Выйдя из своего укрытия, он остановился. На глазах у него тускло поблескивали мутные слезы. Жук был по-прежнему черен, как сажа, но хвост у него не был теперь закручен кренделем, а торчал куцым стручком. Собака осторожно, нюхая землю, подошла к Сеньке и обнюхала и его. Потом улеглась у его ног и тихонько заскулила.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЖУКОМ
Немало, видно, довелось и Жуку вытерпеть в смутное время, в разоренный год. Жук даже был на волосок от смерти, и вот как все это произошло. В памятный мартовский день, когда шляхта жгла Москву и шел бой во Введенском острожке, Жук оставался дома, запертый Сенькой в клеть при кузнице. В клети было темно и пахло неинтересно — окалиной и старыми рогожами. Жук сразу заскучал и попробовал повыть. Но день выдался такой, что никому не было дела до какой-то собачонки в клети. Тем более что собаки лаяли и выли по всей Сретенке, встревоженные огнем и дымом, пальбой и всеобщей сумятицей. Однако Жук выть перестал, как только убедился, что ни Сенька, ни Воробей, ни Арина с объедками в чашке в клеть к нему не идут. И рядом, в кузнице, тоже никого нет: молот не звенит, и Андреян подле наковальни не топчется. Тогда рассудительный пес зевнул, подумал и пришел к заключению: «Чем зря маяться, лучше соснуть маленько. В клети неприютно, а когда спишь, может такое присниться, такое хорошее, чего наяву никогда не бывает». Решив так, Жук, должно быть, пожелал себе приятных сновидений и зарылся в кучу тряпья и старых рогож. Но ожидания Жука на этот раз не оправдались: сон его был тревожен. Песик не мог даже понять толком, что, собственно, ему снится. Сначала на Жука стали во сне словно наплывать какие-то большие радужные пластины. Это бы еще ничего! Но скоро все они покрылись сплошной ржавчиной и стали издавать такие скрежещущие звуки, что Жуку прямо невмоготу стало. Терпеть, впрочем, пришлось недолго. Ржавчина проела все насквозь, и пластины рассыпались в прах без остатка. Жук только чихнул во сне. Больше Жуку не снилось ничего, но на него словно навалилось что-то. Ощущение было такое, как если бы он застрял в подворотне или же ему хвост телегой прищемило, Жук, верно, даже рад был бы проснуться, но продолжал спать и маяться даже во сне. Проснулся Жук только оттого, что близко грохнуло что-то и в клеть к нему сквозь все щели полез сизыми струями едкий дым. Почуяв беду, собака стала метаться по всей клети, бросаться на стены, подпрыгивать высоко вверх, царапать ногтями землю, лаять и выть. Со двора к Жуку проникали плач и крики, а все щели в клети вдруг засветились и пошли играть сотнями язычков. В клети запахло паленой шерстью. Бросаясь из стороны в сторону, Жук мазнул хвостом по горящей стене и почувствовал нестерпимую боль. В отчаянии он бросил все свое тело на вихлявшую дверку, и колок по ту сторону, видимо, выскочил из накладки. Во всяком случае, дверка распахнулась, и Жук очутился в горящей кузнице. Хорошо, что она не была заперта. Одним прыжком Жук перемахнул через верстак и наковальню, юркнул под окружавший кузницу забор и очутился на большом дворе. Хвост у Жука пылал, как лучина. От боли собака не видела ничего, что творилось вокруг. Она помчалась по улице, но вдали улицу перегородила сплошная стена огня. В мгновение ока Жук свернул в первый же переулок, потом свернул еще куда-то, вынесся в поле, сорвался где-то с обрыва и угодил с хвостом и головой в огромный сугроб. Это и спасло Жука. Собака сразу почувствовала облегчение. В сугробе хвост потух в одну минуту, и шерсть вокруг него перестала дымиться. Жук кое-как выбился из сугроба и присел на рыхлом снегу. Так было лучше. Вокруг были поле, голубоватый снег. В той стороне, откуда Жук прибежал, полыхало огромное зарево, и небо там светилось, как красная медь. И нигде ни одной живой души: ни человека, ни собаки, ни лошади, ни коровы. Страшное одиночество при пустом брюхе и неизвестном будущем! И Жук заплакал, подвывая долго и безутешно. Никто не слышал его воя — может быть, снег? Может быть, ветер?.. Но чем могли они помочь Жуку! Была уже ночь, когда Жук поднялся и стал зализывать обожженное место. Потом он побрел к городу, но войти в него не осмелился. Огонь распространился еще шире и, казалась, рвался прямо к Жуку, чтобы снова поджечь ему хвост или что-нибудь другое. Нет уж! С Жука хватит и того, что весь крендель у него обуглился и вот-вот отвалится совсем. И Жук побежал стороной, по закраинам города, бежал долго и по дороге наткнулся на обгорелую, но еще живую ворону. Не подумав о том, хорошо это или плохо, Жук съел ворону и пустился дальше. Жук бежал и нюхал. Пахло чем угодно, но только не человеческим жильем, не своим братом собакой, ничем таким, с чем Жук сжился и к чему давно привык. Когда в Лужниках Жук вышел к Москве-реке, он заметил, что в эту сторону огнем не пышет и сюда не стелется дым, от которого задохнуться впору. Невдалеке от дороги что-то чернело на белом снегу. Жук не смог удержаться, чтобы не полюбопытствовать. Такая уж была у него собачья привычка. Соблюдая все меры предосторожности, Жук сошел с дороги и пошел на черный предмет. Предмет оказался бочкой, пустой бочкой, которая лежала на снегу. В бочке ничего не было, кроме снега и слежавшегося кома прелой пакли. Жук обнюхал паклю и остался доволен. Он разгреб снег, растрепал паклю и устроился в бочке ночевать. Зарево над Москвой по-прежнему отпугивало его, и идти дальше он не хотел. Немного щемило в том месте, откуда рос хвост. Немного задувало ветром с поля. Но Жук спал… крепко спал… Всю ночь напролет ему снился Сенька.ЖУК, СЮДА!
Когда Жук проснулся, было уже светло. Он выбрался из бочки, зевнул и потянулся. Огня над Москвой не было. За ночь пламя, пожрав все, что можно было, заглохло. Только синие дымы еще кое-где поднимались столбами над великим пожарищем. Такое положение успокоило Жука. Он встряхнулся и присел на мягком снегу, усеянном черными точками гари. Шагах в ста от себя Жук разглядел покосившуюся хибарку, обмазанную глиной и выбеленную известью. На крыше хибарки лежал огромный ком слежавшегося снега, похожий на белую шапку, сдвинутую набекрень. Из крохотного оконца почти под самой стрехой вился дымок. Хибарка топилась по-черному, печной трубы на крыше не было. Жук повел мордой, принюхался и почуял знакомый запах. От хибарки тянуло как и от избушки, в которой жил на Сретенке Сенька. Жук почувствовал, что теплая волна хлынула у него от сердца и растеклась по всем членам. Не решившись еще ни на что, он остался на месте, на снегу. Между тем дверь хибарки приоткрылась, и на улицу вышла женщина в большущих валенках, с коромыслом и ведрами. Вслед за женщиной на улицу выскочила девочка в бараньем кожушке. Обе сразу взяли напрямик к Жуку. Жук встал на ноги, ожидая, что будет дальше. — Ой, мамонька! — вскрикнула вдруг девочка. — Собачка, собачка! Вона, гляди, цуцик… — Где собачка? — спросила мать. — Да вона же, гляди! Цуцик, цуцик!.. — И девочка, протянув руку, стала подманивать Жука. Жук щелкнул зубами и вроде как бы улыбнулся. Он был вежливой собакой и знал, что в подобных случаях всегда полагается вильнуть хвостом. Жук и попробовал это сделать, но содрогнулся от боли. Он завертелся на месте юлой и тут только заметил, что кренделя нет. Обгорелый крендель отвалился ночью сам собой и, верно, остался в бочке. Хвостишко у Жука имел самый жалкий вид. Собственно говоря, это уже был не хвост, а кочерыжка какая-то, распухшая, лишенная шерсти и покрытая струпьями. Сделав такое открытие, Жук перестал вертеться и снова присел на снег. На глазах у него были слезы. Он просто не знал, как с таким хвостом в люди показаться. А девочка уже подбежала к нему и принялась гладить его по холке. — Цуцик, цуцик! — твердила она, склонясь над Жуком. — Мамонька, он плачет… — Плачет? — удивилась мать. — Гляди, и впрямь! Плачет, как человек; а отчего плачет, сказать не может. — Верно, обидели, мамонька, — заметила девочка, почесывая у Жука за ушком. — Это уж конечно, — согласилась мать. — А и на радостях, говорят, плачут; да все же больше с горя слеза слезу погоняет. Вишь, пес паленый какой! Из огня, должно, вырвался. Жук нюхал кожушок на девочке, тихонько повизгивал; поглядывал на девочку печально и умильно; вот только что хвостом не вилял. Любил Жук людей. Зла от них он еще не видел. Правда, запер его вчера Сенька в клеть и, должно быть, забыл. Обидно это! Жук чуть не сгорел в клети. — Мамонька, возьмем собачку к себе, — стала просить девочка. — Я с ней играть стану. — Что ты, Варюша! — возразила мать. — Где уж в такую годину пса кормить! — Я ему, мамонька, кусочек от своего бросать буду. — Кусочек от своего… — повторила мать Варюшины слова. — Велик ли твой кусочек, доченька! Ну, бери пса, сердоболка! Бери уж! И женщина стала спускаться с ведрами к реке. — Ой, мамонька! — обрадовалась Варюша. — Цуцик, цуцик, пойдем, с нами пойдем!.. Жук вскочил на ноги, кашлянул, тявкнул и пошел вслед за Варюшей. С тех пор и зажил Жук в хибарке, что в Лужниках на берегу Москвы-реки. Он звался теперь Цуциком и делал все, что полагается делать собаке: ходил за Варюшей по пятам; стерег хибарку, когда Варюша и мать отлучались в город; спал на солнце, вывалив язык; ловил блох у себя в шерсти; и в светлые ночи лаял на луну. Сенька уже ему не снился. Так, возникнет иногда во сне смутное подобие мальчишки — какое-то пятно вроде пузыря на двух ногах… возникнет и разойдется. Жук откроет один глаз никого; только рассвет лезет в щелястую дверь да волна, набегая на прибрежный песок, плещет себе и плещет. А тем временем жарко разгуливались вёсны вокруг; лето наступало; по осеням сеяли из низких туч мокрые дожди. И Трубецкой с казаками загнал за это время шляхту в Кремль, а ополчение Минина и Пожарского пришло в Москву. Ничего этого бедный песик не знал. Жуку даже неведомо было, что паны с голоду стали есть в Кремле собачину. Если бы хотя одна собака шепнула об этом на ушко Жуку, он бы за три версты стал обходить место, где пахло паном. Погода стояла сырая и холодная. Палый лист, зяблый и мокрый, лежал кучами на закраинах дорог. Жук примкнул было к собачьей стае, гонявшей по Лужникам, но вовремя спохватился и решил повернуть обратно. Тут-то он и сбился со следа и оказался на том же берегу Москвы-реки, но далеко от дома — под самой кремлевской стеной. Жук бежал вдоль кремлевской стены, ища след, и наткнулся на веревку, которая свисала сверху почти до самой земли. К концу веревки было привязано что-то, какая-то паленая мышь. Жук полюбопытствовал, остановился… Ведь нельзя же было равнодушно пройти мимо, не понюхав и не составив себе представления! Подумав, Жук подошел, нюхнул… и шею его мгновенно захлестнула пеньковая петля. Широко раскачиваясь в воздухе, больно ударяясь о кирпичную стену, Жук взвился вверх и очутился на кремлевской стене. Единственное, что он успел сделать, — это укусить в руку какого-то смердючего пана с толстенными губищами под сивыми усищами и с глазами, из которых один глядел на вас, а другой в Арзамас. Но Жук тут же получил удар сапогом по голове и покатился на какой-то задворок внутри Кремля. Пан с губищами, кряхтя, тотчас спустился к Жуку, ухватил его за холку, затащил в ближайшую башню, открыл люк и швырнул Жука в подполье. Там уже была какая-то беленькая собачка, которая с перепугу шарахнулась от Жука в сторону. Люк захлопнулся. Свет проникал в подполье сквозь забранное в решетку окошко под самым потолком, вровень с землей. В окошке время от времени мелькали ноги, только ноги в сафьяновых сапогах — черных, желтых, красных, зеленых. Были сапоги со шпорами и без шпор, на высоких каблуках или без каблуков вовсе, тупоносые или же с узкими носками, ухарски загнутыми кверху. Должно быть, какой-то подобный перечисленным сапог и угодил сейчас на кремлевской стене Жуку в башку. В башке у Жука гудело. Беленькая собачка набралась храбрости и подошла к Жуку. Знакомство, конечно, могло бы легко завязаться, если бы не люк. Он опять открылся, и тот же смердючий пан спустился по лестнице в подполье. Укушенная Жуком кисть левой руки была обмотана у пана окровавленной тряпкой. В правой руке у него была окованная медью палка — какое-то подобие жезла. Стоя на последней ступеньке, пан метнул свой жезл в беленькую собачку и попал ей острым наконечником в голову. Собачка сразу закаталась на спине и затихла. А Жук забился в дальний угол и завыл там в смертельной тоске. Пан, однако, не тронул Жука. Он только подобрал с пола белую собачку и, держа ее за пушистый хвост, выбрался с нею из подполья. Люк снова захлопнулся, и Жук остался один. Жук, притаившись, лежал в своем темном углу за лестницей и ожидал дальнейших событий. Наступила ночь, и событий больше не было. Жуку снова снился пузырь на двух ногах. Пузырь то приближался, то отдалялся; то возникал, то пропадал совсем. Прошла ночь и наступил день. Каждый час Спасская башня разражалась звоном. Если бы Жук умел считать, он убедился бы, что время не стоит на месте. Время движется, и какие-то события возникают. События эти могут быть благоприятными для Жука или губительными. Впрочем, Жук находился теперь во власти пана с обвислыми губищами, от которого ничего хорошего не мог для себя ждать. И опять загремели часы… Удар за ударом… Одиннадцать ударов… Скоро к Жуку в подполье донесся топот копыт. Потом в окошке наверху замелькали ноги… сотни ног, обутых по-разному: ноги в смазных сапогах, ноги в лыковых лаптях, ноги в женских черевиках — красных с зелеными разводами. Жук по-прежнему оставался в своем углу, ожидая, что же на этот раз преподнесет ему изменчивая судьба. Ждать пришлось недолго. Шаркотня ногами, бряцание оружия и человеческий говор наполнили башню и проникли к Жуку в подполье. Снова открылся люк, и кто-то в здоровенных сапожищах и с гремучей саблей на боку спустился по лестнице до половины, остановился, вгляделся и крикнул: — Тут, братцы, ничего! Только псиной разит, а так — пусто. Айда дальше! И, гремя саблей по ступенькам и топоча сапожищами, он выбрался наверх и оставил люк открытым. Толпа с гомоном и шутками повалила из башни и пошла дальше по очищенному от шляхты Кремлю. Жук не сразу осмелился выйти из своего угла. А решившись, поднялся по лестнице и выставил голову в открытый люк. В башне никого не было. Пусто было и на задворках за башней. Первое, на что наткнулся там Жук, были клочья собачьей шерсти, белые, в крови. Жук обнюхал их и сразу узнал белую собачку, с которой вчера в подполье его свела судьба. Жук присел на землю и завыл. Выл он недолго. Ему надо было и о своей голове подумать. В разоренный год все полно было подвохов и напастей. Неизвестно, какая еще ждет Жука западня. Осторожно, крадучись, пошел Жук вдоль кремлевской стены. Заметив толпу, которая появлялась вдали из-за поворота, Жук благоразумно залегал где-нибудь в нише или за выступом. Но вот вышло так, что ни ниши, ни выступа поблизости не оказалось. Жук, оцепенев от страха, прижался к гладкой стене. Но люди прошли мимо. Никто из них Жука не задел. Тогда Жук пошел смелее. Он уже не прятался от людей. В одном месте, набравшись храбрости, он даже обнюхал бабу в сермяжной свитке, с грудным ребенком на руках. В другом — набрел на веселого человечка в залосненном зипунишке. Человечек этот то и дело закатывался смехом. Смеющихся людей Жук особенно любил. Он по собственному опыту знал, что человек, который смеется, уж никак собаки не обидит. Потому-то Жук и сунулся к зипунку смело, не моргнув глазом. Пахло от зипунка чернильными орешками и гусятиной. Сверх всякого ожидания, человек, который смеялся, неожиданно пшикнул и отогнал Жука прочь. Но тут произошло самое удивительное. Жук снова услышал свое настоящее имя, которое сам уже стал было забывать. На мгновение перед собакой, как во сне, опять возник пузырь на двух ногах. А в уши не переставая лезло, билось, проникало в каждую жилку: — Жук! Жук! Это же Жук!.. Жук высунул голову из-за пушки, за которой спрятался. Не смутный пузырь на двух ногах перед ним маячил — живой Сенька метался и звал: — Сюда, Жук, сюда! Звал, как в прежнее время, еще до напастей и бед, которые Жуку пришлось пережить. Слезы выступили на глазах у Жука. Потрясенный неожиданной встречей, он подошел к Сеньке и улегся у его ног.ВОРОБЕЙ — ПИЧУГА НЕСМЫШЛЕНАЯ
Даже Андреян с Аггеем — и те притомились от долгого блуждания по Кремлю; Арина же от усталости и вовсе едва на ногах держалась. Зато Воробей и Сенька с Жуком готовы были носиться по Кремлю хоть до самого вечера. — Хватит, хватит, ребятки, — останавливал их Андреян. — Обедать давно пора. Не в последний раз вы в Кремле. Еще наглядитесь. Домой пошли! Все домой! Сенька и Воробей сами знали, что в Кремле они не последний раз. Они и завтра пролезут в Кремль, после того как Минин и Пожарский торжественно туда вступят и все ополчение войдет. И ребята вместе со старшими и, конечно, с задыхавшимся от счастья Жуком вышли из Кремля Боровицкими воротами и направились к Арбату. Подходя к дому, Воробей первым разглядел человека, поджидавшего кого-то на лавочке у калитки. Оседланная лошадь, сухощавая и бойкая — конь-воронок, — была привязана к столбу, врытому на улице возле ворот. Воробей вгляделся и узнал Родиона Мосеева, нижегородского вестника. Родион привез с собой целый короб новостей. Очищается русская земля от шляхты, которая бежит от одного вида ополченцев Пожарского. Темными лесами, холодными ярами и глубокими оврагами пробираются паны к себе за Днепр, спасаясь от русских мужиков с рогатинами и от надвигающейся зимы с морозами. — Скоро конец нашей скудости и невзгоде, — сказал Родион. Недавно Родиону Мосееву довелось побывать в Мугрееве. Видел княгиню Прасковью Варфоломеевну с детками; передал ей письмо от князя Дмитрия Михайловича и поклон от Козьмы Минина… Повидать Федоса Ивановича Родиону уже не пришлось. Старик умер за неделю до приезда Родиона в Мугреево, не дожив до окончательного торжества русского дела, которому отдал столько сил. Пожалел Андреян старого Федоса, но Родион выложил тут последнюю новость. Подъезжая после Антониевой пустыни к Клязьме, Родион сегодня утром обогнал кибитку с Петром Митриевым. Петр Митриев обратно в Москву тронулся и везет с собой Евпраксею Фоминичну. Торопится, хочет собственными глазами взглянуть на празднество победы, как Пожарский и Козьма Минин въедут в златоверхий Кремль. Прослышал Петр Митриев, что будет это в воскресенье, а сегодня-то ведь суббота! Вот и поспешает. Наказал передать Аггею, чтобы комнаты проветрил и баню истопил. Может, еще до ночи доберется Петр Митриев до Спаса-на-Песках. После обеда пошла у Аггея работа. Он сорвал доски, которыми забиты были ставни во всем доме; широко распахнул все окна; стал сметать в комнатах пыль, которая за год отсутствия хозяев густо налегла на столах, на лавках, на полу, на всем, что находилось в переполненном вещами доме. Воробей с Сенькой заглянули в светлицу, где дедушка Петр Митриев хранил свои чудеса. В светлице на печных изразцах охотники по-прежнему стреляли из лука, жнецы жали рожь, скоморохи дули в дудки, а гривастые львы глаза щурили. Но не было рыжего кота, которого Евпраксея Фоминична увезла в Нижний Новгород. Из стеклянной чаши исчезли вертлявые рыбки, а вся вода испарилась. Давно остановились часы, развешанные по стенам, и горница не полнилась их тиканьем и звоном. Пришла Арина с ведром горячей воды и принялась скрести голиком пол. Воробей и Сенька отправились готовить дедушке Петру Митриеву баню. Баня у Петра Митриева была своя, тут же, на дворе. Ребята шваброй разогнали из бани всех пауков, жарко натопили каменку и наносили воды в большой котел, вмазанный в печь. Потом Воробей побежал на базар за березовыми вениками. За серебряную копейку ему дали их на базаре целую охапку. Все же Воробей как услышал от Родиона Мосеева, что едет дедушка Петр Митриев, сразу как-то скорежился. Что-то еще будет? Может быть, дедушка Петр Митриев выгонит Воробья на улицу, скажет, чтобы Воробей никогда больше на глаза ему не показывался? Это за то, что Воробей отплатил дедушке за всю его доброту черной неблагодарностью: бросил дедушку и, не спросясь, убежал к ополченцам. Петр Митриев приехал в Москву засветло. Он обошел все комнаты и все свое надворное строение; всюду постоял и всюду повздыхал: а в светлице своей посмотрел на часы по стенам, на печные изразцы с охотниками и львами, на пустую чашу без воды и рыбок и всплакнул. Потом велел Воробью спросить у Евпраксеи Фоминичны пару белья и свежий утиральник и пошел в баню. Воробей, да и Сенька тоже из кожи лезли, чтобы угодить дедушке Петру Митриеву — приготовить воды, намылить спину либо окатить из шайки. Ребята, сами голые, полезли вслед за дедушкой на поло́к и пошли хлестать Петра Митриева березовыми вениками. Петр Митриев лежал на животе, вытянув руки, в полном блаженстве. Он крякал, глаза закатывал и приговаривал: — Пар костей не ломит, ребятки. Лупите меня с прихлёстом. Бейте — не жалейте старого хрыча! Стегайте, чтобы веник в клочья! Лупите! Сыпьте, и всё! Выколачивайте! Напарившись, дедушка Петр Митриев стал похож на вареного рака — красный, с худющими руками, похожими на клешни. Когда он слез с полка́, то присел на нижней ступеньке, отдышался, передохнул и сказал: — Что-то, как подъезжал я нынче утречком к Клязьме-реке, гляжу — хороши лозы на Клязьме растут. Сенька, еще держа в руке веник, взглянул на Петра Митриева, ожидая, что тот продолжит. И верно! Петр Митриев продолжил: — Ох, и хороши ж лозы на Клязьме растут! Почему же это я не наломал там лоз? Сенька только глазами заморгал. — А на что они тебе, дедушка, лозы те? — спросил он. — Как — на что! — будто удивился дедушка Сенькиному вопросу. — А Воробья посечь, Воробья; да и тебя, пострел, заодно. Оба вы — два сапога пара. — За что же, дедушка Петр Митриев, сечь-то? — Ась? Чего? Не слышу. За что сечь? А чтобы не бегал, соловей-воробей, чтобы не бегал! Ох ты, грех мне с тобой, Воробей! Ну, ложись, я тебя березовой розгой посеку. Сенька, услышав такое, подался назад и выскользнул в предбанник. Там он живо напялил на мокрое тело портки и рубашку и дал тягу. А дедушка Петр Митриев выбрал тем временем из березовых веников совсем, можно сказать, неприглядный и вытащил из него самый что ни на есть убогий прутик. Воробей покорно растянулся на лавке, а Петр Митриев стал нахлестывать его в голый зад, приговаривая при этом: — Чтобы не бегал, Воробей, чтобы не бегал… Слушал бы старых людей, Воробей, слушал… Боли от этого прутика Воробей, разумеется, не чувствовал никакой. Да и кому какую боль мог причинить добрый дедушка Петр Митриев своею слабой старческой рукой? Просто смех! Но Воробью не было смешно, ему было грустно. Петр Митриев отбросил наконец прочь свой прутик, выпрямился и, глядя на Воробья, головой покачал. — Эх, сиротина, Воробей — пичуга несмышленая! — сказал он. — Кто тебя, сиротину, уму-разуму научит? Ну, вставай! Вставай уж! Спотыкаясь на своих кривых ногах с узловатыми пальцами, побрел Петр Митриев в предбанник. А Воробей присел на лавке и заплакал. Заплакал едва ли не первый раз в жизни.НАРОД НА ПЛОЩАДИ
На рассвете повеяло с востока холодным ветром. Он трепал на стрехах солому, взъерошивал гривы у лошадей, разгонял и снова нагонял в ярко-синем небе облака ослепительной белизны. Пыли не было. На дорогах стояла грязь от прошедших дождей. — Ветер с восхода, — сказал Петр Митриев Сеньке и Воробью, когда на другой день они все трое вышли раным-рано за ворота и пошли по Арбату. — С восхода ветер, — повторил Петр Митриев, запахивая на себе шубу. — Смекайте, воробушки! С восхода на закат. Хороша примета! Гонит ветер шляхту на закат. Петр Митриев остановился и вытянул голову, словно нюхая ветер. На кончике бороды дрожали у Петра Митриева два волоска. — Вей, ветерок! — прошептал он и, опираясь одной рукой на палку, а другою Воробью на плечо, пошел дальше. На площади перед Кремлем еще почти никого не было. Только у Спасских ворот стояла толпа стрельцов да на паперть к Василию Блаженному, кряхтя, взбирались старухи. Петр Митриев, очутившись на площади, сразу пошел отыскивать свой кузнечный ряд. Несмотря на пожар и разорение, жизнь в торговых рядах, видимо, не совсем заглохла. Вместо сгоревших лавок и амбаров были на скорую руку настроены здесь палатки и шалашики. И хотя заперты они стояли из-за раннего часа и воскресного дня, но глаз у Петра Митриева был наметанный. Старик у себя в котельном ряду словно сквозь стены видел, что товару в каждомшалашике — на три копейки, а то и просто на ломаный грош. «А ведь, бывало… — думал Петр Митриев, обходя с Сенькой и Воробьем ряды. — Бывало, до московского разорения…» Бывало, шли сюда в ряды товары со всего русского царства и со всех концов света. Шло железо с Каширы, с Устюжны-Железнопольской, с Вычегды, из Каргополя, Тихвина и Новгорода; привозили в Москву скобяной и ножевой товар англичане, датчане и шведы. Соль в соседнем соляном ряду мерилась тогда не пудами и мешками, а целыми амбарами. Текла она в Москву с Балахны, Чердыни, Киржача, из Соли-Вычегодской, Соли-Камской и Соли-Галичской. И наполнялись торговые ряды в Москве вологодским льном, валдайскими холстами, сибирской пушниной, двинской семгой, рейнским вином, муромским медом, казанскими кожами, немецкими сукнами и персидскими шелками… — Бывало, — шепчет Петр Митриев, постукивая палкой. — Бывало это… «Бывало, — вспоминает он, — идут по рядам иноземные купцы — заморские гости, каждый народ в своем платье; индийцы в парчовых кафтанах; арабы в широких бурнусах; греки в долгополых рясах; евреи в черных кунтушиках; немцы в широкополых шляпах и коротких куртках». — И опять пойдет, опять потечет… — бормочет Петр Митриев, подходя к тому месту, где он сорок лет топтался, принимая и отпуская товар: железо полосовое, листовое, проволочное и железо в прутах; замки ярославские, белецкие косы; немецкие напильники и шведские ножи; всякие изделия из английского олова и датской меди. — Еще поживем мы с тобой, Воробей? — вдруг выкрикнул Петр Митриев, развеселясь. — Чего ж не жить! — буркнул Воробей и пожал плечами. — Вот гляди! Здесь амбар поставим, как стоял. Здесь — навес. — А лес у тебя где? — спросил деловито Воробей. — Из чего ставить будешь? — Лес? А Клязьма на что? С Клязьмы, Воробей, лес-то пригонят, с Клязьмы. И круглый и тес… Весной, Воробей, еще как топоры застучат! Полетит стружка, опилки посыплются… Срубят мужики себе новую Москву. — А мы, дедушка, из Москвы уедем с тятей, — сказал Сенька, вдруг опечалившись. — Назад в Мугреево поедем, а то — в Мураши. — Ну-к что ж! — И Петр Митриев усмехнулся. — Поедете. И в Мураши, может, вернетесь. — А Воробей? — спросил Сенька, окончательно приуныв. — Никуда вы не поедете, дружки, — сказал решительно Петр Митриев. — Уж я знаю! Вернется Андреян не в Мугреево, а на Сретенку. Поставит у князя Дмитрия Михайловича на дворе новую избу, и станете вы жить. А Воробей у меня жить будет, коли снова к ополченцам не сбежит либо к бурлакам. — Худо ли мне жить с тобой, Петр Митриев! — откликнулся Воробей и покраснел. — Никуда я не сбегу. — Ой, дедушка! — только и смог сказать Сенька, всплеснув от радости руками. С площади в ряды стал доноситься шум, нараставший с каждой минутой. Гул и гомон, топот ног и стук копыт. Петр Митриев засуетился, запахнул на себе шубу. — Грех! — воскликнул он, взмахнув палкой. — Торопился в Москву, даже лоз на Клязьме не наломал — Воробья посечь. А теперь, того гляди, к торжеству о победе опоздаю. Пошли, пошли!.. И он засеменил по проходам, выбираясь обратно на площадь. А там гудом гудело, и конные стрельцы отгоняли народ к закраинам площади, чтобы дать дорогу войскам. — Укусит, сатана! Ой, укусит! — кричала какая-то бабка, которую ученый стрелецкий конь теснил к кремлевской стене, подталкивая головой. — А ты бы, бабка, дома сидела! — смеялся молодой стрелец, направляя на бабку свою лошадь. — Сам дома сиди! — огрызнулась бабка. — Сидела бы на печи да ела бы калачи, — не унимался стрелец. — Бесстыжий! — крикнула бабка. — Какие калачи? Добро бы, ржаной на столе! А то прошлую зимушку все хлеб с лебедой ела, да и в том недостача была. Ох, плохо было старухам! — А теперь и калачи будут, бабка. Чего горевое время вспоминать! Ну, пошла с дороги, в сторонке стань. А то войско пойдет — сомнут тебя, старую, и калачей не дождешься. — Стою, стою, сынок, — сказала бабка, вдруг присмирев. — Ой, и хочется ж бабке кала-ачика-а! — словно пропела она тоненьким, дребезжащим голоском. — Калачика пшеничного-о. От беды-лебеды нутро горит… От беды-лебеды брюхо болит… А Петр Митриев с Воробьем и Сенькой остановились на противоположном конце площади, у пожарища, которое осталось в этом месте от торговых рядов. — Идут… уже пошли! — пронеслось в толпе, стоявшей по краям площади огромным кольцом. — С Арбата полки повел Пожарский. — Слышно, и Козьма Минин с ним? — А то как же! У них с самого начала повелось, еще в Нижнем: как один, так и другой. — Хорошо это, что такое у них согласие, без раздора, — вставил слово и Петр Митриев. — А то от раздоров государство наше совсем было порушилось. — Это ты, отец, правильно, — обернулся к Петру Митриеву человек в войлочном колпаке, с руками, выпачканными столярным клеем. — Святые твои слова, говорю. Казаки-воры еще как намутили! Сколько от них раздору! Счастье, что Ивашка Заруцкий с Москвы сошел. — Сошел? Ивашка? — схватился Петр Митриев. — А куда ж он? — Слыхать, на Дон побежал атаман, — стал объяснять человек в войлочном колпаке. — А то не сносить бы ему головы. Атаман… Не атаман, а всем ворам вор. На Пожарского умышлял. Ну, после Ивашки казаки одумались: стали заодно со всеми людьми. Огромный мужичище с бородищей до пупа, стоявший рядом, видимо с чем-то был не согласен, что-то хотел возразить. — «Одумались, одумались казаки»! — передразнил он человека в войлочном колпаке. — Кабы Козьма Минин одумался! А то приходят его люди: давай, вишь, от всех достатков пятую долю — ополчение довольствовать. А не дашь, говорят, волею, тогда силой возьмем. — С тебя, видно, и на такое дело только силой взять можно, — заметил человек в колпаке. — На что плачется, жила! Братцы, а? Мужик не нашелся ответить. Он только свирепо глянул, бородищей тряхнул… и ветром ее за плечо ему занесло. Воробей загляделся на это, так что мужик даже забеспокоился. — Ты чего? — спросил он и грозно насупил брови. — Ничего, — ответил Воробей. — Борода… — Борода! — сказал зло мужик. — Тоже — борода!.. Свою заведи, а на чужую нечего зариться! Ишь! И он торопливо запихал бороду под зипун, за пазуху себе, и ворот на все крючки застегнул. А на площадь уже вступали полки: Пожарский и Минин, за ними конные ратники, потом пехота и артиллерийские обозы. Близко около Петра Митриева и Воробья с Сенькой прошла, наплывая волнами, казачья конница, которую привел с Покровских ворот князь Трубецкой. И тут на Иване Великом ударило, заколыхалось в воздухе и мало-помалу разгулялось на всю Москву.КОНЕЦ РАЗОРЕННОГО ГОДА
Давно, больше двух лет, не подавал голоса кремлевский великан — Иван Великий. А теперь он вдруг зыкнул в большой колокол. Все на площади сняли шапки. И сразу над всеми полками развернулись боевые знамена. Парчою и шелком заиграли они на свежем ветру. — Медведь или Лебедь? — спросил Петр Митриев, прислушиваясь к звону на Иване Великом. В прежнее время, когда Петр Митриев был помоложе, он хорошо различал, в какой колокол ударили в Кремле. На Иване Великом каждый колокол имел свое имя, свой вес и свой звук. О каждом можно было порассказать, кто его лил, когда отлил и что при этом произошло. Но с тех пор как Петр Митриев стал глохнуть, уже не столь отчетливо различимы были для него колокола кремлевского Ивана: Медведь, Лебедь, Новгородский, Корсунский, Слободской и много других — больших, средних и малых. — Медведь или Лебедь? — повторил задумчиво Петр Митриев. Но ему никто не ответил, потому что все смотрели на Пожарского, Минина и Трубецкого. Они съехались на площади у Лобного места, и к ним навстречу из Кремля вышел троицкий архимандрит Дионисий. Петру Митриеву уже не пришлось больше напрягать слух и раздумывать, в какой же это колокол ударили. На Иване Великом в Кремле ударили теперь во все колокола. И кони предводителей русского войска ступили копытами на знамена, отнятые у Ходкевича, и понесли своих всадников к Спасским воротам. Колокольный звон, пушечная пальба, пение волынок и труб и крики ликующего народа — все это бурлило на площади целый час, пока в Кремль вливался полк за полком. Всего только сутки прошли, как шляхта оставила Кремль, а там уже было убрано, вымыто, вычищено. Воробью и Сеньке довелось и на этот раз побывать в Кремле. Вместе с Петром Митриевым очутились они там в Архангельском соборе, и дедушка Петр Митриев показал им, где похоронены Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван Третий и Иван Грозный. А дома, у Спаса-на-Песках, всех поджидал праздничный обед. С утра хлопотала об этом Евпраксея Фоминична с Ариной. И напекли пирогов и оладушек, наварили щей, нажарили ветчины. Обедали все у Петра Митриева в поварне, за большим столом. Сам Петр Митриев сидел на хозяйском месте, в красном углу. А по правую и левую от него руку сидели Евпраксея Фоминична, Сенька с Воробьем, Андреян с Ариной, Аггей и Родион Мосеев, которому назавтра опять предстояла дорога — скакать из Москвы в Нижний с грамотами и вестями. Под столом ходил рыжий кот, привезенный обратно из Нижнего Новгорода. Жук тоже устроился под столом. И слышно было, как хрустят на зубах у песика кости и хрящики и как повизгивает он, довольный, что в конце концов все так счастливо обернулось. За столом только и разговору было, что вот миновало лихолетье, кончился разоренный год. И что в прежней силе и славе встанет теперь освобожденная от врагов русская земля. После обеда Петр Митриев пошел соснуть, Воробей и Сенька побежали на улицу. Арина в избушке у себя стала копаться в сундуке и нашла оловянную игрушку, которую еще до московского пожара подарил Сеньке Петр Митриев. Арина положила игрушку на лавку, а Сенька, когда вернулся с улицы, сразу вцепился в нее. То сам он, то Воробей — оба стали дергать и сводить оловянные брусочки, и пошли тут молодцы в русских кафтанах дубасить шляхетного, выколачивая из него дерзость и гонор вместе с самой его душой. А Сенька с Воробьем при этом приговаривали: — Бей шляхту! Рубай в пень! Гони прочь! Потом оба побежали к Петру Митриеву: пусть, мол, и дедушка сегодня позабавится! Петр Митриев уже успел отдохнуть после обеда и стоял в дверях, которые вели из поварни в прихожую. Сенька начал орудовать оловянными брусками, так что зазвенело на всю поварню. — Га-а! — обрадовался Петр Митриев. — Лупят? Жарят? Нахлестывают? В хвост и в гриву? Под микитки и лопатки? Стой! — вдруг поднял он руку. — Стойте, ребятки! Тсс! — И он поманил Воробья и Сеньку пальцем. Он провел их в темную прихожую, где стоял большой сундук. Из прихожей ребята по узенькой лестнице поднялись за Петром Митриевым к нему в светлицу. И что же за чудеса бывают на свете! Вот Сенька потерял в разоренный год отца с матерью, а потом в Мугрееве нашел их. Вот разлучили Сеньку с Воробьем в Нижнем Новгороде, а Воробей возьми да объявись Сеньке в Ярославле. Сидели в Кремле польские паны который год — теперь и духу их там не осталось. А с Жуком что произошло? Что, если бы Жук вдруг заговорил и порассказал! Ну, вот и здесь тоже, в дедушкиной светлице… Только вчера было мертво — недвижимо и бездыханно. А теперь вдруг все ожило, как в сказке. Часы, сколько их было в светлице у Петра Митриева, все заговорили, заработали, защебетали. В одних открылась дверка, и в отверстие птичка-кукушка выглянула. — Ку-ку!.. Ку-ку!.. — стала куковать она; откуковала и спряталась. И тотчас раздался звон, словно играли на гуслях. Сразу после этого грянули большие часы, которые стояли на полу столбом, дотягиваясь резной верхушкой до потолка. И пошло тут, и пошло… То в одиночку, то вместе; то в россыпь, то разом. Что грому было, что звону было!.. Рыжий кот на подоконнике только щурился и головой вертел. А Петр Митриев схватил Сеньку за грудь и тряс его, и вопил, стараясь перекричать весь этот гром и звон: — Ага-а, соловьи-воробьи! Теперь пошло-поехало! Кончился разоренный год? Кончился? Ответствуйте! Не то я вас… — Кончился, дедушка, как ты сказал! — кричали ребята Петру Митриеву в ответ. — Кончился, прошел… Кончился. Сенька и Воробей это видели и понимали. И уже по всем дорогам русского царства скакали снаряженные Мининым гонцы с вестью: сокрушен враг и не поднимется; а там, где было запустение, снова зацветает жизнь.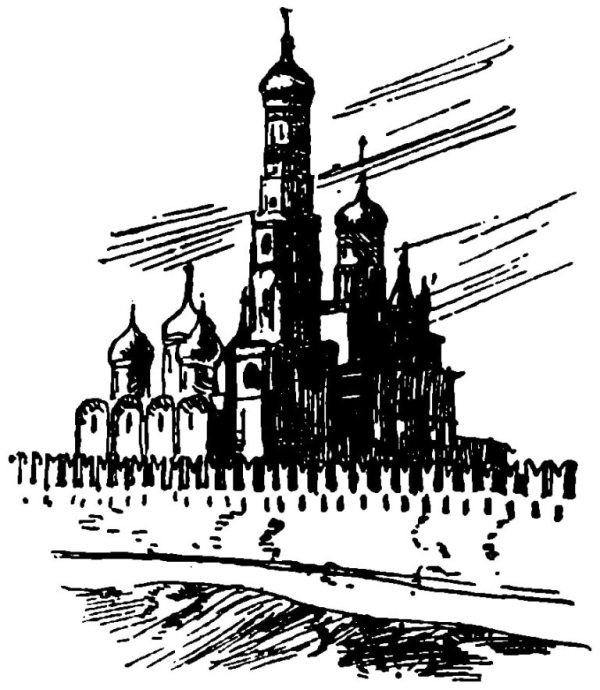 ОБЛОЖКА И. АРХИПОВА
* * *
ОБЛОЖКА И. АРХИПОВА
* * *
К ЧИТАТЕЛЯМ
Отзывы об этой книге просим направлять по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги. Прочитайте книги на исторические темы, выпущенные Детгизом для младшего и среднего школьного возраста
Алексеев С. — История крепостного мальчика. В этой книге вы прочтете о крепостном праве в России, познакомитесь с Митей Мышкиным, мальчиком, которого перепродавали и выменивали помещики; узнаете о его удивительной судьбе
Алексеев С. — Небывалое бывает. Коротенькие рассказы из истории петровского времени, о находчивых, умных солдатах
Изюмский Б. — Тимофей с Холопьей улицы. При раскопках древнего Новгорода археологи нашли письма жителя этого города. На интересном историческом материале написана эта повесть о жизни простых людей Новгорода в XIII веке
Кунин К. — За три моря. В XV веке русский купец Афанасий Никитин совершил свое замечательное путешествие в страну чудес — Индию. Об этом путешествии рассказывает книга
Могилевская С. — Повесть о кружевнице Насте и великом русском актере Федоре Волкове. В книге рассказано о том, как двести с лишним лет назад в Ярославле возник первый русский театр, об основателе этого театра — Федоре Григорьевиче Волкове, о крепостной девушке Насте, ее великом актерском даровании и трагической судьбе
Югов А. — Отважное сердце. О Гриньке — отважном сердце, смелом, находчивом дружиннике Александра Невского
 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

Последние комментарии
4 часов 40 минут назад
4 часов 46 минут назад
4 часов 49 минут назад
4 часов 50 минут назад
4 часов 56 минут назад
5 часов 12 минут назад