ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ: Досуги математические и не только
РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ДОМАШНИХ РУКОПИСНЫХ ЖУРНАЛОВ
Из журнала «ПОЛЕЗНАЯ И НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ» (1845) [1]
МОЙ ЛИЧНЫЙ ЭЛЬФ
Какой-то эльф за мной следит,
Зануда из зануд.
«Не спи! — всё время мне твердит. —
Дела, приятель, ждут».
Когда случайно запою,
«Нельзя, — он скажет, — петь!»
Себе я джину не налью:
Услышу — «Пить не сметь!»
Я грушу взял себе одну,
Сказал он: «Не кусаться!»
Хотел сбежать я на войну,
А он: «Изволь не драться!»
«Так что же можно?» — я вскричал:
Взяла меня досада.
А он спокойно отвечал:
«И приставать не надо!»
СВОЕВОЛЬНЫЙ УПРЯМЕЦ
Стоял он твёрдо на своём;
Не гнулись и коленки.
«Он рухнет, — молвили о нём, —
Сойди с высокой стенки!»
Но, точно вставленный в тиски,
Как гвоздь, торчащий прямо,
Стоял он, крикам вопреки,
На той стене упрямо.
Произошло чего не ждал
(Примеров много схожих):
Упрямца сбил внезапный шквал
На головы прохожих.
Конечностей раздался хруст,
Голов, побитых больно;
Был поносим из многих уст
Стоявший своевольно.
Ему же горестный урок
Едва ли был полезен:
Назавтра он не занемог —
На дерево полез он.
Иссохло дерево совсем,
Подпоркою держалось;
Ему кричали между тем:
«Слезай, чтоб не сломалось!»
Но, будто вставленный в тиски,
Как гвоздь, торчащий прямо,
Он там, советам вопреки,
На ветке стал упрямо.
Стоял, стоял он, а потом
Та ветка подломилась.
Он рухнул, а под ним с песком
Телега очутилась.
В песке он полностью погряз,
Упрямец своевольный.
Его искал там битый час
Песочник недовольный.
На свет он вылез — нос и рот
Забиты мелкой крупкой.
И смех песочника берёт
При виде ветки хрупкой.
«Ну как на этаком суку
Стоять ума хватило!» —
И, взяв с телеги горсть песку,
В лицо тому пустил он.
Песком обсыпан с головой
(Сквозь крупку блещут очи)
Упрямец пыльною рукой
В ответ лишь бьёт что мочи.
Но и песочник-молодец
Пускает в ход кулак.
На землю сбитый, наконец
Упрямец молвит так.
Мораль:
«Не стой упрямо на своём;
Прислушайся к советам.
Не то швырнут в глаза песком,
И все дела на этом».
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ
Нам сразу дело сделать лень,
Мы любим временить,
Откладывать со дня на день,
Опаздывать, спешить.
Установить бы час делам
И строго соблюдать;
Тогда подарком можно нам
Свободный час считать.
Прибудь на место в должный срок,
Где «место» ни случись,
И чтоб никто пенять не мог,
Что ты небрит, нечист.
Коль «в половину» ждёт обед,
Спеши к другим сойти,
Пожалуй, «в четверть», а одет
Уж будь и «к десяти».
Прийти пораньше — лучше, верь,
Чем припоздавшим быть;
Открыть под бой курантов дверь —
Свой точный ум явить.
Мораль:
Всё сделай тщательно и в срок,
Ведь час летуч как миг; —
Добудешь свежий лепесток
С цветка, что весь поник.
МИЛОСЕРДИЕ
Спеша дорогой городской,
Боясь ступить, где топко,
Гляжу я — в лужице ногой
Стоит девчушка робко.
И вот — дрожащий голосок;
С ресниц слезинка пала.
«Подайте хлебушка кусок;
Давно я не едала...»
«Бедняжка! Вот что: здесь пока
Постой-ка не горюя,
В лавчонке хлеба и пивка
Сейчас тебе куплю я».
И булочная тут; вбежал
Я прямо в дверь без стуку.
Тревожась — поздно, опоздал! —
В карман я сунул руку.
Который, в самом деле, час,
Неужто всё пропало?
Но плачу я на этот раз:
Часов как не бывало!
ТЕМЫ [3]
1.
Жил да был старый фермер под Ниццей,
Он истыкал лицо себе спицей;
Он и кожу проткнул,
Он и дальше шагнул:
Смог посыльным в суде очутиться!
2.
Жил-был старый обойщик с приветом,
Всё носился с газетным беретом;
Ловко шапка сидела,
Да макушка потела;
Он винил «испарения» в этом.
3.
Жил да был человечек в Париже;
Что ни день, становился он ниже.
Он бы, впрочем, подрос,
Если б голову нёс
С известковым раствором пожиже.
А сестра его Люси О'Лири
Становилась всё тоньше, не шире.
Причина же в том,
Что спала под дождём,
И бедняжку обедов лишили.
ИСТОРИЯ ПРО ХВОСТ [4]
Старик-садовник рвал с куста
В саду своём крыжовник.
Шипы кололи, но уста
Сжимал сильней садовник.
За ним сидел хвостатый пёс.
Да, то был хвост! Едва ли
Другой такой, скажу всерьёз,
Вы где-либо видали.
Длины неимоверной он,
Окраски несусветной;
Могуч и толст — а прикреплён
К дворняге неприметной.
Но пёс лишь высунет язык
Да гавкнет с ликованьем.
Как испугается старик
Чего-то! Но всего на миг, —
И трудится со тщаньем.
Но неожиданно вильнул
Хвостяра всей длиною
Да две лодыжки затянул
Садовнику петлёю.
Едва ли понял садовод,
В какое положенье
Попал негаданно — но вот
Закончилось терпенье.
«Неужто я настолько пьян?
Держаться трудно прямо!
Лишь бренди выпил я стакан
И более — ни грамма!
Две кварты эля да глоток
Портвейну — вот забота!
Так отчего валюсь я с ног?
Нет, странное тут что-то!»
Старик работу прекратил,
Поразмышлял в молчанье
И, взяв топорик, отхватил
Он хвост при основанье.
Затем на скрипице смычком
Пилил себе в усладу.
А пёсик гавкал да волчком
Вертелся до упаду.
БРАТ И СЕСТРА
«Спать, сестрица, час пробил;
Отдохни же, ты без сил!» —
Брат разумный говорил.
«Хочешь, братец, синяков?
И следов от ноготков?» —
Был ответ сестры таков.
«Не гневи меня, сестра.
Мне прибить тебя — игра;
Как прихлопнуть комара».
Но сверкает сестрин взгляд:
«Будешь, братец, сам не рад!
Осади-ка ты назад!»
Брат сбежал, не слыша ног,
Вниз на кухню: «Мне горшок
Одолжите на часок.
Раз баранина жестка,
Допеку её слегка.
Нету сладу без горшка!»
«Где же мясо, не секрет?» —
«На сестре!» — «Ведь ей во вред!» —
«Так дадите ли?» — «Ну, нет!»
РАЗБОЙНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Немного к северу («на Норд»)
Жил, ох, экспонат музея:
С подбородком, широким, как Ферт-оф-Форт,
И глубже, чем Зёйдерзее.
До колен подбородок не доставал,
Не спускался до чресел тоже;
Но о пуде гороха он мысль навевал,
Человечьей обтянутом кожей.
Носил он ту у челюсть у всех на виду;
Соседи друг дружку локтями
Пихали: «Воистину, скоро к суду
Голубчика мы притянем.
Кто знает, что там взаправду скрыто —
Кинжал, копьё, винтовка?
Так всё начальство, — брюзжали сердито, —
Он перебьёт преловко!»
Разослан циркуляр окрест:
Среди иных заданий —
«Его схватить — и под арест
До новых указаний».
И два констебля сгоряча
За волосы жертву схватили
И так, вдвоём его влача,
В тюрьму препроводили.
Всю ночь лежал он на камнях,
Дерюгой укрываясь,
Испытывая боль и страх,
Горюя и терзаясь.
Являлся в ранние часы
Судейский в тюрьму для допроса.
Торчали, как травка газона, власы, —
Не космы висели, как просо.
Воздел судейский строго длань,
А тот поднялся несмело…
«Ты, деточка, особо стань,
Зане рассмотрим дело
По прав-де! Не обычай мой
Труждаться тут впустую». —
И, сев, пригладил он рукой
Бородку завитую.
О положении в краю
Прослушав сообщенье,
Жюри покинуло скамью,
Чтоб вынести решенье.
«Безвинен», — невдолге решили они.
Судейский схватился за грифель:
«А вот, подсудимый ты наш без вины,
Тебе и расходная цифирь!»
МАЛЕНЬКИЙ ДЖЕНКИНС
Маленький Дженкинс весело прыгал,
Рылся в песке с увлеченьем;
Пухленькой ручкой игрушки он двигал,
Рот набивал печеньем.
Но слышит он голос, и тотчас же сами
Все затряслись поджилки.
«В дом возвратись, да не топай ногами;
Кто тебе шлёт посылки?»
Маленький Дженкинс видит: на столик
Ставят пакет бумажный.
Ножки он вытер у двери о коврик;
Мать рассуждает важно:
«Что-то там будет? Носок? Рукавица?
Шапочка, шарфик, кофта?..»
Мальчик же только на надпись дивится:
«Дженкинсу-младшему».
ТАКОВЫ ФАКТЫ
Когда бы в солнце из ружья
Прицелясь, выстрел сделал я,
Попал бы, верно, в цель шутя —
Не очень много лет спустя.
Но если б пуля, отклонясь,
К другим светилам понеслась,
Летела б долгие века —
До них дорога далека.
ПРОИСШЕСТВИЕ С РЫБОЛОВОМ
Я задремал на берегу ручья,
Где стайка рыб мерцающей струёю
Вилась вкруг поплавка; пригрезил я:
То, что поймал, — на блюде предо мною.
Оно не зверь, ведь не было хвоста.
Оно не птица — крыльев не хватало.
На зуб — вкуснятина, отнюдь не для поста,
Названье лишь из мысли ускользало.
Должно, заморское, — не вовсе без затей:
Всё в крапинку пленительного цвета.
Да только кто? Ну, был бы иудей,
Когда б, взаправду, бородёнка эта...
Но тут — рывок. Чуть удочка из рук
Не выскочила. Прочь блаженный отдых.
Я на ноги вскочил, тру очи. Вдруг —
Что вижу наяву в чудесных водах!
То существо! И водит поплавком —
На удочку попалось, без сомненья!
Я выхватил из вод его рывком,
Осмотру не потратив и мгновенья.
И верно, в каждой чёрточке его
С тем существом из грёзы было сходство,
Но даже лучше: более всего
Осанки привлекало благородство.
Видал немало морд, голов да лиц —
Не созерцал прекраснее созданья.
Я перебрал всех рыб, зверей и птиц,
Пока не отгадал его названья.
Читал я Бьюика о птицах том,
Был просвещён «Историей» Бюффона,
Но больше — Айзека Уолтона трудом
Про рыб сегодняшних и тех, чьё время оно.
Из этих указаний превосходных
От рыбарей, до нас венчанных лавром,
Алгебраически, с учётом производных,
Я вывел: быть ему Плезиозавром.
«Каков!» — служанке хвастаюсь в покоях.
Но та лишь отмахнулась, охнув слабо.
«Ох, уберите! И к чему такое!
Ведь это ж... это ж... это ж... это жаба!»
БАСНЯ
Халиф Эмир восседал на троне.
Страна была у него в загоне.
Брамин Мурза предстал перед троном,
Поведал нечто учёным тоном.
«Престарый филин сидел на древе.
А младший, посватавшись к совьей деве,
Просил у старшего доброй доли —
Всему ведь наследник он поневоле.
Старик сказал: „А за мной не станет.
Но пусть наш халиф только год протянет,
Получишь, парень, своё именье:
Дворов хоть за сотню, да в запустенье!“»
Закончил речь, — на щеках владыки
Пролившихся слёз замерцали блики.
Он долго думал об этом деле,
И сделал невиданное доселе —
Улучшил вскорости поведенье
(Добра понаделал уйму);
В пучину довольства вверг населенье
(На все восемнадцать дюймов).
ПРАВИЛА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ [7]
Путь избавления
От отупения —
Он в повышении
Всем настроения,
Он в удалении
От огорчений
И в изучении
Новых учений.
Он в сочетании
Дел и заданий,
Он в замечании
Красочных зданий,
Он в рассмотрении
Видов лечения
И в приглашении
На угощение.
В коловращении
И в размышлении
Путь избавления
От отупения.
Кушай прилично,
Пой мелодично,
Рисуй опрятно,
Пиши понятно.
Правила учи —
Громко не кричи,
Рано вставай —
По шесть миль гуляй.
Людей не стесняйся —
Всем улыбайся.
Пей не кофе, а чай
И других угощай.
Окружающим не ври.
Всё с начала повтори.
Имей салфетку,
Не трать монетку,
Руки мой,
Не топай ногой.
Пей пиво, не виски,
Строчи записки,
В эльфов верь,
Не прячься за дверь.
Корми канарейку,
Черти под линейку,
Плечом не ломись —
За ручку берись.
Не падай в воду
В дурную погоду,
Свечей не жги,
Запас береги.
Рот, зевая, прикрывай,
В разговоры не встревай.
КЛАРА
Тоскливо вздыхая,
Как полуживая
Графиня Клара на ложе бессонном;
По белой подушке
Волос завитушки —
Златые кудри смешались на диво.
«Ни скрипа, ни стука, —
Молвит со стоном; —
Наказана я была справедливо,
Но всё мне тоска, всё мука.
Зачем одна я столько тут?
Зачем нейдёт ко мне, несчастной?
Ни звука! Лишь заунывный гуд, —
Жужжит мне жучишка праздный.
Живу в любви; любовь — мой плен;
Любуюсь в окошко луной из-за стен.
Ах, бледный месяц! Всё б ему
Лучиться с высоты
И проницать ночную тьму —
Нашёптывать мечты.
В лучах луны не столь темны
Ночного мрака клочья;
Взлететь бы криком за лунным ликом
Такою светлой ночью!
Из далей грёз я наяву
Попала в край скорбей
И только волосы я рву
На голове своей.
Ведь так! Его не раздаётся глас.
Душа, воспрянь сей час!
Да что там, — бред!
В огне мой разум, вся душа в тоске;
Дымки из труб, вон, вьются вдалеке!» —
Отрады нет!
Внезапно Клара слышит топ копыт,
И оземь верховой гремит,
И голос — без забот
Приехавший орёт:
«Ха-ха! Э-гей!
Мне пива, эй!
Кто б ни был тут — подать!
Я вновь средь этих стен!
Итак, сочту до трёх.
А ты там, что, оглох?
А тоже — элдормен!
Встать!
Коль есть бутыль тут, что ещё полна —
То… вот-те на!
Задел — и будь здоров…
Не сделал даже двух шагов!
Вон там что, на крюку?
Тяни-ка рыбу ту без плавников.
Добудь мне шляпу да клюку, —
Э, кем-то весь искомкан воротник…
Плачу — рядиться не привык.
Лей в чашу, лей!
Ну, станет веселей!
Всю ночь в седле, устал, продрог;
Ох, стул! А то валюсь я с ног».
И речь такая, и этот тон!
У леди Клары снова стон:
«Какой-то гам!
Да что же там?
Что молвит он, я не пойму ни слова.
Печаль, весёлость — из нутра земного
Сквозь глину вязкую дают росток —
И ал на нём цветок!
Очаг разломан, искры ввысь!
От страха звёзды потряслись!
Беда мне! Подавляю стон —
А там вовсю бушует он;
В ударе, лют,
А я, я тут, —
И в горле крик, и эта тьма!
Как трудно сердцу биться!
Давно бы мне сойти с ума,
В безумии забыться!»
Но сквозь глухую ночи мглу
Ей нечто видится в углу:
Стоит монах седой
И в тишине ночной
Качает головой.
Простёр к ней длань из рукава,
И ночи тишь бежит, едва
Лишь раздались его слова:
«Не усматривай измену
И не рви власы; о стену
Ты не бейся головой,
Не реви, не плач, не вой!
Он просто перепил пивка —
Оно вреда не принесёт;
Вернулся он издалека —
Ну, тем и вовсе нет забот.
Спустись, да сделай ласковую мину, —
Внушал отечески монах, —
Всего-то перепил он джину,
Стоять не может на ногах!»
НЕКТО
Коль правду желаете знать — читал я спокойно брошюру,
Но стук долетел от дверей — слабей дуновенья зефира.
Я вслушался — снова стучат, да громко — себя не услышал,
Когда возопил я: «Эй, там! Войдите, не стойте снаружи!»
В комнату некто взошёл, снял и цилиндр, и перчатки,
Сделал изящный поклон, я же лишился терпенья:
«Да кто вы?» А этот пришлец, положа себе на сердце руку,
Тоном изысканным рек: «Слуга ваш, сэр Покурраншуввль».
Не просто я дёрнул за шнур — «Том, Дик, Джордж и Эндрю!» — я гаркнул:
«Сюда все! На дверь указать!» Те сразу на зов мой явились;
К двери его подвели; там он склонился в поклоне,
Руку на грудь положа, и с полной покорностью вышел.
Из «РЕКТОРСКОГО ЖУРНАЛА» (ок. 1848)
СТРАШНО!
Я брёл в неведомой стране,
Что ужасов полна;
Кругом глаза мигали мне,
Земля была черна.
Я зверя вскоре увидал
И понял в тот же миг —
Он человечины искал,
Людей он есть привык.
Я вскрикнул, я к земле прирос,
Я медленно осел,
Я злобный взгляд его не снёс
И весь похолодел.
Но некто в это время мне
Издалека кричит:
«Эй, эй! Вы стонете во сне!
Проснитесь, мистер Смит!»
ГОРЕ МОЁ
Седьмой десяток лет!
Я еле-еле
«Тяну», не взвидя свет.
Ну, в самом деле!
И я бы сладко пел
В подлунном мире,
От всей души звенел
Струной на лире.
Но в треснутый свисток
Я дул всечасно
И нервности исток
Питал несчастно.
НЕЧТО ЖУТКОЕ
Это что — планет восход?
Как сердит у каждой взгляд!
С тех лишённых звёзд высот
Словно крикнуть нам хотят:
«Дурачьё! Закройте рты!
Нас не смейте понукать!
Очень нужно с высоты
Вас, младенцев, развлекать!»
Встав, гора затмила вид;
Встав, деревья подошли.
Боже, колокол звенит!
Боже, стрелку навели!
Разве то не гневный змей
Блещет жёлтой чешуёй?
С шумом, грозным для ушей,
Пар он выпустил струёй.
Всё сильнее дальний гул;
Гром бушующий растёт.
Втуне крикнешь «караул!» —
Нечто страшное грядёт.
Здесь уж! Правда, жуть! Не зря
Дым от маковки валит!
И при свете фонаря
Чудо-юдо говорит:
«Стоп машина! Я сказал —
Прочь с путей! Не прекословить!
Лондон, Юстонский вокзал!
Всем билеты приготовить!»
Ах, билеты! то есть — мой?
Я веленью подчинился
И в смятении домой
Приходить в себя пустился.
НЕСЧАСТЬЕ
Рывок — и в путь!
Лишь вверх чуть-чуть,
Чтоб дольше не свалиться;
Сперва толчком,
Затем скачком
Ядро из пушки мчится.
То холм, то гладь,
Долина — падь;
Меж хижин, стен и башен
Оно — в поля,
Где вся земля
В колосьях, дани пашен.
Всё прыг да скок:
Бревно, пенёк
Обдаст в порыве прахом.
То там, то тут;
Ручей да пруд
Перелетает махом.
Всё тресь да лом!
Каким крылом
Чугунный шар несомый?
То здесь, то там, —
То к облакам
Взлетит, как невесомый!
Всё скок да прыг!
Лишь веткой дрыг
Еловые макушки.
Сквозь сад и бор
Во весь опор
Несётся как из пушки.
С холма да в дол
На гладь как стол
Спустился безмятежно.
Но кто там? — Лев
Среди дерев
Зевает так небрежно!
Гора костей,
Следы когтей, —
В тени разлёгся гордо
Зловещий лев:
Широкий зев,
В крови по гриву морда.
Опять отскок —
Ещё рывок,
И всей своей махиной
Намчавшись всласть,
Влетает в пасть,
В ущелье глотки львиной.
Оторопев,
Заперхал лев
И умер без боренья.
Последний звук
Предсмертных мук —
Недолгое сипенье.
ЯН-КИ-ЛИН
Великий Ян-ки-лин
Сидел всего один
В китайском тронном зале:
Придворные ничком
(Спина у всех крючком),
Как водится, лежали.
«Придвинься, Фи-фо-фан!
Ты видел много стран,
Набрался знаний всюду!
Так обучить готов
Ты наших поваров
Невиданному блюду?
От птичьих гнёзд в супах
Воротит, просто страх!
(Хоть это — объеденье!)
Уж пьяный краб — и тот
Как старый анекдот:
Ужасно повторенье!»
«Великий! — Фан в ответ. —
Я повидал весь свет...
(Ах, сердце не на месте...)
И я назвать берусь
Английское: на вкус
Нет лучше яблок в тесте!»
НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Сиди та мысль в мозгу моём,
Давно бы сам сказал тебе я;
А раз молчу — и ты о том
Оставь расспросы, разумея,
Что тех учить, кто сам с усом —
Неблагодарная затея.
Тут спору нет. Но аргумент
(Всего один!) уместен всё же;
Поверь мне, он в любой момент
Придёт на выручку вельможе,
И как рабочим — инструмент,
Он многих мудростей дороже.
Он прост. Ему бежать из плена
Высоких доводов не внове;
Так море гладко и степенно,
Но ждут барашки наготове,
А в жаркий полдень непременно
Придёт на ум мечта о крове:
Когда невежество — измена,
Тогда пусть Мудрость хмурит брови.
ВОПЛИ
Сжал он мне локоть, велел идти
Да потянул силком.
Сдерживал шаг лишь затем по пути,
Чтобы огреть кулаком.
Усмешка на злобных его устах,
Во взгляде — пугающий блик.
Сердце мне стискивал бешеный страх,
И пересох язык.
Он сбил меня дубинкой с ног
Да тотчас пнул ногою.
«Поднялся, быстро! Чего ты лёг!
Весь день мне стоять над тобою?»
Один негодник проговорил,
Когда я свалился на пол:
«Чего ж это, бедный, он натворил,
Что полисмен зацапал?»
Приятель в сторонку его увлёк:
«Набедокурил спьяна:
Слямзил часы да тугой кошелёк
Он из чужого кармана!»
УЖАС КАКОЙ!
Был шаток человека шаг,
Подрагивало веко.
Дивясь, не мог понять никак
Того я человека.
Бежал румянец с этих щёк,
Запали очи свыше...
Взаправду ль нечто он изрёк?
Взаправду ль я нечто слышал,
Пока через комнату он шагал,
Сжимая кулак в кармане,
Пока его взгляд кровавый мелькал
В сгущавшемся там тумане?
Другой рукой протёр он глаз,
Да топнул он ногою.
И донеслось на этот раз
Из уст его такое:
«Дал ручку ему, а этот чурбан,
Не разобравшись, сразу
Чернил немыслимый фонтан
Послал мне в оба глаза!»
Из журнала «РЕКТОРСКИЙ ЗОНТИК» (1850—1853)
ГУБИТЕЛЬНАЯ ПОГОНЯ
Укрыт в лощине утлый лаз
Под монами вьюнов
Глухая пазуха под час
Зверью давала кров.
Ни солнца луч ни взгляд а чей
Проникнуть глубь не мог
Зато из пазухи ручей
Просачивался в лог.
Скакал монарх на дело спор
Ловитвой распалён
За ним спешил весёлый двор
Науськивая гон.
Под крик и вой они гурьбой
С утёсов’низ неслись
А впереди дразня трубой
Сноровкий прядал лис.
Вперёд вперёд к чему расчёт
Спасительна нора
О лю!—ди слазать в свой черёд
Кому придёт пора.
Догнать догнать праще под стать
Брехнёй взбивая жуть
Одна борзая первой в падь
К утлизне правит путь.
В норе исчезли нос и лоб
За ними пара лап
О ужас! чавканье взахлёб
Большой глоток и всхрап.
Король за бич рукою хвать
От рети сам не свой
«Кто смел собак моих зобать
Умрёт под сей рукой».
Главу он всунул выпер тыл
Раскрыли гриди рты
Там лязг да хлоп как будто крыл
Здесь зад из темноты.
Толкают-тянут ох грядёт
Кто прятался впотьмах.
Кусок рисую: страшный рот
С монархом на зубах.
В ШТОРМ
Старик сидел над бездной вод
Как некий бес замшелый —
Бе дик и чуден: вдруг начнёт
Плясать как оголтелый,
И только скачет взад-вперёд
Пред бельмами свет белый.
Покров сгустился грозовой,
От запада кочуя;
В гнездо гагарка с головой
Укрылась, бурю чуя,
Скрестил он руки пред собой:
«Ты, гром, греми; ты, ветер, вой!
Остаться здесь хочу я!»
У дуба старый ствол скрипел —
Листву отяжеляли
Потоки вод. Старик сидел
И вглядывался в дали,
Где облик моря посерел,
Где волны с пеною как мел
Толкли корабь невмале.
Гроза гналась за кораблём:
Под ним валы ревели,
Над ним неистовствовал гром;
Отчаянно скрипели
Все крепи, вверх да вниз кулём
Его кидало, но рулём
Был наклоняем к цели.
В браде косматой злой оскал
Как щель разъял личину.
«А я заклад сам-десять дал,
Что встретят все кончину.
Но что возьмёшь, — не угадал;
Закинет Боб за спину».
И вниз главой старик со скал
Низринулся в пучину [8].
СКОРБНЫЕ ЛЭ, №1
Давился ливнем водосток
Как банками варенья
Не гром гремел, но молоток:
Курятник — в поправленье.
В минуту — просто ударов до ста :
Прилаживая шесты,
Там двое юнцов, лихих молодцов,
Улучшили насесты.
Опять пустили куру в дом .
Она — к яичкам (про омлет,
Яичницу — и об ином —
Мы ей навряд ли намекнём ):
Осмотрев скорлупки —
Нету ли погубки;
Пронесясь в оглядке —
Всё ли тут в порядке:
Капли не висят ли,
Мыши не шуршат ли —
Села по привычке
Снова на яички,
Да так, что лапок будто нет.
Шло время, развивалась скорлупа;
«И стисканно, и красоте урон», —
Внушала мать, не будучи тупа ,
Чтоб содержанье выходило вон .
Но ах! «не те тут выраженья!» —
Сказал… какой-то там поэт.
Кто хочет имени — спросите у других.
Могу я сказать, коль не всё вам равно,
Что вряд ли слыхал он в Парламенте пренья;
Уверен: хоть раз побывай он на них,
Он тот час сменил бы, мне кажется, взгляды:
Там в таких выраженьях вас приветствовать рады…
А имечко… Впрочем, тут ясно одно:
У вас и у меня такого нет.
И вот — свалилось вдруг на нас!
(Что значит: не поднять уж боле.)
Пришли в курятник в ранний час —
Лежит цыплёнок. Вот-те раз!
Иль истощился сил запас,
А только жизнь оборвалась.
Кормилец , птенчика найдя,
Зашёлся рёвом не шутя.
И то — несчастней нету доли!
Вот так: обратный есть билет ,
И вы примчались на перрон,
Что так от света отдалён, —
Домой! где чайник уж согрет;
Вы мчались — шляпа сорвалась,
И тут увидели, бесясь:
Последний поезд скрылся в поле…
Не передать, как много было толка
По поводу безвременной кончины,
Догадок смутных — например: «Иголка!
Видать, на шип наткнулся без причины».
И длился гам, стенанья, вздохи, пени,
Но, наконец, решили непредвзято:
«Самоубийство! Ставим шиллинг к пенни —
Убился сам, а мать невиновата».
Но только в одночасье
Посрамлено согласье:
Вбегает вдруг ребёнок сам не свой —
В слезах и с диким взором,
Не с пустяком и вздором,
Несчастья вестника являет он собой:
«И стойких духом этот вид
Совсем лишит силёнок:
Сбежавшей курочкой убит
Ещё один цыплёнок!» [19]
СКОРБНЫЕ ЛЭ, №2
Семьи священника приют —
Старинный в Крофте дом;
Он солнышком обласкан,
Овеян ветерком.
Усадьбы домочадцы —
Ватага северян —
Пока дневной не грянул зной,
Спешат к дороге подъездной
Из комнат и с полян.
По двое и по трое
Гуляют у ворот;
Кто чинно замедляет шаг,
А кто — наоборот.
Что публику волнует?
Чего все страстно ждут?
Искусство верховой езды
Покажут нынче тут.
Вытаскивают двое,
Лихие молодцы,
Пред очи публики конька
Под самые уздцы.
Трудна у них задача:
Упитанный конёк
Стрижёт ушами и сопит,
Назад податься норовит
Со всех упрямых ног.
В седло садится рыцарь
Под радостный шумок,
Вдевает ноги в стремена,
Хватает поводок.
Постой, смельчак, не нужно
Смеяться над судьбой —
Ведь необъезженный конёк
Сегодня под тобой.
Твои веленья стали
Законом для цыплят ,
Склоняют кролики главу
И съёжившись сидят;
Снегирь и канарейка
Исполнят твой совет,
И черепаха никогда
Тебе не скажет «нет».
Но над собою власти
Конёк не признаёт.
Беда любому, кто пинать
И бить его начнёт.
Наездник понукает
И ёрзает в седле:
Попал негаданно впросак...
Да сделает хотя бы шаг
Коняга по земле?
Ура! Дорога в Дальтон
От топота дрожит:
Толпа несётся впереди,
Конёк за ней бежит.
Орут и веселятся:
«Скачи, конёк, не стой!»
Но стал задор его спадать,
И с ним не может совладать
Несчастный верховой.
Близка развилка. В Дальтон
Дорога напрямик.
В Нью-Крофт — направо. Выбирать
Вот-вот настанет миг.
«Ко мне! — кричит наездник. —
Коня не удержать!
Болит плечо и ноет бок,
И крепкий нужен нам пинок,
Чтоб в стойло не сбежать!»
Тут Ульфред Лонгбоу справа
К наезднику идёт.
«Пустить меня! Тащить коня
Я помогу вперёд!»
И подошла Флюриза ,
Прекрасная сестра:
«А слева — я, его маня
От нашего двора!»
Беснуется наездник
И возится с конём,
Но вынудить его скакать
Не может нипочём.
Сестра и братец Ульфред
Упёрлись, точно в пень;
Кричали прочие: «И так
Торчим мы тут весь день!»
Наездник встрепенулся,
Возиться прекратил,
Стряхнул с сапожек стремена,
Поводья отпустил,
Схватил коня за холку,
Победно наземь — прыг
Изящно на ноги присел
И выпрямился вмиг.
До той минуты Ульфред —
Надежда и краса —
Стоял пред недругом скалой,
Глядел ему в глаза.
Но слышит он: о землю
Подошвы братца хлоп! —
Ослабил хватку невзначай,
А конь и рад: в родной сарай
Ударился в галоп.
С корзиной бутербродов
Мы к Ульфреду пришли
(За сутки их три кролика
Умять бы не смогли).
Во славу этой схватки
С неистовым конём
Ему насыпали конфет,
А ближе к вечеру сонет
Придумали о нём.
И часто вечерами,
Когда трещат дрова,
О лампу бьются мотыльки
И ухает сова,
Когда в постелях дети
Ещё взбрыкнут не раз,
Заходит речь у нас о том,
Как Ульфред тем ужасным днём
Боролся с бешеным конём
И путь на Крофт своим плечом
От запустенья спас [28].
ПОЭТ ПРОЩАЕТСЯ
Как будто пень, сидел весь день
Комичный дед, с трудом
Храня власы от злой грозы
Под «Ректорским зонтом».
Но вдруг, на счастье, прошло ненастье, —
Вокруг тепло и ясно;
Вскочил старик и в тот же миг
Запел легко и страстно:
Вот и всё! Темны овраги,
Солнце низко, ждёт обед.
Днесь ты спас меня от влаги;
Мы простимся, многих лет!
Те журналы, что явились
К нам о собственной поре,
Пред тобой тот час затмились,
Словно звёзды на заре.
Призываю их фантомы —
Чу! слышны недалеко,
Как жужжанье насекомых,
Как бентамок ко-ко-ко.
Первый — правда, лишь по списку —
Это «Ректорский журнал»:
Твой трамплин, скажу без риску,
Хоть «Комета» прежде встрял [29].
Был отмечен новизною,
Слух ласкал и тешил взгляд;
Отзывались с похвалою
О «Журнале» все подряд.
Вслед за ним идёт «Комета» —
Смутный, судорожный сон;
Только жду иного света, —
Ты сияньем возвещён!
Как наладил я вначале
Делать «Ректорский журнал»,
Кто читал — в него писали,
Все читали, кто писал.
Как связался я с «Кометой»,
На устах моих укор:
Помогать в задаче этой
Порастратился задор.
Но в тебе… Признаю сразу,
И да помнит вечно свет:
От других ни малой фразы
На твоих страницах нет!
Вносят вина. Взрывы смеха.
Всё темнее горизонт.
На обед звонок. Успеха!
До свиданья, милый «Зонт»!
Из журнала «МЕШАНИНА» (1855—1862)
ДВА БРАТА
Из твайфордской школы два брата шли;
Один размышлял на ходу:
«Быть может, поучим сейчас латынь?
А не то — погоняем в лапту?
Или вот что: не хочешь ли, милый брат,
Карасей поудить на мосту?»
«Слишком туп я для этой латыни,
Неохота мне бегать в лапту.
Так что дела не выдумать лучше,
Чем удить карасей на мосту».
И тот час же удочку он собрал,
Лесу из портфеля вынул;
Раскрыв дневничок, извлёк он крючок
И вонзил его братику в спину.
Десяток ребят уж так загалдят,
Дозволь им ловить поросёнка;
Но сильней будет визг и сверкание брызг,
Если сверзится с моста мальчонка.
Рыбёшки несутся на крик и плеск —
Пожива для них лежит!
Упавший шалун так нежен и юн,
Что проснулся у них аппетит.
«Тебе покажу я, что значит „Т“! —
Изволит кидальщик смеяться. —
Одни только рыбы умерить могли бы
Весёлость несносную братца».
«Мой брат, прекрати эти бис и тер! —
Доносится крик возмущенья. —
Что я совершил? Зачем ты решил
Развлекаться игрой в утопленье?
Любоваться готов на порядочный клёв
И сам я весь день напролёт.
Меня там и тут уже рыбы клюют,
Только это иной оборот.
Успел карасей растолкать я взашей,
А окунь вопьётся вот-вот.
Я не чувствую жажду, от жары я не стражду,
Чтобы в воду кидаться в спасенье...»
А в ответ: «Ерунда! Ничего, что вода!
Ведь с тобой мы в одном положенье.
Посуди: разве лучше кому-то из нас
(Утопленье в расчёт не берём)?
Одного тут пока я поймал окунька,
Но и ты со своим окуньком.
Я пронзил своего, этот впился в тебя
И повис на крючке, трепеща.
Тут любой дуралей надаёт мне лещей,
Но и ты там подцепишь леща».
«Но прошу о таком: ты меня с окуньком
(Ведь теперь мы вдвоём на крючке)
Потяни из реки, хорошо подсеки
И доставь нас на сушу в сачке».
«Терпенье! Сейчас приплывёт форель,
Я сразу же пикой пронжу.
А ежели щука — тут иная наука:
Я с десяток минут погожу».
«Эти десять минут мою жизнь унесут —
Загрызёт ведь меня без помех!» —
«Чтобы выжить ты смог, подожду лишь пяток,
Но сомнительным станет успех». —
«Из чего твоё сердце — из редиски и перца?
Из железа оно, из гранита?» —
«Не знаю, родной, ведь за клеткой грудной
Моё сердце от химиков скрыто.
Карасей наловить да ухи наварить —
Давнишняя, братец, мечта!
И пока в самом деле не поймаю форели,
Я не сдвинусь, не сдвинусь с моста!» —
«В любимую школу назад хочу,
Под розгой учить латынь!» —
«Зачем же назад? — ответствует брат. —
И здесь хорошо, как ни кинь.
Такое везенье — позабыты склоненья,
То окунь тебе, то карась.
Не учишь словечки, а купаешься в речке,
Наживкой для рыб притворясь!
Не мотай головой — мол, висит над тобой
Эта удочка, свалится вдруг.
За неё тут держась, ощущаю я связь
И не выпущу, братик, из рук.
Ну так вот: верь не верь, подплывает форель,
Кверхуносая рыбка она.
Ты увидишь, братишка, что любовь наша слишком,
Что любовь наша слишком сильна.
Я намерен её пригласить на обед,
Лишь бы день только ей подошёл.
Я чиркну ей пять строк, и в условленный срок
Мы усядемся с нею за стол.
Она, правда, в свете ещё не была,
Манерами блещет навряд;
Так что мне надлежит обеспечить ей вид —
Подобрать, то бишь, нужный наряд».
А снизу упрёки: «Рассужденья жестоки,
Мысли гнусны, несносны страданья!»
Но на каждое слово братик сверху толково
Отвечать прилагает старанья:
«Что? Так ли уж лучше по речке плыть,
Чем ровно на дне лежать?
Однако ж заметь: на тарелочке сельдь
Восхитительна — не описать!
Что? Желаешь скорей ты сбежать, дуралей,
От рыбок весёлых и милых?
Загадочно мне! Почему б тебе не
Наловить их, когда в твоих силах?
Есть люди — часами готовы бубнить
Про небо и птичек полёт,
Про зайчишек в полях и рыбёшек в морях,
Коим в радость их жизнь без забот.
А что до стремленья из их окруженья,
Чем вместе пускать пузырьки,
Так это ты брось — ты не сом, не лосось,
Чтоб тебя я тащил из реки.
Пускай утверждают: рассудок велит
Всех тварей в природе любить —
Но разум советчик, кого мне из речки,
Из этого Тиза тащить.
Что одежда и дом? Можно жить босяком;
Всё бери — даже деньги со счёта!
Ничего мне не жалко, но лишуся рыбалки —
Это будет не жизнь, а нудота».
Искала братиков сестра;
Придя на этот мост,
Такое дело она узрела
И не сдержала слёз.
«А что там, братик, на крючке?
Наживка что, ответь». —
«Веерохвостый голубок,
Не захотел мне спеть». —
«Да пенья можно ли всерьёз
Желать у голубятни?
И вовсе он не станет петь
От этакой губятни!
Так что там, братик, на крючке?
Я, кажется, узнала!»
«Бентамка с чёрным колпачком,
Сплясать мне не желала». —
«А у тебя на поводу
Бентамка пляшет славно!
Но колпачок — не колпачок,
А лапки и подавно!
Так что там, братик, на крючке?
Скажи мне поскорей!» —
«Мой братец младший, — тот в ответ. —
Не хнычь и не жалей.
Я нынче зол, не знаю как!
И не на то решусь!
Прощай, любимая сестра, —
Я в странствие пущусь». —
«Когда же ты, любимый брат,
Вернёшься вновь сюда?» —
«Когда на горке свистнет рак,
А значит — никогда».
На это молвила сестра,
Качая головой:
«Один, полагаю, не явится к чаю,
И вымок до нитки другой!»
ПОЭЗИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ («ДОРОГАЯ ГАЗЕЛЬ»)
Девятнадцатое столетие произвело новую школу в музыке, имеющую примерно такое же отношение к своему подлиннику, какое невзгоды понедельника, дня тяжёлого, имеют к почти что сочленённому с ним предшествующему воскресенью. Мы разумеем, конечно же, распространённую практику разбавления работ прежних композиторов вялыми современными вариациями, словно бы с намерением угодить ослабленному и искажённому вкусу нынешнего поколения; само новшество обозначается как «художественное оформление» теми, кто, словно в издёвку над благородным предложением Александра Смита «положить нашу эпоху на музыку», решили просто бросить музыку под ноги нашей эпохе. С прискорбием признаём мы существование суровой необходимости таких перемен: строгим пророческим взором усматриваем вырисовывающееся в туманном Будущем падение сестриц, Изящных Искусств. Отечественная Галерея уже предоставила иные из своих прекраснейших картин этой болезненной операции; Поэзия будет следующей. Чтобы не отстать от прочих в деле продвижения Цивилизации вперёд, мы смело отбрасываем все личные, все тайные пристрастия и дрожащим пером, с глазами, полными слёз, решаемся следовать литературным произведениям, создаваемым в Духе Времени, и тому славному отряду доблестных искателей приключений, которые, ведя свой Фургон, не уклоняются от великого Пути Реформ.
Д о р о г а я г а з е л ь
«Я дорогой не звал газели»
И прочий дорогой товар.
Торговцы, право, оборзели:
От этих цен бросает в жар.
«Меня утешить томных оком»
Из школы в Тутинге сынок
Примчал, прибитый — ненароком
Иль дурню задали урок!
«Когда же сблизиться мы смели»,
На шею сел мне сорванец.
Да что со мною, в самом деле?
Пора собраться, наконец,
И «тёмный рок» томатным соком
Запить для верности слега,
И закусить бараньим боком,
И ждать взросления сынка.
ЛЕДИ ПОВАРЁШКА
В Сочельник юноша один
Пил утром близ Таможни джин,
Потом пошёл гулять на рейд —
Зовётся он «Марин Перейд»
(Где, то есть, место морякам,
Что «ходят маршем по волнам»,
Там окунётся даже тот,
Кто сухопутно жизнь ведёт);
Потом он повернул назад,
Прошёл бульвары все подряд,
Прошёл по улиц тесноте,
Где, кажется, дома — и те,
Несильный сделают рывок,
И сдвинутся порог в порог;
Взобрался лестницей крутой,
Что воспарила над землёй —
На ней упарился бы всяк,
Богатый будь или бедняк.
Жильцы дивились: граф не граф —
Холодный вид, спесивый нрав
И, обстановке вопреки,
Глядится очень щегольски.
Имел он тросточку, букет,
Был напомажен, разодет —
Трудился не из пустяка:
Любил!.. Кухарку с чердака.
На пляж он забредал, забыв,
Что ноги вымочит прилив;
Там пел он, стоя на песке —
Он выход тем давал тоске:
ПОМИНАЛЬНЫЙ ПЛАЧ
«Унесла её „Хильда“
Из Уитби куда-то;
Её звали Матильда,
Я любил её свято.
Я спросил билетёра
(Ох, казнюсь я за это):
„Отправляется скоро?“ —
„Не уйдёт до рассвета“.
Ей сказал „этот Недди“
(Так звала меня в шутку):
„Скоро, милая, едем,
Подожди лишь минутку“.
Я совсем был готовый,
Забежал только в лавку,
Чтоб на галстук свой новый
Подобрать и булавку.
Героиня кастрюли!
Украшенье салату!
И тебя умыкнули,
И багажную плату.
Ей какие заботы?
Уносимые „Хильдой“
Кошелёк и банкноты
Я утратил с Матильдой!»
Булавку парень отстегнул,
Протёр её, потом продул
И опустился на песок,
Чтоб от забот вздремнуть часок [32].
ЛЭ О ТАИНСТВЕННОМ, ФАНТАСТИЧЕСКОМ И СМЕШНОМ
№ 1. ЧЕРТОГ ЛЖИ И ЧУШИ
Приснился мне чудной чертог,
Для мошек мраморный мирок —
Не трогал тверди топот ног.
Промозглый, резкий бриз вдувал
Чуть слышный запах сыра в зал
И рвущий кашель вызывал.
Отвратен каждый гобелен:
Сюжеты — горе, зло и тлен,
И чушь общественных проблем:
Педант, тщеславием объят,
Льёт легковесных слов каскад —
Кивает слушателей ряд;
Затем безмозглый старичок —
Он в детстве бы резвиться мог,
Но, видно, детством пренебрёг.
Его душа — пустыня льда;
Для жертв-малюток он беда,
Они лишь всхлипнут иногда.
Вот пруд — густой тимьян кругом;
Знать, ядом полон водоём —
Сорняк возрос обильно в нём.
Вот птицы, все клеймёны злом,
Кликуши в воздухе гнилом;
Закончат, верно, жизнь силком;
Зазря их гибельный призыв
Пропал, других не совратив,
Хотя был выверен мотив.
Пронёсся молнией фантом,
Он озарил мой мозг огнём,
И ложе вдруг восстало в нём.
Два старца дряхлые на ложе, —
Юристов выдумки; ну что же,
Помрут две фикции, похоже.
За Дика Роу среди зала
Ответчик плакал; та рыдала,
Что Джона Доу представляла.
«Прошу растолковать (я — к ней)
Процесс, про иск бы мне ясней,
Отвод, всё дело тех теней».
Она мне: «Дело не от вод;
Про иск я знаю всё, но вот
Про „цесс“ ничто на ум нейдёт».
И вновь над стариком со стоном,
Она нависла как поклоном
Промолвив (кстати ж!): «Мы за коном!»
«Суда…» — его уста рекут
Как в продолженье ей. Про суд?
«...рыня!» — он добавляет тут.
Рассвет, ночную тьму сменив,
Мне ветра влажного порыв
Плеснул в глаза, виденье смыв.
И улетучились из сна
Кровать и красная тесьма;
Лежащих — смерть взяла сама.
ТОММИ СДОХ
Написано 31 декабря 1857 года. У Сидни Добелла имеется стихотворение с таким же названием и вообще похожее, хотя и не совсем.
Ночь — последняя в году, дети.
Ну, за пивко да за еду, дети!
Не спешим ведь никуда, дети.
Жаль, корочка так тверда, дети.
Доволен ли ослик наш в стойле, дети?
К столу подвигайтесь вы, что ли, дети…
Разойдёмся же скоро; так нужно поесть вам, дети.
Что очаг? Ещё уголь-то есть там, дети?
Ведь ночь холодна,
Да старость трудна,
Да и Томми сдох.
Пусть бы кто-нибудь кликнул жену, дети,
Да буханку ещё нам одну, дети,
Чтобы подал и ножик другой, дети;
А что — этот сыр неплохой, дети?
Спросил я ножа, да буханку сперва, дети,
Сказал… Вы слыхали мои слова, дети?
Нет крошкам конца; подметите, дети,
Да дверь хорошенько заприте, дети,
Ведь ночь холодна, дети,
Да старость трудна, дети,
Да и Томми сдох.
Будьте людьми, распотешьте вы старца седого, дети!
А ведь близко к тому, что уже пол-одиннадцатого, дети!
Хлеба мало, зато у нас есть требуха, дети.
Да и выкурить трубочку — мысль не плоха, дети?
Было вдоволь пивка, так пролили беспутно, дети,
Мне бы килт мой шотландский, вот стало б уютно, дети!
Я люблю вечерами гуторить; что лежать на боку, дети!
Вы — мальцы, ну а я повидал на веку, дети!
Поживите с моё, так узнаете, что да почём, дети,
Верно, думаете: всё нахрапом возьмём, дети.
Впрочем, поздно; несите наверх старика, дети;
Не тяжек, лишь много во мне пивка, дети.
Разыгралась подагра; чур, меня не трясти, дети.
Коли будете так же себя вести, дети,
Замучит и вас… Не споткнись: половик, дети!
Ах, дурни! Назло мне! Аж скусил свой язык, дети!
Ну вот и добро. Да погрейте мне руки, дети;
Что мне вам объяснять, — всё пустяшные звуки, дети,
Просто ночь холодна,
Просто старость трудна,
Да и Томми сдох.
ОДА ДАМОНУ
(От Хлои, которая всегда его понимает)
«Вспомни вечер один, вспомни тот магазин,
Где впервые увидел ты Хлою;
Ты сказал, я проста и чертовски пуста, —
Поняла я: любуешься мною.
Покупала муку я тогда к пирогу
(Я затеяла ужин обильный);
Попросила чуток подержать мой кулёк
(Чтоб увидеть, насколько ты сильный).
Ты рванулся бегом вместе с этим кульком
Прямо в омнибус — помнишь, повеса? —
Про меня, мол, забыл, — но зато сохранил
Ты ни много ни мало три пенса.
Ну а помнишь, дружок, как ты кушал пирог,
Хоть сказал, он безвкусен и пресен;
Но мигнул ты — и мне стало ясно вполне,
Что тебе не пирог интересен.
Помню я хорошо, как услужливый Джо
Нам на Выставку взял приглашенья;
Ты повёл нас тогда „срезав угол“ туда,
И в неё не попала в тот день я.
Джо озлился, смешной, — вышел путь, мол, кружной;
Но пришла я тебе на подмогу.
Говорю: таковы все мужчины, увы! —
Вечно смыслу в делах не помногу!
Ты спросил: „Что теперь?“ (Заперта была дверь —
Мы, смеясь, постояли перед нею.)
Я вскричала: „Назад!“ И извозчик был рад:
На тебе заработал гинею.
Сам-то ты повернуть и не думал ничуть,
А придумал ты (верно, в ударе):
Раз откроется вновь завтра в десять часов, —
Подождать. И мудрец же ты, парень!
Джо спросил наповал: „Если б кто помирал,
Тут и ты бы проткнул его пикой —
Сам-то будешь казнён?“ Ты сказал: „А резон?“ —
И ко мне с той загадкой великой.
Я решила её, — вспоминай же своё
Удивленье: „Во имя закона“.
Ты подумал чуть-чуть, ты поскрёб себе грудь
И сказал с уважением: „Вона!“
Этот случай открыл, как умишком ты хил
(Хоть на вид и годишься в герои);
Позабавится свет, больше пользы и нет
От тебя — так не бегай от Хлои!
Впрочем, плох ли, хорош, а другой не найдёшь,
Кто тебя выгораживать рада.
Ох, боюсь, без меня не протянешь и дня;
Так чего же ещё тебе надо?» [35]
СТИХОТВОРЕНИЯ
УЕДИНЕНИЕ
Люблю я тишь густых лесов,
Люблю я музыку ручья,
В раздумье средь немых холмов
Люблю скрываться я.
Зелёный полог, а под ним
Лучей серебряных струи;
Травой лепечет ветер-мим
Истории свои.
Далёк отсюда грубый мир;
Ни тяжкий вздох, ни громкий шаг
Моей души священный мир
Уже не оглушат.
Я лью здесь слёзы без стыда,
Чтоб душу умягчить верней —
Так дети хнычут иногда
На лоне матерей.
Когда же в сердце мир и лад,
Ещё чудесней — снова там
Бродить в истоме наугад
По дремлющим холмам.
Тогда переживаю вновь
Минуты радостей былых;
Скрывает радужный покров
Круженье лет пустых.
О дар дыханья — чем ты мил,
Когда печаль — удел людей?
Закончить нам во тьме могил
Чреду ненастных дней.
А час надежд — неужто он
Нам годы скорби возместит?
И расцветающий бутон
Пустынный скрасит вид?
О годы жизненной весны,
Любви, невинности, добра!
Сияй сквозь дней нелепых сны,
Прекрасная пора!
Я зрелость лет готов отдать —
Шеренгу блекнущих картин —
Чтоб вновь ребёнком малым стать
На летний день один.
16 марта 1853 г.[36]
ПАРКЕТНЫЙ РЫЦАРЬ
Кобылка — блеск! Ни ест, ни пьёт:
Ведь не охотник я,
Скакать верхом, чтоб гадкий пот
Струился в три ручья —
Она мне служит круглый год
Сушилкой для белья.
А вот седло. — «Но где тогда
И стремя, ногу класть?» —
Да нет; похоже, сэр Балда
Мою не понял страсть.
— Седло барашка, господа;
Такой скотинки часть.
И напоследок удила. —
«Но что вам проку в них?» —
О нет, их роль не так мала,
Ведь я, признаться, лих:
Куда бы мысль ни завела,
А рифма сдержит стих.
ТРИ ГОЛОСА
Первый голос [37]
Он песню радостную пел,
Был весел смех его и смел,
А с моря ветер прилетел;
Лихим наскоком молодца,
Коснувшись дерзко и лица,
Он шляпу с головы певца
Смахнул, — и вот она у стоп
Какой-то девы, что как столп
Сперва стояла, хмуря лоб,
А после длинный зонт рывком
Воздела и вперёд штырьком
Вонзила в тулью прямиком.
Поддев, в его направив бок,
Полей порвала ободок,
А взгляд был холоден и строг.
Он как в угаре подбежал,
Но грубых слов поток сдержал,
Промолвил только, дескать, жаль
Хорошей шляпы — не секрет,
Как дорог нынче сей предмет;
А он на званый шёл обед.
«Обед! — (Был кислым девы тон.) —
Не просто ль к праху на поклон,
Что на тарелках разложён?»
Со смыслом, как ни посмотри,
Словцо, хоть заключай пари;
И обожгло его внутри.
Сказал: «Иду же не в сарай!
Иду... питаться, так и знай.
Обед обедом, чаем чай».
«Ах так? Чего же ты умолк?
Иль не возьмёшь ты, видно, в толк:
Баран бараном, волком волк!»
Его ответ — лишь стон немой,
И мысль: «Ступай и дальше пой!»
А следом мысль: «На месте стой!»
«Обед! — (Был гневен девы глас.) —
Вино глотать, — шипящий газ, —
Себя являя без прикрас!
Твой чистый дух с которых пор
Снисходит к скопищу обжор,
Жующих сор, несущих вздор?
Ты любишь слойку и пирог?
Но и без них (пойми намёк)
Воспитанным ты быть бы мог».
Но возразил он слабо здесь:
«И кто воспитан, хочет есть;
Питание на то и есть!»
И вновь она словами бьёт:
«Увы, встречается народ,
Не чувствующий фальшь острот!
И каждый этот негодяй
От общих благ имеет пай —
Ему и хлеб, и воздух дай!
И человечий облик им
Мы нашим разумом дарим,
Как шимпанзе или иным...»
«Ну, это к вам не пойдёт:
Ведь всем известно, — молвил тот: —
Присутствующие — не в счёт».
Она издала волчий рык;
С опаской он на грозный лик
Взглянул — там знак мелькнул на миг,
Что видит дева свой разгром,
Хотя не признаётся в том,
Лишь мечет молнии и гром.
Не речь его, но говор вод
Она, казалось, признаёт.
«Кто дал — не одному даёт».
В ответ — ни за, ни впоперёк —
Промямлил: «Дар развить бы в срок», —
Но сам тех слов понять не смог.
Она же снова: «Если б так!
Сердца бы все стучали в такт,
Но мир широк — прискорбный факт!»
Сказал он: «С Мыслью мир един.
Так Море — шири и глубин
Лишь Образ видимый один».
Она: «Тут в логике изъяны.
Мир — вовсе и не Мысль, но Страны!
Моря — простые океаны.
Вот и закончил на смех курам
Свои сужденья ты сумбуром,
Поскольку начал каламбуром.
Кто любит „Таймс“ и кем любимы
Рождественские пантомимы —
Дела того непоправимы!»
Ему б ответить в тот же миг,
А он пристыженно поник:
«Почище, чем играть в безик!»
Прочёл в её глазах вопрос,
Хотел ответить её всерьёз,
Но ничего не произнёс.
Сестрой витражного окна
Его щека, что её видна:
Зальёт румянцем — вновь бледна…
Смягчила жёсткости налёт,
Когда сказала в свой черёд:
«Меньшого больший превзойдёт».
«Настолько этот факт весом, —
Промолвил он, — и нов притом,
Что даже нужды нету в нём».
И поднялась в ней страсть волной.
Встряхнула злобно головой:
«Нет, есть — для случая с тобой».
Но, видя, как дрожит бедняк
И к жалости взывает как,
Смягчила вновь и тон, и зрак.
«За Мыслью обратись к мозгам:
Её доставит Разум нам,
Идеи укрывая там.
Кто ищет истины исток,
Зрит вглубь, поймёт: Идей поток
Из Образов и проистёк.
Предмет учёнейших забот
Та цепь и круг чудесный тот:
Ведь Мысль нам Образы даёт».
Второй голос
Брели у волн, влажнивших пляж.
Она в учительственный раж
Вошла, а в нём пропал кураж.
Был жгучим слов её накал,
Ей разговор принадлежал,
А он был словно трутень вял.
«Не устаю тебя учить:
Из мела сыр не получить!» —
Плелась таких речений нить.
Был голос звучен и глубок.
Когда же: «Как?» — спросила вбок,
То стал предельно тон высок.
Ответ, что, сбитый с толку, дал,
Попал под волн роптавших вал
И был потерян в эхе скал.
И сам он знал, что невпопад
Ответ, как будто наугад
Попасть из лука захотят.
Она — в мирке своих реприз;
Тяжёлый взгляд направлен вниз,
Как будто не шагал он близ):
Как только некий довод здрав —
За ним вопрос чудной стремглав
Находит, ясное смешав.
Когда ж с гудящей головой
Воззвал он к смыслу речи той,
Ответом был повтор простой.
И он, страданьем возбудясь,
Решил ответить не таясь,
Презрев значенье слов и связь:
«Наш Мозг... ну, в общем... Существо...
Абстракция... нет... Естество...
Мы видим... так сказать... родство...»
Пыхтит, румянцы щёк горят, —
Умолк он, словно сам не рад;
Она взглянула — он и смят.
Был лишним тихий приговор:
Его пришиб холодный взор,
Не мог он больше дать отпор.
Но слов не пропустив и двух,
Она тот спич, почти не вслух,
Как птичку кот, трепала в пух.
А после, отметя долой
Что сделал с ним её раскрой,
Вновь развернула вывод свой.
«Мужчины! люди! На лету,
В заботах, вспомните ли ту —
Лишь воздержанья красоту?
Кто подтолкнёт? Узрит ли глаз
Ночных чудовищ без прикрас,
Снующих дерзко среди нас?
Ведь полнит воздух крик немой,
Зияют рты, и краснотой
Блестят глаза, а взгляд их — злой.
Гнилушка жёлтый свет несёт,
А темень падает с высот,
Чтоб скрыть гранитной Ночи свод.
И, до седых дожив волос,
Никто сквозь занавес из слёз
Не бросит взгляда — как он рос.
Не вспомнит звука прежних слов,
И стука в двери, и шагов,
Когда затем гремит засов.
Готов он ринуться вперёд, —
Белёсый призрак вдруг встаёт,
И стекленеет взор, и вот
Виденье тех пропавших благ
Сквозь леса спутанного мрак
Морозит кровь, печально так».
И всё из случаев-преград
Восторженно, полувпопад,
Рвала, как зубы, крохи правд,
Пока, как молот водяной
У речки, обмелевшей в зной,
Не завершила тишиной.
За возбуждением — тишь, и пусть:
На станции конечной пуст
В пути набитый омнибус,
И все расселись, млад и стар,
В своих купе; там тишь — как дар;
И лишь машина пустит пар.
Не поднимала глаз с земли,
Губами двигала — не шли
Слова, и складки вкруг легли.
Он, наблюдавший моря сон,
Был зачарован и прельщён
Покоем вод, безмолвьем волн;
Она ж в раздумии своём,
Как эхо грёз вдогон за сном,
Забормотала всё о том.
Склонил он ухо в тот же миг,
Но в смысл речей отнюдь не вник —
Невнятен был её язык.
Отметил лишь: песок волнист,
Рукой она всё вверх да вниз —
И мысли тут же разбрелись.
Пригрезил зала полумрак,
Где ждут тринадцать бедолаг —
Он даже знал, кого, — и так,
Он видел, здесь и там на стул
Понуро каждый прикорнул,
Что вид их совершенно снул.
Любой немее, чем лангуст:
Их мозг иссушен, разум пуст,
Нет мыслей, слов запас не густ.
От одного протяжный стон.
«Вели накрыть уж, — мямлит он, —
Мы три часа сидели, Джон!»
Но всё исчезло в свой черёд,
И та же дама предстаёт,
Чья речь продолжится вот-вот.
Её покинул; отступив,
Он сел и стал смотреть прилив,
Прибрежный полнивший обрыв.
Тут тишь да гладь — простор широк,
Лишь пена белая у ног,
Да в ухо шепчет ветерок.
«А я терпел так долго суд,
И ей внимать предпринял труд!
По правде, это всё абсурд».
Третий голос
Ждала недолго транспорт кладь.
Прошла всего минута, глядь —
И слёзы ливнем, не унять,
Да трепет. И какой-то зов —
Лишь глас, в котором нету слов —
То далее, то ближе вновь:
«Не распалить огня слезам». —
«Откуда, что? Вдобавок, нам
Внимать подземным голосам?
Её слова — душе урон.
Да я бы лучше, — плакал он, —
Тех волн переводил жаргон
Иль возле речки развалюсь
И книжки тёмной наизусть
Зубрить параграфы возьмусь».
Но голос рядом — только глух,
Пригрежен или молвлен вслух —
Беззвучен, как летящий дух:
«Скучней ты нынче во сто крат;
Речам учёности не рад?
Потерпишь — будет результат».
Он стонет: «Ох, чем то терпеть —
Я б корчился в пещере средь
Вампиров, их желудкам снедь».
А голос: «Но предмет велик,
И чтобы он в твой мозг проник,
Тараном бил её язык».
«Да нет, — протест его сильней. —
Ведь нечто в голосе у ней
Меня морозит до костей.
Стиль поучений бестолков,
Невежлив, резок и суров,
И очень странен выбор слов.
Они разили наповал.
Что делать было? Я признал
Что ум у ней, э-гм, не мал;
Я был при ней до этих пор,
Но стал запутан разговор
И разум мой лишил опор».
Пронёсся шёпот-ветерок:
«Что сделал — знаешь: впрок, не впрок».
И веко дёрнулось разок.
Он растерял последний пыл,
Уткнулся носом в пыль без сил
И летаргически застыл.
А шёпот прочь из головы —
Заглох, как ветер средь листвы;
Но облегченья нет, увы!
Он руки жалобно вознёс;
Коснувшись спутанных волос
Рванул их яростно, до слёз.
Позолотил Рассвет холмы,
А то всё хмурились из тьмы…
«Так отчего ругались мы?»
Уж Полдень; жгучий небосвод
Ему глаза и мозг печёт.
В сознаньи — крик, но замкнут рот.
А вот вперил в страдальца взгляд
С усмешкой мрачною Закат;
Вздохнул он: «В чём я виноват?»
А тут и Ночь своей рукой,
Рукой свинцовой, ледяной,
К подушке гнёт его земной.
А он запуган, истощён...
То гром или страдальца стон?
Волынки или жалоб тон?
«Гнетуща тьма кругом и так,
Но Боль и Тайна тут же, как
Толпа прилипчивых собак,
И полнит уши лая звон —
За что терпеть я обречён?
Какой нарушил я закон?»
Но шёпот в ухе шелестит —
Поток ли то вдали бежит
Иль отзвук сна, что был забыт, —
Трепещет шёпот сам собой:
«Её судьба с твоей судьбой
Переплелась — узри, усвой.
Да, взор людской — змеиный яд,
Чинит помехи брату брат,
Где вместе двое — там разлад.
О да, один другому враг —
И ты, напуганный простак,
И та, лавина передряг!»
ПУТЬ ИЗ РОЗ
Флоренс Найтингейл находилась в зените славы в пору написания этих строк, после Крымской войны.
Под тёмным сводом в горнице немой
С окном на запад, узким как стрела,
Где в кружевах висящих лоз играл
Закатный свет, тускнеющий в ночи,
Сидела дева, руки положа
На фолиант застёгнутый, лицо —
На руки сверху; не в мечтах склонясь:
Блестели слёзы на её щеках,
И эхо сонное ночной поры
Внезапно звук рыданий нарушал.
Но вот она, застёжку отстегнув,
Слова читает голосом тоски,
Себя терзая, плача над строкой:
«Его увенчан славный путь —
В свой час подставил битве грудь,
Чтоб вновь в глаза врагу взглянуть
И пасть средь воплей и угроз,
Чтоб Право с Правдой шло не врозь,
В тот миг, как руку вновь занёс.
Где взгляд свиреп, удар тяжёл,
Палят огнём раскаты жёрл,
Где мор рассудок превзошёл —
Остекленевший, тусклый зрак
Уж не следил успех атак
И толчею случайных драк.
В могилу с честью положён;
Близ ярких храмовых окон
Почиет с храбрецами он,
Чтоб ныне певчие могли
Взнести в простор вечерней мглы
Слова молитвы, песнь хвалы.
И праздный мрамор иль гранит
Насмешкой здесь не оскорбит
Покой простых солдатских плит;
А дети изредка придут
И с милым шёпотом прочтут,
Кого земля укрыла тут».
На сим умолкла. Позже, как во сне,
«Увы! — вздохнула. — Женщин путь убог:
Бесцельна жизнь их и бесславна смерть;
Тисками их сжимают быт и свет,
Одним мужчинам предназначен труд».
И вот ответом разразился мрак,
Вечерний мрак, крадущаяся ночь:
«Да будет мир с тобой! Мужчины путь —
То путь из тёрна, тёрн топтать ему
И встретить смерть, в отчаянье борясь.
Твой путь из роз — беречь и украшать
Мужчины жизнь, сокрыв цветами тёрн».
Но горше ей, и молвит вновь она:
«Игрушкой разве, куклою на час,
Иль яркой розой, свежей поутру,
Пожухлой к ночи, брошенной в пыли».
И вновь ответом разразился мрак,
Вечерний мрак, крадущаяся ночь:
«Ты путь его как светоч озаришь
В тот час, как тень тоски падёт вокруг».
И вот — неужто въявь? — чудесный свет
Сквозь толщу стен пробился, заблистал,
И всё исчезло — и высокий свод,
И солнца отблеск в кружевах лозы,
И щель окна — и вот она стоит
Среди страны широкой на холме.
Внизу, вдали, насколько видит глаз,
Стоят ряды враждующих сторон —
Готовы к битве, замерли пока.
Но вот потряс равнину громкопыт,
И сотен быстрых всадников валун
Низринулся на океан живых;
Он расплескал их брызгами окрест,
Их разметал как пригоршни земли;
Покинув строй, бегут, за жизнь борясь...
Но зрит она — их облик истончал,
Поблёк и сгинул с первым светом дня,
И в отдаленье резкий рык трубы
В безмолвье стих — видение прошло,
И вот другое: ряд больничных лож,
Где умирают в боли и тоске
Под сенью Азраилова крыла.
Но здесь одна, что ходит взад-вперёд —
Легки шаги, спокойствие в лице
И твёрдый взгляд не сторонится тьмы.
Она любого ободрить спешит,
Касаньем нежным охладить чело
И тихо молвить ждущим их ушам
Страдальцев бледных нужные слова.
И каждый воин, глядя ей вослед,
Благословляет вслух. Благослови
И Ты, даривший древле благодать!
Так дева вдруг взмолилась всей душой,
Следя за ней, но тут портьерой ночь
Сокрыла всё — видение прошло.
А шёпот — здесь: «В нечистый зев борьбы,
Что превзошла отчаянье мужчин,
Когда Война и Ужас правят бал,
Дорогой скорбной женщине идти,
От жутких сцен не отвернув чела.
Когда мужчины стонут — каждый свят
Её поступок, благо — в ней самой.
Мало деянье — польза есть и в нём,
В великом — будет часть её труда.
Пусть каждый на своей стоит стезе;
Иди — и Богу вверься в остальном».
Затем — молчанье. Девы же ответ —
Глубокий вздох; в нём слышалось «Аминь».
И поднялась она, и в темноте
Одна стояла, словно дух ночной,
Тиха, бесстрашна перед ликом тьмы —
С очами к небу. По её лицу
Слеза стекала, в сердце ж был покой,
Покой и мир, которых не отнять.
ФОТОСЪЁМКА ГАЙАВАТЫ
В нашу пору подражанья нам претендовать негоже на особые заслуги, совершив простое дело. Ведь любой же стихотворец, мало-мальски с ритмом сладя, сочинит за час, за пару, вещь в простом и лёгком стиле, вещь в размере «Гайаваты». Я совсем не притязаю на особое внимание к нижеследующим строкам ради звучности и ритма; но читателя прошу я: пусть оценит беспристрастно в этом малом сочиненье разработку новой темы.
Скинул сумку Гайавата,
Вынул камеру складную:
Палисандровые части,
Всюду лак и полировка.
У себя в чехле детали
Были сложены компактно,
Но вошли шарниры в гнёзда,
Сочленения замкнулись;
Вышла сложная фигура —
Куб да параллелепипед
(См. Евклид, Вторая книга).
Всё воздвиг он на треногу,
Сам подлез под тёмный полог;
Поднял руку и промолвил:
«Стойте смирно, не топчитесь!»
Колдовством процесс казался.
Всё семейство по порядку
Перед камерой садилось,
Каждый с должным поворотом
И с любимым антуражем —
С остроумным антуражем.
Первым был глава, папаша;
Для него тяжёлой шторой
Обернули полколонны,
Уголком и стол в картинку
Пододвинули поспешно.
Он рукой придумал левой
Ухватить какой-то свиток
И в жилет другую сунуть
На манер Наполеона;
Созерцать решил пространство
С изумлением во взоре —
Как у курицы промокшей.
Вид, конечно, был геройский,
Но совсем не вышел снимок,
Ибо сдвинулся папаша,
Ибо выстоять не мог он.
Следом вышла и супруга,
Тоже сняться пожелала;
Разоделась свыше меры —
Вся в брильянтах и в сатине,
Что твоя императрица.
Села боком, изогнулась,
Как не каждый и сумеет;
А в руке букетик — впрочем,
На кочан похож капустный.
И пока она сидела,
Всё трещала и трещала,
Как лесная обезьянка.
«Как сижу я? — вопрошала. —
Я достаточно ли в профиль?
Мне букет поднять повыше?
Попадает он в картинку?»
Словом, снимок был испорчен.
Дальше — отпрыск, студиозус;
Он любил красоты складок:
Складки, мятости, изгибы
Взгляд захватывали сразу
И вели его к булавке,
К золотой булавке в центре.
(Парня Рёскин надоумил,
Наш эстет, учёный автор
«Современных живописцев»
И «Столпов архитектуры»).
Но студент, как видно, слабо
Взгляды автора усвоил;
Та причина, иль другая,
Толку мало вышло — снимок
Был в конце концов загублен.
Следом — старшая дочурка;
Много требовать не стала,
Заявила лишь, что примет
Вид «невинности покорной».
В образ так она входила:
Левый глаз скосила книзу,
Правый — кверху, чуть прищуря;
Рот улыбкой растянула,
До ушей, и ноздри тоже.
«Хорошо ль?» — она спросила.
Не ответил Гайавата,
Словно вовсе не расслышал;
Только спрошенный вдругорядь
Как-то странно улыбнулся,
«Всё одно», — сказал с натугой
И сменил предмет беседы.
Но и тут он не ошибся —
Был испорчен этот снимок.
То же — с сёстрами другими.
Напоследок — младший отпрыск:
С непослушной шевелюрой,
С круглой рожицей в веснушках,
В перепачканной тужурке,
Сорванец и непоседа.
Малыша его сестрицы
Всё одёргивать пытались,
Звали «папенькин сыночек»,
Звали «Джеки», «мерзкий школьник»;
Столь ужасным вышел снимок,
Что в сравненье с ним другие
Показались бы кому-то
Относительной удачей.
В заключенье Гайавата
Сбить их гуртом ухитрился
(«Группировкой» и не пахло);
Улучив момент счастливый,
Скопом снять сумел всё стадо —
Очень чётко вышли лица,
На себя похож был каждый.
Но когда они взглянули,
Мигом гневом воспылали,
Ведь такой отвратный снимок
И в кошмаре не присниться.
«Это что ещё за рожи?
Грубые, тупые рожи!
Да любой теперь нас примет
(Тот, кто близко нас не знает)
За людей пренеприятных!»
(И подумал Гайавата,
Он подумал: «Это точно!»)
Дружно с уст слетели крики,
Вопли ярости и крики,
Как собачье завыванье,
Как кошачий хор полночный.
Гайаватино терпенье,
Такт, учтивость и терпенье
Улетучились внезапно,
И счастливое семейство
Он безжалостно покинул.
Но не медленно он вышел
В молчаливом размышленье,
В напряжённом размышленье,
Как художник, как фотограф —
Он людей покинул в спешке,
Убежал он в дикой спешке,
Заявив, что снесть не в силах,
Заявив про сложный случай
В самых крепких выраженьях.
Спешно он сложил манатки,
Спешно их катил носильщик
На тележке до вокзала;
Спешно взял билет он в кассе,
Спешно он запрыгнул в поезд;
Так уехал Гайавата [40].
ЖЕНА МОРЯКА
Слеза застыла. Скорбный звук
Нейдёт из уст на помощь ей;
Лишь обруч судорожных рук
Стремится сжать дитя сильней.
Лицо дитяти! Вид иной:
Приотворён улыбкой рот —
Взгляни! заоблачный покой
В душе, столь юной для забот.
Покоя нет в её чертах,
Но бледность, знак тяжёлых чувств;
Знакомых грёз знакомый страх
В морщинах лба, в дрожанье уст.
Свистящий вой издалека
Грозы, застлавшей небосвод,
Подобен крику моряка,
Что бьётся со стихией вод.
Пугают бури голоса
Сомненьем слух. И в этот час
Ниспосылает ей гроза
О мгле и гибели рассказ.
«Близок призрачный корабль,
Дерзок в рвении своём;
Непроглядна сзади даль,
Сверху буря, снизу шторм;
Такелаж на нём скрипуч,
Мачты стон ему в ответ —
Чуть видна на фоне туч,
Клонит тощий силуэт.
Но гляди! Сдаётся он,
Искалеченный борьбой;
Светом молний озарён,
Близок берег роковой.
Чу! Трещит разбитый бок —
Это ветра злой порыв
Или пенистый поток
Ободрал корабль о риф.
Вниз нырок и в небо взмах —
Словно дух, летуч и бел
Он с отчаяньем в глазах
В ночь густую посмотрел.
Может, ищет он во мгле,
Где дразнящая рука
Слабой искоркой к земле
Призывает моряка?
Не жену ль увидеть ждёт
И детей в последний час,
Кто встречал его приход
Вместе плача и смеясь?
Закрутил водоворот —
Смертным ложем станет дно;
Если помощь не придёт,
Значит сгинуть суждено.
В толкотне за духом дух,
Эти зрелища любя,
Лезут сверху!» — молвя вслух,
Будит женщина себя.
Уходит шторм, стихают вдруг
И крик борьбы, и треск досок,
Единый ухо слышит звук —
Как волны бьются о песок.
Хоть нелегка случилась ночь
С души с рассветом отлегло.
Всё тело вздрогнуло — точь-в-точь
Попала с холода в тепло.
Она глядит: светлеет мрак;
Слабей ночных видений след.
И лай сторожевых собак —
Кому-то радостный привет!
23 февраля 1857 г.
ПОД ПРИДОРОЖНОЙ ИВОЙ
С округи всей везли гостей,
Звенели короба;
Стояла Эллен меж ветвей,
А рядом шла гульба.
Следила горестно она
За свадьбою крикливой;
Девичья жалоба слышна
Под придорожной ивой:
«Ах, Робин! Думала досель:
Напрасно в чёрный час
Явилась леди Изабель —
Не разлучить ей нас.
Надежды — прах. Я вновь в мечтах,
Как той порой счастливой —
Сто лет назад — твой милый взгляд
Встречала я под ивой.
О, Ива, скрой меня листвой —
Мне слёз не превозмочь.
Поверь, с подружкою-тоской
Пойду я скоро прочь.
Не ждёт помех он в день утех —
И, значит, мне, слезливой,
Пока он тут, забыть приют
Под этой милой ивой.
А смертный срок приблизит рок —
Лежать бы здесь одной,
Чтоб он гулять беспечно мог,
Где я нашла покой.
Ему лишь мрамор сообщит,
Коль бросит взор ленивый:
„Тебя любившая лежит
Под придорожной ивой“».
1859 г. [41]
ЛИЦА В ПЛАМЕНИ КАМИНА
Подкралась ночь — печаль и мгла;
Тускнея, красная зола
Дарит виденья без числа.
Усадьба-остров, а кругом
Волнует гладь пшеницы шторм —
Здесь мой родной счастливый дом.
Лишь миг — и этот вид пропал,
А в красноте золы предстал
Лица трепещущий овал.
Ребёнок — эльф, ни дать, ни взять;
Мне губки б эти целовать!
А ветер развевает прядь.
Нет, — это девушка; она
Своей красою смущена;
Но, как и те, пропасть должна.
Ах, был я молод, но не мал,
Когда впервые увидал,
Как шторм ей волосы трепал.
Я помню: бился пульс сильней,
В часы, когда, бывало, с ней
Сходились мы среди полей.
Седеет локонов гагат,
Всё отчуждённей вид и взгляд —
Когда б вернуться нам назад!
Когда б, любима и мила,
Со мной ты годы провела;
Когда б сейчас ты здесь была!
И всё звучит сквозь смену сцен
В моей душе без перемен
«Когда б» — тот горестный рефрен.
Мне в скачке нужен был рывок,
Но не дождался и поблёк
Мой верный призовой венок.
И вот мелькают всё быстрей
Видения прошедших дней;
Не различает взгляд частей.
Подсветку, что была красна,
Сменяет пепла белизна;
И снова ночь вокруг одна.
Январь 1860 г. [42]
ВАЛЕНТИНКА
Послана другу, который пожаловался, будто я был в должной мере рад видеть его, когда он приходил, но не обнаруживал тоски по нему, когда он отсутствовал.
Не может разве радость встреч
По-настоящему развлечь,
Коль не идёт о муках речь
При расставанье?
И дружества нельзя беречь
На расстоянье?
И я, заслыша дружбы зов,
Всю радость должен быть готов
(Хотя б она из пустяков)
Отбросить ныне,
Предавшись, по примеру вдов,
Тоске-кручине?
Велишь ли, чтоб, и хмур, и зол,
Я скорбь вселенскую развёл,
Коль мой обед ты не пришёл
Делить со мною,
Худел бы, не садясь за стол,
Не знал покою?
Но кто изведал дружбу, тот
Одни ли слёзы предпочтёт?
Бродить как призрак станет днём,
А ночью тёмной
Не сможет он забыться сном
В печали томной?
Влюблённый, если пару дней
Любимой не узрит своей,
В пучину не спешит скорбей;
Он мудр, уж точно:
Он пишет мадригалы ей,
Сносяся почтой.
Когда ж иссякнут и стихи
Иль, может, за его грехи
В них станет больше чепухи,
Глядишь — приспело
Слать валентинку! Уж-таки
Он знает дело.
На сим — до встречи, милый мой.
Когда ж увидимся с тобой
(Не важно — через день-другой,
Не так ли скоро) —
Пусть взор исполнен будет твой
Печали вздора.
POETA FIT, NON NASCITUR
«Ну как мне стать поэтом?
Не зря ль я в рифмы влез?
Всё ты: „Настройся, мол, на лад
Гармонии небес!“
Ну, вот что, дядюшка: совет
Мне нужен позарез!»
Старик в ответ смеётся:
Племянник — славный малый:
Он распалился не шутя,
И хоть немного шалый,
Но поработать с ним чуть-чуть,
Так будет толк, пожалуй.
«Сперва ведь надо школу…
Но ты-то — не простак;
Берись за дело! Сладим мы
С поэзией и так:
Душевным спазмам научись —
Простой, но верный шаг.
Кромсай любую фразу,
Что сразу в стих нейдёт;
Расставь, как просятся, куски —
В порядке иль вразброд,
А их логическую связь
Не принимай в расчёт.
Да литер ставь, племянник,
Побольше прописных.
Абстрактные понятия
Пиши, конечно, с них:
Ведь Красота, Природа, Бог
Любой украсят стих.
Коль описать желаешь
Ты контур, звук иль цвет —
Не прямо, но намёками
Преподноси предмет,
Как бы сквозь мысленный прищур
На белый глядя свет».
«Пирог опишем, дядя,
И в нём бараньи почки:
„О, как влечёт курчавый скот
В пшеничной оболочке“». —
Старик воскликнул: «Молодец!
И это лишь цветочки!
Годится соус „Харвиз“
Для птицы, рыбы, мяса.
Вот так же есть эпитеты —
В любом стихе сгодятся.
„Пустых“, „отцветших“, „диких“ слов
Не стоит опасаться».
«Готов примкнуть я, дядя,
К такому уговору.
„Пустой и дикий путь ведёт
К отцветшему забору“... » —
«Постой, племянник, не гони,
Хотя я рад задору.
Словечки те — что перец
К читательскому блюду.
Их понемногу рассыпай
И равномерно всюду,
Когда ж насыпаны горой,
То быть, конечно, худу!
Затронем напоследок
И разработку темы.
Пускай читатель в ней берёт,
Что сам найдёт, ведь немы-
Слимо разжёвывать ему,
В чём суть твоей поэмы.
Читателя терпенье
Проверить можешь сам.
Являй ты небрежение
И к датам и к местам.
И вообще, любой туман
Полезен будет нам.
Но положи пределы,
Для мысли заводной,
И разбавляя там и сям
Творение водой,
Сенсационной заверши —
Ударною — строфой».
«Сенсационной? Боги!
Не понимаю, сэр!
О чём я должен в ней писать
И на какой манер?
Уж будь любезен, приведи
Хотя б один пример».
Лукаво подмигнула
Рассветная роса.
Старик, застигнутый врасплох,
Отвёл свои глаза.
«Театр Адельфи посети —
Увидишь чудеса
В спектакле „Коллин Боум“;
Сенсаций место — там.
Как раз по слову Бусико —
Не зря твердит он нам:
История да будет Свист,
А жизнь да будет Гам.
Ну что ж, опробуй руку,
Пока фантазий дым…
Но внук докончил: «И затем
Печатать поспешим:
В двенадцатую часть листа
С тисненьем золотым!»
Смотрел с улыбкой дядя:
Племянник сам не свой
Налил чернил, схватил перо
Дрожащею рукой —
Но вот печатать… Покачал
Седою головой [43].
ДОЛОЙ МОРЕ
С подозрением я отношусь к пауку,
Собак не люблю на своре,
Подоходных налогов терпеть не могу,
Но ненавижу — море.
Если на пол солёной водицы пролить —
Вздор, но речь не о вздоре:
Если мысленно пол ваш на милю продлить —
Будет почти что море.
Если за нос собаку укусит оса,
Псина утихнет вскоре.
А представьте, что воет четыре часа —
Это почти как море.
Как-то снились мне тысячи нянь и детей;
Каждый малыш в задоре
Мне махал деревянной лопаткой своей —
Подняли шум, как море.
Кто, скажите, лопаточки те изобрёл?
Кто их строгать спроворил?
Лично я полагаю, что либо осёл,
Либо любитель моря.
Я согласен, красива порой волна
И «парус в пустом просторе»...
Но, положим, что качка вам очень вредна —
Тут уж вам не до моря.
Как известно, жучок под названьем «блоха»
С нами в извечной ссоре.
Где сильней от него пострадают бока?
В номере возле моря.
Если в чашечках вас не пугает песок,
Солёная горечь — в споре,
Если в яйцах любезен вам тины душок,
То выбирайте море.
Если любы вам камни и любы пески,
И с ветром холодным зори,
Если любы вам вечно сырые носки —
Рекомендую море.
Кстати, есть у меня с побережья друзья
С такой теплотой во взоре!
Одному удивляюсь в их обществе я:
Любит же кто-то море!
Позовут на прогулку — устало плетусь,
На кручу взойду не споря;
А когда невзначай я с утёса свалюсь,
Ловко предложат море.
Всё бы им потешаться! И поводы есть:
Смеются, не зная горя,
Стоит мне поскользнуться и в лужицу сесть —
Их уж подложит море.[44]
МИСС ДЖОНС
Эта песня не из тех,
Что сулят певцу успех,
Но печалью этих строк
Мы затронем чувства всех,
Ибо горести такой
Арабеллы молодой
Посочувствуют сердца
И камней на мостовой.
Саймон Смит высок и строен —
Он любви её достоин;
Только с нею Саймон Смит
Что чужой — всё «мисс» да «мисс»,
Арабеллой не зовёт,
Как к нему ни повернись.
«Милый Саймон!» — позвала;
Он — ни с места, как скала;
Говорит сестрица Сьюзан на такие ей дела:
«Сразу видно, что влюблён! Поручусь за это!
Ты послушайся, сестра, моего совета:
Письмецо ему черкнуть было бы не худо —
Мол, спасибо, я жива и прошла простуда;
Скажи, что у кожевни с надеждой будешь ждать,
Коль нынче ровно в девять он захочет убежать
Вместе с верной Арабеллой».
Написала письмо,
приложила печать,
разоделась в нарядный она туалет —
Ожерелья и броши,
браслеты, часы,
драгоценные перстни — чего только нет:
Мужчины слабы и легко впечатлимы,
с ними о внешности думай сперва.
И ждала бедняжка Смита
У фабричной проходной;
Намекал уже сердито
Ей разносчик: «Пшла домой!»
Вскорости
Полностью
Продрогла она,
Дрожала словно мышка;
Кожевница одна
Ей подала пальтишко.
Простуда разыгралась вновь,
Но шепчет Арабелла: «Приди ко мне, мой Саймон, и так я долго жду.
Сомненья прочь!
Глухая ночь —
Но он спешит во тьме,
Хотя истёк
Давненько срок,
Указанный в письме.
Мой Саймон! Мой Саймон! Милашка Смит! Милашка Смит!
Ах Саймон Смит, мой сладкий Смит!»
Но на ратуше бьют,
и на станции бьют,
и во всём городке бьют уж полночь часы.
«Ах, Саймон! Недалёк рассвет;
Сидеть и ждать тут смысла нет,
Но поступлю наоборот:
С надеждой жду я твой приход
Хотя бы на рассвете, хотя бы на рассвете.
Фаэтон голубой
Наймём мы с тобой
И помчимся в Гретну Грин.
Когда со мной мой Саймон Смит...
О, как пошло, вульгарно имя звучит!
Вот ведь где незадача — это ж надо иметь такое имя; впрочем, когда мы поженимся, будет же он любить меня настолько, что снизойдёт к моей просьбе,
Сменит имя на „Клэр“...»
Так она сама с собой
Рассуждала той порой
В надежде, что её он здесь отыщет.
«Где ты, где, моя отрада!
Симми, ты ли?» Вот досада —
Стал какой-то. Не со злом ли рыщет?
«Я немало удивлён, видя, что
Одни вы тут —
Того и ждут
Грабители ночные.
Часы и брошь —
Пожива всё ж
(Надеюсь — золотые?):
Отдайте мне.
Не бойтесь, не
Кривите рот.
Скажу вперёд:
Давно полицейский с участка ушёл.
На кухне своей...»
«О, проклятый разбойник! Отъявленный вор!» —
И так далее: гнев, возмущенье, укор.
«Когда я впервые подала Смиту руку, я и думать не могла, что он так подло со мной обойдётся.
Полиция здесь найдётся?
О, Саймон, Саймон! Как ты можешь так поступать со своей любимой!»
Такой между ними шёл разговор, и повар там был, и смотрители, как их называют, присутственных мест.
И без умолку гневные вопли, как в театре ином репетиция: «Ну куда, чёрт возьми, запропала вся дурная, ленивая, подлая, эта новая наша полиция?»[45]
ЭТИ УЖАСНЫЕ ШАРМАНКИ!
Погребальная песнь, исполняемая жертвой
«Мне косу плесть велела мать...» —
И снова верченье органа.
Ужасно! Я тоже, всем прочим под стать,
Всё делать, что хочется, стану.
«Мой дом — кусты да буерак», —
Достигло оконцев подвала.
Когда ж поспешил я сбежать на чердак,
То понял, что разницы мало.
«Один ты можешь мне помочь!» —
Опять он снаружи затренькал.
И тут застонал я в отчаянье: «Прочь!
Усвоил уж это давненько!»
«Запомните, сударь, мой скромный орган...» —
Довольно, приятель, довольно.
Не бойся, негодник: тебя, хулиган,
Уж я не забуду невольно! [46]
ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ
Написано после того, как автор увидел картину Хольмана Ханта «Спаситель, найденный в храме».
Стоял я снова там:
В ограду толчея толпы людской,
Внесла меня и запрудила Храм,
Как на картине той.
И злато, и парча
Внутри горели, мрамор плит сиял;
Лучами, словно струнами звуча,
Пестрел открытый зал.
Но некий был порок
В убранстве храма, что манил толпу.
Так осеняет праздничный венок
Лежащую в гробу.
Мудрейшие страны
Сошлись туда для спора на три дня,
А прочий люд приткнулся у стены,
Молчание храня.
Но старцев вид уныл;
У этих зол, у тех задумчив взгляд:
Их доводы мальчишка разгромил
Минуту лишь назад.
Свидетелей толпа
Глаза отводит; в них и стыд, и гнев.
Но вижу вдруг: один не хмурит лба —
Стоит, оцепенев.
Видать, в его мозгу
Зажглось сомненье в догмы мудрецов;
Он важную узрел в них мелюзгу,
Поводырей-слепцов;
Провидел тени туч
В тот смертный день, притихшие сады,
Когда погас последний светлый луч
Рождественской звезды.
Вот так в мой час ночной —
Как снег вершин под пламенным лучом —
Картина засветилась предо мной,
Увиденная днём.
И чудится сквозь мрак
Жужжанье то же, этот вязкий ком
Суждений от учёных и зевак
О том, да не о том.
«Манерный паренёк.
В нём соразмерность с чинностью лица
Не передал художник и не мог».
Ах, мелкие сердца!
А этот твёрдый взгляд!
Любовью светел, правдой неба чист;
Он проникает в сердце без преград
Стрелой, пронзившей лист.
Кто встретил этот взгляд —
Борьбы дыханьем к жизни пробуждён,
И нетерпеньем дух его объят
Воспрять и сбросить сон.
И в нём сомнений нет:
К святым стопам он склонится челом,
Чтоб умолять: «Господь! Яви мне свет,
Веди Твоим путём!»
Смотрите: рядом мать,
Пробился и родитель... Голосок,
Совсем не строгий, начал укорять:
«Сыночек, как ты мог...
Три дня и твой отец
И я искали; не придумать нам...
Но люди подсказали наконец
И привели нас в храм».
Теперь ему черёд
«Зачем искать меня?» у них спросить.
Но жаворонок мне в окно поёт
И рвётся мыслей нить.
Как он развеять рад
Вокруг и тишину и темноту!
Те звуки всех фантомов обратят,
Как чары, в пустоту.
Рассветный час пришёл,
Но глаз раскрыть не пробую ничуть:
Всё словно ночь хватаю за подол
В желанье сон вернуть.
16 февраля 1861 г. [47]
ТРИ ЗАКАТА
Очнулся он от дум слегка,
Взглянул на встречную едва —
И в сердце сладкая тоска,
И закружилась голова:
Казалось в сумерках ему —
Сияет женственность сквозь тьму.
В его глазах тот вечер свят:
Звучала музыка в ушах
И Жизнь сияла как закат,
А как был лёгок каждый шаг!
Благословлял он мир земной,
Что наделял такой красой.
Иной был вечер, вновь зажглись
Огни светил над головой;
Они проститься здесь сошлись,
И шар закатный неживой
Покрыла облака парча,
Не выпуская ни луча.
И долго память встречи той:
Слиянье уст, объятья рук
И облик, полускрытый мглой, —
Из забытья всплывали вдруг,
Тогда божественный хорал
Во тьме души его звучал.
Сюда он странником потом
Вернулся через много лет:
Всё те же улица и дом,
Но тех, кого искал, уж нет;
Излил он слёз и слов поток
Пред теми, кто понять не мог.
Лишь дети поднимали взгляд,
Оставив игрища в пыли;
Кто меньше — прянули назад,
А кто постарше — подошли,
Чтоб тронуть робкою рукой
Пришельца из страны другой.
Он сел. Сновали люди тут,
Где зрел её печальный взор
В последний раз он. Тех минут
Жила здесь память до сих пор:
Не умер звук её шагов,
Раздаться голос был готов.
Неспешно вечер угасал,
Спешили люди по домам,
Им слово жалобы бросал
Он в забытьи по временам
И ворошил уже впотьмах
Отчаянья никчёмный прах.
Не лето было; длинных дней
Уже закончился сезон.
Но в ранних сумерках в людей
Упорней вглядывался он.
Прошёл последний пешеход;
Вздохнул несчастный: «Не придёт!»
Шло время, горе через час
Как будто стало развлекать.
Страдал он меньше, научась
Из мук блаженство извлекать
И создавая без конца
Видения её лица.
Вот, вот! Поближе подошла,
Хоть слышно не было шагов;
На миг лишь облик обрела,
Но плоти он не знал оков,
Как будто горний дух с небес
Слетел — и сразу же исчез.
И так в протяжном забытьи
Он оживлял фантазий рой,
Лелеял образы свои
И наслаждался их игрой,
Не выдавая блеском глаз
Ту жизнь, что разумом зажглась.
Во тьму бесчувственного сна
Вгоняет нас подобный бред,
Чья роковая пелена
От глаз скрывает белый свет;
Теряет разум человек
В узилище закрытых век.
Мы с другом мимо шли вчера,
Вели весёлый разговор;
Мы были радостны с утра,
А он не радостен — вот вздор!
Но, впрочем, кто из нас поймёт,
Кого какая боль гнетёт?
Да как же нам предположить
Беду счастливою порой?
С той мыслью терпеливо жить
Сумеет ли какой герой?
Мы ждём спокойных дней и лет,
Которых в книге судеб нет.
Кого так ждал страдалец — та
Пришла, не призрак и не сон.
Её лицо — его мечта —
Над ним склонилось. Что же он?
Сидит незряч и недвижим,
Хоть счастье прямо перед ним.
В ней скорбь и жалость — узнаёт
Она страдальца бледный лик;
Темнея, алый небосвод
Ещё на лоб бросает блик,
И голову склонённой вдруг
Сияющий объемлет круг.
Проснись, проснись, глаза открой!
Неужто явь не стоит сна?
Она всплакнула над тобой,
Но распрямляется она...
Ушла. И что теперь, глупец?
Закат сереет, дню конец.
Погас последний огонёк,
Сменились звуки тишиной,
Потом зажёгся вновь восток,
Воспрянул к жизни круг земной,
А он, непробуждённый, тих —
Уже покинул мир живых.
ЛИШЬ ПРЯДЬ ВОЛОС
После смерти декана Свифта среди его бумаг был найден маленький пакетик, содержащий всего только локон; пакетик был надписан вышеприведёнными словами.
Та прядь — в стремнине жизни пузырёк;
Она — ничто: «лишь прядь волос»!
Спеши следить, как ширится поток,
Её же смело брось!
Нет! Те слова так скоро не забыть:
В них что-то беспокоит слух —
Как бы стремится снова подавить
Рыданье гордый дух.
Касаюсь пряди — образы встают:
Струи волос из дымки сна;
О них поэты неспроста поют
В любые времена.
Ребячьи кудри — приникает к ним
Ехидный ветер на лету;
Вот облаком покрыли золотым
Румянца густоту,
Вот нависают чёрной бахромой —
Блестит под нею строгий взгляд,
А вот со лба смуглянки озорной
Отброшены назад;
Затем старушка в круг венцом седым
Косичку заплела свою…
Затем... Я в Вифании, пилигрим,
Бреду сквозь толчею
И вижу пир. Вся горница полна.
Расселась фарисеев знать.
Коленопреклонённая жена
Не смеет глаз поднять.
Внезапный всхлип, и не сдержала слёз —
Познал отчаянье порок
И вот стирает пыль струёй волос
С Его священных ног.
Не погнушался подвигом простым
Святой их гость, смягчил свой зрак.
Так, не гнушась, почти вниманьем ты
Былых сочувствий знак.
Уважь печали сбережённый след;
Ему пристанище нашлось.
Погас в очах, его любивших, свет, —
Осталась прядь волос.
17 февраля 1862 г. [48]
РАЗОЧАРОВАВШИЙСЯ (МОЯ МЕЧТА)
Я деву юной представлял —
Семнадцать лет едва.
Ну что ж, прибавить к ним пришлось
Ещё десятка два.
Я представлял каштан волос,
Лазурь в глазах — а тут
Каштан какой-то рыжий, глаз —
Какой-то изумруд!
Я мыслил губки: лепестки
От розочки пригожей.
Но разве я предполагал
У носа цвет похожий!
Воображал округлость форм,
Улыбку на устах...
Ну эту тучность, да оскал
Я не выдал в мечтах.
Вчера моих касалась щёк,
А заодно ушей.
Но ждал я всё же, признаюсь,
Касаний понежней.
Пополнить можно ли ещё
Её достоинств ряд?
Добавить нечего к нему,
Убавить только рад.
Медвежья грация во всём,
Подвижность валуна,
Жирафа шея, смех гиен,
Стопа как у слона.
Но — верьте! — я её люблю
(Хоть прячу страсть от всех):
«В ней всё, что я в ней видеть рад»,
Но слишком много сверх! [49]
ВОДЫ КРАДЕННЫЕ[50]
Был светлый вечер, тишина,
Вдали смутнел туман;
Была та девушка стройна,
Несла свой гибкий стан
С предерзкой грацией она.
Хватило взгляда одного,
Улыбки, что лгала, —
Пошёл я следом. Для чего?
Она ли позвала,
Но я подпал под колдовство.
Плоды мелькали средь ветвей,
Цветочки напоказ,
Но всё не так с душой моей
В проклятый стало час.
Как бы сквозь сон меня достиг
Девицы голосок:
«Что наша юность? Всякий миг
С подарками мешок».
Я возразить не смог.
Пригнула ветвь над головой,
Достала дивный плод:
«Вкусите сока, рыцарь мой;
Я после, в свой черёд».
Ужели я в тот миг оглох?
Ужель утратил зренье?
Ведь был в словах её подвох,
В её глазах глумленье.
Я впился в плод, вкусить стремясь;
Мой мозг как пук соломы,
Как факел вспыхнул. Разлилась
В груди волна истомы.
«Нам сладок лишь запретный плод, —
Промолвила девица. —
Кто пищу тайно запасёт,
Тот вдоволь насладится».
«Так насладимся!» — вторил я,
Как будто горя мало.
Увы, былая жизнь моя
С закатом умирала.
Вздымалась чёрная струя.
Девица руку неспроста
Мне сжала. Будто отлегло:
Поцеловал её в уста,
Потом в лилейное чело —
Я начал с чёрного листа!
«Отдам всё лучшее! Гляди! —
Схватил я за руку её. —
Отдам и сердце из груди!»
И вырвал сердце самоё —
И мне она дала своё...
Но вот и вечер позади.
Во тьме я лик её узрел,
Но с наступленьем темноты
Он весь обвял и посерел,
И обесцветились цветы.
Смятенье овладело мной.
Я как затравленный олень
Сбежал. И мнилось, за спиной —
Безжалостная тень,
Летящий зверь ночной.
Но только странно было мне,
Иль это я воображал,
Что сердце смирно, как во сне,
Себя вело, хоть я бежал.
Она сказала: сердце ей
Теперь моё принадлежит.
Теперь, увы, в груди моей
Осколок льда лежит.
А небо сделалось светлей.
Но для кого на косогор
Упал победный свет,
И древних милых звуков хор
Кому принёс привет?
Меня былого нет.
Смеюсь и плачу день за днём;
Помешанным слыву.
А сердце — огрубелый ком,
Уснувший наяву,
Во тьме хранимый сундуком.
Во тьме. Во тьме? Ведь нет: сейчас,
Хотя безумен я,
Но вновь на сердце пролилась
Прозрачного ручья
Живая светлая струя.
Недавно на исходе дня
Я слышал чудо-пенье.
Исторглись слёзы у меня,
Слепое наважденье
Из глаз и сердца прогоня.
«Поющее дитя
И вторящие сада голоса!
О счастье, радость пенья,
Цветы на загляденье,
Вплетённые неловко в волоса —
Простая радость бытия.
Усталое дитя,
Глядящее на солнечный заход
И ждущее, что Вечность,
Нелживая беспечность,
Мучительные цепи разорвёт,
Что дать покою не хотят.
Небесное дитя;
Лицо мертво, и только взгляд живой,
Как будто с умиленьем
Не тронутые тленьем
Глаза следят за ангельской душой,
Любуясь и грустя.
Будь как дитя,
Чтоб радуясь дыханию цвести,
Из жизни быстротечной
С душою неувечной
В одеждах незапятнанных уйти,
К блаженству возлетя».
Вернулись краски бытия,
И разгорелось чувство
В моей душе. Безумен я?
Мне сладко то безумство:
Печаль и радость — жизнь моя.
Печален — значит, я признал:
Лихим возможностям конец —
И представляю, как бы сжал
Чело сверкающий венец,
Когда б желанью угождал.
Я светел — значит, снова смог
Я вспомнить лет обетованье:
Чело получит свой венок,
Хотя бы я, испив страданья,
Ушёл за жизненный порог.
9 мая 1862 г. [51]
БЕАТРИС
Свет нездешний в её очах,
Не земной она росток:
В звёздных ей витать лучах.
Пять годочков здесь жила,
Пять годочков. Жизни мгла
Её не съела. Не зачах
Небесный уголёк.
То не ангел ли так глядит?
Вдруг в единый миг она
В дом небесный улетит?
Беатрис! Не знай забот!
Образ двух девиц встаёт,
Он в облике твоём сквозит;
Пора их пройдена.
Вижу бледную Беатрис:
Сжаты губы в немой тоске,
Уголки опущены вниз
И в глазах печаль до слёз:
Было время сил и грёз —
О весеннее счастье, вернись, вернись!
Но оно, увы, вдалеке.
Вижу ясную Беатрис:
Из её весёлых очей
Голубая лучится высь.
Этих глаз полдневный свет
Воспоёт не раз поэт,
Хотя бы месяц — его девиз
В тишине безмолвных ночей.
Но виденья стали дрожать,
Истончились за слоем слой,
Хоть пытался их удержать.
Снова девочка она —
Ни лучиста, ни бледна,
Только прелестью им под стать
И души своей чистотой.
Если, выйдя из недр берлог,
Бросив глушь своих болот,
Свой тропический Восток,
Зверь тайком придёт сюда —
Смерти сын, отец вреда —
Забывшись, он щенком у ног
Малышки припадёт.
Шёрстку зверя сжав кулачком
И в кровавый глаз поглядев,
Та серебряным голоском
Спросит, светло удивясь,
Спросит смело, не таясь,
Далеко ли у зверя дом,
И закроется страшный зев.
Или если отродье зла,
Что, под маской людской таясь,
Замышляет свои дела,
К ней, от прочих вдалеке,
Подойдёт с ножом в руке,
В миг в душе его злая мгла
Просветлеет от чистых глаз.
А, случись, с голубых высот,
Из заоблачных полей
Светлый ангел снизойдёт
И на ту, чей облик свят,
В умиленье бросит взгляд —
Остановит он свой полёт:
Он сестру распознает в ней.
4 декабря 1862 г.[52]
КОМПЛЕКЦИЯ И СЛЁЗЫ [53]
Я сел на взморье сам не свой,
Уставясь на прилив.
Солёный породил прибой
Пролить слезу порыв.
Но чувствую немой вопрос
Насчёт причины этих слёз.
Тут нет секрета: коль опять
Меня отыщет Джон,
То снова станет приставать,
Обидный взявши тон.
Опять дразнить начнёт: «Толстяк!»
(Что злит меня, не знаю как).
Ах, вот он, лезет на утёс!
Меня трясёт озноб!
А если он с собой принёс
Несносный телескоп!
Я от него сбежал на пляж,
И он, мучитель мой, сюда ж!
Когда к обеду я иду,
И он со мной за стол!
Когда б с девицей на беду
Я речи не завёл,
Меня (он тощий, я толстяк)
Спешит он срезать хоть бы как!
Девицы (в этом все они)
Твердят: «Милашка Джон!»
Причиной этой болтовни
Я просто поражён!
«Он строен, — шепчутся, — и прям.
Отдохновение глазам!»
Но заволок сигарный дым
Видение девиц.
Удар мне в спину! — был я им
Едва не брошен ниц.
«Ах, Браун, друг мой, ну и ну!
Всё раздаёшься в ширину!»
«Мой вид и вес — мои дела!»
«Удачней нету дел!
Тебя фортуна берегла,
Ты явно преуспел.
Секрет удач твоих, видать,
Любой захочет разузнать!
Но отойду-ка я, прощай;
Всё лучше налегке.
С тобой увязнем невзначай
По шею мы в песке!»
Я оскорблён, хоть впрямь толстяк;
И пережить такое как?
ВЕЛИЧИЕ ПРАВОСУДИЯ
Оксфордская идиллия
Покинув Колледж вечерком,
Шагали в город напрямик
Дородный Дон с Учеником.
Разговорился Ученик:
«Как говорят, Закон — король;
Ему Величество под стать.
Но из газет мне трудно соль
Величия познать.
Наш мрачен Суд, гудит молва;
Есть «Вице-Канцлер», вишь, у нас:
Студент не платит месяц-два —
Так он с него не спустит глаз.
И пишут: дело, мол, одно
Уж принял наш скромнейший Суд.
Где ж правосудье? Суждено!
Его как раньше ждут.
Я к правосудью, милый Дон,
Не приплетаю всё подряд.
Тут полагаться не резон
На ритуалы и наряд.
Я мнил: на Оксфорд льёт и льёт
Его Величье ноне свет.
А пишут всё наоборот —
У нас Величья нет!»
Тогда, не ведая забот
Профессор отвечал дородный:
«А Величавость не прейдёт,
Ведь существует пункт исходный».
Студент воскликнул: «В том и суть!
Вопрос давно решаю я.
Не знаешь, хоть семь пядей будь,
В чём главная статья!
Допустим, скромен Суд у нас;
Величья — нет? Но что такого?
В глазах Законности баркас
Не лучше ялика простого».
«Иль вы, — ответил Дон, — не знали,
Ил позабыли, мой студент, —
Из круга Джоветта изгнали
Подобный аргумент».
«Тогда рассмотрим этот рой
(„Бифштексов едоки“ — вот слово!)
Пред горностаевым судьёй
Во время шествия любого.
Да стоит мне узнать свою
Прислугу там (в любом обличье) —
Слезу (смеясь) ей-ей пролью
От этого „Величья“!»
«А-гм! — сказал дородный Дон. —
Не в том, уж точно, скрыта суть.
Величью не грозит урон,
Пусть даже вовсе их не будь.
К тому ж, плетутся все вразброд,
Наряды розны — Суд пестрит!
Таких ли шествий хоровод
Величье породит!»
«Так обратимся к парикам;
Их буклей жёсткие ряды —
Ошеломленье паренькам
И гувернанткам молодым».
Смеётся добрый Дон в ответ:
«Ну, сударь, я скажу не льстя —
Точнее указать предмет,
По-моему, нельзя.
Да, будь ты важен, как монарх,
А всё величина не та.
Одно весомо в их глазах —
Парик из конского хвоста.
Да-да! Был глуп, а стал мудрец;
Был неприметен, стал велик!
Нашли Величье, наконец:
Парик, когда ты ВИГ».
Март 1863 г.[54]
ДОЛИНА СМЕРТНОЙ ТЕНИ
С последним проблеском ума
Лежащий произнёс:
«Уж сумрак с дальнего холма
Сюда почти дополз.
Я так всегда встречаюсь с ним:
Меня дыханием своим
Обдаст как ветром ледяным
И дальше тянет нос.
Мне вспоминается, мой сын,
Тот давний день. Увы!
Его я тщился до седин
Изгнать из головы.
Но память горькую не смыть,
Не разорвать тугую нить,
Она и в ветре будет ныть,
И в жалобе листвы.
Велит поведать ныне смерть
Про тот давнишний страх.
Не смог из памяти стереть,
Так изолью в словах.
Отсрочка, сын мой, так мала!
Не расскажу про ковы зла;
Как к пропасти душа пришла,
Не вспомнить второпях.
Про чары зла — источник ран,
Наследие греха,
Пока час Воли, всуе зван,
Не дал плода, пока...
Пока, оставив бренность дел,
Гонимой птицей не влетел
Я в лес, что тёмный холм одел,
Манил издалека.
Там в дебрях я нашёл овраг,
Самой земли уста;
В нём полдень не развеет мрак,
Не веет в те места
Весенний ветер; звук там глух,
Я медлил, мой страшился дух,
И будто кто-то молвил вслух:
„То Смертные врата.
Заботой людям иссыхать,
Томясь, как в смутном сне;
С утра о вечере вздыхать,
А вечером — о дне.
Твой полдень пламенный угас,
Забавы вечер не припас,
Чего же медлишь ты сейчас?
Укройся в глубине.
В прохладной тени тех глубин
Усталый дух уснёт.
К спасенью путь всего один —
Войти в подземный вход.
Он как бокала ободок,
Что средство сладкое сберёг
Для тех, кто свой торопит срок,
Кто забытьё зовёт!“
Вечерний ветер тут вздохнул,
Листвою задрожал,
Верхушками дерев взмахнул,
И холод сердце сжал —
То ангел мой, спаситель мой
Предупреждал, маша рукой;
Почуяв ужас неземной,
Оттуда я сбежал.
И вот я вижу: огород,
Уютный сельский дом,
Детишек двое у ворот —
Игрою как трудом
Они уже утомлены;
Головки мирно склонены,
Читают вслух. Слова слышны —
Ведь тишина кругом.
Как бы с уступов два ручья
Смешались меж собой:
Каштановых волос струя
Сплелася с золотой.
Не хладного сапфира блеск
У них в глазах — лазурь небес;
Взглянут сквозь чёлочки навес
Небесною звездой.
Мой сын, любой, любой из нас
Порой теряет дух;
Рукою слабой в этот час
Он не разит. И вслух
Кричат: „Спасайся!“ Воин скор
Тогда на бегство. Чуть напор —
И день выносит приговор:
Разбиты в прах и пух.
Невзвидел света я. Глаза
Покрыла пелена.
Но зазвучали небеса,
Чтоб я прозрел сполна.
„Ко мне, усталые, ко мне,
Кто тяжко трудится, ко мне,
Кто ношу выносил, — ко мне,
Вам радость суждена“.
И Бог, как некогда в Раю,
Призвал туман ночной,
Чтоб землю выкупать свою
И напоить росой.
И как тогда, глядел с высот
Темнеющий небесный свод —
Не в гневе, что откушан плод, —
Но доброй синевой.
В тот день услышал в первый раз
Я милой голосок.
Дарил он радость в смутный час,
От суеты берёг.
Не знал ты матери, мой сын!
Не дожила и до крестин.
Я воспитал тебя один,
Любимый наш сынок!
Пускай, со мной разлучена,
В сиянье неземном
Голубкой унеслась она
Назад в небесный дом,
Но в души смерть не ворвалась:
Жива любовь, святая связь
Меж разлучённых, не прервясь
В небытии самом.
С надеждой дни влача свои,
Я знал: в конце концов
Две разделённые струи
Сольются в море вновь.
В душе скорбя о горьком дне,
Я благодарен был вполне
Судьбе, что подарила мне
Отраду и любовь.
И если правду говорят,
Что ангелы порой,
Хоть их не различает взгляд,
Нисходят в мир земной,
То здесь она... Знать, вышел срок...
Я это чувствую, сынок... »
Но тут рассвет зажёг восток
И Смерть привёл с собой.
Апрель 1868 г. [55]
МЕЛАНХОЛЕТТА
Сестрица пела целый день,
Печалясь и тоскуя;
К ночи вздохнула: «Дребедень!
Слова весёлы всуе.
К тебе ещё печальней песнь
Назавтра обращу я».
Кивнул я, слышать песни той
Не чувствуя желанья.
Из дома утренней порой
Ушёл я без прощанья.
Авось, пройдёт сама собой
Тоска без потаканья.
Сестра печальная! Узнай:
Несносны эти ноты!
Твой хмурый дом совсем не рай,
Но нет тебе заботы.
Лишь засмеюсь, хоть невзначай,
Ревёшь тогда назло ты!
На след’щий день (прошу простить
Моё произношенье)
Мы в Садлерс-Велсе посетить
Решили представленье
(В сестре весёлость пробудить
Должно же впечатленье!).
С собой трёх малых звать пришлось —
Каприз весьма понятный, —
Чтоб меланхолию всерьёз
Отправить на попятный:
Спортивный Браун, резвый Джонс,
А Робинсон — приятный.
Я сам прислуге дал понять,
Какие выраженья
Способны жалобы унять,
Как масло — вод волненье;
Лишь Джонсу б даме дух поднять
Достало обхожденья.
Мы чушь несли про день и вид
(Следя её отдачу),
Один, простите уж, «on dit»
И цены кож впридачу;
Сестрица ныла: «Всё претит...
Не забывай про сдачу».
«Бекаса ешь — остынет он.
Ах, ах! Венец природы!» —
«Мост Ахов, господа, смешон;
В Венеции всё воды...» —
Такой вот Байрон-Теннисон
(Вполне во вкусах моды).
Упоминать и нужды нет,
Что слёзы в блюда нудно
Лились, что скорбный наш обед
Глотать нам было трудно
И стать одною из котлет
Желал я поминутно.
Начать беседу в сотый раз
Хватило нам терпенья.
«У многих, — подал Браун глас, —
Встречаются влеченья
К рыбалке, травле... А у вас
Какие предпочтенья?»
Она скривила губы — так
Кривим мы в пальцах ластик:
«Ловить на удочку собак,
Стрелять по щукам в праздник,
По морю прыгать натощак.
Мне кит — что головастик!
Дают-то что? „Король... ах, Джон“? —
Заныла, — Скука, позы!»
И, как всегда, тяжёлый стон,
И вновь ручьями слёзы.
Что ж, подождём (чей пункт учтён!)
«Помпезным фуриозо».
Но смехом дружный наш раскат
Она не поддержала.
Перевела в раздумье взгляд
С оркестра к балкам зала;
Произнесла лишь: «Ряд на ряд!» —
И тишина настала [56].
АТАЛАНТА В КЭМДЕН-ТАУНЕ
Ах, на этой скамье
Тою давней весной
Аталанта ведь не
Тяготилася мной,
И в ответ мои нежные речи не звала «чепухою одной».
Я ей шарфик купил,
Ожерелье и брошку, —
Всё надела, мой пыл
Оценив понемножку;
И под императрицу она неспроста причесалась в дорожку.
В театральный салон
Я привёл мою пери;
Издала она стон —
И мгновенно за двери:
Духота, мол; одна толчея, и несносен ей этот Дандрери.
«О, счастливчик, постой!
По тебе эти стоны! —
Так я мнил той порой,
Помня флирта законы. —
Плеск и блеск! (Девонширский рыбак так, случится, похвалит затоны.)
И воскликнет любой:
„Ну, счастливчик вы наш!“,
Как с невестой такой
Подойдёт экипаж,
Когда бел ещё свадебный торт и пока желтоват флёрдоранж!»
Тот тягучий зевок!
Тот слипавшийся глаз!
Тех фантазий поток,
Что блаженство припас!
Уложил меня взор её вскользь и пришибла слеза напоказ.
Видел, видел вполне
(Сомневаться негоже)
И томленье по мне,
И тоску. Только всё же
Оглашенье ли мне предпочесть? Ведь лицензия выйдет дороже.
«Как Геро, ты возжги
Мне торшер Афродиты;
Пусть не видно ни зги —
Доплыву». — «Да поди ты…»
Что такое?! Но дальше слова были громом колёс перекрыты… [57]
ЗАТЯНУВШЕЕСЯ УХАЖИВАНИЕ
Девица одна у решётки окна
Стояла с собачкой у ног.
За улицей тихо следила она,
Там люд прохожий тёк.
«К дверям какой-то подошёл
И трётся о косяк.
Совет мне дай, мой попингай,
Впустить его, иль как?»
Зачёлкал мудрый попингай [58],
Кружа под потолком:
«Впусти, раз так — пришёл, никак,
К тебе он женихом».
Вошёл в гостиную чудак,
Смиренно, как во храм.
«Признали? Я — тот, кто из году в год
В любви был верен вам».
«Но как же мне было про то прознать?
Давно б сказали вы!
Да, как было, сударь, про то мне знать?
Не знала я, увы!»
Сказал он: «Ах!» — и уже на щеках
Солёных слёз ручьи.
«В неделю по разу, по нескольку раз
Признанья летели мои.
Колечки вспомни, госпожа,
На пальцы посмотри.
На сердце руку положа —
Послал семь дюжин и три».
«Тут спору нет, — девица в ответ. —
Моей собачке свит
Из них поводок, златой ручеёк —
Глядите, как блестит».
«А как же пряди, пряди где,
Концы моих чёрных волос?
Я слал их по суше, я слал по воде,
И к вам почтальон их нёс».
«И тут спору нет, — девица в ответ. —
Побольше б таких кудрей.
Я их в тюфячок, а тот — под бочок
Собачичке моей».
«Но где же, где же письмецо
С тесьмою вкривь и вкровь?
В нём дышит каждое словцо
Признаньем про любовь».
«Приносит раз с тесьмой — от вас? —
Конвертик почтальон.
Да вот беда-то, что без оплаты,
И брать был не резон».
«О, горькая весть! Письма не донесть!
А в нём всё как есть про любовь!
Так суть письмеца я вам до конца
Нынче поведаю вновь».
Зачёлкал мудрый попингай,
Взметая перья прядь:
«Ходатай, складно отвечай
Да на колени падь!»
Склонил колени он пред ней,
То в жар его, то в хлад.
«О Дева, скорбных повестей
Услышишь ты доклад!
Пять лет сперва, пять лет потом
Твой каждый, Дева, шаг
Встречал я вздохом и кивком —
Во всех романах так.
И десять лет — унылых лет! —
Влюблённый взор бросал;
Я слал цветы тебе чуть свет
И валентинки слал.
Пять долгих лет и снова пять
Я жил в чужой стране,
Тая мечты, что чувством ты
Проникнешься ко мне.
Уж тридцать минуло годков,
И покинул я чуждый край.
Вот, пришёл тебе сказать про любовь,
Так руку, Дева, мне дай!»
А что же Дева? Ни в хлад, ни в жар;
Ему подаёт платок.
«Мне, право, немного вас даже жаль
И странно слышать про то».
Со смехом клёкчет попингай,
Презрительно когтит:
«Как ты, ухаживать, я чай,
Не каждый захотит!»
Собачка прыгает кульком
(Зубов поберегись!),
Колечет звонким поводком,
Натявкивая ввысь.
«Собачка, тише, ну же, шу!
И ты, мой попингай!
Я кое-что ему скажу;
Молчи и не встревай!»
Собачка лает и рычит,
Девица топ ногой;
Пришлец — и тот сквозь шум кричит,
Привлечь вниманье той.
Клекочет гнусный попингай
Сердитей и звончей,
Но всё ж собачкин громкий лай
Несносней для очей.
На кухне слуги и служан-
Ки сбились у плиты:
Хоть слышат шум, да нейдёт на ум
Причина суеты.
Воскликнул поварёнок
(Мальчонка не худой):
«Так кто из нас пойдёт сейчас
Восстановить покой?»
На поварёнка жребий пал,
И слуги говорят:
«Иди и дей, ищи идей,
Краса всех поварят!»
Схватил он тут погибче прут
Собачку выдворять,
Но видит: доля не её
Команды выполнять.
Схватил он кость — собачки злость
Пропала наконец;
Повёл на кухню за собой
Собачку удалец.
Девица ручкой машет ей:
«Шалунья, нету слов!
Она мне, право же, милей
Десятка женихов.
Пустое слёзы, вздохи вслед,
Власы не стоит жать;
Вы, значит, ждали тридцать лет,
Так что вам подождать?»
Печально он пошёл к дверям
И ручку повернул;
Нашёл печально выход сам,
Прощально не взглянул.
«Хотя б такой же попингай
Со мной летал как сват!
Его советы выполняй,
Глядишь — и ты женат.
Другую мне б где’вицу взять, —
Шептал он, плача вновь. —
Да чтобы тридцать лет опять
Не тратить на любовь!
Спрошу я прямо (да иль нет)
Девицу поскорей.
Не позже, чем ’рез двадцать лет
Приду я с этим к ней!» [60]
ТРЁМ ОЗАДАЧЕННЫМ МАЛЫШКАМ ОТ АВТОРА
(Трём мисс Друри)
Три девочки, поездкой утомлённых,
Три пары ушек, к сказке благосклонных;
Три ручки, что с готовностью взметались,
Но три загадки нелегко давались.
Три пары глазок, широко раскрытых,
Три пары ножниц, временно забытых;
Три ротика, благодаривших мило
Знакомца нового — им книжку посулил он.
А вспомнят встречу, книжку, разговор,
Как три недели минут с этих пор?
Август 1869 г. [61]
ДВОЕ ВОРИШЕК
(Трём мисс Друри)
Два вора влезли в чей-то дом,
А кража ведь — не шутки.
И подучили их, притом,
Три девочки-малютки.
На кражу взрослых подучить
Способны ли детишки?!
Другие — вряд ли, может быть,
Но эти три малышки...
В сердцах сказал однажды им
Их взрослый друг: «Хотите
Увидеть Вредность?» — «Да, хотим!» —
«Так в зеркало взгляните».
11 января 1872 г.
ПИЩАЛКИ СЛАВЫ
Смелей! Во всю трубите мочь,
Людишки с мелкою душой!
А лопнут трубы — бросьте прочь
И жрите Злато всей толпой!
Пусть полнит ширь голодный крик:
«Награды! Мыслим и строчим!»
Питаться ваш народ привык
Не Знаньем — Золотом одним.
Где мирной мудрости приют
Нашли и Ньютон и Платон,
Нечистые копыта бьют,
Гудит свинарник-Вавилон.
Делите славу наших дней,
Ваш пай мы выплатим сполна,
Но с именами тех теней
Не ваши ставить имена!
Их слава — вашей не чета;
Им поклоненье ни к чему.
Они сгорели б от стыда,
На эту глядя кутерьму.
Тот о Любви в слезах вопит
И проповедует Закон,
Но чувства в нём не пробудит
Замученной собаки стон;
Тот Мудрость хвалит. Нет, постой!
Не клич на голову свою:
Тебя безжалостной стопой
Раздавит Мудрость как змею!
В салонах скройтесь, мудрецы,
Играйте в клику и вождя,
Надев заёмные венцы,
Своих пищалок не щадя.
Скрывать сподручно вздор речей
Клочками пройденных наук
И друг на дружку лить елей,
Светя улыбками вокруг.
О вы, глядящие с высот,
В эфире Славы воспаря,
Кто свой заполучил доход,
Пробился, проще говоря,
Знамёна в руки! Марш на пир!
Своей победе гряньте песнь!
О свечки! Да зажжёте мир
И бросите на солнце тень!
Оно струит чистейший свет,
Дарит им Запад и Восток,
Покуда в сете сует
Дрожит ваш чахлый огонёк [62].
ЦАРСТВО ГРЁЗ
Как ляжет ночь глухая
От края и до края —
Черты теней минувших дней
Плывут передо мной.
Герои и пророки,
Жильцы веков далёких,
Чей ровен шаг, чей светел зрак,
Приходят в мир пустой.
И мягкий луч рассвета,
И яркий полдень лета
Лишь малый час ласкают глаз
Линяющей красой.
Но в средостенье Сказки
Не потускнеют краски,
Здесь каждый луч расцветкой жгуч,
Наполнен теплотой.
И вновь свои владенья
Хотят принять виденья —
Черты теней минувших дней
Плывут передо мной.
1882 г. [63]
ПОДРАЖАНИЕ
Леди Клара Вир де Вир!
Лет ей восемь, может быть;
Кудрей каждое колечко — злата свёрнутая нить.
Мисочку мне подала;
Не воздам такой хвалу.
Что за утварь! Проржавеет — так испортит и халву.
«Братья, сёстры, моя мисс?
Здесь инспектор: как сова,
Он хватает, кто не знает, сколько будет дважды два!»
ИГРА ВПЯТЕРОМ
Пять девочек-малюток, от года до пяти:
Резвятся у камина — играть им да расти.
Пять девочек-милашек, с шести до десяти:
Учитесь пенью-чтенью, да как себя вести.
Пять девушек растущих, одиннадцать меньшой:
На классы да питанье расход уж пребольшой.
Пять девушек-красавиц, и младшенькой шестнадцать:
С юнцами им построже пристало объясняться.
Пять дев нетерпеливых, и старшей двадцать пять:
Коль предложений нету, придётся пропадать.
Пять девушек эффектных, да только в тридцать лет
От этого эффекта уже не тот эффект.
Пять девушек, пять модниц от тридцати и дале
Уж с робкими юнцами приветливыми стали.
* * * * * *
Пять девушек поблекших... Их возраст? Всё равно!
Тащиться им по жизни как прочим суждено.
Но, к счастью, знает каждый «беспечный холостяк»
Решение проблемы, «где денег взять и как».[65]
УРОК ЛАТЫНИ
Латынь к столу зовёт. Итак:
Серьёзный Цицерон,
Затем Гораций-весельчак;
Но есть глагол один — костяк
Познаний наших он.
Всех выше как ему не быть?
Amаre, учим мы, — ‘любить’!
Ещё цветок — ещё глоток:
Мы жизни пьём нектар.
Но туч нагонит ветерок,
А в блеске глаз, в румянце щёк —
Грядущих стычек жар.
Для нас как будто решено:
«Amаre... горькое оно!»
Вчера под вечер мудрых слов
Постигли мы угрозы:
Мол, «нету розы без шипов».
Но утро, мир; ответ готов:
«И нет шипов без розы!»
Ура! Пошёл урок на лад:
Любовь есть горький шоколад!
Май 1888 г. [66]
ПОЕЗДКА МЭГГИ В ОКСФОРД
(9—13 июня 1889 г.)
«Малышкой Бутлеса» она
Как бы с гастрольным туром
Явилась. «Видеть всё должна,
Будь даже небо хмурым!»
Приятель, знающий места,
Водил её немало.
В Крайст Чёрч на кухню неспроста
Свернули для начала.
А повара стоят и ждут,
Как будто с уговором;
Шагнула Мэгги к ним — и тут
Они как грянут хором
Свободы Боевую Песнь!
«Жарьте и варите,
Мэгги угостите;
Сочная котлета —
Лучшая диета!
Мэгги объеденье —
Нам на загляденье;
Тоненькая слишком
Бутлеса малышка!»
Затем — то улочка, то двор:
Бродили и глазели.
Вот Трапезная, вот Собор,
Аж ноги заболели.
По Ворстер Гарден к озерцу
Ступали под листвой,
К Сент-Джону, старцу-молодцу
Окольной шли тропой.
Лужайка колледжа Сент-Джон
Всегда к себе влечёт.
«Гляди! — вскричала Мэгги. — Вон!
Какой чудесный Кот!»
Бродила Мэгги взад-вперёд
По дворику Сент-Джона.
Ходил за ней Чудесный Кот
И пел неугомонно
Свободы Боевую Песнь:
«Мяу, мяу, Кошки!
Мэгги на дорожке:
Ну-ка, не ленитесь —
Мэгги поклонитесь;
Хвосты распушите,
Мэгги помашите.
Бросьте „кошки-мышки“,
Все бегом к Малышке!».
Но вот пора в Крайст Чёрч назад —
За ужин без забот;
Уж чашки чайные стоят,
Студент особый ждёт.
Назавтра вновь идут гулять —
Из парка в парк теперь.
А в Ботаническом-то — глядь:
Стоит свирепый Зверь.
Да только Мэгги нипочём
Свирепость невсерьёз:
Из камня Вепрь — не бьёт хвостом
И крепко в землю врос.
Вот Модлен-колледжа крыльцо;
Высокая стена.
На ней огромное лицо,
И Мэгги сражена.
Но тоже, видно, неспроста
Какой-то ученик
Загнул повыше угол рта —
И улыбнулся лик!
Девчушка — в смех: «Ему везёт!
Пускай бы мне друзья
Всегда вот так тянули рот,
Когда весёлость пропадёт,
Чтоб улыбалась я».
Олени к ней бегут гурьбой
Во всю оленью прыть,
Ведь Мэгги хлеб взяла с собой
Милашек покормить.
Она их кормит с рук, смеясь;
Олени знай жуют;
Вкруг Мэгги скачут, не боясь,
И, чавкая, поют
Свободы Боевую Песнь:
«Преклоним колени
Перед ней, олени!
Славная девчушка —
Будет нам подружка;
Мэггин голосочек
Точно ручеёчек,
Меггина ручонка
Точно у зайчонка.
Ласковая слишком
Бутлеса малышка».
Епископ там любил гулять
Огромный, точно слон.
«Нельзя ли в жёны Мэгги взять?» —
Как видно, думал он.
Себе решила Мэгги: «Нет!»
Вот с этим в брак вступить?
Так много господину лет,
Как только может быть.
«Малышка Бутлеса, милорд, —
Её представил друг. —
Мы просто ходим взад-вперёд
И смотрим всё вокруг».
«И как вам?» — спрашивает тот.
А девочка на это:
«Во всей провинции, милорд,
Красивей места нету!»
Назавтра утром — в путь, домой!
Уж Оксфорд вдалеке.
Все мысли Мэгги до одной
Об этом городке.
Состав спешит, и пар шипит,
Качается вагон;
Состав стучит, а Мэгги спит...
И слышится сквозь сон
Свободы Боевая Песнь:
«Оксфорд, до свиданья!
Нелегко прощанье.
Старый город милый,
Башенки и шпили,
Дворики, садочки,
Лужайки, цветочки,
Главный колокол Фомы —
В общем, всё видали мы.
Спит, устала слишком
Бутлеса малышка!» [67]
К М. Э. Б.
Мятеж ли фей тому виной,
Но Мэб, с венцом простясь,
Нашла приют в земле иной,
В ребёнка обратясь.
О девица, мне ясно сразу:
Когда сидишь над книжкой сказок,
А вялый пальчик не стремится
Переворачивать страницы,
Твои мечтательные взгляды
Виденьям издалёка рады
И возрождают между строк
Родного царства уголок [68].
РАССКАЗЫ
НОВИЗНА И РОМАНТИЧНОСТЬ
Поначалу я испытывал большие затруднения, назвать ли описываемый период моей жизни «Причитанием» или же «Хвалебной песнью», так много содержится в нём великого и восхитительного, так много мрачного и жестокого. Но в поисках чего-нибудь среднего между этими двумя обозначениями я наконец остановился на приведённом выше заглавии — разумеется, неверном; я всегда поступаю неверно, но позвольте эту тему не продолжать. Настоящий оратор, как правило, никогда не поддаётся наплыву чувств при зачине; всё, что он может себе позволить, взяв слово, — это банальнейшие общие места, а распаляется он уже потом и постепенно. Как говорится, «vires acquirit eundo» [69]. Поэтому пока достаточно лишь сказать, что зовут меня Леопольд Эдгар Стаббс. Я умышленно заявляю об этом, предваряя свой рассказ, с тем чтобы читатель по какой-либо случайности не спутал меня со знаменитым сапожником с Потл-стрит, что в Кэмберуэлле, носящим такое же имя, или с моим менее достойным уважения, но более известным однофамильцем, комедийным актёром Стаббсом из Канады. Какие-либо отношения с ними обоими я отвергаю с ужасом и презрением, но ведь нет преступления в том, чтобы зваться так же, как эти два вышеупомянутых человека, которых я никогда в глаза не видел и, надеюсь, никогда не увижу. Но покончим с общими местами. Ответь же мне ныне, человече, мудрый в разгадывании снов и знаков, как случилось, что в некую пятницу вечером, круто свернув с Грейт Уотлс-стрит, я внезапно и без особой радости столкнулся с отзывчивым малым нерасполагающей наружности, но с глазами, сверкавшими натуральным огнём гениальности? Ночью я размечтался, что великая идея моей жизни на пороге осуществления. Какова же великая идея моей жизни? Я тебе расскажу. Расскажу со стыдом и скорбью. С мальчишеских лет моим томлением и страстью (преобладавшими над увлечением игрой в мраморные шарики и беготнёй голова в голову и сравнимыми разве что с любовью к ирискам) была поэзия, — поэзия в самом широком и неопределённом значении слова, поэзия, не сдерживаемая законами смысла, рифмы или ритма, а воспаряющая над миром и звучащая отголосками музыки небесных сфер! Ещё с юности — нет, с самой колыбели — жаждал я поэзии, красоты, новизны и романтичности. Когда я говорю «жаждал», я использую слово, мало подходящее для описания своих переживаний в минуты душевного умиротворения; оно так же мало способно обрисовать безудержную импульсивность моего вдохновения, как те далёкие от анатомической достоверности картинки, украшающие наружные стены театра Адельфи и представляющие Флексмора во всех мыслимых положениях, никогда доселе не удававшихся человеческому телу, дают склонным порассуждать посетителям партера действительное понятие о мастерстве и ловкости этогозамечательного симбиоза живой плоти и каучука. Но я отклонился в сторону, — вот странность, если мне позволено будет так выразиться, характерная для жизни; а как я обнаружил однажды (время не позволяет мне рассказать об этом случае поподробнее), на мой вопрос «Что же такое жизнь?» никто таки из присутствующих (а наша компания насчитывала девятерых, включая официанта, и вышеозначенное наблюдение было сделано уже после того, как убрали суп) не был в состоянии дать мне рассудительный ответ. Стихи, которые я писал в ранний период моей жизни, отличались совершеннейшей свободой от общепринятых норм и, таким образом, не соответствовали существующим литературным требованиям, — лишь будущие поколения станут их читать и восхищаться, «когда Мильтон, — так частенько восклицал мой почтенный дядюшка[70], — когда Мильтон и ему подобные будут забыты!» Если бы не этот благожелательный родственник, я бы твёрдо уверовал, что поэзия моей души никогда не выберется в свет; я до сих пор не забыл то чувство, что проняло меня, когда он предложил мне шестипенсовик за рифму к слову «тирания». По правде говоря, успех никогда не сопутствовал мне в подборе рифм, но всё же в следующую же среду я занёс на бумагу свой известный «Сонет к умершей кошке», а в течение последующих двух недель начал сразу три эпические поэмы, названия которых я теперь и не упомню. За свою жизнь я подарил неблагодарному миру семь томов поэзии; они разделили судьбу всякого истинно гениального творения — безвестность и презрение. И не из-за того, что в их содержании можно было обнаружить те или иные нелепости; каковы бы ни были их недочёты, ни один рецензент пока не отваживался их критиковать. Факт замечательный! Единственное моё произведение, возбудившее в свете хоть какой-то шум, было сонетом, адресованным одному из членов муниципалитета Магглтона-на-Суилсайде[71] по случаю его избрания мэром этого города. Сонет широко ходил по рукам и некоторое время вызывал многочисленные разговоры; и хотя его герой в силу типичной неразвитости ума не сумел оценить по достоинству содержащиеся в стихотворении тонкие комплименты и, по правде говоря, отзывался о нём скорее невежливо, я склонен думать, что моё творение обладало всеми признаками великого произведения. Заключительная строфа была добавлена по совету одного друга, который уверил меня в необходимости завершить мысль. Я прислушался к его зрелому суждению.
Когда беда рвала плоды скорбей
В разбитом царстве безнадёжных дней,
Иллюзий мрак ловил лучи извне,
Чтоб пробудить росток в гнилом зерне;
Когда монархи, измельчав душой,
Посыпались, пропав во тьме ночной,
Была пята убийства гнётом плеч,
Дымился кровью ненасытный меч;
В тот час ты власть являл нам не вотще
(Коль час такой мы зрели вообще);
В тот час к тебе взывают неспроста
Уста мои и лучшие уста,
И люди ждут героя своего —
В такой вот час, не ранее того!»
ФОТОГРАФ НА СЪЕМКАХ
Я потрясён, разбит, болен и весь покрыт синяками. Как я уже много раз вам толковал, я не имею ни малейшего представления, что со мной случилось, и нет смысла докучать мне ещё какими-либо расспросами. Могу прочесть вам, коли желаете, выдержки из моего дневника, которые содержат полное описание произошедших вчера событий; однако, если вы ожидаете найти в моих записках ключ ко всей загадке, боюсь, вас ждёт разочарование. 23 августа, вторник. Говорят, что мы, фотографы, народец в лучшем случае незрячий, что мы приучились смотреть даже на самые миловидные лица как на обыкновенную игру света и тени, что мы редко любуемся и никогда не любим. Вот заблуждение, которое я страстно желаю развеять; лишь найти бы мне в качестве модели юную девушку, воплощающую мой идеал красоты, — да ещё бы имя её было... сам не знаю почему, но более всех других слов английского языка мне милее слово «Амелия», — и я совершенно уверен, что смог бы стряхнуть эту свою холодную, рассудочную безжизненность. В конце концов мой час настал. Этим самым вечером я столкнулся в Хаймаркете с молодым Гарри Гловером. — Таббс! — воскликнул он, фамильярно хлопнув меня по спине. — Мой дядюшка желает видеть вас завтра на своей загородной вилле; возьмите фотоаппарат и всё к нему причитающееся! — Но я не знаю вашего дядюшки, — ответил я со свойственной мне осторожностью. (N.B. Если и есть у меня какое достоинство, так это спокойная, приличествующая джентльмену осторожность.) — Ничего, приятель, он зато всё знает о вас. Садитесь на самый ранний поезд и прихватите полный набор склянок, так как у нас вы найдёте много физиономий, которые только и ждут, чтобы их изуродовали, и... — Не могу я, — сказал я весьма резко, ибо объём работы меня обеспокоил, и к тому же мне захотелось прервать разговор, изобилующий нелитературными выражениями, чего я посреди людной улицы решительно не переношу. — Что ж, они здорово расстроятся, — сказал Гарри, причём его лицо ничего не выражало. — И моя кузина Амелия... — Ни слова больше! — воскликнул я с жаром. — Я еду! И так как в этот момент подошёл мой омнибус, я запрыгнул в него и с грохотом отъехал, оставив Гарри приходить в себя после быстрой смены моего настроения. Значит, решено: завтра мне предстоит увидеть некую Амелию и — ну, судьба! что ты мне приготовила? 24 августа, среда. Восхитительное утро. Спешно собрался, разбив при этом, по счастью, всего две бутылки и лишь три линзы. Прибыл на виллу «Розмэри», когда всё общество сидело за завтраком. Отец, мать, два сынка-школьника, куча малышей и неизбежный младенец. Но как же мне описать дочь? Любые слова здесь бессильны. Перспектива её носа была изумительна; ротик, правда, следовало бы созерцать под наименьшим возможным ракурсом, зато изысканные полутона щёк скрадывали все дефекты текстуры, а что касается светового блика на подбородке, то он был (говоря языком фотографов) без дефектов. Что за фотопортрет мог бы получиться с неё, если бы судьба не... Но я опережаю события. Там присутствовал капитан Фланаган... Я понимаю, что предыдущий абзац обрывается несколько резковато, но когда я дошёл до этого места, то вспомнил, что этот идиот в самом деле полагал, будто он помолвлен с Амелией (моей Амелией!). А потому я поперхнулся и не смог продолжить. Это правда, капитан имел хорошую фигуру; некоторые могли бы залюбоваться его лицом, но чего стоят лицо или фигура, если нет мозгов? Меня с точки зрения фигуры можно было бы, вероятно, назвать «здоровым»; комплекция у меня не та, что у ваших военных жирафов, — но зачем мне описывать самого себя? Мой фотопортрет (мною же и сработанный) послужит миру достаточным свидетельством. Завтрак, без сомнения, был хорош, но я не осознавал, что именно ем и пью. Я жил только для Амелии. Заглазевшись на это бесподобное чело, на это чеканное лицо, я в невольном порыве сжал кулак (опрокинув при этом свою чашку с кофе) и мысленно воскликнул: «Я сфотографирую эту девушку или погибну!» После завтрака моя работа началась, и я здесь кратко опишу её. Снимок N1: Paterfamilias [79]. Этот снимок я желал бы повторить, но все заявили, что вышло очень даже хорошо и у главы семейства «как раз его обычное выражение лица». Неужели и впрямь его обычное выражение таково, словно в горле у него застряла кость, он изо всех сил стремится избежать удушья и от натуги разглядывает кончик своего носа обеими глазищами, или же подобное заявление было призвано приукрасить результат? Снимок N2: Materfamilias [80]. Усевшись, она сказала нам с жеманной улыбкой, что «в юности очень сильно увлекалась театральными постановками» и что «желает сфотографироваться в образе своей любимой шекспировской героини». Что это за героиня, я после длительных и лихорадочных размышлений отчаялся выяснить, так как не ведаю ни одной героини Шекспира, у которой бы осанка, выражающая такую порывистую энергию, сочеталась с полнейшим безразличием лица, или коей подошёл бы костюм, включающий голубое шёлковое платье с перекинутым через одно плечо шарфом горца, кружевной гофрированный воротник времён королевы Елизаветы и охотничий хлыстик. Снимок № 3, 17-я проба. Посадил младенца в профиль. Дождавшись, когда стихло его обычное брыкание, снял крышечку с объектива. Маленький негодник тотчас откинул головку назад, к счастью, всего на дюйм, так как на её пути встал нянин нос. Младенец добился-таки «первой крови» (выражаясь спортивным языком), поэтому ничего удивительного, что фотография зафиксировала два глаза, нечто, лишь отдалённо напоминающее нос, и неестественно разверстый рот. Я назвал это снимком анфас и перешёл к Снимку № 4: три молодые девушки, вид у которых такой, словно каким-то образом им, причём троим сразу, влили сильнейшую дозу лекарства, предварительно повязав их собственными волосами, а затвор щёлкнул в тот момент, когда сморщенные после приёма лица ещё не разгладились. Разумеется, я придержал своё мнение при себе, сказал только, что «это напоминает мне изображение трёх Граций», однако моё заявление завершилось невольным стоном, который мне чрезвычайно трудно было выдать за кашель. Снимок № 5. Он должен был бы стать шедевром этого дня — всё семейство, рассаженное обоими родителями с целью изобразить идею радостей семейной жизни вкупе с аллегорией. В намерение входило представить увенчание младенца цветами с помощью соединённых усилий детей, направляемых советами отца под личным надзором матери; одновременно это должно было означать «Победу, передающую свой лавровый венок Невинности, в окружении Решительности, Независимости, Веры, Надежды и Милосердия, содействующих выполнению этой возвышенной миссии, в то время как Мудрость ласково на них глядит и одобрительно улыбается!» Таковым, повторяю, было намерение; результат, на взгляд любого непредубежденного наблюдателя, имел однозначное толкование: младенец в припадке, мать (несомненно, под влиянием ошибочных представлений об основах человеческой анатомии), пытающаяся вернуть его к жизни путём пригибания его макушки до соприкосновения с грудкой; два мальчугана, в предчувствии скорой кончины малютки отрывающие от его волос по локону в память рокового события; две девушки, ожидающие своей очереди на доступ к волосам ребёнка и коротающие время за удушением третьей; и, наконец, папаша, в отчаянии от необычного поведения своей семьи зарезавшийся и теперь шарящий рукой в поисках своего письменного прибора, дабы сделать о своём поступке памятную запись. Всё это время я не имел случая пригласить к аппарату свою Амелию, но в продолжение второго завтрака я улучил-таки момент и, порассуждав о фотографировании вообще, повернулся к ней со словами: — До темноты, мисс Амелия, я надеюсь иметь честь отобразить на негативе вас. Она же ответила мне с милой улыбкой: — Конечно, мистер Таббс. Здесь неподалёку есть домик, мне хочется, чтобы вы его сфотографировали после завтрака. Когда вы закончите, я буду в вашем распоряжении. — И поверьте, негатива у вас будет препорядочно! — встрял этот ужасный капитан Фланаган. — Устроим ему, дорогая Мели? — Весьма надеюсь, капитан Фланаган, — перебил я его с величайшим достоинством. Но моя вежливость пропала втуне, ибо это животное разразилось громким «о-хо-хо!», так что мы с Амелией сами едва не расхохотались над его манерами. Девушка, однако, с природным тактом исправила положение, заявив этому медведю: — Ну-ну, капитан, нельзя подвергать его жестокому обращению. (Меня — жестокому обращению! Меня! Благослови тебя Господь, Амелия!) В этот момент я ощутил внезапный пароксизм счастья, и слёзы навернулись мне на глаза, когда я подумал: «Исполнилась мечта моей жизни! Я сфотографирую Амелию!» Я и вовсе пал бы на колени, чтобы возблагодарить её, если бы при этом меня не скрыла скатерть и если бы я не знал заранее, насколько трудно бывает после этого вновь принять нормальное положение. И всё же в конце трапезы я ухватился было за возможность дать выход переполнявшим меня чувствам. Повернувшись к сидевшей рядом Амелии, я едва успел прошептать ей: «В груди, где это сердце, моя дорога...» [81] — но не закончил фразы, так как за столом вдруг воцарилось молчание. С восхитительным присутствием духа Амелия произнесла: — Ещё пирога, говорите, мистер Таббс? Капитан Фланаган, будьте любезны, отрежьте мистеру Таббсу во-о-н того пирога. — Его почти не осталось, — сказал капитан, нагнув свою большущую голову почти к самому пирогу. — Я передам ему всё блюдо, Мели, ладно? — Не надо, сэр, — вмешался я, бросив на него уничтожающий взгляд, но он только усмехнулся и произнёс: — Не скромничайте, Таббс, мой мальчик. В кладовке пирогов ещё хватает. Амелия с беспокойством взглянула на меня, и мне пришлось проглотить гнев — и пирог тоже. Второй завтрак закончился, и я, получив разъяснения, как добраться до домика, приладил к своей камере накидку, предназначенную для проявления негативов на открытом воздухе, саму камеру водрузил на плечо и направился к холмам, на которые мне указали. Моя Амелия сидела за работой у окна, когда я со своим аппаратом проходил мимо; ирландский идиот был подле неё. В ответ на мой исполненный бессмертной любви взгляд она сказала с тревогой: — Мистер Таббс, вам, наверно, очень тяжело? У вас разве нет мальчика-носильщика? — Или ослика, — хихикнул капитан. Я сдержал шаг и круто обернулся, чувствуя, что человеческое достоинство и свобода личности должны отстоять свои права сейчас или никогда. Ей я сказал просто: «Благодарю вас!», послав при этом воздушный поцелуй, затем, вперив взгляд в стоящего тут же идиота, я прошипел сквозь стиснутые зубы: — Мы ещё встретимся, капитан! — Надеюсь, Таббс, — ответил безмозглый болван. — Ровно в шесть, за обедом, помните! Холодная дрожь пронизала меня. Я приложил величайшее усилие, чтобы её побороть, но мне это не удалось. Что ж, я снова приладил свою камеру на плечо и угрюмо зашагал прочь. Пара шагов, и вот я совладал с собой. Зная, что её взгляд был устремлён на меня, я ступал по гравию упругой поступью. Что за дело было мне в этот момент до всего капитанского племени? Могло ли оно поколебать моё самообладание? Холм располагался примерно в миле от виллы, поэтому я достиг его усталым и запыхавшимся. Но мысли об Амелии придавали мне сил. Место я выбрал такое, чтобы с него открывался наилучший вид на домик и чтобы можно было также захватить в кадр крестьянина и корову, бросил влюблённый взгляд в направлении отдалённой виллы и, бормоча: «Амелия, всё это ради тебя!», снял колпачок с объектива. Спустя одну минуту и сорок секунд я вновь надел его. — Дело сделано! — вскричал я в безотчётном порыве. — Амелия, ты моя! Нетерпеливо, дрожа всем телом, сунул я голову под накидку и приступил к проявке. Деревья несколько размыты — ничего! Ветер их слегка качнул; это не имеет особого значения. Крестьянин? Он сдвинулся на пару дюймов, и я с сожалением обнаружил у него слишком много рук и ног — не страшно! Назовём его пауком или многоножкой. Корова? Нехотя должен признать, что у неё оказалось три головы; хотя такое животное может быть весьма любопытным, оно совершенно не живописно. Зато насчёт домика нельзя было ошибиться, его дымоходы не оставляли желать лучшего, и — «Принимая во внимание всё вместе, — думал я, — Амелия будет...» Но в этот момент мой внутренний монолог был прерван хлопком по плечу, который к тому же оказался скорее повелительным, чем вежливым. Я вылез из-под накидки (излишне говорить, с каким сдержанным достоинством) и повернулся к чужаку. Это был плотный человек в грубой одежде, с виду омерзительный. Во рту он держал соломинку. Его спутник полностью ему соответствовал. — Молодой человек, — произнёс первый, — вы заявились без спросу в чужие владения, так что удалитесь, и весь тут сказ. Едва ли следует говорить, что я не обратил на его слова никакого внимания, а взял бутылочку с гипосульфитом натрия и приступил к фиксации изображения. Мужлан попытался меня остановить, я дал отпор; негатив упал и разбился. Из дальнейшего не помню ничего, могу лишь высказать смутную догадку, что я кому-то как следует врезал. Если в том, что я вам только что прочёл, вы способны отыскать какое-либо объяснение моему теперешнему состоянию, то дерзайте; но сам я, как и прежде, могу повторить лишь, что я потрясён, разбит, болен, весь покрыт синяками и не имею ни малейшего представления о том, что со мною произошло.
ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШМИТЦ
Глава 1
«Вот так всегда!» Старинная пьеса [82]Знойное сияние полудня уже уступило место прохладе безоблачного предвечерия, и умиротворённый океан с лёгким нашёптыванием, внушающим поэтичным умам фантазии насчёт разоблачения и омовения, кропил мол, когда вдали показались двое путников, приближающихся к уединенному городишке под названием Уитби по одной из тех головокружительных троп, удостоенных наименования дороги, которые только и могут вести в такие городки и которые обычно бывают проложены, надо полагать, согласно некоему фантастическому образцу трубы, подводящей к бадье дождевую воду. Старший из путников был измождённым мужчиной с желтоватым лицом, украшенным чем-то, на расстоянии часто принимаемым за усы, и скрытым под бобровой шапкой сомнительного возраста, а вся его наружность была если не представительной, то по крайней мере почтенной. Более молодой, в котором понятливый читатель уже опознаёт героя моего рассказа, имел обличье, которое, раз увидев, уже нельзя было забыть: лёгкая склонность к тучности казалась лишь незначительным изъяном в мужском изяществе его осанки, и хотя строгие законы красоты, вероятно, потребовали бы несколько более длинных ног для большей пропорциональности фигуры, хотя глазам его следовало точнее соответствовать друг другу по цвету и форме, чем это выходило на самом деле, но тем критикам, которые в своих суждениях не стеснены строгими правилами вкуса — а таких ведь много, — и тем, которые способны были закрыть глаза на недостатки его облика и возвестить о его прелестях, сколь бы малое число их ни отыскалось ради этого, тем, помимо прочих, кто знал и ценил его качества как личности и верил, что сила его разума превосходила аналогичные способности людей той эпохи, хотя — увы! — ни один такой ценитель ещё не подвернулся, — для тех он был сам Аполлон. Разве имеет значение, если и можно было с определенной долей правоты утверждать, будто его волосы сдобрены слишком большим количеством сала, а его руки обработаны недостаточным количеством мыла? Что его нос слишком сильно загнут вверх, а воротник его рубашки — слишком сильно вниз? Что его усы позаимствовали у щёк все их румяна, за исключением малой щепоточки, которая сбежала на жилет? Такие мелочи не стоят замечания со стороны тех, кто претендует на завидное звание знатока. Наречён он был Уильямом, а батюшку его звали Смит, однако, хотя он, представляясь в высших лондонских кругах, внушительно величал себя «Мистер Смит из Йоркшира», ему, к несчастью, не удалось заполучить ту долю внимания публики, которую он по собственному убеждению заслуживал. Напротив, одни спрашивали его, насколько в глубь веков может проследить он свою родословную, другие были достаточно злы, чтобы намекать, будто в его общественном положении нет ничего особенного, в то время как насмешливые расспросы третьих, задевающие законное пэрство его семьи, на которое он, как досуже судачили, почти что не претендовал, пробуждали в груди этого великодушного юноши жгучую тоску по тому высокому происхождению и тому родству, в которых враждебная Фортуна ему отказала. Тогда он задумал преподносить о себе некий вымысел (который в его случае, возможно, следует считать поэтической вольностью), благодаря которому подвизался в свете под звучным именем, выставленным в заглавии данного рассказа. Такой шаг уже способствовал значительному росту его популярности — обстоятельство, о котором его друзья отзывались непоэтичным сравнением со свежей позолотой фальшивого соверена [83], но которое сам он более красочно описывал так: «...Бледная фиалка средь мшистых кочек прозябала жалко, но восседает днесь меж королей» — участь, для которой, согласно всеобщему мнению, фиалки не предназначены природой. Путники, погружённые каждый в свои думы, молчаливо спускались по крутизне, и только время от времени, натыкаясь на необычайно острый камень или неожиданный провал на тропе, они невольно издавали одно из тех болезненных восклицаний, которыми с таким торжеством демонстрирует себя связь бытия и мышления. Наконец более молодой путник, усилием воли пробудившись от тягостных фантазий, перебил и думы своего товарища неожиданным вопросом: — Думаешь, аппетит здесь помог ей раздаться в талии? Мы думаем, нет. — «Ешь, ем»… Не дошли же ещё до твоей харчевни, — раздражённо откликнулся тот, но поспешил поправиться и с прелестным чувством грамматики подменил одну экспрессивную фразу другой. — Ишь, ему думается, нет! А кто такая? — Забыл ли ты, — ответил молодой человек, естество которого было столь глубоко поэтично, что он никогда не говорил обыкновенной прозой, — забыл ли ты, о чём мы давеча беседовали? Моими мыслями она одна владела. — Давеча! — отозвался его друг саркастическим тоном. — Прошёл уже добрый час, как ты о ней последний раз упомянул. Молодой человек кивнул, соглашаясь. — Час? Что ж, верю. Мы миновали Лит, припоминаю, когда в твоё ухо нашептал я трогательный сонет к морю, написанный мной недавно и начинающийся так: «О море в шуме, ярости и пене...» — Помилуй! — перебил другой, умоляющий голос которого звучал вполне искренне. — Давай не будем начинать сначала. Я уже терпеливо выслушал его один раз. — Выслушал так выслушал, — сказал расстроенный поэт. — Хорошо же, я снова предамся мечтаниям о ней. Он нахмурился и закусил губу, затем забормотал про себя что-то вроде «жесток, недалёк умок», наверно, пытался подобрать рифму. Наша парочка проходила теперь близ моста; слева располагались мастерские, справа была вода, снизу доносился неясный гул моряцких голосов и, подхваченный ветром с моря, долетал запах, смутно напоминающий солёную селёдку. Всё это, от плеска волн в гавани до лёгкого дымка, грациозно курившегося над крышами домов, вызывало в одарённом юноше одни лишь поэтические переживания.
Глава 2
«Я, я один». Старинная пьеса— Кстати, о ней, — возобновил разговор прозаически настроенный спутник, — зовут-то её как? Ты ведь этого мне ещё не сказал. Лёгкое смущение пробежало по привлекательным чертам юноши. Неужто её имя было столь непоэтичным, что не соответствовало представлениям поэта о гармонии? Он ответил нехотя и едва внятно: — Её зовут, — произнёс он, слегка запинаясь, — Сьюки. Долгий и низкий присвист явился единственным ответом, затем старший из собеседников поглубже сунул руки в карманы и отвернулся, в то время как несчастный юноша, по чьим болезненным нервам насмешка приятеля ударила слишком больно, с силой ухватился за перила, чтобы удержаться на ослабевших ногах. В этот момент их ушей достигли отдалённые звуки музыки, раздававшейся на утёсе. Менее чувствительный из спутников направился как раз в ту сторону, а горемычный поэт устремился на мост, чтобы там незаметно для прохожих дать выход еле сдерживаемым чувствам. Когда он достиг середины моста, солнце уже заходило, и спокойная поверхность воды, расстилавшаяся под ним, усмирила его смятённый дух, поэтому он просто печально преклонил своё чело к перилам и задумался. Какие видения теснились в этой возвышенной душе, когда с лицом, начинавшим лучиться интеллектом, стоило ему просто приобрести выразительность, и хмурым взглядом, которому недоставало лишь величественности, чтобы быть ужасающим, вперял он в медлительный прилив такие прекрасные, хотя и воспалённые глаза? Видения его детства, сцены счастливой поры передничков, сюсюканья и невинных шалостей; а сквозь долгую вереницу прошедших лет проносились призраки давно забытых прописей, грифельных досок, густо исписанных унылыми арифметическими задачами, редко решаемыми до конца и никогда — правильно; его костяшкам и корням волос вернулись болезненные ощущения какого-то зуда — он снова был мальчиком. — Ну-ка, парень, ты там! — вторгся в его думы голос. — Сдвинься туда или сюда, ты же стоишь как раз посерёдке! Но слова тщетно летели ему в уши либо же возбуждали новые толпы фантазий. — Посерёдке, да, посерёдке, — прошептал он глухо, а затем громче, когда его осенила замечательная идея. — Да я тут совсем как Колосс Родосский! — При этой мысли он разогнулся, выпрямившись во всю свою мужскую стать, и утвердился на широко расставленных ногах. ...Было ли то иллюзией, порождённой его разгоряченным мозгом? Или неумолимой реальностью? Медленно, медленно разверзался под ним мост, и вот уже стойка его стала терять свою устойчивость, вот уже пропало величие в его осанке, но ему не было дела до того, чем это чревато, — в самом деле, не Колосс ли он? ...Широкий шаг Колосса, возможно, и рассчитан на любую неприятность, но эластичность фланели имеет предел, и имеется один рискованный шов... в общем, «природы сила в нём изнемогла» [84], почему и очистила поле боя, её же место заступила сила тяготения. Иными словами, молодой человек рухнул. А «Хильда» медленно шла своим курсом; она понятия не имела, что по её милости представитель сословия поэтов сверзился под разведённый мост, и не догадывалась, чьи это две ноги, судорожно дёргаясь, пропадают во всплесках воды; люди попросту втащили на палубу промокшее, бездыханное тело, скорее похожее на утонувшую крысу, чем на поэта, перекинулись парой непочтительных слов, среди которых попадались выражения вроде «вот так тип» и «молокосос», и засмеялись. Да что понимали они в поэзии? Но обратимся к иной сцене. Длинный-предлинный зал, диваны с высокими спинками, натёртый пол; компания пьющих и балагурящих мужчин, клубы табачного дыма; сильное подозрение, что неподалёку ещё бутылки наготове. И она, прелестная Сьюки собственной персоной, весело скользящая через всё помещение, держа в этих лилейных ручках — что? Без сомнения, какую-нибудь гирлянду, сплетённую из самых душистых цветов на свете? Какой-нибудь хранимый как зеница ока том в сафьяновом переплёте с творениями древнего барда, над которыми обожает грезить любовь? Быть может, это «Стихотворения Уильяма Смита», её кумира, в двух томах in octavo[85], изданных несколько лет назад, из которых до сего времени был продан только один экземпляр, который сам же сочинитель и купил — чтобы подарить Сьюки. Так что же именно из перечисленного несёт с такой нежностью эта прекрасная девушка? Увы, ничего, а всего лишь ещё две порции закуски, которую минуту назад потребовали посетители пивной. А в небольшой гостиной тут же рядом, незамеченный и заброшенный, хотя его Сьюки была так близко, мокрый, грязный и растрёпанный сидел юноша; по его просьбе разожгли огонь, перед которым он сейчас и сушился, но это было совсем не то «радостное пламя, когда зима не за горами», если использовать его же собственное яркое выражение; на сей раз огонь был питаем хилой и трещащей охапкой хвороста, отчего происходил один лишь почти удушивший его дым, поэтому извиним поэта, который не был способен почувствовать так остро, как обычно, что «издревле и поныне британец, зря огонь в камине, уверен: не разрушит враг его незыблемый очаг!» (здесь мы снова используем собственные волнующие слова нашего героя). Официант, не догадываясь, что перед ним сидит поэт, пустился в доверительные разглагольствования; он прошёлся по различным материям, но юноша сидел с отсутствующим видом, однако как только официант завёл речь о Сьюки, тусклые глаза поэта вспыхнули и он бросил на говорящего дикий взгляд, полный презрительного вызова, который, к несчастью, не достиг цели, ибо официант в этот момент поправлял огонь и больше ничего не замечал. — Скажи, о скажи эти слова снова! — выдохнул поэт. — Я их, вероятно, не так понял! Официант поднял на него изумлённый взгляд, но любезно повторил своё последнее замечание: — Я просто сказал, сударь, что она необыкновенно умная девушка и что я хотел бы иметь её руку, но она заверила меня, что со временем я смогу овладеть её изящной... Но он не договорил, ибо поэт, издав рёв муки, без памяти ринулся из этого дома.
Глава 3
«Нет, это слишком!» Старинная пьесаВ нашем случае мрачность наступающей ночи выглядела гораздо более грозной, чем если бы дело происходило в каком-нибудь заурядном городишке, а всё из-за освященного временем обычая, которого придерживались жители Уитби, оставляющие улицы своего города совершенно неосвещёнными; ставя тем самым препону и без того прискорбно быстро распространяющемуся потопу прогресса и цивилизации, они выказывали немалую толику нравственной смелости и независимости суждения. Неужели здравомыслящие люди обязательно должны перенимать каждое новомодное изобретение сего века просто потому, что так сделали их соседи? Хулители подобной жизненной позиции могли бы заметить, что этим жители Уитби только навредили себе, и такой вывод был бы неоспоримой истиной, но он лишь возвеличил бы в глазах восхищённой нации их заслуженную репутацию приверженцев героического самоотречения и бескомпромиссной твёрдости намерений[86]. Страдающий от безнадёжной любви поэт отчаянно и очертя голову рвался сквозь ночь; то спотыкаясь о чьё-то крыльцо, то чуть не падая в сточную канаву летел он дальше и дальше, не различая дороги. В самом тёмном уголке одной из этих тёмных улочек (ближайшая освещённая витрина находилась ярдах в пятидесяти) случай столкнул его с тем самым человеком, от которого он бежал, с человеком, которого он ненавидел как удачливого соперника и который-то и довёл его до такого безумия. Официант, не догадываясь, в чём тут дело, последовал за поэтом, опасаясь, как бы с тем чего не случилось, и с намерением довести его до дому. Он и не подозревал, какой его ждёт удар. В тот миг, когда поэт разглядел, кто идёт рядом с ним, всё его затаённое бешенство наконец прорвалось; бросившись на официанта и схватив обеими руками за горло, он повалил его на землю, так что тот оказался на грани удушения, — и всё это было делом секунды. — Предатель! Негодяй! Мятежник! Цареубийца! — шипел поэт сквозь стиснутые зубы, сыпя всеми приходившими в голову бранными эпитетами, не затрудняя себя выбором более подходящих к месту. — Ты ли это? Сейчас ты почувствуешь мой гнев! Официант, без сомнения, действительно осознал, к чему может привести столь необычайное возбуждение, чем бы оно ни было вызвано, ибо он начал яростно сопротивляться и даже завопил «Убивают!», едва обрел дыхание. — Не говори так, — строго сказал поэт, в конце концов освобождая его, — ибо это ты убиваешь меня. Оправившийся официант начал было в величайшем недоумении: — Что вы, я никогда... — Ложь! — вскричал поэт. — Она не любит тебя! Меня, меня одного. — Да кто вам такое сказал? — ответил его противник, начиная догадываться, в чём всё дело. — Ты! Ты это сказал, — было брошено в ответ. — Что, негодяй? Хочешь заполучить её руку? Никогда! Официант принялся спокойно разъяснять: — Я сказал, сударь, что желал бы иметь её лёгкую руку, чтобы так же грациозно подавать за столом. Но она обещала обучить меня своим изящным манерам — я, видите ли, подумываю о месте метрдотеля в одной гостинице. Весь гнев поэта сразу же прошёл. Теперь он выглядел удручённым. — Прошу извинить моё насилие, — мягко сказал он, — и предлагаю выпить по стаканчику за дружбу. — Согласен, — был великодушный ответ официанта, — но, Святый Боже, вы порвали мне пальто! — Мужайся, — весело воскликнул поэт. — Скоро у тебя будет новое, да ещё из лучшего кашемира. — Гм, — нерешительно ответил официант, — а как насчёт прочего из одежды?.. — Из прочего — ни носка покупать не стану, — возразил поэт мягко, но решительно, так что официант уступил. Вновь наведавшись в мирную таверну, поэт проворно заказал большую кружку пунша, и когда её принесли, призвал своего товарища сказать тост. — Желаю вам обрести, — проговорил официант, впав в чувствительность, как бы мало его наружность тому ни отвечала, — Женщину! Она удвоит наши печали и уполовинит наши радости. Поэт осушил свой стакан, не обращая внимания на речевую ошибку своего приятеля, и время от времени эта внушённая вдохновением сентенция была повторяема в течение всего вечера. Так проходила ночь: они заказали ещё одну кружку пунша, затем ещё...
* * * * * * — А теперь позволь мне, — сказал официант, в десятый раз пытаясь встать на ноги и произнести речь, что ему теперь ещё явственнее оказалось не под силу, — сказать тост по поводу этого счастливого приключения. Женщина! Она удвоит... — Но в этот момент, для того, наверно, чтобы его любимое мнение стало нагляднее, он сам сложился вдвое, причём так успешно, что моментально исчез под столом. Можно предположить, что там, в пространстве с ограниченным кругозором, он впал в морализирование по поводу людских недугов вообще и о способах излечения от них, ибо из его убежища немедленно начал доноситься торжественный глас, прочувственно, хотя не совсем внятно доводя до всеобщего сведения, что «когда заботы налетят, — здесь последовала пауза, как если бы говоривший хотел услышать какие-либо предложения, но поскольку среди присутствующих не оказалось человека достаточно компетентного, чтобы продолжить беседу в соответствующем данной печальной возможности ключе, он сам попытался восполнить незавершённость высказывания следующим замечательным утверждением, — в ней всё, что я в ней видеть рад». Поэт тем временем сидел и тихо улыбался сам себе, потягивая свой пунш. Единственное, чем отметил он внезапное исчезновение своего товарища, было вновь наполненным стаканом и сердечным возгласом: «Твоё здоровье!», сопровождающимся кивком в ту сторону, где должен был бы находиться оратор. Затем он одобрительно крикнул «Верно, верно!» и попытался ударить по столу кулаком, но не попал. При упоминании сокрушенной заботой души он, казалось, оживился, так как пару раз понимающе подмигнул, будто имел много чего сказать по этому поводу, но окончание изречения подвигло его на произнесение собственного спича, и он тут же прервал подпольный монолог товарища, исступлённо продекламировав отрывок из стихотворения, которое сочинил не сходя с места:
Пусть даже мир неверен и жесток!
Нашёл я в нём прекраснейший цветок —
Тебя, тебя, о Сьюки, встретить смог!
Но как же так, скажи, могло случиться,
Что за слугу решила ухватиться?
За негодяя разве держишь Шмитца?
Но нет! Простак отставлен был кругом,
А ты сидишь, увенчана венком,
И песнь поёшь, и знаю я, о ком.
Разносчик пива, спутав сны и были,
Своею мнит ту лучшую из лилий,
Но близок, близок твой желанный Вилли.
И новый ключ душе откроет звуки,
Ведь Шмитц, будь деревенщина ли, дюк ли,
Твой весь во всём, о преданная Сьюки!
Глава 4
«Так вот каков конец...» Николас Никльби [87]Облачённые в сияющие покрывала, наброшенные на них только что взошедшим солнцем, валы вздымались и плюхали под утёсом, по которому шествовал поэт. Читатель, возможно, будет удивлён, что он так и не добился встречи со своей возлюбленной Сьюки; читатель может даже потребовать объяснения, только напрасно: единственная обязанность историка — с неотступной точностью записывать течение событий; если же он идёт дальше и пытается вникнуть в скрытые причины вещей, ответить на разные «почему» и «отчего», тогда он вступает во владения метафизиков. Теперь поэт достиг небольшого возвышения в конце посыпанной гравием дорожки, где нашёл местечко, господствующее над морской окрестностью. Там он устало опустился на землю. Некоторое время он мечтательно глядел на широкое пространство океана, но затем, взбудораженный внезапной мыслью, раскрыл маленький блокнотик и принялся править и дописывать своё новое стихотворение. При этом он еле слышно шептал сам себе: «Ветром — гетрам — фетром», нетерпеливо отбивая счёт ногой по земле. — А, сойдёт и так, — наконец промолвил он, облегчённо вздохнув: — поэтам!
О скалы был разбит его баркас,
Штормило море, обжигало ветром,
И тело дюжее, увы, никто не спас! —
В пучине смерть предписана поэтам.
Знай, Сьюки! Нам купил он, этот Маггл,
Своих деяний мерзость осознав,
Патент на обладание пивной.
Теперь мы сможем людям продавать
Табак и портер, пунш, вино и эль!
ЛЕГЕНДА ШОТЛАНДИИ
Сим предлагаю правдивое и ужасное свидетельство касательно тех покоев замка Окленд-Касл, что прозываются Шотландией, и событий, пережитых Мэтью Диксоном, Барышником, и одной Дамы, прозванной бывшими там Безодёжной, и касательно того, как случилось, что никто нынче не отваживается ночевать в тех покоях (верно, из страха); все же эти события произошли в дни славной памяти епископа Пруда и были записаны мною в год одна тысяча триста двадцать пятый, в месяце феврале, в день вторник и в дни последующие. Эдгар Катуэллис [88]
В то время означенный Мэтью Диксон, доставив в оное место товары, те самые, что прельстили милорда Епископа, и, приказав разместить себя на ночлег (что и было исполнено, причём он отужинал в охотку), отошёл ко сну в одной из комнат тех покоев, что ныне зовутся Шотландией, — откуда он и выскочил ополночь с таким громким криком, что всех перебудил, и люди, бегом к тому коридору кинувшись, столкнулись с ним, всё ещё кричавшим, но тут же ослабевшим и с ног свалившимся. Тогда они перенесли его в гостиную милорда и не без затруднений усадили в кресла, откуда он три раза сползал прямо на пол к изрядному присутствующих восторгу. Но, приведённый в чувство различными крепкими напитками (в первую очередь джином), он вскоре поведал плаксивым тоном о следующих обстоятельствах — и слова его, тут же клятвенно заверенные девятью краснощёкими и здоровенными крестьянами, живущими по соседству, я надлежащим образом здесь записал. Привожу свидетельство Мэтью Диксона, Барышника, находясь в здравом уме и в возрасте за пятьдесят, хотя и сильно напуганный по причине того, что я сам увидел и услышал в оном замке касательно Видения Шотландии и обоих Духов, о чём и повествует данное свидетельство, как и о некоей странной Даме и о тех прискорбных предметах, о которых она поведала, вкупе с иными печальными мелодиями и песнями, сочинёнными ею и другими Духами, и о хладе ужаса и сотрясении моих членов (произошедшем чрез тот сильный ужас), и о других любопытных предметах, особенно о Картине, которую в будущем сумеют-де создать без промедления и тогда кое-что воспоследует в одной подземной Камере (как было достоверно предсказано Духами), и о Мраке, вкупе с иными вещами, более ужасными, нежели Слова, и о той машине, которую люди тоже почему-то назовут Камерой. Мэтью Диксон, Барышник, поведал, что он, плотно поужинав к ночи яблочным пирогом, мокрой курицей и прочими разносолами от великих щедрот Епископа (говоря так, он посматривал на милорда и всё пытался снять со своей головы шляпу, но не преуспел в том, так как не имел на себе никакой шляпы), отправился на боковую, где в течение длительного времени был осаждаем яркими и страшными снами. И что в своих снах он видел молодую Даму, облачённую не (как ему казалось) в платье, но в своего рода халат, а возможно, в пеньюар. (Здесь Кастелянша заявила, что ни одна дама не появится в таком виде перед мужчиной, даже во сне, а Мэтью ответил: «Хотел бы стать на вашу точку зрения», — и он в самом деле поднялся на ноги, но не устоял.) Свидетель продолжал, что означенная Дама махнула туда-сюда большущим факелом, причём откуда-то раздался писклявый голосок «Безодёжная! Безодёжная!», и с ней, стоящей посреди комнаты, случились великие изменения: лицо её делалось всё более старческим, её волос седел, и приговаривала она самым что ни на есть печальным голосом: «Безодёжная, как нынешние дамы, но уж в грядущих годах не будет у них нехватки платьев». При этом её халат явственно изменялся, переходя в шёлковое платье, собранное в складки вверху и внизу, однако не украшенное ничем таким. (Здесь милорд, теряя терпение, стукнул его прямёхонько по голове, повелев ему закругляться с рассказом.) Свидетель продолжал, что означенное платье затем изменялось по фасонам, имеющим в грядущем войти в моду, что оно подгибалось в одном месте и подворачивалось в другом, открывая взору нижнюю юбку самого огненного оттенка, сказать прямо — густо-румяного, и при таком зловещем и кровожадном зрелище он застонал и заплакал. А тем временем её юбка принялась вздуваться в Громадность, которую описать уже свыше всяческих сил, чему способствовали, как он догадался, обручи, каретные колёса, надувные шары и прочее в том же роде, изнутри оную юбку вздыбившее. И что таким образом юбка заполнила всю комнату, распластав его самого по кровати до той минуты, как Дама соблаговолила отойти назад, как можно ближе к дверям, опалив на ходу его волосы своим факелом. Здесь Кастелянша перебила его, вставив замечание, что, верно, не дама это была, а какая-то девка, и что с этими девками, заявляющимися среди ночи к мужчинам, надо иметь глаз да глаз и что, верно, Мэтью Диксон сам не был достаточно осторожным. На это Мэтью Диксон сказал: «Сторожным? Действительно, на ста рожах сколько ж это будет глаз?» Кастелянша попыталась было встрять снова, но милорд резким тоном предложил ей заткнуться. Свидетель продолжал, что вследствие изрядного перепугу кости его (как он выразился) заколотились друг о дружку, и он попытался выпрыгнуть из-под одеяла, имея в виду сбежать. Всё же на некоторое время он оказался недвижим, но не вследствие, как можно было бы предположить, полноты чувств — скорее тела. А всё то время она этак заливисто выпевала отрывки старинных лэ, прямо как у мастера Уила Шекспира [89]. Здесь Милорд изволил полюбопытствовать, что именно она выпевала, утверждая, что уж он-то знает, какие лэ поются заливисто: «Мы у залива Трафальгар сдержали вражеский удар»[90] и «Мы лежали молчаливо у Бискайского залива»[91] — и он тут же вслух напел их, безбожно фальшивя, отчего невежи принялись скалить зубы. Свидетель продолжал, что он, возможно, и мог бы исполнить означенные лэ с музыкой, а без подыгрывания не отваживается. В ответ на это его отвели в классную комнату, где находился музыкальный инструмент, называемый Ги-тара (он и впрямь являл собой как бы тару, только какую-то чудную и непонятно из-под чего — кривой деревянный короб с небольшим круглым отверстием), на котором молодая Леди, племянница милорда, находившаяся в то время в означенной классной комнате (уча, как все мнили, свои уроки, но я полагаю, просто предаваясь безделью), с безбожным треньканьем проиграла музыку под его пение, и оба старались как могли, выводя мелодию, какую ни один живущий ещё не слыхивал:
«Лоренцо в Хайингтоне жил
(Ходил в хлопчатом кителе),
По крайней мере, в городке
Его частенько видели.
Ко мне зашёл и сел за стол —
Как в воду он опущен был;
Его прошу поесть лапшу,
А он в ответ: „Погуще бы“».
«Котелок его с лапшой,
Значит, дурень он большой!»
ИСТОРИЯ ДАМЫ «Приносящими свежесть осенними вечерами вы могли бы заметить расхаживающую по мощёным парковым дорожкам замка Окленд-Касл молодую Даму церемонных и дерзких манер, однако не настолько, чтобы отпугивать встречных, даже можно сказать, очень красивую, — и это было бы гораздо вернее. Эта молодая Дама, о несчастный, была я. (Тут я спросил её, почему она считает меня несчастным, но она ответила, что это не имеет значения.) В те времена я увенчивала себя плюмажем, но не для пущей красоты, а для придания величия осанке, и страстно желала, чтобы какой-нибудь Живописец написал мой портрет, но от этих живописцев ожидаешь всегда таких больших — не способностей, конечно, — но расходов. (Тут я смиреннейше полюбопытствовал, а за какую плату творили тогдашние живописцы, но она надменно заявила, что интересоваться финансовой стороной дела — вульгарно, поэтому она не знает и знать не хочет.) И вот случилось, что один Художник, благородный Лоренцо, оказался в этих краях, имея при себе чудесную машину, именуемую среди людей Камерой (самого бы его в камеру!); и с её помощью понаделал множество картин, каждую за единое мановение времени, в течение коего человек может произнести лишь «Джон, сын Робина». (Я спросил её, что такое «мановение времени», но она, нахмурившись, не ответила.) Он-то и отважился изобразить меня; я только об одном его просила, чтобы получился портрет в полный рост, ведь только так и можно было выставить напоказ мою статность и моё благородство. Тем не менее, хотя он и понаделал множество портретов, но в этом не преуспел, ибо на одних была моя голова, но отсутствовали ноги, на других, захватывавших ноги, не помещалась голова, так что первые огорчали меня, вторые же служили источником веселья остальным. По сему я справедливо негодовала, невзирая на то, что поначалу относилась к нему дружелюбно (хотя воистину был он туп), и часто с ожесточением била его по щекам, вырывая при этом клоки его волос, пока он своими криками стремился показать мне, что я делаю из его жизни невыносимое бремя. Уж этому-то я не столь сильно удивлялась, сколь искренне радовалась. Наконец он вот до чего додумался: сделать портрет так, чтобы захватить юбку насколько возможно, а внизу просто-напросто приписать: «Следуют ещё два ярда с половиною, а затем ноги». Но эта затея ни капельки мне не понравилось, поэтому я и заперла его в подвальной камере, где он пребывал три недели, становясь изо дня в день всё тоньше и тоньше, пока его не начало колебать вверх-вниз, словно пёрышко. И случилось, что в то самое время, как я однажды спросила его, может ли он теперь-то изобразить меня в полный рост, и он отозвался таким писклявым голосом, как у комарика, кто-то неосторожно отворил дверь подвала — и поток воздуха тут же поднял его и задул в щель на потолке, а я всё ждала ответа, держа свой факел поднятым вверх, вплоть до того часа, как я тоже вся вылиняла в бесплотного духа и осталась там тенью на стене».
Тут милорд и всё общество поспешили в подвал, чтобы поглядеть на это удивительное зрелище, и когда они приблизились к означенному каземату, милорд отважно выхватил свой меч, громко воскликнув: «Смерть!» (но кому и за что, не объяснил); затем некоторые поспешили внутрь, большая же часть оставалась позади, побуждая передних не столько примером, сколько бодрым словом, и наконец вошли все — милорд последним. Затем они отгребли от стены шлемы и прочую рухлядь и обнаружили упомянутого Духа, страшно сказать — ещё виднеющегося на стене; и при виде этого жуткого зрелища такой крик вырвался у всех, какой не часто нынче уже услышишь; иные ослабели, а те добрым глотком пива уберегли себя от такой крайности, хоть и были чуть живы со страху. А Дама тем временем выразилась следующим образом:
«Вот я здесь — и буду тут
Ждать времён, когда поймут,
Как же даму здешних мест
Взять и снять в один присест;
Эту даму — у неё
Имя, облик, всё моё
(Время! Имя не храни, —
Буквы первые одни!) —
Снимет фотоаппарат
С головы до самых пят.
Тут исчезнет образ мой,
Не пугая вас собой».
«Бессердечная и злая —
Ох, много лет
Не давала даже чая,
Нет, поверьте, нет!
Я последний грош отдам,
Чтобы не видеть этих дам;
К справедливости взываю —
Я хочу на свет!»
ДОПОЛНЕНИЕ: ВСЁ ЭТО — ШЕДЕВРЫ
Первоначально мы не думали, что когда-либо нам придётся приступить также к работе над сказками об Алисе, так как, во-первых, переводчики занимались ими и до и после Демуровой, создавая вокруг них в русской культуре обширное поле смысла, во-вторых, самые новейшие переводческие потуги в повторной передаче «Алисы» по-русски виделись нам, вообще говоря, излишними после появления Академического издания. Но это оказалось заблуждением. Сравнив однажды переводы сказок об Алисе, а точнее — переводы вставных стихотворений, по Академическому изданию с оригиналом, мы сделали два открытия. Во-первых, вставные стихотворения из «Алисы» — это подлинные шедевры и детской литературы, и литературного нонсенса, не только не уступающие знаменитому «Бармаглоту», но, как сочинения иной формы и природы, едва ли вовсе имеющие себе равных каждое по отдельности. Во-вторых, русская их передача, будь то Академическое или иные издания, не показалась нам достойной прототипа. А потому ниже мы перевоссоздадим некоторые из этих стихотворений; обоснование читатель найдёт по ходу дела.1. Песенка Шалтая-Болтая, написанная специально для того, чтобы развлечь Алису
Это стихотворение, на наш взгляд, является одним из лучших нарративных стихотворений Кэрролла для детей. Говоря «лучших», мы имеем здесь в виду близость этого стихотворения к загадке, а оттого умышленную смысловую запутанность, хоть и схожую по способу происхождения с той, на которой основаны такие шедевры нашего автора, как «Выступление Белого Кролика в суде», но даже в контексте сказки не имеющую в виду одурачить слушателей, — им предлагается всего лишь игра в отгадывание. Тем поучительнее будет присмотреться к тому, что получилось из этого стихотворения у разных переводчиков. Песенка Шалтая-Болтая отчётливо делится на две части — на вступление и на основную часть, образующую собственно загадку для отгадывания, а потому обрывающуюся на том месте, где слушателю требуется дать ответ. Начнём обзор с, возможно, наиболее известного (растиражированного) варианта — перевода Дины Орловской из Академического издания.Зимой, когда белы поля,
Пою, соседей веселя.
Весной, когда растет трава,
Мои припомните слова.
А летом ночь короче дня,
И, может, ты поймешь меня.
Глубокой осенью в тиши
Возьми перо и запиши.
Зимою в дни морозных вьюг
Я песню пел для вас, мой друг.
Весной под шум младой листвы
Ту песню услыхали вы.
За время долгих летних дней
Сумейте разобраться в ней.
Чтоб осенью под ветра вой
Списать ее в альбомчик свой.
Письмо я зимнею порой
Писал, а снег лежал горой.
Писал весеннею порой.
Капели пели вразнобой...
Писал я летнею порой...
Жара! Окно скорей открой!
Писал осеннею порой —
Я переписку вел с плотвой.
Когда поля в снегу зимой —
Пою тебе, друг милый мой.
Зеленой вешнею порою
Я песни смысл тебе открою.
В дни лета, глядя на цветы,
Её поймешь, быть может, ты.
Во мраке осени сыром
Ты запиши ее пером.
Зимой, когда белы поля
Я спел, тебя повеселя.
Весной, когда сады в цвету,
Я примечания прочту.
И летом ты, в жару и зной,
Идею песенки усвой,
А жёлтой осенью в тетрадь
Попробуй всё переписать.
В записке к рыбам как-то раз
Я объявил: «Вот мой приказ».
И вскоре (через десять лет)
Я получил от них ответ.
Вот что они писали мне:
«Мы были б рады, но мы не...»
Я им послал письмо опять:
«Я вас прошу не возражать!»
Они ответили: «Но, сэр!
У вас, как видно, нет манер!»
Сказал им раз, сказал им два
Напрасны были все слова.
Я больше вытерпеть не мог.
И вот достал я котелок...
(А сердце — бух, а сердце —стук),
Налил воды, нарезал лук...
Тут Некто из Чужой Земли
Сказал мне: «Рыбки спать легли».
Я отвечал: «Тогда пойди
И этих рыбок разбуди».
Я очень громко говорил.
Кричал я из последних сил.
Но он был горд и был упрям,
И он сказал: «Какой бедлам!»
Он был упрям и очень горд,
И он воскликнул: «Что за чёрт!»
Я штопор взял и ватерпас,
Сказал я: «Обойдусь без вас!»
Писал <я> осеннею порой —
Я переписку вел с плотвой.
Пишу я: «Рыбки! Ни гугу!
Ведь я сижу на берегу!»
А рыбки пишут: «Дорогой!
Да мы на берег ни ногой!»
Пишу я: «Мелкая плотва!
Да за подобные слова…»
А рыбки пишут: «Грубиян!
Попробуй сунься в океан!»
Со злости я в другом письме
Не написал ни бе ни ме.
А рыбам будто дела нет —
Они ни слова мне в ответ.
Тогда я написал: «Ну что ж...»
Пошел и взял консервный нож.
Потом из кухни приволок
Помятый медный котелок.
Скорбя в предчувствии беды,
Налил я в котелок воды.
Тут появился сам собой
Какой-то странный НИКАКОЙ.
И я сказал: «Кипит вода.
Скорей зовите рыб сюда!»
Вернулся быстро он назад,
Развел руками: «Рыбы спят.
Я не решился их будить.
Придется, право, погодить».
Я топнул правою ногой:
«Какой ты, право, НИКАКОЙ!»
Но он обиделся, чудак,
И проворчал: «Ах, вот вы как!»
Решил я сам пойти на дно,
Взяв нож консервный заодно.
Я весь до ниточки промок,
А дверь закрыта на замок.
Стучал я долго в дверь: ТУК-ТУК!
Стучал в окно: БАМ-БАМ! И вдруг...
Послал я рыбкам как-то раз
Записку: «Это — мой приказ».
Ах, эти рыбки в глубине!
Они ответ прислали мне.
В ответе было, на беду:
«Не можем выполнить, ввиду».
Писал я снова: «Не пенять,
Коль не хотите исполнять!»
И снова рыбки, повздыхав,
Писали: «Ваш нелёгок нрав!»
И раз, и два я повторил,
Но их не переговорил.
Я взялся чайник выбирать
Делам задуманным под стать.
И, выбрав новый и большой,
Наполнил я его водой.
Но Некто весть принёс о том,
Что рыбки улеглись рядком.
Ему сказал я: «Как же быть?
Коль спят, изволь их разбудить!»
Ему я в ухо, в полный дух
Кричал, как будто был он глух.
Сказал он гордо, напрямик:
«Тут не поможет шум и крик».
Сказал он холодно вполне:
«Не добудиться их, за не…»
Тогда я штопор с полки взял
И сам будить их побежал.
Спешу к их двери запертой,
Тяну, толкаю, бью ногой,
Пытаюсь высадить плечом,
А дело видите ли, в чём…
Я рыбкам разослал приказ:
«Вот что угодно мне от вас!»
Они из глубины морской
Ответ прислали мне такой:
«Никак нельзя на этот раз
Исполнить, сударь, ваш приказ».
Я им приказ послал опять:
«Извольте сразу исполнять!»
Они, осклабясь, мне в ответ:
«Вам так сердиться смысла нет».
Сказал я раз, сказал я два...
Напрасны были все слова,
Тогда на кухню я пошел
И разыскал большой котел.
В груди стучит... В глазах туман...
Воды я налил полный чан!
Но кто-то мне пришел сказать:
«Все рыбки улеглись в кровать».
Тут снова отдал я приказ:
«Так разбудить их сей же час!»
Ему я это повторил
И крикнул в ухо из всех сил.
Но он сказал мне, горд и сух:
«К чему кричать? Хорош мой слух».
И горд, и сух, сказал он мне:
«Я б разбудил их, если б не...»
Тут с полки штопор я схватил
И разбудить их сам решил.
Но дверь нашел я запертой.
Тянул, толкал, стучал... Постой!
Дверь отворить не мудрено.
Схватился я за ручку, но...
2. Песня Белого Рыцаря, ранний вариант
Я встретил как-то старика
Среди пустых холмов.
Он походил на босяка,
Но я-то не таков;
И грубо крикнул я в сердцах:
«Ты как живёшь, на что?»
Но слух мой пропустил ответ,
Как воду — решето.
«Я груды мыльных пузырей
Ищу по кручам рек,
Я запекаю пузыри
В пирог и чебурек.
Я продаю их морякам —
Три штуки на пятак.
И, в общем, с горем пополам
Справляюсь кое-как».
Итак, столь чаемый ответ
Остался в небреженье,
Ведь я осваивал в уме
На десять умноженье.
Я громко-громко прокричал
Ему вопрос такой:
«Так чем ты, дедушка, живёшь?» —
И пнул его ногой.
И этот милый старичок
Сказал с улыбкой мне:
«Выпариваю ручейки
На медленном огне.
В осадок выпадает крем —
Известный „Макассар“.
Пятак за банку, между тем,
Идёт такой товар».
Но думал я теперь: «Увы,
Зелёных нет чулок!
А жаль — никто среди травы
Не различал бы ног».
Я в ухо стукнул старика
И вновь задал вопрос,
И потузил его в бока,
И потягал за нос.
«В пруду ловлю я окуньков
В глухой полночный час
И пуговки для сюртуков
Из их готовлю глаз.
Но платят мне не серебром
Хоть мой товар хорош.
За девять штук, и то с трудом,
Дают мне медный грош.
Бывает, выловлю в пруду
Коробочку конфет,
А то — среди холмов найду
Колёса для карет.
Путей немало в мире есть,
Чтоб как-нибудь прожить.
И мне позвольте в вашу честь
Стаканчик пропустить».
Но я не слушал эту речь,
Я думал об ином:
Как мост Менайский уберечь,
От ржавчины вином.
Прослушав бредни старика,
«Похвально», — я сказал,
За то, что в честь мою пивка
Он выпить пожелал.
И по сей день, случись, рукой
Я вымажусь в клею,
Иль ногу я в башмак с другой,
Не с той ноги сую,
Иль если с глупостью какой
Смириться уж готов,
Мне вспоминается седой
Старик с пустых холмов.
Вот сидит он на стене,
Вот сидит он на стене,
Вот сидит он на стене,
И на всё ему плевать.
Как послушать — он несёт
Всё что в голову взбредёт,
Всё что в голову взбредёт,
И бессвязно напевает.
3. Стихотворение, прочитанное Белым Кроликом в Суде и его первоначальный вариант.
первой строки популярной в Кэрроллову эпоху чувствительной песни Уильяма Ми «Алиса Грей» — «В ней всё, что я в ней видеть рад». Стихотворение, опять же, предваряется следующим текстом: «Автограф этого впечатляющего фрагмента был найден среди бумаг известного автора трагедии „Это был ты или я?“ и двух популярных романов „Сестра и сын“ и „Наследство племянницы, или Благодарный дедушка“».В ней всё, что в нём я видеть рад.
Лишь ты иль он сумей
Утратить член какой — навряд
Скажу я, что больней.
Они тебя встречали с ним,
Когда она пришла;
Но мы иначе поглядим:
Ты — та, что здесь была.
А раз не он был спутник наш —
Один в толпе людской, —
С досады сел он в экипаж
И застучал ногой.
Ему твердили: я не тот
(Мы знаем, это так),
Но, не беря её в расчёт,
Попала б ты впросак.
Он отдал раз, он отдал два,
А после отдал шесть;
Но к ней вернулись все права,
Кто что ни говори.
И мне подать не довелось
Ей помощь в их беде:
Как мы, свободны только врозь
Теперь они везде.
Дошло, однако, до меня
(Но я пред нею нем),
Что от тебя вся беготня
Меж ими, мной и тем.
А про её восторг от них
Ему не сообщай —
Секрет, хранимый меж двоих,
Тобой и мной. Прощай.
Они тебя встречали с ним,
А нам сказали с нею;
Она сочла — я стал иным,
Но плавать не умею.
Они твердили: я не тот
(Мы знаем это так),
Но, не беря её в расчёт,
Попала б ты впросак.
Он дал одно, ты — сразу два,
Они — пожалуй, шесть;
Все к ней вернулись, хоть сперва
Как будто были здесь.
И мне подать не довелось
Ей помощь в их беде:
Как мы свободны только врозь
Теперь они везде.
И не укрылось от меня
(Хоть я пред нею нем),
Что от тебя вся беготня
Меж ими, мной и тем.
А про её восторг от них
Ему не сообщай —
Секрет, хранимый меж двоих,
Тобой и мной. Прощай.
4. Первоначальный вариант Песенки Черепахи Квази
В первоначальном варианте «Страны чудес» — «Приключениях Алисы под землёй» — имеется небольшая Песенка Черепахи Квази, впоследствии заменённая на песенку «Говорит треска улитке…». Мартин Гарднер указывает, что Песенка является пародией на негритянскую песню с припевом«Эй, Сэлли, прямо и бочком,
Эй, Сэлли, топни каблучком!»
Всей прочей живности морей
Омар-толстунчик посмелей,
Он рад плясать, где помелей,
И мы, Лосось мой милый!
П р и п е в:
Лосось, бочком! Лосось, торчком!
Лосось, пришлёпни плавничком!
Ты мне всех рыб морских милей,
Лосось мой сизокрылый!
5. «Бармаглот»
«Величайшим стихотворным нонсенсом на английском языке» назвал это стихотворение Мартин Гарднер (см. Академическое издание, с. 124). Это высказывание не может быть признано корректным. Сказать, что почти каждое из вышеприведённых здесь стихотворений — величайшее на английском языке в своём роде, будет не менее правомерно; при этом, например, Стихотворение, прочитанное Белым Кроликом в суде, может быть названо шедевром нонсенса с большим правом, чем если мы применим такое обозначение к «Бармаглоту». Отчего «Бармаглот» — шедевр именно нонсенса, что в «Бармаглоте» есть такого, что делает его нонсенсом? «Бармаглот» — стихотворение, обладающее очень чётким и прозрачным сюжетом. Сюжетных подвохов оно начисто лишено, а ведь иные Кэрролловы стихотворения из «Алисы», как, например, Песенка Шалтая-Болтая, с подвохом. Неологизмы и слова со смутным значением не затемняют смысла того рассказа, который содержится в стихотворении «Бармаглот». Тут уместнее второе замечание Мартина Гарднера — о непринуждённой звучности «Бармаглота» и его совершенстве, не имеющим себе равных; это стихотворение в смысле непринуждённой звучности как целого, так и новых, придуманных Кэрроллом словечек, и впрямь может быть признано совершенным. Перевод Дины Орловской, как и прочие её переводы для Академического издания, не должен остаться без исправлений. «Бармаглот» не превращён переводчицей в сюжетную невнятицу, как это случилось, например, с Песенкой Шалтая-Болтая, и всё же серьёзно пострадал под её рукой. Метод данной переводчицы был — упрощение. Из перевода исчезла птичка Джубджуб, важная для связи «Бармаглота» с «Охотой на Снарка»; словосочетание «vorpal blade» не нашло отражения: переводчица говорит «меч стрижает», а надо бы тут «стрижающий меч», поскольку именно соответствующее словосочетание стало в определённом смысле крылатым на почве английской словесности; переводчица добавляет «щит» для рифмы к глаголу на -ит, а в тексте и на иллюстрации Джона Тенниела щиты отсутствуют и т. д. Русский текст «Бармаглота» по необходимости должен быть более плотным, вместительным для деталей английского оригинала, чем это вышло в Академическом издании; размер следует соблюсти. Ниже мы предлагаем читателю свой вариант «Бармаглота», и это именно переработанная версия перевода Дины Орловской. Ведь слова «Варкалось. Хливкие шорьки…» сделались общеизвестными уже в русском языковом сознании, и первую строфу здесь изменять как раз не стоит, несмотря даже на несоблюдение размера; словечко «стрижающий» от формы «стрижать», изобретённой Диной Орловской, также взывает о сохранении и заслуживает его — по той же причине. Наконец, само слово «Бармаглот» не может быть упразднено, оно слишком срослось с этим стихотворением. Но размер подлинника восстановлен. Проведён ещё и следующий принцип. Многие переводчики оставили свои версии этого стихотворения, и нижеследующий текст — это нечто вроде сборного «Бармаглота»; в данной версии присутствуют словесные удачи предыдущих переводчиков: «глубейшие думы» Татьяны Щепкиной-Куперник, «прыжество» — от слова «прыжествуя», принадлежащего Михаилу Пухову, и «змерь», изобретение Владимира Орла.Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове.
«Мой сын! Опасен Бармаглот,
Чей коготь длинен, крепок зуб,
И Брандашмыг задаст хлопот
С причудищем Джубджуб».
Но взял стрижающий клинок
Юнец, глубейших полон дум, —
И в дебри. Глядь — всюду гать да падь,
Да дерево Тумтум.
Он встал под страдостную сень;
Вдруг очи в ночи — Бармаглот,
На день бросая свиристень,
Пришёл на укорот.
Раз-два, раз-два! Не дрын-дрова —
То змерь порублен. Чуть живой
И сам герой от прыжества:
Умчался с головой!
«Не Бармаглота ли посёк
Мой светозарный прозывник?
О, чурный день! Ну-ну, сынок.
Ура», — взбурчал старик.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове.
Примечания
1
Такой перевод названия первого рукописного журнала, «изданного» маленьким (тринадцатилетним) Чарльзом Лютвиджем для своих домашних, принадлежит Нине Демуровой и впервые появился, если мы не ошибаемся, в её биографической статье из Приложений к Академическому изданию сказок об Алисе (т. е. в серии «Литературные памятники», год 1978). (обратно)2
Согласно английским представлениям, традиционным для детской, добрые феи и эльфы — это нечто вроде наставников, которые заботятся о том, чтобы ребёнок усваивал хорошие манеры, учился и вообще рос пай-мальчиком (или девочкой). Обращение Кэрролла к подобным представлениям читатель встретит также в главах «Сильвия-фея» и «Месть Бруно» позднего романа «Сильвия и Бруно». Но ещё до этого, в поэме «Три голоса» (1856) укоризненный голос сказочного существа окажется трансформированным в три мрачных речевых потока, исходящих от суровой женщины необозначенного возраста. (обратно)3
Подобные стихотворения известны теперь под обозначением «лимерики». Однако эти стихотворения написаны Кэрроллом за год до того, как вышла знаменитая «Книга бессмыслиц» Эдварда Лира (это случилось в 1846 году), «давшего лимерику права гражданства в английской литературе» (Нина Демурова); видимо, именно поэтому они и обозначены автором просто как «темы» («melodies»). Впоследствии Кэрролл написал ещё один лимерик, который и озаглавил этим словом; в нём содержится совершенно непереводимая игра слов, основанная на созвучии названия острова Мэн и обозначения мужчины в английском языке («man»). (обратно)4
В оригинале стихотворение называется «A Тale of the Tail»; таким образом, здесь Чарльз Лютвидж впервые употребил выражение, ставшее знаменитым благодаря «Алисе в Стране чудес», где созвучие tale/tail особым образом обыгрывается, а сам печатный текст Истории про то, почему Мышь ненавидит К и С, подаётся в фигурном виде, напоминая извивающийся хвост. (обратно)5
Т. е. братья и сёстры Чарльза Лютвиджа (см. далее примеч.). Кто такой «маленький Дженкинс», кэрролловедам пока неизвестно. (обратно)6
Чарльз Лютвидж называет последовательно следующие источники: «Историю британских птиц» Томаса Бьюика в двух томах (1797—1804), «Естественную историю» Бюффона в тридцати шести томах (1749—1788) и книгу Исаака Уолтона «Искусный удильщик, или Развлечения созерцательного человека» (1653). Последняя книга не раз ещё будет помянута Доджсоном в позднейших сочинениях. Слово «производные» в нашем переводе — анахронизм, от которого мы бессильны оказались избавиться. Автор говорит о Ньютоновом методе флюксий — исторически лишь одном из последних подступов к полноценному пользованию производными в дифференциальном исчислении. Первый окаменелый скелет плезиозавра был найден палеонтологом-любителем Мэри Эннинг в 1826 году. (обратно)7
Стихотворение воспроизводит небольшие старинные «книжицы о воспитании», известные со средних веков. Тексты в них также были стихотворными и рифмованными. (обратно)8
Имитация окончания Греева «Барда», только в смягчённом виде. — Прим. автора. «Бард» (1757) — «пиндарическая ода» Томаса Грея, одно из наиболее прославленных его стихотворений наряду с «Элегией, написанной на сельском кладбище». Окончание оды в переводе П. И. Голенищева-Кутузова: «Так рек; и, падая с горы крутой в пучину, // Он бездны вечныя низвергся в глубину». (обратно)9
То есть, как вареньем из банок, но без банок. — Здесь и далее в стихотворении примеч. автора. (обратно)10
Тогда ритм: удар и ещё две трети удара в секунду. (обратно)11
В её дом, то есть в курятник. (обратно)12
Если только курочка сама не захочет ими полакомиться, что вряд ли. (обратно)13
Наоборот, обоюдоостра — и клювом, и когтями. (обратно)14
В нашем случае: из рамок скорлупы на свободу. (обратно)15
По-видимому, один из тех двоих лихих молодцов. (обратно)16
Система обратных билетов совершенно замечательна. По отмеченным дням человек может совершить поездку в оба конца, заплатив как за один конец. (обратно)17
Дополнительная неприятность заключается в том, что билет «туда-обратно» нельзя использовать на другой день. (обратно)18
А тем более таких, как уже «изошедший рёвом» «кормилец». (обратно)19
Оба «Скорбных лэ» основаны на реальных событиях весёлой жизни Чарльза Лютвиджа и его братьев и сестёр. В то время Чарльзу Лютвиджу было семнадцать лет; можно видеть, что в этом возрасте он уже проявил себя мастером пародийного цитирования. В начале третьей строфы читатель встречает взятую в кавычки фразу «И стисканно, и красоте урон». Её прототип — строка «Изысканно, да красоте урон» из поэмы Мэтью Прайора (1664—1721, удостоился чести быть похороненным в Вестминстерском аббатстве) «Генрих и Эмма»; контекст таков:Изгибов стана больше не суди
От тонкой талии до развитой груди:
Искажены корсетом сих времён —
Изысканно, да красоте урон.
20
Считалось, что этот дом приходского священника был построен в эпоху Эдуарда VI, однако новейшие открытия ясно указывают на гораздо более раннее время его возникновения. На острове, образованном рекой Тиз, найден камень, на котором написана буква «А». Справедливо можно предположить, что эта буква соотносится с именем великого короля Альфреда, в правление которого, вероятно, и был возведён этот дом. [Это замечание, разумеется, — шутка. — Примеч. переводчика.] — Здесь и далее в стихотворении примеч. автора. (обратно)21
Автор покорнейше просит прощения за то, что под таким достойным именем он вывел простого ослика. (обратно)22
Полный отчёт о жизни и несчастьях этих любопытных созданий читатель сможет найти в первом из «Скорбных лэ». (обратно)23
Это исключительный случай, когда ослик взял себе за правило возвращать каждый полученный им пинок. (обратно)24
Доблестный рыцарь, имеющий стальное сердце и железные нервы. [Это Уилфред, младший брат Чарльза Лютвиджа. — Примеч. переводчика.] (обратно)25
Сестрица обеих. [Имеется в виду младшая сестра Кэрролла Луиза. — Примеч. переводчика.] (обратно)26
Читателю, вероятно, невдомёк будет природа этого торжества, ведь цель не была достигнута, а ослик по всему вышел победителем; но по этому поводу мы с сожалением должны сказать, что не располагаем надёжным объяснением. (обратно)27
Более приемлемый подарок для истинного рыцаря, чем «земля под пахоту», которую римляне столь глупо предложили своему отважному защитнику, Горацию. (обратно)28
Настоящее стихотворение пародирует стиль «Баллад о Древнем Риме» лорда Маколея (на что намекает предыдущее, авторское примечание). Упомянутые «дети севера» — это братья и сёстры Чарльза Лютвиджа, девять (без него, см. рисунок рукою автора к этому стихотворению) уроженцев графства Чешир в Северной Англии, которыми он верховодил с 1843 по 1851 год на новом месте жительства, в отцовом приходе в Крофте-на-Тизе (Йоркшир), до своего переселения в Оксфорд. — Далее примеч. переводчика.29
Журнал «Комета» (или «Ректорская комета»?), подобно ещё нескольким домашним рукописным журналам младших представителей семейства Доджсонов, до нас не дошёл. Может быть, судя по жалобам Издателя в адрес Сотрудников, и жалеть о том не стоит? (обратно)30
Упомянутая в стихотворении Твайфордская школа — это одна из самых старых так называемых «подготовительных» (для поступления в колледж Святой Марии в Уинчестере и другие учебные заведения более высокой ступени) школ-пансионатов Англии (первоначально только для мальчиков; в XX столетии обучение стало совместным). Она находится в деревушке Твайфорд близ городка Уинчестер в графстве Гемпшир, расположенной на той же реке Тиз, что и Крофт. Стихотворение написано в 1853 году, когда несколько младших братьев (родных и двоюродных) молодого Доджсона, уже студента Оксфорда, были учащимися Твайфордской школы; позднее, в декабре 1857 года, Доджсон посетил эту школу, желая навестить бывших однокашников по колледжу Христовой Церкви, которые там теперь преподавали. Учащиеся мальчики вызвали в нём симпатию, и на следующий год Доджсон прибыл туда с фотоаппаратом. А 17 февраля 2009 года в школе была организована выставка Кэрролловых фоторабот и состоялся праздничный обед в ознаменование двухсотлетия первой сделанной в этой школе фотографии (разумеется, Кэрролловой). Стихотворение пародирует стиль и манеру выражения антологии Вальтера Скотта «Песни [шотландской] границы»; в нём, по словам комментатора Gillian Beer, «неспровоцированные расправы и диалогический характер повествования при несогласованности вопросов и ответов между собой <, характерные для «Песен границы»,> преобразуются в фантасмагорию ссоры между маленькими Доджсонами». В стихотворении, по нашему мнению, читатель вновь встретит упоминание о «Т» (см. памфлет «Видение трёх „Т“»). Этими «Т», скорее всего, обозначаются т-(или y-)образные подставки под удочки, когда последние закреплены одним концом на суше. Разумеется, в слове Tees во втором случае следует видеть название реки, но, может быть, и множественное число от «Т» в первом? (обратно)31
Впервые опубликовано в «Таймс комической» от 18 августа 1855 года. В рукописном журнале «Мешанина» имело вид музыкальной пьесы, написанной на нотном стане (см. иллюстрацию). Впоследствии стихотворение было перепечатано в сборнике 1883 года (второе издание вышло в следующем году) «Стихи? и смысл?» с иным предисловием и в слегка переработанном виде. Приведём новый текст полностью. «Отчего так, что Поэзия никогда не была подвергнута тому процессу Разбавления, который с такой выгодой показал себя в отношении сестринского искусства, Музыки? Разбавляющий вначале подаёт нам несколько нот какой-то хорошо известной Мелодии, затем дюжину тактов собственного сочинения, затем ещё некоторое количество нот первоначального мотива и так далее попеременно; таким образом он оберегает слушателя если не от малейшего риска признать пьесу сразу, то по крайней мере от чрезмерного волнения, которое способна вызвать её передача в более концентрированном виде. Композиторы такую процедуру зовут „художественным оформлением“, и всякий, кто когда-либо испытывал то сильное чувство, которое возникает, стоит только внезапно влезть в кучу строительного раствора, не будет спорить, что данное выражение вполне отражает суть дела. [Игра слов: setting ‘художественное оформление; затвердевание, схватывание (цемента, бетона)’. — А. М.] Воистину подобно тому как прирождённый эпикуреец любовно медлит над ломтиком превосходной Оленины и при этом всеми фибрами души словно шепчет: «Excelsior! (‘Выше, выше!’)», — однако прежде чем приступить к лакомству, проглатывает добрую ложку овсяной каши; и подобно тому как тонкий знаток Кларета позволяет себе лишь чуточку пригубить, а потом уж пойти и выдуть пинту или более пива в буфете, точно также и —Не звал я дорогой газели
В свою конюшню. Мил товар,
Да вот торговцы оборзели —
От этих цен бросает в жар.
Меня утешить томным оком
Примчался с улицы сынок.
Подбитый где-то глаз уроком
Послужит, жаль, на краткий срок.
Когда же сблизиться мы смели,
На шею сел мне сорванец.
Да что со мною, в самом деле?
Пора собраться, наконец,
И тёмный рок томатным соком
Запить для верности слега,
И закусить бараньим боком,
И ждать взросления сынка».
Не звал я дорогой газели
Меня потешить томным оком,
Когда же сблизиться мы смели,
Я нёс ей гибель тёмным роком.
32
В стихотворении действие происходит в приморском городке Уитби, что в Йоркшире, куда в 1854 г. Доджсон в компании студентов отправился на летние каникулы и для подготовки к выпускным экзаменам и где состоялся дебют Доджсона как литератора — наряду с настоящим стихотворением там был напечатан рассказ «Вильгельм фон Шмитц», герой которого, мнящий себя поэтом молодой человек, также влюблён в девушку низшего класса с плебейским именем Сьюки и даже схожей профессии — разносчицу в баре. Не она ли — эта «героиня кастрюли, украшенье салату»? «Хильда», во всяком случае, и в стихотворении, и в рассказе, одна и та же. Цитата «ходят маршем по волнам» взята из стихотворения Томаса Кэмпбелла (1777—1844) «Морякам Англии». (обратно)33
Напечатано стихотворение было в первом номере Oxford Critic and University Magazine (июнь 1857 г.). Ричардом Роу, упомянутым в этом стихотворении, до 1852 года условно именовали ответчика в английском судопроизводстве, а Джоном Доу — истца ради сохранения инкогнито обоих (они и есть «юридические фикции», оставшиеся, наконец, «за коном» суда). Красная тесьма — принадлежность папок для деловых (в том числе судебных) бумаг, своего рода символ. Стихотворение выказывает раннее пристрастие Кэрролла к вышучиванию судопроизводства; по этому поводу можно вспомнить «оксфордскую идиллию» «Величие правосудия», а также сцену суда из «Страны чудес». Это говорит и о том, что в «Охоте на Снарка» бурлескная сцена суда также появляется отнюдь не случайно, более того: она не может быть связана с чем-то конкретным наподобие дела Тичборна, как о том любят рассуждать кэрролловеды, а имеет источником названную склонность нашего автора. (обратно)34
В предуведомлении к данному стихотворению, как и в завершающем Замечании, поминается полное печали стихотворение Сидни Добелла «Томми мёртв» 1856 года. Томми у Добелла — это сын скорбящего старика-рассказчика, погибший, по мнению комментаторов, в Крымскую войну. Второй у Кэрролла превращается в зануду-старикашку, первый же — в кота. Следует иметь в виду, что Кэрролл отнюдь не издевается над стариковским горем: в английском выражение «сдохнуть» применительно к животному отсутствует, и оригинальные названия обоих стихотворений, как и «три последние строки каждого параграфа», остаются одинаковыми, ведь одинаково звучит в обоих случаях английское выражение «Tommy’s dead». Розно они звучат только по-русски. А желание позабавиться, придав словосочетанию «Tommy’s dead» значение «Томми сдох», возникло у Кэрролла, вероятно, под влиянием специфического английского словоупотребления: как мы называем кота Васькой, так англичане именуют кота Томом. (обратно)35
Один из мотивов данного стихотворения — посещение первой Всемирной промышленной выставки (1851), располагавшейся в лондонском Гайд-парке. Хлоя и Дамон — частые для викторианской поэзии обобщённые имена персонажей любовной лирики, но лишь Кэрролл переносит их носителей прямо в современный ему Лондон. Впервые стихотворение было напечатано в третьем выпуске кембриджского и оксфордского альманаха College Rhymes (октябрь 1862 года; в прижизненные авторские сборники не входило); там вид его несколько иной, чем в журнале «Мешанина». Например, в первой строфе отсутствует точное название «того магазина» в лондонском Сити, где Хлоя впервые повстречала Дамона, — это известный всем нам по Шерлокиане Лоусерский пассаж (Louther Arcade), ныне не существующий. Далее при первом упоминании о Джо не уточняется, что он — кузен Хлои. Кроме того, кое-где иные знаки препинания. Вот, собственно, и всё, а потому перевод мы решились сделать по той версии, что в College Rhymes, поскольку она теперь входит во все переиздания Кэрролловых «Complete Works». (обратно)36
Стихотворения «Уединение», «Путь из роз», «Жена моряка», «Фотосъёмка Гайаваты», поэма «Три голоса» и рассказ «Новизна и романтичность» первоначально появились в разное время в журнале «Поезд» («The Train: A First-Class Magazine»). Первые два стихотворения впервые были подписаны именем «Льюис Кэрролл» при публикации их в первом томе названного журнала (1856). Настоящее стихотворение специально подвергается разбору в известной книге Ирины Галинской «Льюис Кэрролл и загадки его текстов», однако поскольку «исследовательница» называет это стихотворение исключительно поэмой (ведь по-английски «стихотворение» будет «poem»), становится ясно, что Кэрролла она не читала. Дату под стихотворением мы ставим в тех случаях, когда она имеется в изданиях так называемого «Полного Кэрролла», составленного Эликзендером Вулкоттом. (обратно)37
В отечественном кэрролловедении данное стихотворение считается пародией на Теннисоновы «Два голоса» (первоначально названные «Мыслями о самоубийстве»). Теннисон написал своё стихотворение, находясь в очень удручённом состоянии духа, вызванном смертью его неразлучного друга Халлама, причём и Теннисон и Халлам были ещё очень молоды, только-только вышли из стен университета. Тем не менее очень часто доводы тех, кто стремится видеть в том или ином Кэрролловом стихотворении именно пародию и однозначно указывают на объект этой пародии, можно аргументировано оспорить. Вместе с тем приведём начало стихотворения Теннисона, довольно длинного.Два голоса
Был шёпот? мыслей круговерть? —
«Со скорбью, смертный, топчешь твердь!
Не лучше ль сразу встретить смерть?»
«Да отдалится этот брег, —
В ответ я молвил, — где навек
Для нас, прекрасных, свет померк».
На это голос вновь изрёк:
«Летал тут утром мотылёк,
Покинув тёмный уголок.
Вовне направленный порыв,
Скорлупку кокона разбив,
Явил прекрасное из див —
Как белизны комок живой
Оно взметнулось над травой,
Травой росистой, огневой».
Сказал я: «Мир наш, завертясь,
Прошёл чрез пять природных фаз;
Теперь, в шестой, он лепит нас.
Даёт нам разуму с лихвой,
Не то что живности какой,
И сердце вкупе с головой».
Но слышен глас, простой шумок:
«Гордиться нечего, дружок.
Ты в высь взгляни, как мир широк.
В мозгах тот факт прикинь и взвесь:
Миров вокруг не перечесть,
Похуже и получше есть.
И для страстей, надежд и вер
Поярче ты найдёшь пример
В тех сотнях миллионов сфер.
Тебя хоть по ветру развей, —
Шептало в голове моей, —
Не горе для вселенной всей».
Но я ответствовал: «Так что ж?
Уж этот шарик тем хорош,
Что на другие не похож».
И тут же голос в свой черёд
Ответ насмешливый даёт:
«Но кто оплачет твой уход?
И чей поникнет колосок
На поле смысла, коль песок
Твой личный занесёт росток?»
А я: «Но знать тебе ль дано,
Чем сердце жаркое полно,
Как трудится внутри оно?»
«Но сердце, — голос продолжал, —
От мук страдает, как от жал;
Кто б умереть не возжелал?
С душевной мукой не уснуть
И мыслям связность не вернуть,
Не истребить страданий суть».
«Не станем муки брать в расчёт —
И вид цветущий наш вот-вот
Счастливый случай привлечёт:
Ещё наступит перелом».
А он: «Ну да! Бьёт жизнь ключом,
И вдруг — разбит параличом».
Вздохнул я: «Смерть не так страшна,
Коль знаешь: снова семена
Вокруг повысадит весна.
И в сферы высшие войдут
Жрецы наук, продолжив труд,
Хотя меня не будет тут».
А голос вновь: «Но хмурый срок
Рассветов серых недалёк,
И ляжет седины снежок.
Не меньше будет род людской
Взирать со сладкою тоской
В простор небесный и морской;
Не меньше понастроят сот
Трудяги-пчёлы в каждый год,
Не меньше примул расцветёт».
Но я ответил: «Чередой
Пора минует за порой,
Преобразуя мир земной...» и проч.
Я вдаль пошёл. В груди моей
Толчки рождала зыбь полей,
Надежду делая смелей.
О щедрость часа дорогого!
Зима ли впрямь была сурова?
В траве цветы раскрылись снова!
И пенье птиц в минуту эту
Как будто возвестило свету:
О зле тут и понятья нету!
Крепка опора — круг земной.
Какой несом я был волной
В пучину думы столь дурной?
Забыт незримый скорби витязь.
Того услышать вы стремитесь,
Кто говорит нам: «Веселитесь!»
38
А вот это не переосмысление ли также и следующих строк поэмы Мильтона «Потерянный Рай» (книга 5): «...Но знай, у нас
Гнездится в душах много низших сил,
Подвластных Разуму; за ним, в ряду,
Воображенье следует; оно
Приемля впечатление о внешних
Предметах, от пяти бессонных чувств,
Из восприятий образы творит
Воздушные; связует Разум их
И разделяет. Всё, что мы вольны
Отвергнуть в мыслях или утвердить,
Что знаньем и сужденьем мы зовём, —
Отсюда возникает. Но когда
Природа спит, и Разум на покой
В укромный удаляется тайник,
Воображенье бодрствует, стремясь,
Пока он отлучился, подражать
Ему; однако, образы связав
Без толку, представленья создаёт
Нелепые...»
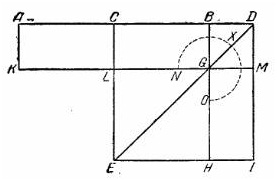

Последние комментарии
1 день 17 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 21 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 2 часов назад