Тот, кто знает, «зачем» жить,
Преодолеет почти любое «как».
Фридрих Ницше
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «КАК»
НАРЕВЕЛА
Те семьи, где были мужчины, как-то сразу приспособились: главы семейств нашли работу, стали приносить домой пайки. В семье Дикбер взрослых мужчин не было. Кели и Бату сильно заболели, и девчонке самой пришлось идти на поиски работы. В колхозе был большой зерносклад, и каждое утро к нему вереницей шли люди, надеясь получить хоть какую-то работу. Направилась туда и она. Огромные помещения, горы зерна, транспортеры, люди копошатся, что-то делают. А что там делают женщины – их на складе работало большинство, и чем она может быть там полезна, Дикбер еще не знала. Она лишь знала, что горсточка зерна, брошенная на раскаленную сковороду, могла стать и завтраком, и обедом, и ужином любому из изголодавшихся членов ее семьи. Особенно младшим братишкам Ахмеду, Шахиду, Лече и сестренке Зулпе. Как же ей было жалко их! Именно эта жалость к родным заставляла ее держаться из последних сил у входа в огромный склад. Стоять на чужом ветру, пронизывающем все ее тело, и терпеть. Терпеть и ждать! Горсточка зерна, всего лишь пол-ладошки худенькой девичьей руки! Разве могла их жизнь стоить так дешево? За какие прегрешения так наказывает Аллах этих людей, лишь недавно уверенно и спокойно живших у себя, за тысячи километров от этой степи, от этого склада, где за несколько украденных зерен без лишних разговоров могли осудить и расстрелять по суровым законам военного времени? Именно поэтому, в зимнее время, целыми днями над ним, этим зерном, безмолвно, покорно, сгорбившись, трудились бесправные женщины из сосланных народов. Женщины разных национальностей – русские, татарки, казашки, белоруски, чеченки… Дикбер несколько дней приходила к зерноскладу и подолгу стояла у ворот. Мимо проходили люди, но никому не было до нее дела. А она робела, потому как не знала по-русски ни единого слова. По вечерам она ни с чем возвращалась домой. Слезы лились от обиды и бессилия. Но жажда жизни, лица голодных братьев и сестер быстро возвращали ее к реальности и отрезвляли. «Я должна собраться и быть сильной, сильнее всех!» – пыталась настроить себя девушка.
Дикбер заметила, что у склада каждый день стоял один и тот же мужчина, и поняла, что от него тут многое зависит. Попеременно к нему подбегали разные люди – женщины, мужчины. Он постоянно что-то им объяснял, советовал, показывал. Они словно специально приходили к нему за советом. Это было видно по их лицам, по готовности угодить. И это не было заискиванием, чувствовалось их беспрекословное подчинение и глубочайшее уважение к нему. По всему было видно, что именно он тут ХОЗЯИН. Дикбер стала внимательнее его разглядывать.
Сразу бросалось в глаза то, что рукав с левой стороны пустой, лишь его нижняя часть была заткнута за пояс. Это почему-то совсем не вязалось с ее первым впечатлением от настоящего хозяина склада. Коренастый, среднего роста. Ничто в его поведении, походке или в фигуре не выдавало человека нерешительного. При этом в нем не было той резкости, которая свойственна чересчур рьяным исполнителям воли вышестоящего начальства или наглым и туповатым конвоирам с оружием в руках. Дикбер еще раз внимательнее пригляделась к его поясу. Нет, кобуры видно не было. Значит, он не из тех кричащих псов на станции, которые грубо выталкивали их из вагонов. Мужчина-казах, одетый в потертый военный китель и галифе, на ногах – кирзовые сапоги. От него веяло мудростью, спокойствием и полной уверенностью в своих действиях и словах. И вдруг – этот пустой рукав. Словно художник не дорисовал в нем что-то, а мозг упрямо дорисовывал в голове эту руку, но реальность выдавала только пустоту. Левый рукав бессильно болтался прямо у плеча, и это было странное зрелище.
На третий день Дикбер удалось поймать его взгляд. Случилось это так. Стоять на холоде было тяжело, и Дикбер подумала: если попрыгать, можно будет хоть немного согреться. Правда, со стороны могло показаться, что она это делает нарочно, чтобы привлечь внимание хозяина склада. Но если прыгать от холода, тогда можно. Тогда это выглядит естественно и даже необходимо, учитывая мороз на улице. И она начала тихонько подпрыгивать. И вдруг.… О, чудо! Он обратил на нее внимание. Хозяин склада отдал распоряжение кому-то из подчиненных и вдруг направился в сторону Дикбер, которая впилась глазами в его фигуру. Наверное, выглядело это нелепо, но девушка, забывшись, продолжала подпрыгивать. Опомнившись, она застыла и уже не могла отвести взгляд от его левой руки, вернее, от того места, где под рукавом должна была быть рука. И, по мере его приближения, девушка невольно вытягивалась в струнку. То ли от холода, то ли от напряжения она дрожала и таращилась на его китель, не зная, что же делать дальше. – Қызым (дочка), тебе что-то нужно, или ты кого-то потеряла? – спросил он по-русски.
Дикбер не поняла ни единого слова и вдруг ощутила, что ее мозг сейчас взорвется от напряжения и миллиарда мыслей, которые в диком хаосе проносились в ее умной голове, сталкиваясь друг с другом и бессильно падая куда-то вниз. Казалось, ничто не в силах было упорядочить эту мешанину. Она осознала, что это именно тот самый единственный момент, ради которого стоило и мерзнуть, и плакать, и страдать на холоде. Сколько он продлится, и сможет ли она донести до хозяина свою просьбу? Даже если бы в этот момент она знала все языки мира, то все равно не смогла бы и слова произнести, так распереживалась. Говорят, Бог посылает трудности лишь для того, чтобы испытать нас на прочность. Некоторые при этом добавляют, что чем больше в твоей судьбе испытаний, тем сильнее ты приглянулся Всевышнему. Но этих трудностей ровно столько, сколько способен выдержать тот или иной человек. Странное рассуждение. Ведь даже Он не может вмиг вложить в уста Дикбер слова, понятные хозяину склада! Но, оказывается, для этого есть другие люди (которых, видимо, направляет Аллах…) Внезапно из-за спины Дикбер выступил Шепа – чеченский учитель, который знает русский язык и работает в ремонтной мастерской в совхозе. Похоже, он наблюдал за ситуацией поодаль и ждал удобного момента, чтобы подойти.
– Ху г1о де хьуна (Чем тебе помочь?) – спросил он Дикбер по-чеченски.
– Суна г1о дехьа, са дехар цуьнга д1а ала, хьуна оьрси мотт ма хаа! (Помоги мне пересказать ему мою просьбу. Ты ведь знаешь русский язык!) – с мольбой в голосе сказала она.
– Схьа дийца аса д1а эра ду хьуна (Говори, я все переведу), – с готовностью ответил Шепа. Дикбер повернулась к хозяину склада и, не смея поднять глаза, выпалила срывающимся голосом:
– Тхо леш ду мацалла, дела дехьа цхьа болх лохьа суна! (Мы умираем с голоду. Ради бога, дайте мне какую-нибудь работу!).
Шепа перевел.
Хозяин склада неспешно оглядел Дикбер с ног до головы. Ей показалось по его взгляду, что он был несколько разочарован увиденным. Он покачал головой и что-то ответил. Шепа замялся, виновато поводил глазами по сторонам и произнес: – Оцо боху, кхузахь болх ч1ог1а хала бу стагаршна а,хьо жима а г1ила а ю. (Он говорит, тут очень тяжелая работа даже для мужчин. А ты такая маленькая и совсем худая…)
Это было еще одним страшным ударом после всего пережитого. На девушку вдруг навалилась слабость, слезы сдавили горло, и Дикбер была уже не в силах сдерживаться… Рыдая, она закричала: – Тхо шадерш, са жима вежарий, йижарий тхо кестта мацалла лира ду. Тхуна г1о дайша къонахий, г1о дайша дела дехьа! (Мои родные, мои маленькие братья и сестренки, мы… мы умрем скоро. Помогите, мужчины, помогите нам, ради Аллаха!)
Ее ноги подкосились, и она привалилась к воротам, закрыв лицо руками.
– Ахьа ху дай, собар де, елха ма елха х1инца. (Ты знаешь, ты успокойся, не плачь сейчас), – виновато пробормотал Шепа, отводя взгляд, а у самого ком подступил к горлу и он начал кашлять, не желая показывать слабость перед другим мужчиной, хозяином склада.
После того как Шепа перевел слова Дикбер, повисла пауза. Хозяин склада задумался, глядя куда-то в сторону, и вдруг решительно махнул рукой, указывая следовать за ним на склад.
– Ладно, я возьму тебя на работу. Но имей в виду, что работа тяжелая. Сразу не кидайся на зерно, ты должна привыкнуть. Иначе через день упадешь, совсем не будет сил работать. Вот так надо брать лопатой зерно и переворачивать его, откидывая. Единственной своей рукой он взял широкую лопату из фанеры и, к удивлению учителя и самой Дикбер, сумел с ходу уверенно воткнуть ее в зерно, зачерпнуть и откинуть рядом почти полный ковш. Мужик он был крепкий. Шепа все сказанное дословно перевел на чеченский. – Баркалла шуна,аса ч1ог1а болх бира бу, аса ч1ог1а болх бира бу. (Спасибо вам, я буду хорошо работать, я буду хорошо работать!) – дважды произнесла Дикбер, все еще всхлипывая. В этот момент она почему-то совершенно не чувствовала счастья. Лишь пустота внутри, словно она сожгла последние свои силы и эмоции. Ей только хотелось прилечь и выспаться. Хозяин попрощался и велел прийти утром. Шепа улыбнулся и сказал:
– Х1о х1инца ц1а г1ой парг1ат са да1а, цо хьайга альчунах кхийтари хьо. Иза кху белха хьакам ву, цуьна ц1и А-ЯЗ-БАЙ ю (Иди домой и отдохни, как следует. Ты все запомнила, что он тебе сказал? И еще знай, что он заведующий всем зерноскладом. Его имя Аязбай. А-ЯЗ-БАЙ-ага).
Девушка шла домой и перед ее глазами маячила фигура Аязбая. Она хорошо запомнила, что он без руки и без кобуры, но вот его лицо почему-то никак не отпечаталось в ее памяти. Дикбер как в тумане добралась до места, где они жили, попросила воды, сообщила всем, что нашла работу на складе, и свалилась от смертельной усталости спать…
…И вдруг она идет с отцом, и еще кто-то из родных рядом. Вот они заходят на пшеничное поле и пытаются сорвать колосья, но они почему-то оказываются очень тугими, неподатливыми. Дикбер чувствует тревогу, на их пути возникает хлев, слышен голос отца: «Чехка чу д1алач1къа деза!» (Надо быстро спрятаться внутрь!) Она заходит в хлев и видит огромного быка, который подпирает одну из покосившихся стен хлева. Крыша вот-вот упадет. Бык стоит и смотрит на нее очень спокойно. Дикбер боится и хочет убежать, но не может найти выхода. В панике она потеряла дверной проем, он словно пропал куда-то. Девушка бегает и кричит: «Дада, Дада!» (Отец, Отец!) Он снаружи отвечает: «Ма кхера Корта, г1о де пенна сацо» (Не бойся, Корта, помоги удержать стену). Она кидается к стене и удивительно легко ставит ее на место. Бык освобождается, подходит к ней и тянется к ее лицу, чтобы лизнуть. Девушка боится отойти, ведь тогда стена и крыша обрушатся. Бык, тяжело дыша, тянется и касается влажным языком ее щеки, и она в этом момент просыпается от того, что соседская кошка лижет ей лицо. Непонятно, как пробралась в дом и устроилась рядом с Дикбер.
– Д1а яла беха хума! (Пошла вон, грязная!)
Корта встала, чтобы умыться. «Тамашина г1ан» (Какой странный сон), – подумала она. Светало…
ЧЕЧЕНЦЫ
Даже сейчас попади любой казах в чеченскую среду, он бы охарактеризовал их, как людей с другой планеты. Настолько непривычными показались бы сыну степей традиции и уклад горцев. Общим у них была только вера. Чечня. Какой чудесный край! Это маленькая горная республика с множеством мелких речек и журчащих арыков. Плодородной земли хоть и мало, но зато есть нефть – лакомый кусочек для многих держав во все времена. Климат мягкий, зимы теплые. Снег выпадает, в основном, только в горах. В конце зимы в горы поднимаются сборщики дикого лука (черемши). Из-под уже подтаявшего снега они собирают эту душистую траву, пахнущую чесноком. А весной и летом там такое изобилие фруктов в садах, что над селениями струится незабываемый сладкий аромат. В одном из таких сел – в Ачхой-Мартан и жила семья Такаевых, не очень богатая, но дружная. Они были из, так называемых, равнинных чеченцев, из тейпа (рода) Тумсо, и пользовались заслуженным уважением сельчан.Несмотря на то, что Махмуд Такаев был младшим из семи братьев, он был самым смелым и дерзким даже по меркам местных нохчей (так называет себя этот народ). Когда пришло время думать о создании семьи, он начал ухаживать за девушкой по имени Бату.
Женщины-чеченки в большинстве своем очень привлекательны, кожа у них молочно-белая, волосы густые, волнистые. Такой была и его избранница – миловидная, невысокого роста, скромная, из бедной семьи. Он бы на ней и женился, если бы все не испортил глупый спор в кругу ровесников.
– Махьмуд хьо г1уно дика к1ант ву, хьайга ца йог1а йо1е хьожа хьо! (Махмуд, ты такой бравый парень, а смотришь на ту, которая тебе не ровня!) – с издевкой говорили его друзья. А Махмуд и вправду был парень на загляденье: статный, широкоплечий, правильные черты лица, тонкий нос, серые пронзительные глаза.
– Амма Кели – сийлахь йо1 ю! (А вот Кели – славная девушка!) – продолжали они его дразнить. – Ч1ог1а хаза йо1 ю! Кели да вехаш ву, хьайна йало лаахь ядо езар ю, иза ша ч1ог1а кура ю (Вот уж кто писаная красавица. Хотя нет, Кели ведь дочь богача. Если хочешь жениться на ней, то придется ее украсть. Сама она уж слишком гордая), – не унимались парни, подкидывая в разгоревшийся костер самолюбия Махмуда дополнительные доводы, словно сухие поленья.
Мужчина на Кавказе – это тот, кто отвечает за свои слова, не прощает обид, на кого всегда можно положиться. Он отвечает за безопасность семьи и несет ответственность не только за родственников, какой бы проступок они ни совершили, но в первую очередь за свои действия. Ему бы в тот момент промолчать или отшутиться, но тут вмешались кавказская горячность и молодость.
– Сайна лаахь ядор ю! (Если захочу, то легко украду ее!) – все-таки не выдержал потенциальный жених.
В чеченском обществе данное мужчиной слово имеет очень большой вес. Раз пообещал – надо выполнять, и он со своими братьями дерзко крадет дочь богача Джамалдина. Потом, правда, это дело замяли с родственниками невесты.
Кели была действительно яркой, и они отлично смотрелись с Махмудом вместе. Красивые синие глаза, брови вразлет, горделивая осанка – все в ней выдавало девушку из очень приличной семьи. У ее отца, состоятельного чеченца, была своя мельница, пасека, сады, много скота. Кроме того, Джамалдин владел небольшой библиотекой со старинными книгами религиозного толка, историческими трудами, и все это он мог читать на арабском языке, часто делился прочитанным со своей женой Сайхат.
– Къонах ву Махьмуд, дика йо1 хаьржина! (Ай, молодец, Махмуд, достойный выбор), – говорили потом друзья, тем самым теша его самолюбие человека слова.

Первой Кели родила девочку Курбику, что в переводе означает «гордая». Надо заметить, чеченский мужчина в семье очень сдержан в чувствах не только к жене, но и к детям. Своих сыновей и дочерей они прилюдно не ласкают, могут только подтрунивать или подшучивать. Но помня о будущих наследниках, все же отдают предпочтение мальчикам. Так уж получилось, что в июне 1925 года в их семье снова родилась девочка. Ей дали имя Дикбер, по-русски – «хороший ребенок». Появление на свет второй дочери не слишком обрадовало Махмуда… Он, по всей видимости, забыл, что у Всевышнего есть свои планы на нас, простых смертных.
Чеченцы, на протяжении сотен лет боровшиеся за свою свободу, генетически воинственны и бесстрашны. Они очень религиозны, с малых лет читают намаз, держат пост. Народ крайне гордый. Чеченцы считают, что у них особая миссия на Земле по распространению и сохранению ислама. Быть убитым в бою за веру и свободу всегда считалось огромной доблестью. Таких людей чтили и называли шахидами. Непростая история этого народа, особенности национального характера, строгая религиозность и сформировали особый, подчеркнуто сдержанный и даже суровый стиль поведения чеченцев в быту. К примеру, в семейной жизни муж свою жену по имени не называет нигде и никогда, обращается только: «Хези хьуна?» (Ты слышишь?) Эти слова означают, что она принадлежит только ему. Лишь интонация – гневная или ровная – показывает истинное отношение мужа к жене.
Махмуд был мужчиной практичным. Портить отношения с родней Кели он не собирался, а поэтому просто привел в дом вторую жену, ту самую скромную Бату, за которой ухаживал когда-то. Кому-то это может показаться странным, однако такое решение было лучшим в той ситуации. Конечно же, гордая Кели была недовольна и даже в душе оскорблена поступком мужа. Но по законам вайнахов, мужчина очень легко мог расстаться с любой из своих избранниц, просто сказав: «Хьо йитана ю!» (Ты оставлена!). Этого достаточно, чтобы она покинула дом. Что-то просить и доказывать женщина не будет. При этом дети всегда остаются с отцом, так как сторона жены может их не принять. Мол, «уходила одна и приходи тоже одна». Поэтому жена будет очень стараться угодить мужу, а он, в свою очередь, подумает много раз, как ему быть одному с оставленными детьми.
По иронии судьбы, Бату первой также родила девочку. И уж потом сына. Рождение же у Кели, после девочек двух подряд сыновей Ахмеда и Шахида, успокоило требовательного мужа. А чтобы столь разные по происхождению и характеру жены не ссорились, Махмуд решил поселить их по отдельности.
К своему дому нохчи относятся с особым трепетом. Чеченцы, вообще – отличные строители. Если мужчина не смог построить хороший дом для семьи, он может считать себя несостоявшимся. Даже девушку из такого двора брать замуж считается зазорным. Они не будут есть, пить, одеваться, но построят очень крепкий и просторный дом. Чтобы не хуже, чем у других! Махмуд же подошел к вопросу нестандартно, но основательно. Он построил в одном дворе два дома. Дом Кели выходил на одну сторону улицы, дом Бату на другую. Так жены могли по несколько дней не попадаться друг другу на глаза. Чеченские невестки очень чистоплотны. Даже самый бедный саманный домик будет побелен, каждое утро женщины всегда начинают с подметания двора. Постиранное белоснежное белье должно быть развешано так красиво и непременно в определенном порядке, чтобы прохожие заглядывались и понимали, что здесь живет очень хорошая хозяйка. К удовольствию Махмуда, у него их было целых две. Жили достаточно просто, не покладая рук зарабатывали на пропитание. Выращивали кукурузу, потом мололи ее и делали лепешки. Пшеничного хлеба почти не видели. Мясо было крайне редко, в основном в рационе были брынза, сыворотка, овощи. Аскетичный образ жизни на Кавказе – в порядке вещей.
Из всех, уже подросших детей очень выделялась Дикбер.
– Массаза ала деза хьога, ма ида цига х1ора дийнахь, цулле хьай г1уллакх де! (Сколько раз тебе говорить, не бегай туда каждый день, займись лучше делом!)
Кели была суровой матерью и запрещала своим детям часто ходить в гости к Бату. Но в доме у второй жены отца всегда царили доброта и умиротворение. Она вкусно готовила, была мягкой женщиной, ласковой с детьми и степенной в своих речах и мыслях. Между домами жен было высажено небольшое кукурузное поле, и Дикбер часто убегала через него к Бату. Вроде как выйдет нарвать початков, а сама – нырк! Только ее и видели. Девочка прониклась к Бату уважением и в душе жалела ее, помогала по дому. То воду из реки принесет, то кукурузы нарвет. И все это, не обращая внимания на увещевания ее собственной матери Кели. Дикбер была толковой, хваткой и решительной. Несмотря на достаточно консервативные нравы, царившие в те времена, могла, не слушая никого, принять решение и действовать без оглядки. В этом она была вся в отца. Махмуд обращал на это внимание и часто ласково звал ее «Ко’рта», что в переводе означает «голова». Как ни странно, отец ценил в Дикбер, прежде всего проявление мужских качеств. Кто из них мог тогда подумать, что через некоторое время именно эти ее качества спасут от смерти их и многих других людей…
ПОДЛОЖИТЬ СВИНЬЮ…
Свободолюбивая натура горцев нехотя принимала порядки, насаждаемые советской властью. Вместо обещанной свободы, равенства, земли, независимости, уважения национальных традиций и религии чеченцы получили жесткий режим с чуждой их устоям социально-экономической системой. Вооруженные антисоветские выступления продолжались в Чечне вплоть до 1936 года, а в горных районах – и до самой войны. Как раз тогда Махмуд сумел устроиться простым охранником в районную милицию и неизвестно, как долго бы он носил форму, если бы не один случай.– Махмуд, мы против этого. Ты же мусульманин, тем более работаешь в милиции. Объясни ты этим неверным, что это харам!
Махмуд латал крышу сарая, когда к нему пришел его знакомый Суламбек из соседнего села и, едва поздоровавшись, начал взволнованную речь.
– Постой, о чем ты говоришь? Объясни спокойно, – Махмуд отложил дела и стал внимательно слушать.
– Мы с женой ездили к ее родственникам в дальнее село в горах. И ее отец рассказал, что власти решили разводить у них свиней. Ты можешь себе это представить? – горячо продолжал тот.
Махмуд удивился: – Как – свиней? А ты точно ничего не путаешь?
– Да я бы рад прямо сейчас сойти с ума, чтобы мои слова оказались болтовней ненормального. Но это правда!
Махмуд прикинул: то село находится далеко, следовательно, относится к другому району.
– Ты знаешь, как зовут начальника НКВД в том районе?
– Не знаю и знать не хочу. Зачем он мне сдался? Мы уже решили эту проблему по-своему. Я не об этом, Махмуд. Ты можешь поговорить с начальством, объяснить, что так нельзя делать? – искренне и наивно спросил Суламбек. – Почему они отнимают у людей овец, а разводить велят именно свиней? Оскорбить нас хотят? У Махмуда округлились глаза, и он шепотом процедил сквозь зубы:
– Что значит «решили по-своему»? Что вы там сделали?
Он взял соседа за руку и быстро втащил его в дом, закрыв дверь, чтобы никто случайно не мог подслушать их разговор.
– Спокойней, спокойней, брат! – возмутился в прихожей «борец за правду». – Мы с местными джигитами просто отравили всех свиней и сожгли хлев. Даже и одного дня там не простоял! – смеясь, гордо добавил он.
«Робин Гуд» был значительно моложе Махмуда, и ему явно нравился образ героя-заступника. Махмуд почесал затылок, засунул руки в карманы и начал энергично ходить взад-вперед, придумывая, как он теперь сможет помочь выкрутиться своему земляку.
– Сколько вас было? – наконец спросил он.
– Семь или восемь человек местных, не больше.
– А кто-нибудь это видел?
– Так там почти все село собралось посмотреть. Керосин приносили…
– А ты знаешь, что тебя ждет теперь после этого? – громко, глядя в глаза Суламбеку, спросил Махмуд. – Что будет с твоими детьми, женой, когда тебя арестуют и отправят в тюрьму или расстреляют из-за каких-то вонючих свиней? Ты слышал, что я сказал «когда», а не «если»?
Суламбек осекся, однако по его выражению лица было видно, что он не сильно переживает по этому поводу. – Ладно, – махнул рукой Махмуд. – Всем говори, что ты в эти дни ночевал у меня, помогал строить сарай. А я потолкую с другими сотрудниками милиции.
Он понимал, что это, скорее всего, не сработает, но другого выхода не видел. Через несколько дней Суламбека и других участников акта сожжения хлева все же нашли и арестовали, однако им удалось каким-то образом сбежать. С помощью Махмуда Такаева или нет – история умалчивает, но после недолгого разбирательства Махмуда обвинили в пособничестве и осудили на 10 лет лагерей, как врага народа.

Атеистическая идеология и топорная практика большевиков по разжиганию социального конфликта внутри чеченского общества, пренебрежительное отношение к обычаям и грабительская продразверстка вызвали множество вспышек недовольства новой властью. В результате властью была организована откровенно абсурдная кампания борьбы с «буржуазно-националистическими и религиозными предрассудками, пережитками прошлого», а по существу – с традиционным укладом жизни вайнахов, их культурой и традициями. Часто применялись очень жестокие методы. Чтобы население сдавало оружие, проводились казни старейшин, брались заложники, разрушались все дома в ауле. Репрессии проводились под знаком ликвидации так называемого «политического бандитизма» в Чечне.
Наказание Такаев отбывал в Коми АССР. Отправили его туда перед самой войной. Двум его семьям, хоть им и помогали родственники, но с маленькими детьми на руках присматривать за хозяйством было нелегко. А как началась война – стало еще труднее. От Махмуда письма приходили очень редко, в них он как мог, старался подбодрить своих жен. Ему тоже было тяжко, в особенности с рационом питания. Ведь еда в лагере – жиденькая баланда. А к ней для повышения калорийности полагался кусочек сала размером со спичечный коробок.
«Я – истинный мусульманин и ни в коем случае не стану есть свинину. Потому что это для нас страшный грех. А неудобства лагерные я как-нибудь переживу», – говорил Махмуд сам себе, настраиваясь терпеть долго.
– А ты кури больше. Так голод не чувствуется, – посоветовал ему как-то один из заключенных.
– Да я не курил никогда, – ответил ему Махмуд
– Тогда сдохнешь, и никто тебя не вспомнит, – заключил тот и, протянув руку, представился: – Виктор Савин, поэт.
– Махмуд Такаев, крестьянин, – в свою очередь ответил чеченец, не упоминая о работе в милиции.
Сдохнуть чеченец не боялся, а вот не увидеть более своих родных не входило в планы упрямого кавказца. Он решил обменивать это сало на махорку и научился много курить, чтобы заглушить чувство голода. Впоследствии, уже на свободе, он долго страдал болезнями легких, сгубив их в лагерях, выкашливал их кусками, от этого и умер.
– А еще попробуй сильно затягивать ремень на животе. Тоже помогает, – заговорщически шептал Савин.
Этот заключенный оказался поэтом и театральным драматургом. Горячий и активный, он постоянно писал что-то на клочках бумаги, манерно бубнил под нос стихи и говорил, что это помогает ему выживать и забываться на время. Творческий до мозга костей, Виктор Савин вечно искал в ком-нибудь поддержку своим поэтическим порывам. Суровый, сдержанный, а главное, молчаливый Махмуд как раз подходил на роль слушателя. Не все слова ему были понятны, но общий смысл вызывал в нем неподдельный интерес. Он пристально вглядывался в глаза этого энергичного парня, интересно описывающего свое прошлое. Ему было забавно наблюдать за непривычными для горца эмоциями и живой артикуляцией поэта.
Пусть чужбина и богата, Все же дома лучше. С каждым днем все неоглядней Мать – землею тянет. Пусть другая и нарядней, Но родной не станет. Вот я, наконец, и дома. Счастлив и свободен.
– Знаешь, Махмуд, ведь я не русский, а коми, – почему-то тихо, как-то раз доверился он своему постоянному слушателю. – Я организовал первый в Коми театр на родном языке, ставил пьесы, я прославлял Советскую власть, а меня назвали национал-шовинистом. Обидно… Я хотел, чтобы мой народ мог читать лучших авторов русской и европейской литературы на языке коми. Вот скажи, ты бы хотел приобщиться к лучшим достижениям мировой культуры на своем языке?
Чеченец кивнул.
– Что тут плохого, правда ведь? – произнес Виктор и отвернулся. – Да, я сорвался… начал пить… – с горечью сказал он. – Ведь я коммунист, и мне нельзя… Но я так боялся… – он тяжело вздохнул, низко опустив голову.
Махмуду было в диковинку видеть мужчину в таком унылом состоянии, и он лишь ободряюще похлопал того по плечу.

Рассказ Савина не был удивительным – атмосфера того времени была тревожной, если не гнетущей. Многие знакомые и коллеги Виктора уже находились в заключении, будучи ничуть не более виновными в каких-либо преступлениях, чем он. Савин напряженно ждал своей очереди, находясь в постоянном беспокойстве. «На всякую мелочь я стал реагировать болезненно, – признавался поэт, – а это приводит все к одному – выпивке».
И все равно в голове Махмуда не укладывалось: что же человек такой мирной профессии был способен натворить на воле, чтобы оказаться здесь? Он с удивлением отмечал, что среди отбывающих наказание почему-то очень много умных и грамотных людей, абсолютно ничем не похожих на настоящих воров, убийц и бандитов. А уж криминальный элемент ему был знаком хорошо.
Преобладание в составе контингента политзаключенных тысяч представителей инженерно-технической и гуманитарной интеллигенции оказывало сильное воздействие на людей по обе стороны колючей проволоки. Им непременно надо было чем-то заместить суровую реальность и куда-то направить весь свой созидательный потенциал. Руководство удивительно легко шло навстречу этим порывам, потому как тем самым тешило собственное самолюбие. Им казалось, что они талантливо и умело руководят творческим процессом, хотя на самом деле главной пользой от надсмотрщиков было просто не запрещать. Поэтому среди этих «потешных полков» появились ансамбли песни и танца, клубы художественной самодеятельности, театры и художественные мастерские, научно-исследовательские лаборатории и центры.
8 октября 1942 г. срок заключения Виктора Савина истек, но из Коми АССР пришло сообщение:
«В связи с проведением борьбы за создание в Коми буржуазной республики приезд В. Савина в Сыктывкар нежелателен».
И несостоявшегося участника «контрреволюционной буржуазно-националистической организации» отправили в Сибирь. По дороге он заболел и умер в августе 1943 года.
КЕЛИ
В то время, когда Махмуд Такаев, сидя в лагере, мысленно рассуждал о странностях советского бытия, его старшая жена Кели была по горло в каждодневных заботах о трех своих малолетних детях и еще семье второй жены – Бату с дочкой Зулпой и сыном Лечей. У Бату родственников не было, никто не помогал выживать, и вся ответственность за обе семьи легла на Кели. Тогда жили трудно все, но, если в доме не было мужчины, основного добытчика, то трудно было втройне.Когда в свое время Махмуд привел второй женой Бату, для Кели это, конечно, стало большим ударом по самолюбию. Маленький домик, где поселили Бату, был в другом конце большого огорода и выходил на соседнюю улицу. Они не виделись и не общались вовсе. И вот Махмуда арестовали, семьи остались без хозяина и кормильца. Тогда старший брат Махмуда – Халид собрал всех в своем доме и сказал:
– Случился большой удар по нашему роду, по вашей семье. Чтобы не позорить фамилию Такаевых перед людьми, чтобы никто не говорил, что семья рассыпалась от первого порыва ветра, чтобы соседи не злословили и не сплетничали, вы должны забыть все свои обиды, объединить все силы и вместе поднимать детей. Судьба брата неизвестна. Будем молиться, чтобы он вернулся, а когда это произойдет, здесь, в его доме, всё должно оставаться, как раньше. Ради него и Всевышнего! Ответственность за семью я возлагаю на тебя, Кели, и с тебя спрошу!

Общие трудности сблизили Кели и Бату. Их отношения никогда ровными не были, но тогда все думали только о том, как выжить. «Дикбер, полей тыкву, Бату, собери фрукты, а я пока займусь кукурузой, сделаю муку». Кели садилась и делала пресные лепешки. Лепешки макали в соленую сыворотку, прикусывали брынзой с луком – вот и вся каждодневная пища.
В таких условиях рабочие руки в доме были остро необходимы. Курбика была старшей дочерью Махмуда и Кели. Выросла очень красивой девушкой. Высокая, с длинными золотистыми волосами. Характером гордая, самолюбивая. Отца и мать она называла по имени, что разрешалось только старшим сыновьям. Курбика рано вышла замуж за парня из Гудермеса. Такое замужество считалось удачным и даже почетным. Гудермесцы твердо соблюдали все традиции нации и очень этим гордились. В общем, кроме Дикбер в доме помощников то и не было. Они с матерью вставали до рассвета и после утреннего намаза трудились дотемна.
– О Всевышний, помоги мне и моей семье выжить. Я хочу есть досыта и не стесняться своей бедной одежды, – так, на свой манер заканчивала каждую молитву Дикбер. Ей уже было почти 17 лет, с каждым годом она хорошела, и на нее стали обращать внимание. К Кели даже приходили люди из одного уважаемого рода. Хотели засватать Дикбер за парня из состоятельной семьи. Дав предварительное согласие на замужество своей дочери, Кели намекнула сватам, что разумнее отложить свадьбу до возвращения Махмуда. Да и не могла она дочь отпустить, попросту не справилась бы с домашними хлопотами одна…
Строги обычаи предков! Чеченские девушки по улицам бесцельно не ходят, вечерами не гуляют. Если девушку заметят на прогулке одну, кто-нибудь обязательно поинтересуется: из какой она семьи, есть ли у нее отец, старшие братья, и почему ей это разрешают? Не принято также ходить на свидания или встречаться наедине. Видеться молодые люди могли только в присутствии свидетелей. При этом парень должен был стоять на расстоянии не ближе вытянутой руки.
– Как тебя зовут? – однажды обратилась к Дикбер незнакомая женщина, когда та пришла к ручью за водой. – Дикбер, – ничего не подозревая, ответила девушка. – Меня зовут Яхита. Один молодой человек, мой двоюродный брат Али, хотел бы с тобой познакомиться. Ты придешь сюда завтра?
– Может, приду, – уклончиво и без особого энтузиазма ответила Дикбер, а про себя подумала: «Еще мне этих проблем не хватало». Она вспомнила строгое лицо матери и свое отложенное замужество.
На следующий день у ручья она встретила Яхиту и ее брата. Али стоял поодаль в тени дерева. Был виден лишь его силуэт.
– Здравствуй, Дикбер! Как твои дела? – начала незатейливый разговор Яхита. – Али, помоги мне поднять кувшин, – как бы, между прочим попросила она парня.
Он вышел на свет и шагнул к девушкам. Дикбер на миг встретилась с ним глазами, потом торопливо подхватила свой кувшин и направилась домой.
С этого дня Дикбер только и думала об этом парне. Впервые в жизни она влюбилась. Крепкий джигит среднего роста, выразительные черные глаза. Взгляд не суровый, с задоринкой, едва заметная улыбка выдавала человека легкого и ироничного по характеру. Али понравился ей до такой степени, что, услышав вскоре там же, у ручья, предложение о замужестве, она передала через Яхиту свое согласие. Может, она и впрямь сильно увлеклась им, а может, ей хотелось уйти, наконец, от безысходности? Скорее всего, и то и другое…
Дикбер места себе не находила тем вечером. После ужина, убирая посуду, она нечаянно уронила тарелку, минутой позже запнулась о стул и чуть не упала.
– Что-то ты сегодня неловкая какая-то. Все в порядке? – строго спросила мать.
– Да, все хорошо.
Оставшись в комнате одна, Дикбер набрала воды в тазик и собралась стирать свое единственное приличное платье, в котором, собственно, и ходила каждый день. Кели услышала плеск воды и крикнула из другой комнаты:
– С чего это ты затеяла стирку посреди недели?
– Я испачкала платье маслом. – Не возись долго, пора спать.
Когда все стихло, и члены семьи уснули, Дикбер неслышно поднялась, на цыпочках пробралась в прихожую, где на веревке сушилось платье. С него вода уже не капала, но ткань была еще влажной, а времени рассуждать не было. «Или сейчас, или никогда», – решившись, подумала она и стала натягивать на себя мокрое платье. В свете луны никто не увидел, как девушка скользнула за ограду и, стараясь не выходить на открытое пространство, растворилась в ночи.
Яхита стояла у ограды и всматривалась в темноту. Прошло немало времени, но вот из темноты вышла Дикбер. Увидев сестру Али, она остановилась, пристально всматриваясь в ее лицо. Яхита улыбнулась и кивком головы дала понять, что все в порядке. Дикбер, опустив голову, зашла в дом. В таких случаях у чеченцев не принято сразу идти в дом жениха. Кстати говоря, с какого-то момента жених и вовсе выпадает из поля зрения семьи – всем занимаются его родственники. Невеста находится в доме у родной сестры жениха, пока не завершатся необходимые дипломатические переговоры с ее семьей. Родственницы жениха встретили ее очень доброжелательно. Но родне Али еще предстоял непростой разговор с Кели. На следующий день послали людей к матери Дикбер с извинениями и вестью, что ее дочь у них, и они готовы строить родственные отношения.
– Мир вашему дому. Мы пришли с добрыми намерениями, с открытой душой к вашему порогу. Если позволите, мы его переступим.
Однако для Кели это был страшный удар, и она не пустила гонцов на порог своего дома. Женщина до такой степени была разгневана и расстроена поступком дочери, что слегла. Она сочла это предательством и считала, что Дикбер опозорила ее семью, нарушила данное слово – подвела тех уважаемых людей, которые однажды приходили ее сватать. Но самое ужасное – не дождалась отца и его благословения.
– «Дала кхелл йойла хьуна!» (Пусть покарает тебя Бог). Так ей и передайте! – говорила она всем, кто приходил к ней на переговоры.
Проклинала она свою дочь так, что даже близкие родственники не могли ее остановить. – Что же ты так ее бранишь? Что она такого страшного сделала? Просто ушла замуж. Побойся Бога, вдруг все исполнится!
– Ц1ела керча хьа корта! (Пусть голова твоя катается в крови!)– не унималась Кели. И свою дочь, и новую родню, разъяренная мать долго не хотела видеть.
А парень оказался хороший, добрый, семья большая и дружная. Дикбер одели, обули, и началась другая жизнь, счастье. В этой семье все было по-другому. Мама мужа была женщиной мягкой. Она с теплотой относилась к Дикбер. Отец был простым и добродушным человеком. Разница между ее прошлой жизнью и новой была разительной.
Она с упоением жила и наслаждалась каждой минутой с Али. Он обладал редкой для мужчины чуткостью. Дикбер удивляла его способность смотреть на нее не пристально-осуждающе, а внимательно, словно он пытался угадать ее желания. Он был любимым сыном своей матери, но мудрая женщина не позволяла ни себе, ни кому-то еще излишнего проявления эмоций в его адрес, которые бы испортили его. Если бы Дикбер знала слово «интеллигентность», она бы применила именно это определение к описанию нравов, царивших в этой семье. Дни проходили легко. Да, все в быту осталось по-прежнему. И вставать надо было рано, и ухаживать за скотом, и готовить еду, и стирать, и убирать. Но добрая атмосфера утроила силы Дикбер, и она, не замечая усилий, все делала с радостью, и все давалось ей удивительно просто! Вечером, довольная, ложилась спать, утром, счастливая, просыпалась. А как его мама готовила лепешки! Она была настоящей кудесницей в приготовлении чеченских лепешек с тыквой. Каждую неделю, чаще в субботу, по дому разносился бесподобный запах печеного теста и топленого масла. Это был рай во всех смыслах. К Дикбер относились доброжелательно, без упреков, без сдвинутых бровей на переносице. По ночам она обнимала своего мужа и вдыхала, вдыхала его запах. Гладила его волосы, когда он засыпал, и не могла нарадоваться своему счастью…
Они долго стояли друг против друга. Мысленно прощались, понимая, что им, возможно, больше не суждено встретиться.
– 1ела, хьоменаг аc хьу дир ду? (Али, любимый, а как же я?) – Дала мукълахь шадерг дика хир ду (Даст Бог, все будет хорошо). – Со хьожар ю хьога (Я буду тебя ждать). – Со юха вог1ар ву хьуна, хьо сох тешалахь хьоменаг (Я вернусь, я обязательно вернусь. Ты должна в это верить, любимая). – Со хьажа г1уртар ю, со ч1ог1а хьожар ю (Я стараюсь. Стараюсь изо всех сил).
Мать Али шептала молитвы и, смахивая слезинки, все гладила своего сына по спине, как будто хотела благословить его на всю оставшуюся жизнь. Наконец, он обнял мать, отца, потом поклонился остальным своим землякам, надвинул поглубже папаху, вскочил на коня и ускакал. А его молодая жена глядела ему вслед с тоской, так и не успев досыта познать всех радостей спокойной семейной жизни. Прошло так мало времени, всего какие-то три месяца, и Али призвали на фронт…
Некоторое время Дикбер жила в новой семье. Вестей от Али не было и, чтобы соблюсти строгие чеченские приличия, его отец сказал: – Мы от тебя не отказываемся, ты нам нравишься как невестка. Однако, пока Али на фронте, тебе лучше пожить у себя дома. Это временно, до возвращения мужа.
Вот и все…
Конечно, Кели приняла ее неласково, но дома нужны были руки, помощь по хозяйству. Потихоньку налаживались отношения, хотя Дикбер очень боялась своей матери, старалась не попадаться ей на глаза, чтобы не получить очередную порцию проклятий. Впоследствии она считала, что все эти проклятия исполнились и сопровождали ее всю жизнь. Дикбер обладала одной особенностью, о которой она никому не рассказывала. Девушка иногда видела странные тревожные сны, события в которых, так или иначе, повторялись в реальной жизни. А не рассказывала она о них, потому что такие сны обычно не предвещали ничего хорошего. Она сама их боялась. Один из таких снов девушка увидела в ночь на 1 февраля 1944 года.
…Она стоит в конце вагона в том месте, где они сцепляются друг с другом, и смотрит на соседний. А там открыта дверь, и стоят люди, смотрят на нее. Смотрят по-доброму, кто-то улыбается. Они счастливы. Вдруг люди по одному начинают махать ей рукой, словно прощаются. Она думает: «Как бы мне перебраться к ним?» Оглядывается – сзади никого. Она одна в пустом вагоне. Поворачивается, а соседний вагон с людьми сам собой отцепляется и начинает отставать. Она в ужасе протягивает людям руки, мол, помогите мне перебраться к вам! А они улыбаются и качают головами: «Нет, не надо!» И в какой-то момент вагон переходит на соседнюю ветку и уезжает в сторону, постепенно исчезая в тумане…
ХОЗЯИН СКЛАДА
Посевная в Карагандинской области из-за климата и так всегда начиналась в мае. А тут еще весна выдалась холодной. До этого времени всю зиму Аязбай следил за правильным содержанием пшеницы в зернохранилищах, починкой техники, организовывал людей, контролировал качественное перелопачивание зерна, чтобы оно не «горело». Дело в том, что зерно имеет свойство перегреваться. Это еще называют «дыханием зерна». Ведь оно – живое и само по себе является источником жизни. Из-за плохой вентиляции склада температура зерновой массы может дойти до 60 градусов и даже выше. И если нерадивый хозяин проворонит процесс, то зерно темнеет, теряет сыпучесть и превращается в монолит. Да такой, что его даже грызть не получится, потому, как зерно может стать ядовитым и его нельзя будет употреблять в пищу. Ни тебе посеять, ни хлеб испечь. Поэтому в то время за халатность в отношении зерна могли наказать весьма сурово.– Дядя Аязбай, вы где? – откуда-то донесся звонкий девичий голос. В этот момент Аязбай как раз заканчивал вечернюю молитву, запершись у себяв тесной каморке, там же, на территории склада. Он поднялся с колен, спешно сложил единственной рукой старенький, изумрудного цвета потертый коврик и сунул его под набитый сеном матрац в углу комнаты. Маленькая комнатка быстро нагревалась благодаря старой буржуйке, и Аязбай не торопился надевать верхнюю одежду. Он присел и стал ждать, закрыв глаза. Вдруг нахлынули воспоминания о детстве: как он учился в медресе, как строгий наставник, раз за разом читал суры из Корана, и мальчишки хором за ним повторяли.
С тех пор как он потерял руку на фронте, Аязбай не мог полноценно исполнять намаз пять раз в день. Ведь перед каждой молитвой надо было обязательно совершать тщательное омовение по строгому ритуалу.
«Надеюсь, Аллах не сердится за это на меня», – успокаивал он себя. Аязбай был лучшим выпускником медресе и до сих пор назубок знал весь Коран. Теперь он читал суры для всех, кто его просил, – на свадьбах, похоронах, при рождении детей. А для себя – лишь в те редкие минуты, когда оставался наедине со своими мыслями.
Что же там случилось? Кажется, это был голос Кати, молоденькой лаборантки, присланной в помощь из Караганды год назад. Аязбай встал, отпер дверь, и она почти сразу же распахнулась. Катя, видимо, так долго бежала, что не сразу смогла говорить. Немного отдышавшись, она, как обычно, начала тараторить, присев на деревянные ступени. – Аязбай-ага, я вас везде ищу, ищу. Думала, вы в мастерской, пришлось бежать с другого конца. Даже упала один раз!
Девушка начала было показывать царапину на руке и рассказывать, как именно она упала, но Аязбай мягко ее прервал:
– Что случилось?
– А, ну да! Я за этим-то и искала вас. Я сегодня была в пятом складе, брала пробы и заметила, что зерно какое-то влажное. И решила вам скорее рассказать!
Аязбай ловко накинул тулуп, подхватил Катю, одной рукой поставив ее на ноги.
– Пойдем, покажешь!
Лаборантка бежала, мелко семеня, и продолжала что-то щебетать про увиденное. А он в этот момент вспомнил, что несколько дней наблюдал за стаей ворон, которая настойчиво кружила и кучковалась на крыше одного из помещений, где хранится зерно. На складе уже суетились работники – несколько женщин и единственный мужчина, завхоз Иваныч, мастер на все руки, мобилизованный пару месяцев назад с фронта.
– Вон оттудова текет, начальник! –он указал на еле заметную щель в потолке помещения. Женщины уже сгребли подмоченное зерно отдельно от остальной пшеницы и подставили ведро, куда капал сквозь крышу подтаявший снег.
– Я утром залезу и заложу доской. Я тут сховал пару на всякий случай. Не переживай, начальник, – уверенно и без лишнего бахвальства заявил завхоз.
– Спасибо, Иваныч, – тепло поблагодарил Аязбай и похлопал его по плечу. – Хорошо, что вовремя заметили.
Он на секунду остановился, осмотрел всех присутствующих с еле заметной улыбкой в глазах. Молодые женщины смутились, потупив взгляд, никто не решался двинуться с места.
– В общем, завтра все будет в порядке, – прервал неловкое молчание Иваныч.

По дороге домой Аязбай думал о том, как ему везло с людьми на всем его жизненном пути. «Все-таки хороших в мире больше, чем плохих. Да и плохие – это просто неправильно воспитанные хорошие». Он еще раз прокрутил в голове этот случай с промокшим зерном и почувствовал, как холодок пробежал по спине. Ему вдруг стало жутко от мыслей, к чему это могло привести. Крохотная дырочка в потолке могла запросто угробить его жизнь…
«Я видел смерть, но почему же мне страшно сейчас?»
Он вспоминал лица своих работников, задавая себе вопрос: надежный – ненадежный? Аязбай постарался отогнать от себя мысль, что кто-то может подвести его под расстрельную статью здесь, в родном селе, далеко в тылу.
«Нельзя расслабляться», – дал он себе мысленный приказ и, чтобы отвлечься, стал вспоминать про войну, про своих однополчан, в каждом из которых он ни секунды не сомневался.
Дивизия, в составе которой Аязбай Кудабаев ушел на фронт, формировалась в Алма-Ате и позже стала известна во всем Союзе как 8-я стрелковая дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова. После того, как удалось в 1941-м году остановить наступление немецких войск на Москву, в ставке Сталина разработали план по окружению частей Вермахта. В начале 1942 года советские войска взяли в кольцо основные силы одного из корпусов 16-й немецкой армии. Это было в районе поселка Демянск, в Новгородской области России. Но окружение вскоре было прорвано, и фашисты удержались на своих позициях. Тогда советское руководство перебросило несколько ударных армий для повторного захвата немцев в кольцо. Но те вновь сумели отбиться. Всего советскими войсками было проведено 9 наступательных операций с целью окружить 100 тысяч немецких солдат. И, несмотря на провал этой главной цели, в целом операция принесла ощутимую пользу. Во-первых, советская армия смогла помешать противнику сосредоточить свои усилия на взятии Ленинграда, а во-вторых, сковала его, не дав фашистам перебросить силы на юг стратегического фронта, где решалась судьба войны.
Аязбая Кудабаева призвали в армию в ноябре 1942 года, а уже в феврале 1943-го его полк участвовал во 2-й Демянской наступательной операции. Войска Северо-Западного фронта под командованием главнокомандующего С.К. Тимошенко провели очередную попытку поймать демянскую группировку в еще один «котел». Однако она не удалась – немецкие войска успели отойти за реку Ловать. Немцы отчаянно огрызались, тогда они еще представляли собой мощную силу.
Это произошло 25 февраля около городка Холмы. В составе своего минометного расчета Аязбай был подносчиком снарядов. А наводчиком был умелый и опытный боец Усен, тоже парень из Казахстана. Важно было в течение 30 секунд быстро и метко открыть огонь и подавить цель. После 6-8 удачно выпущенных снарядов в сторону врага командир отделения заметил, как башня одного из немецких танков повернула свой ствол в сторону расчета.
– Мы на прицеле! Срочно в укрытие! – успел крикнуть он. Все бросились в разные стороны, а Аязбай укрылся за холмиком. Меткий выстрел разнес лоток с минами, которые сдетонировали, и сильный взрыв как ножом срезал холмик, за которым он лежал, и всех его товарищей искромсал на куски. А рядовому Кудабаеву осколком сильно раздробило левую руку в области плеча. Рука бессильно повисла на остатках мышц и кожи.
«Пока я в сознании, надо двигаться к своим», – подумал Аязбай и пополз, волоча руку и помогая себе здоровой правой.
Надолго его не хватило. Все сильнее кружилась голова, и от потери крови он вскоре потерял сознание. После боя его подобрали санитары, и он очнулся уже в госпитале. А поселок Демянск, за который так отчаянно и долго сражались обе стороны, был освобожден 1 марта 1943-го года. Чуть позже Аязбая представили к награждению медалью «За боевые заслуги», а в 1945 в наградном листе уже появилась запись «Достоин награждения Орденом Отечественной войны 1-й степени». Таким орденом награждались военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск.
– А как становятся героями? Почему они такие бесстрашные, отважные и ведут за собой в атаку людей? – первым задал вопрос пионер Мишка Соколов на встрече героев войны со школьниками в сельском клубе. Аязбай сидел в окружении мальчишек и девчонок, жадно ловивших каждое его слово о войне, о боях, об оружии. Он давно демобилизовался, и лишь подобные обязательные встречи с молодежью заставляли его вспоминать подробности войны. Говорил он будто через силу, осторожно подбирая нужные слова, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, не вписывающегося в официальный образ Великой Отечественной и ее героев. Аязбай не любил приукрашивать. Бахвальство не было чертой, присущей его характеру. Поэтому он старался отвечать детям честно, от себя.
– Понимаете, ребята, когда враг яростно атакует твои позиции, это такая бесконечная стрельба, грохот и огонь, что ты не можешь даже голову поднять. Наоборот, хочется поглубже врыться в землю. А рядом один за другим разрываются тела твоих товарищей. Бывало, что человек входит в такое состояние, в такое отчаяние, что хочет это как-то остановить, изменить…
– Так вам было страшно? – изумленно спросила одна девочка.
– Ну как объяснить? К сожалению, в такие минуты никто не думает о героизме или подвиге. Даже о собственной гибели никто не думает. Желание человека все это прекратить не дает ясно мыслить, а лишь заставляет с криком подниматься из окопа в полный рост. И однополчане, только что рядом вжимавшиеся в землю, так же безумно крича, бегут вперед за тобой. Потому что сзади тоже поджидает смерть, но уже в форме особиста НКВД…
Последнюю фразу Аязбай, правда, сказал не вслух, а проговорил лишь мысленно. После демобилизации его направили домой, к семье. В селе кое-как перебивались женщины, старики, дети. В этот же период начали прибывать депортированные из разных уголков страны. Грамотных, хозяйственных мужчин не хватало катастрофически, и когда Аязбай вернулся, его сразу поставили работать заведующим овощебазой и зерноскладом в селе Хорошевское Ворошиловского района Карагандинской области. Со временем стали ценить за степенный и твердый характер.
Зерносклады, которыми заведовал Аязбай Кудабаев, это несколько очень высоких помещений с достаточно толстыми стенами из бетона. Зимой и летом в них держалась одна и та же температура, внутри было всегда прохладно. Маленькие окошки располагались высоко под потолком. Туда залетали птички и зимой там жили. Зерно лежало кучами в человеческий рост, и высоченные потолки обеспечивали необходимую циркуляцию воздуха. Вновь привезенное зерно сгружали на улице. Его сначала веяли, чтобы отделить от примесей, шелухи, мусора. Устройство подбрасывало зерно, при этом легкая часть улетала, а более тяжелая, ценная падала вниз и по транспортеру спускалась в склад. Обычно к лету все зерно расходилось по назначению: часть на посев, часть на муку, часть для скота. И пустые помещения подметались, стены выбеливались, ожидая до осени нового поступления пшеницы. Весь процесс приемки, выгрузки и сортировки зерна требовал от руководителя недюжинных организационных качеств и хозяйственного опыта.
– Я на тебя очень полагаюсь, Аязбай. Мы же тебя давно знаем. Мужик ты надежный, всякое повидал на фронте. Не подведи, очень прошу…
Председателю колхоза Хорошевское Федору Степановичу было из-за чего волноваться. Предыдущий заведующий складами загремел под статью, и его отправили отбывать наказание куда-то на север. По справедливости или нет, теперь уже не узнать. Однако слова «проворонил» и «проворовался» не зря так похожи между собой. В годы войны рассматривалось довольно много дел по хозяйственным преступлениям. Часто под эти статьи подводили обычную халатность, поскольку председателями колхозов, бригадирами, заведующими фермами становились простые полуграмотные колхозники, ведь практически всех специалистов призвали на войну. Хотя надо признать, что на почве голода встречалось и воровство, которое жестоко каралось по печально известному «закону о пяти колосках» от 7 августа 1932 г. Он предусматривал расстрел, а при смягчающих обстоятельствах – лишение свободы на срок не менее 10 лет. В условиях голода ужесточение кары обернулась не против настоящих преступников – крупных грабителей государственной и личной собственности, а против всего обездоленного люда, причинив ему много страданий.
Безмолвные и бесправные переселенцы помимо всех этих перспектив дамоклова меча над своими головами имели еще и унизительную обязанность ежедневно являться и отмечаться в местной комендатуре. Самостоятельное передвижение в другие населенные пункты строго запрещалось. Они должны были оставаться на этой убогой, постылой земле, искренне не понимая, в чем их вина…

Аязбай постепенно так наладил работу, что к его документации, его устным доводам вышестоящему руководству нельзя было придраться. Всё всегда четко, понятно и весомо. Но он не только грамотно подходил к своей работе с формальной стороны. Он чисто по-человечески помогал решать людям любые, чаще житейские вопросы. Видимо, спасение после того рокового выстрела немецкого танка, когда он чудом выжил, не позволяло ему проявлять малодушие, особенно если речь шла о сохранении очередной человеческой жизни.
К концу лета, после сбора урожая, в колхозах на всех дорогах появляются длинные вереницы автомашин и повозок. Они везут зерно на заготовительные пункты и склады. Круглыми сутками, беспрерывно, ни на секунду не прерываясь. Аязбай, бывало, не появлялся дома по два месяца, ночевал прямо на рабочем месте, и туда же дети носили ему каждый день еду. В таких условиях прием и размещение огромных масс зерна требовали от него, как от руководителя заготовительного пункта, особо четкой расстановки людей и наиболее умелого использования всех средств механизации и оборудования, которые только были в наличии. А организатор он был, что надо!
ЧЕЧЕВИЦА
Шел 1944 год. Люди жили обычными ежедневными заботами о том, как бы протянуть до весны. Уже никто не удивлялся тому, что почти в каждый дом власти подселили по одному красноармейцу. Солдаты вроде и обходились своим пайком, но иногда жадно смотрели на домашнюю стряпню, пусть и небогатую, при этом, не стесняясь, просили постирать свое белье и гимнастерки. Они расспрашивали хозяев домов и составляли списки наиболее активных и уважаемых селян, а через старейшин убеждали людей, что фронт где-то близко и надо потерпеть, ведь военные защитят от немцев, если те придут на чеченскую землю. Одним из таких уважаемых аксакалов в селе был Хусейн. К нему за советом, за решением проблем приходили все чеченцы. В советских терминах он был и председателем, и судьей, и прокурором. Вместе с другими старейшинами они разводили по сторонам поссорившиеся тейпы, принимали участие в решении самых серьезных вопросов своих сообществ, обеспечивая нужный баланс интересов разных людей. Хусейн стал одним из первых, с кем была проведена разъяснительная беседа.Военный человек вальяжно уселся на самое почетное место за столом, не спеша развернул блокнот, послюнявил химический карандаш и властным голосом стал спрашивать. Нет, не спрашивать. Он начал въедливо допрашивать главу семьи:
– Как вас зовут? – Как зовут жену, детей? – А кого вы из ваших соседей больше всего уважаете? – С кем общаетесь? – Кто из старейшин к вам чаще всего приходит? – Почему?
Вся информация скурпулезно записывалась. Но с таким статусным человеком, как Хусейн, разговор этим, конечно, не ограничился. Откинувшись на спинку стула, офицер продолжил:
– Советская власть дала вам свободу, уважаемый Хусейн? – его интонация вдруг сменилась на подчеркнуто вежливую, от чего чеченцу стало не по себе, но он не подал вида.
– Дала, – ответил старейшина, понимая, что с подобными людьми надо быть очень осторожным.
– Она дала вам защиту?
«Хе, от кого, интересно?» – подумал старик, утвердительно кивая в ответ.
Офицер говорил неспешно, смакуя каждое слово: – Она очень гуманна, советская власть. Она как мать родная… Любит всех… Кормит всех…
И он, словно в подтверждение своих слов, взял со стола кусочек брынзы, откусил его и, довольный удачно складывающейся мизансценой, словно театральный актер, продолжил:
– Вот я – истинный сын своей матери.
Тут он выпучил глаза и пристально посмотрел прямо в лицо Хусейна, словно боялся, что до того не дойдет смысл сказанного. – …И не хотел бы, чтобы она, как и все матери, жертвовала собой, не ожидая благодарности от ее нерадивых сыновей! Понимаешь? – кусочки брынзы вылетели у него изо рта, рассыпавшись по столу. – Мы сами должны быть сознательными! Должны ведь? Должны! – ответил он сам себе. – А вы должны повзрослеть, наконец, и слушаться свою мать молча! И исполнять все, что она вам прикажет, – его интонация вдруг резко приобрела металлические нотки, а лицо побагровело. – Вот тебе список, старик. Собери всех из этого списка у большого амбара завтра вечером. Будет собрание.
С этими словами он поднялся, сделал несколько шагов в сторону двери. Но, почувствовав пронзительный взгляд в спину, повернулся и бросил: – Не надо, Хусейн. Ведь вас и так мало.
И вышел, хлопнув дверью. Утром 23 февраля 1944 года Кели проснулась рано от какого-то гула, доносящегося издалека. Она оделась и вышла во двор. Ей навстречу уже спешила заплаканная Бату. – Что случилось? – спросила Кели. – С детьми что-то? Бату отрицательно покачала головой и, тихо плача, ответила: – Нет, они спят. К нам постучалась Мадина, жена нашего старейшины Хусейна. Говорит, он где-то пропадал всю ночь и пришел лишь недавно, сильно расстроенный. Кели! Она сказала, что произошло нечто страшное…
Бату, обычно ровная и тихая, никогда не позволяла себе проявление подобных эмоций. Пожалуй, Кели увидела ее в таком состоянии впервые и, потрясенная, стояла, не в силах понять, что же такого могло произойти. Между тем, гул приближался, и его уже было слышно вот тут, прямо за воротами.
– Говорят, что немцы близко, и нас отвезут в безопасное место, – продолжала Бату. – Когда отвезут, куда отвезут? – нервно переспросила ее Кели. – Да говори ты яснее!
В этот момент в ворота кто-то настойчиво постучал с криком: «Хозяева, открывайте!»
Кели бросилась к воротам, распахнула калитку. Во двор вошли двое в военной форме: один явно старше по званию, второй – рядовой.
– Всем проживающим необходимо взять самое необходимое и собраться у кукурузных складов! Да поживее, даю вам 20 минут! Рядовой, осмотреть дом! – скомандовал начальник и зашагал к следующему дому.
Бату, рыдая, кинулась к себе домой. Кели взяла себя в руки и постаралась быстро сообразить, что же ей взять в первую очередь. Да что могут собрать с собой три женщины, включая Дикбер, с детьми, без мужчин, без подводы и за какие-то жалкие 20 минут?
Спешно вытирая слезы, собирали одежду. Сонные братья Ахмед и Шахид никак не могли понять, почему нужно собираться так рано и куда-то идти. Они начали было капризничать, но Кели строго прикрикнула на них, быстро одела потеплей. Ахмеду вручили мешочек с кукурузной мукой. Шахиду – узелок с лепешками и брынзой. Взрослые взяли одежду, тонкое одеяло, соль, воду, топленое масло, сушеное мясо, всего понемногу. На ногах – вязаные носки и калоши. Был февраль, снег подтаял, другой обуви, удобной и ноской, не было.
Когда они вышли за ворота в сопровождении солдата, за ними вдруг выскочил козленок. Белый такой. Он был совсем ручной, дети часто играли с ним и звали его «Бяц-бяц».
– Ков д1а къовла дезара, газан боьхьаг ара иккхана (Надо было ворота закрыть, козленок выскочил!) – сказала Бату.
– Вайца ца юга вай боьхьаг? (Мы не берем с собой козленка?) – захныкали мальчишки.
– Ца юга, вай юха дог1ар ма ду (Не берем, мы же вернемся).
Ребятишки оглядывались на козленка, тянули к нему руки и плакали, а он блеял и пытался их догнать… Вдруг прозвучал выстрел. Все вздрогнули… Это один из конвойных выстрелил в козленка. Тот неуклюже упал в грязь и затих. Вся семья на миг замерла от страха, и потом лишь тихий плач детей сопровождал их шествие в неизвестность…

Откуда простым людям было знать, что они стали главными действующими лицами давно запланированной операции властей по высылке чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. Кто-то иронично назвал ее «Чечевица», сейчас уже никто не знает – почему. В селе появились военные, улицы заполонили огромные американские машины «Студебекер», и почти в каждом доме поселились солдаты. Они стали составлять списки семей, расспрашивали об особо авторитетных и активных селянах, следили за ними. Кто-то распространил слухи, что всех временно отвезут в безопасное место, так как приближается фронт и, возможно, придут немцы. В один из вечеров в клубе собрали старейшин села якобы на собрание и закрыли их там, чтобы не мешали. На таком «собрании» как раз и провел всю ночь старейшина Хусейн. А на рассвете следующего дня во все дома врывались солдаты, давали 20 минут на сборы и выводили жителей на улицу. Всех погнали за село, где в полутора километрах находились кукурузные склады. Эти полтора километра были усыпаны домашним скарбом: кто-то не донес подушку, кто-то швейную машинку. Солдаты никому не разрешали отставать, отходить в сторону. Кругом стоял страшный гул. Люди плакали, кричали дети, гудели эти студебекеры, мычал скот, чавкала весенняя грязь по колено.
Собрали всех на кукурузном поле, сообщили, что едут недалеко и скоро вернутся. Когда всю семью с детьми погрузили в грузовик, один из солдат взял Шахида и посадил к себе на колени. Машина тронулась, и мальчику что-то капнуло на руку. Он поднял голову и увидел, как солдат тихо плакал, а его слезы падали ребенку на волосы и соскальзывали прямо в ладошку.
– Нана, и стаг х1унда велхаш ву? (Мама, почему дядя плачет?)
Кели не знала, что ответить сыну. Она сначала смутилась, растерянно посмотрела по сторонам и вдруг застыла, глядя в одну точку. В этот момент женщина поняла, что везут их гораздо дальше, чем им говорили. Что, возможно, они больше никогда не увидят свое родное село. Тяжесть медленно сдавила ей грудь, Кели захотелось спрыгнуть с машины и бежать, бежать прочь.
Всех привезли на станцию Самашки. Там стоял товарный состав, деревянные вагоны. Ни полок, ни соломы, только в углу маленькая железная печь. При погрузке люди терялись – дети искали родителей, родители детей. – Нана, ваша шу мичхьа ду? (Мама, брат, где вы?) – Аллах1 дела дехьа хьаа дай г1о дайш! (Ради Аллаха, помогите нам кто-нибудь!) – Вай дела, са бераш мичхьа ду? (Боже, где мои дети?)
Стоял жуткий крик, плач, царили невыносимый ужас, отчаяние и безысходность…
Хусейн долго шел вдоль состава, всматривался в каждого военного, но все никак не мог найти того офицера, который его допрашивал несколькими днями ранее. Наконец, увидев его, быстро подошел.
– А-а-а, старейшина! Кого-то потерял? – нарочито дружелюбно протянул человек в погонах.
– Начальник, почему вы так много людей сажаете в один вагон? Там нет места, теснота.
– У меня не хватает подвижного состава, уважаемый Хусейн. Что прикажешь делать? План.
– Какой еще план? Это же не скот. В вагонах нет даже лавок присесть. Как долго люди будут ехать?
– Слушай, старик, – уже нервно ответил тот. – Вас много, вагонов мало…
– А недавно ты говорил, что нас не так уж и много, – съязвил Хусейн. Он понимал, что ничем не сможет помочь своим землякам, и еле сдерживал эмоции. Офицер психанул, выдернул из кобуры пистолет и, схватив старейшину за грудки, крикнул:
– Будешь мешать – станет одним меньше! – и, оттолкнув, добавил: – Иди, выбери себе самый удобный вагон, ты же тут уважаемый человек.
В телячьи вагоны, рассчитанные максимум на 30, забивалось по 50-60 и более человек. Во многих из них отсутствовали нары. Для их оборудования выдавались доски в количестве 14 штук на каждый вагон, но не выдавались инструменты, чтобы их сколотить вместе. Семье Дикбер повезло гораздо больше, чем многим другим. Две мамы – Кели и Бату, маленькие братья – Ахмед, Шахид, Леча и сестра Зулпа попали в один вагон. И началась дорога в никуда длиною в 28 дней под мерный стук колес.
Тук-тук… тук-тук…
На третий день из соседнего вагона послышался женский вопль. Кели находилась ближе всех к стене и крикнула громко: – Что у вас там? – она узнала по голосу Мадину, жену Хусейна. Та голосила: «Некоторые женщины стесняются справлять малую нужду в присутствии мужчин. Уже две умерли от этого. Кели, я с ума сойду!»
Тук-тук… тук-тук…
Чем дальше людей увозили от Кавказа, тем становилось холоднее. Маленькая железная печь не могла обогреть вагон. От голода спасла их та самая кукурузная мука, которую захватила с собой Кели. На дождевой воде замешивалось тесто, и на железной печке пропекались малюсенькие лепешки.
Тук-тук… тук-тук…

Дикбер очень боялась, что кто-нибудь из родных умрет во сне. Поэтому она старалась спать, когда все бодрствуют, а ночью, когда все спят – лишь дремала. И часто-часто прикладывала ухо то ко рту своей матери, то к брату, то к Бату. А иногда не было возможности тянуться, так она пристально смотрела на очертания тел и по движению от дыхания догадывалась, что тот или иной член ее семьи жив. Кроме того, Дикбер пугала мысль оказаться рядом с уже умершим чужим человеком, притулившимся к ней. Несколько ослабленных стариков так и умерли от голода и холода в разных частях вагона. В общем, все, кто находился в поле ее зрения, были под чутким контролем. Она придумала время от времени специально поворачиваться так, чтобы задеть рядом сидящего, заставив того поерзать.
«Что ты не сидишь на месте? Покоя от тебя нет. Дай людям подремать!» – сделала ей замечание одна незнакомая пожилая женщина.
Дикбер вспоминала Али, свое короткое, но счастливое замужество, и это немного отвлекало ее от ужасающей действительности.
Тук-тук… тук-тук…
В некоторых вагонах в такой тесноте быстро распространился тиф. Умерших выволакивали и бросали прямо вдоль железной дороги в степи. Те люди, что отходили подальше во время редких остановок, чтобы справить нужду, погибали: в них просто стреляли без предупреждения…
Тук-тук… тук-тук…
Для Дикбер все дни переезда слились в один кошмарный сон. Она не помнила подробностей каждого из них. Лишь одна и та же картина: люди, тесно прижавшиеся друг к другу, печальные глаза матери, свет, пробивающийся сквозь неплотно подогнанные доски вагона, плач детей и всеобщее уныние… И в минуты полудремы ей снится сон.
…Высота, открытое пространство, поле. Она видит внизу людей. Всех членов своей семьи. Народ прибывает. Не только чеченцы, но и русские и даже какие-то темноволосые, скуластые, в странных длинных халатах незнакомцы. Толпа все больше и больше, все грустные. Глаз не поднимают. Но собираются вокруг нее. Им словно неловко. Но почему у них такие грустные лица? Дикбер смотрит себе под ноги. Она стоит на камне, плоском камне, на высоте. Шаг влево, шаг вправо – и она упадет с высоты и разобьется. Люди все прибывают и прибывают. Тишина! Где звук? Ее охватывает паника. Они меня хотят расстрелять, но где же оружие?! Паника. Как спуститься? Она находит глазами Кели, Махмуда. Отец складывает руки и начинает молиться. Не только все чеченцы, но и другие люди начинают шептать молитвы. Русские крестятся, и их губы тоже что-то шепчут. «Сейчас я умру… Это мои похороны!» – вдруг осеняет Дикбер. Она плачет, тянет руки, хочет сказать, но губы не слушаются, словно онемели. «Я хочу к вам вниз, помогите мне. Я боюсь. Я не хочу умирать». А люди становятся на колени и кланяются. Все пространство вокруг заполнено людьми. И только сейчас она замечает, что все смотрят не на нее, а куда-то выше, и молятся, молятся… Она боится повернуться. Ужас, дикий ужас! Что же там? Просыпается в поту…
Тук-тук… тук-тук…
Никто не знал – куда они едут, когда приедут. На третьей неделе пути людям впервые дали житный хлеб и совсем жиденький, но горячий «суп». Куски теста в воде. На 28-й день поезд наконец остановился.
Тук-тук…
Знающим русский язык чеченцам объяснили, что приехали в Казахстан, в Карагандинскую область, на станцию Нура. Стоял страшный мороз. Всех выгрузили из вагонов и стали отправлять по селам. Семью Дикбер и еще несколько других привезли в совхоз имени Буденного, в помещение местной школы. Трудно поверить, что в таких условиях они выжили. Голодные, истощенные, плохо одетые, в резиновых калошах. Завшивевшие до такой степени, что волосы на голове шевелились от насекомых. Всех сразу отправили в общественную баню, но, так как сменной одежды не было, люди, стряхнув вшей над печкой, снова надевали свою грязную одежду. Местное население встретило переселенцев очень настороженно. Дети бежали вслед и дразнили:
– Чеченва, чеченва, человечины нэма! Кто-то пустил гадкий слух, что чеченцы едят людей.
Ни русского, ни казахского языка почти никто не знал. Только несколько человек, в том числе учитель Шепа. Через несколько дней людей стали расселять в дома местных жителей. В те времена все жили небогато, а тут война, у всех нужда. Но люди все же были добрее, чем сейчас. Освободили им одну из комнатушек. Топили соломой, другого топлива не было. Постоянно хотелось есть. У Кели были золотые серьги – подарок богатых родителей, она так берегла их, эти серьги. Она обменяла украшения на ведро пшеничных отрубей. Отруби варили в воде, и вкуснее этой похлебки, казалось, ничего не было. Потом еще какие-то украшения меняли на еду.
В Среднюю Азию, в основном, в Казахстан и меньше – в Киргизию, были сосланы народы разных национальностей: немцы, крымские татары, карачаевцы, черкесы, но особенно много чеченцев и ингушей. Политическая подоплека раскрыта и описана во многих источниках, но это все слова. Были перемолоты и исковерканы судьбы сотен тысяч людей. Голодные и униженные чеченцы, вывезенные в холодный край, умирали семьями. Операция «Чечевица» полностью оправдала свое название, разбросав мужчин, женщин, стариков и детей, как брошенную на ветер крупу.
КАЗАХИ
Когда Всевышний делил и раздавал земли разным народам, он, видимо, территорию Казахстана использовал как место хранения по принципу «пусть пока тут полежит». Оторвет сапожок итальянцам, полюбуется, ненужное отложит в сторону Казахстана. Аккуратно мазнет мизинцем Мальту, зато отсыплет им пляжей. Новую Зеландию вообще спрятал на краю мира, зато в награду дал мягкий климат. Или, как умелый плотник, любовно так выпиливает страну, а стружки падают куда-то вниз, под ноги. Смотри-ка, тоже немалая площадь получилась сама собой! Одной ногой он явно стоял в Казахстане, другой – в Монголии. В какой-то момент Творец отвлекся, отошел, забыв про подходящие условия проживания. А люди уже заселили освободившееся место. Ну ничего, подумал Всевышний, зато люди хорошие…Территория Казахстана огромна. Большая часть ее непригодна для жизни, поэтому люди селились в поймах рек, озер, там, где были пастбища. Кочевой образ жизни сформировал в жителях этого сурового края необычное восприятие природы, мира в целом. Так называемая степная философия – Тенгрианство, переплетенная с Исламом, есть только у казахов. Кочевники хорошо знали природу, поклонялись ей: небо – это Тенгри, земля – Умай.
Неприхотливые в быту, они могли обходиться малым, но редкие путники были большой радостью, принимались радушно, гостей хозяева потчевали лучшими угощениями. Гость всегда был носителем информации из других мест и cобеседником на какое-то время. Его пожелания (бата) считались пророческими, потому что казахи верили – гостя посылает Бог.
Примерно в таких вот местах, в Кувском районе Каркаралинска (ныне Егинди-Булак) в бедной семье в январе 1900 года родился Аязбай Кудабаев. Род – Аргын, Каракесек, Шаншар, Алсай, относящиеся к среднему жузу. Деление на три жуза – это, наверное, самое уникальное изобретение степняков. Оно помогало править разбросанными по всей территории Казахстана людьми. Во главе каждого жуза был свой правитель, который решал судьбу целой группы родов. Такая степная «демократия».
В семье их было шестеро, одна сестра и пятеро братьев. У местного муллы Аязбай рано научился арабскому алфавиту, стал его лучшим послушником. Мальчик от природы обладал хорошей памятью и позднее читал суры из Корана на разных мероприятиях, этим зарабатывал на еду. Казахи в Бога верят, с его именем живут, но молится не самая большая часть людей. Отец Азябая умел хорошо шить обувь. В то время особенно ценились мужские сапоги на очень высоких каблуках с голенищем выше колен (шонкайма етик). Он научил сына шить мягкие сапоги с загнутым кверху носком, легкие, удобные для верховой езды – бир така, а также (ичиги (маси) из козлиной юфти и калоши – кебис из более плотной кожи. Будучи еще подростком, Аязбай нанялся в семью к русским купцам. Он им шил обувь, а они вместо платы обучали его русской грамоте в той мере, какой владели сами. Но и этого было более чем достаточно для любознательного и хваткого на знания мальчика.
Для Казахстана того времени прогресс мог быть связан только с Россией. В люди выйдешь, лишь зная язык. Не владеешь русским – считай, нет у тебя будущего, карьеры не сделаешь. Юноша хорошо говорил, читал и писал на нескольких языках: арабском, благодаря учебе в медресе, казахском (с арабской графикой). В русском же, учитывая домашнее обучение, немного хромало лишь правописание. Впоследствии, когда приходилось использовать в работе кириллицу, он некоторые русские слова писал не до конца, вместо правильных окончаний ставил непонятные закорючки.
Русский язык помог ему выжить в годы «хлебной монополии» сначала Временного правительства в 1916 году, когда крестьяне облагались налогом на зерно, а потом и Советского правительства в 1918 году, когда насильно изымались так называемые «излишки» не только хлеба, но и других продуктов. И в последующие годы, включая неурожай и грянувший за ним голод 1919-1922 гг. Все это время Аязбай работал то в одной, то в другой русской семье. – Ладно ты шьешь, Аяз, – говорили хозяева. – Присмотри-ка и за скотиной. Так, освоив ремесло искусного сапожника он еще научился пасти овец и коров. – Из тебя будет хороший хозяин, – хвалили его за умелое обращение с животными. Подсоби-ка поставить избу. «Тоже полезно», – думал про себя вчерашний пастух и через короткое время становился сноровистым плотником.
Он брался за любую, самую грязную или трудную работу, от природы был физически крепким, а его спокойный темперамент позволял легко выучиться любому ремеслу, выдерживая монотонный темп. Так Аязбай повзрослел, возмужал, превратился в степенного вдумчивого джигита, на все руки мастера и одного из самых завидных женихов в своем ауле. Однако с женитьбой парень не торопился, пока не встали на ноги четыре брата и младшая сестренка. Он вдоволь насмотрелся на ужасы голода в заготовительную кампанию 1919-20 годов, когда продразверстка сначала распространилась на картофель, мясо, а к концу 1920-го вообще на все сельхозпродукты. И он понимал, что обременять себя семьей и детьми в такую пору нельзя. В его памяти надолго отпечатался образ одинокой русской старухи, приковылявшей невесть откуда в село, где жил Аязбай. Исхудавшая до костей, в ветхой одежде, сквозь которую проглядывала старая, морщинистая, похожая на пергамент кожа. Ее глаза все время искали что-то, но смотрели в никуда и сквозь людей. Когда кто-то из местных жителей вынес ей немного еды, она жадно все проглотила, потом подняла осоловелые глаза и произнесла: – Знаешь, чё ели? Лошадь красноармейская оправится, а там у ней кукуруза… целое зерно, так с гамна выбирали и ели…выбирали и ели… После этих слов женщина обняла свой живот, вернее, место, где он должен был быть, завалилась набок и тихо умерла.
Лишь в конце 20-х годов после специальных курсов Аязбай наконец обрел постоянную работу зоотехника и женился. В жены он взял Бану, спокойную, немногословную девушку, которая родила ему двоих детей – мальчика Сайдуллу и девочку Майдаш. И так бы он жил с ней, если бы не один случай.
Зоотехник часто ездит по работе на отгонные фермы и хозяйства. В обязанности Аязбая входило следить за правильным разведением, кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных. Но разве можно назвать нормальной такую работу, когда из-за спущенного сверху плана заготовок продовольствия у крестьян отбирают скот?
– Мы должны бежать, надо постараться перегнать скот и бежать в Китай, – убеждал свою жену Меиз пастух Толыбай.
– Как мы справимся с двумя-то маленькими девочками на руках? – резонно спрашивала Меиз.
Толыбай не знал, что ответить, но слухи из дальних концов степи лишь добавляли тревоги. – Власти отбирают скот. Мы можем умереть в степи без него…
Действительно, положение с голодом усугублялось еще и жестким подавлением частями Красной армии любой попытки избежать грабительской конфискации всего скота, который был единственным источником пропитания и выживания для кочевых казахов. Когда некоторые аулы начали откочевывать, пытаясь спасти свой скот, то на их перехват посылались отряды солдат для ареста и уничтожения якобы «басмаческой банды». На самом деле это были обычные мирные люди, которые пытались спастись от голода на территориях Китая, населенных казахами, или хотели мигрировать в те регионы РСФСР, где голода не было.

Аязбай осмотрел нескольких заболевших овец, дал рекомендации по лечению. Он почувствовал некоторую нервозность и отстраненность Толыбая и спросил: – Куда дальше погонишь скот?
Толыбай вздохнул и уклончиво ответил: – Да куда обычно!
– Смотри, с такой обузой тебя быстро догонят, – зоотехник догадался о намерениях пастуха.
– А что мне еще делать? – ответил тот. – Там целый аул откочевывать собрался. И мы с ними… Аязбай осмотрел бедную юрту пастуха, и его взгляд наткнулся на супругу, которая качала на руках девочку, пытаясь ее усыпить. – Останетесь – погибнете, уйдете, может, и выживете, – сказал напоследок Аязбай и уехал. Меиз всю неделю продолжала уговаривать мужа не бежать в Китай, но тот был непреклонен.
В один из дней Аязбай сидел дома, когда кто-то его вызвал на улицу. Он вышел и увидел Меиз, жену пастуха. – Что случилось? – встревожился Аязбай. Женщина была бледной, истощенной, лишь молча смотрела в сторону. – Где Толыбай, дети? Отвечай же, – прикрикнул на нее Аязбай.
– Я пешком пришла к тебе, Аязбай. С того момента, как тебя увидела, места себе не нахожу. Пускай Аллах меня покарает, ведь я оставила их и ушла. Но я ушла за тобой… Назад мне дороги теперь нет…
Она молча села прямо на землю, закрыв лицо руками. Такого поворота событий Аязбай не ожидал. Он поговорил со своей женой Бану и, не посвящая ту в подробности, сказал, что должен найти мужа Меиз и все выяснить. Бану без лишних расспросов выделила уголок для этой странной женщины. Аязбай запланировал через неделю наведаться к Толыбаю, но делать этого ему не пришлось. Дней через пять Толыбай сам явился к нему в дом. На руках у него была девочка. Пастух молча подошел к Меиз и вручил той спящего обессиленного ребенка. Она посмотрела на девочку, прижала ее к себе и, качаясь из стороны в сторону, тихо заплакала.
– Аязбай, – обратился к нему пастух Толыбай. – Я честен перед Аллахом и тобой. Я ничего плохого в своей жизни не сделал. Верни мне мою жену. Всевышний уже забрал у меня вторую дочь, не отнимай теперь и Меиз.
После того появления Аязбая у них дома Меиз долгое время уговаривала мужа изменить свои планы насчет Китая. И в один из дней решила уйти, бросив двух девочек на зимовке. Толыбай в это время был на отгоне со скотом и должен был через день вернуться, но сильно задержался из-за погоды. Когда же пастух возвратился домой, младшая дочь уже умерла от переохлаждения и голода, старшая была на волосок от смерти. И теперь муж Меиз приехал к Аязбаю с просьбой вернуть ему жену и мать его дочери. На что тот спокойно ответил: «Я ее не уводил и сейчас не держу. Вот она! Забирай». Но Меиз решительно отказалась возвращаться к мужу и в итоге осталась с Аязбаем. Убитый горем Толыбай ушел ни с чем и позднее все-таки сумел перебраться в Китай. Больше от него вестей не было.
Оставшуюся в живых дочь Меиз звали Сауле и Аязбай ее удочерил. Когда пришло время, ее выдали замуж, но до конца своих дней, особенно в молодости, она не могла им простить прошлое, и всякий разговор при встрече заканчивался ее воспоминаниями, слезами и упреками.
Мясная реквизиция тех лет была особенно губительной для народа. Кочевника и скотовода всегда кормил скот, обеспечивавший его мясом, молоком, кумысом. Поэтому, потеряв скот, он неизбежно погибал. Гонимые голодом и репрессиями, казахи целыми аулами начали откочевывать на территории сопредельных областей, республик и стран: в Китай, Иран, Афганистан, Монголию. Еды не было никакой. В пищу годилось все, что бегает, прыгает или летает – суслики, собаки, кошки, птицы, но и этого через какое-то время было уже не добыть.
…В тот день Аязбай решил попеременно зайти в каждый дом аула, может, чем-то помочь физически или советом. Обойдя уже пять дворов, он вдруг почувствовал давно забытый запах мяса. Подойдя поближе, определил, что сладковатый аромат тянется от дома, где жила многодетная семья. В дом он вошел без стука и сразу увидел сидящую в углу женщину. Она не то полулежала, не то полусидела и смотрела на дверь безумным немигающим взглядом, ее муж сидел за пустым столом. Голову он опустил на стол, обхватив ее руками. Аязбай подошел к печке. На ней стоял большой казан, вода кипела, в ней бултыхалась маленькая детская ножка.
– Бери казан и выноси на улицу, – приказал Аязбай мужчине.
Тот словно ждал этого момента, быстро схватил тряпку, поднял казан и вышел с видом побитой собаки.
– Лопата есть? – спросил Аязбай.
Мужчина кивнул в сторону сарая. – Шагай подальше в степь. Я найду лопату и догоню.
Аязбай сам вырыл яму, куда было перевернуто содержимое казана. Потом он прочитал над совсем крохотной могилкой молитву и молча, не глядя на мужчину, направился к себе домой.
В течение 1931-1933 годов умерли от голода, холода и сопутствующих им болезней (тиф, холера) по разным данным более 1 млн 750 тыс. казахов и около 250 тыс. казахстанцев других национальностей – русских, украинцев, уйгуров. Все 20-е и 30-е годы в Казахстане то там, то здесь вспыхивали бунты против порядков советской власти. Примечательно, что в восстаниях участвовали не только казахи, но и русские, и киргизы, и узбеки, которые пострадали от новой власти не меньше. Массовые выступления были ответом на проводимую большевиками политику коллективизации, в ходе которой насильственным путем внедрялся неэффективный для традиционного кочевого общества хозяйственный механизм. Советское правительство того времени очень напоминало озверевшего неврастеника, который, не имея ни образования, ни мало-мальски серьезного жизненного опыта, требовал себе всё по принципу «вынь да положь». Большевики решили всего за несколько лет превратить кочевников и полукочевников с их особыми культурными традициями, уходящими в глубь столетий, в оседлых земледельцев.
Когда специалисты за несколько лет до начала кампании коллективизации говорили, что казахи абсолютно к ней не готовы, сверху твердили: «…необходимо искоренить экономическую икультурную отсталость кочевых народов…»
Когда большинство агрономов подчеркивали, что казахское скотоводческое хозяйство регулируется клановыми отношениями, и их разрушение опасно с экономической точки зрения, те, наставив револьвер, парировали: «Переход к оседлости означает ликвидацию байского полуфеодализма…»
Когда знатоки местных условий объясняли, что скотоводческие районы страны непригодны для выращивания зерна, у большевиков уже были свои виды на Казахстан как на потенциальный источник продовольственных резервов для всей советской Сибири и Дальнего Востока. А перевод кочевников к оседлости был задуман с целью получения огромного количества хлеба с земель Южного Казахстана.
Эти факты ставят преступления Советской власти в Казахстане в 1920-30-х годах в один ряд с самыми ужасными преступлениями против человечества. В целом политику «малого Октября», коллективизацию, сократившие численность казахов наполовину, можно считать неприкрытым геноцидом. Одновременно власти привозили на «освободившиеся» от казахов земли тысячи репрессированных и раскулаченных из других регионов СССР.
Большевики, в большинстве своем вчерашние необразованные социальные голодранцы, ни к каким доводам не прислушивались, и казахи сопротивлялись, как могли. К декабрю 1931 года на территории Казахстана уже насчитывалось 15 крупных и около 400 мелких крестьянских выступлений, в которых участвовало около 80 тыс. человек. Большинство из них носило характер вооруженных восстаний. Люди гибли и от пуль, и от неурожая и голода.
В таких невыносимых условиях на родине было просто опасно оставаться. Аязбай и обе его семьи – Бану с двумя детьми и Меиз с ее дочерью Сауле от первого брака – отправились в Сибирь, в сторону Тюмени, в поисках лучшей жизни.
Поезда были жутко переполнены, люди сидели буквально друг на друге. – Бану сен жай отырмай, қайнаған су тауып кел. Таза ауа жутып қайтарсың. (Надо кипятка раздобыть. Бану, сходи ты, заодно и воздухом подышишь), – сказала Меиз, когда поезд подъезжал к одной из станций недалеко от Тюмени. Раньше на всех станциях в специальной будке можно было бесплатно взять кипяток, так как в вагонах его не было. – Поезд көп аялдамайды. Адаспай, тезірек қайт. (Поезд стоит недолго. Возвращайся быстрее), – напутствовал ее Аязбай. Бану кивнула, и как только поезд замедлил ход, направилась с чайником в здание станции, пробираясь сквозь толпу людей.
Аязбай сначала видел ее, но в какой-то момент упустил из виду, и женская фигура быстро смешалась с общей массой пассажиров. Он, переживая, вышел из вагона на перрон, когда поезд уже тронулся. Жены нигде не было. – Бану, Бану! – закричал Аязбай и лишь в последний момент успел вскочить на подножку набиравшего ход вагона.
Старая, облезлая собака лениво лежала недалеко от входа в здание железнодорожной станции, когда мимо нее медленно прошла женщина. Она правой рукой стянула платок с головы, и копна черных волос упала на ее плечи. Женщина не спеша двигалась по галдящему тесному перрону, и собака решила пойти за ней. Вдруг что перепадет… Женщина нашла место у окна, наполовину замазанного краской, и стала наблюдать, как медленно уходит поезд, унося с собой ее детей, мужа, его, теперь единственную, жену, все воспоминания и надежды. В руках ее был лишь один пустой чайник, и собака, потеряв интерес к этой бедно одетой незнакомке, зевнула и вернулась на свое место у входа.

Судьба Бану осталось неизвестной. Ее никто не искал. Время было суровое, смерть витала всюду и стала обыденным делом. Прибыв на место и пожив в Тюменской области, Аязбай и Меиз поняли, что положение там не намного лучше. Пробыли в тех краях они недолго. И не найдя там себе работы, через какое-то время Аязбай с Меиз вернулись домой, а в 1941 году началась война, и главу семьи забрали на фронт.
КОЗА
На складе люди работали разные – и казашки, и русские, и немки, но больше всех было чеченок. В первые дни Дикбер тайком горстями ела пшеницу, но дома были голодные матери, братья и сестры, и она быстро наловчилась засыпать холодную пшеницу прямо на голое тело в рубашку. Сверху же было надето платье, подпоясанное веревкой или ремнем. Если не жадничать, то немного зерна вполне можно было незаметно вынести «на себе». А если навстречу вдруг шел кто-то из начальства, ее быстренько вытряхивали обратно, ослабив ремень, и пшеница падала в общую кучу, не выдавая «воровку». Вот так, после нескольких попыток засыпать в рубашку зерно, холодея от ужаса быть разоблаченной, Дикбер удавалось приносить немного пшеницы домой. Дома ее варили, ели и были счастливы. Однажды с полей и токов прибыло сильно засоренное зерно для фуража – корма для скота. Был конец смены, и Аязбай, как обычно, ходил на виду, ничто не могло спрятаться от его наметанного глаза. Но в этот раз он куда-то отошел, и его не было довольно продолжительное время. Одна из женщин, казашка, зашла на склад, многозначительно посмотрела на всех и приложила палец ко рту. В этот момент все работницы, как по команде, начали вдруг засыпать то самое засоренное зерно за пазуху, в карманы и обувь. Дикбер растерянно смотрела на них, ничего не понимая. А рядом сидящая украинка посмотрела на нее испепеляющим взглядом и прошипела: «Що ти дивишься? Набирай швидше!» Чеченка, конечно, ничего не поняла, но послушно начала засыпать зерно в свою рубашку.– А дядя Аязбай нарочно так делает, – позже разоткровенничалась лаборантка Катя. – Когда приходит второсортное зерно для скота, он специально уходит минут на пятнадцать в свою каморку и делает вид, что ничего не видит и не знает. И ты ничего не видела и не знаешь, – вдруг многозначительно и глядя девушке прямо в глаза, строго добавила она. Дикбер даже вздрогнула, но, уже понимая кое-что по-русски, энергично закивала головой. – А как иначе? На одних только трудоднях семью не прокормишь. Его расстрелять могут, а он людей спасает. Поняла теперь? – уже спокойно заключила Катерина.
И действительно, пригоршня простого зерна, сваренная в воде или прожаренная на плите, спасла тогда много жизней. Дикбер видела, как Аязбай брал на работу женщин сверх нормы, без трудодней. Люди шли за горсть зерна. Конечно, он очень рисковал. Если бы кто-то донес – сразу бы расстреляли, но он не упускал любую возможность помочь людям. И это постепенно возвышало Аязбая в ее глазах.
Позднее, в первые послевоенные годы, на склад вагонами доставляли жмых для скота – спрессованную шелуху подсолнечника, которая имеет маслянистый вкус. Нужно было восстанавливать поголовье скота, о людях же никто не думал. Так Аязбай раздавал почти половину состава голодным людям. Как то списывал и выкручивался…
Первым работником склада, с которым встречались все сдатчики хлеба государству, была лаборант-визировщик Катя. Симпатичная и молоденькая совсем девушка, в обязанности которой входили осмотр доставленной партии и изъятие образцов для анализа. Она определяла зерно на влажность, засоренность, запах и цвет. Если обнаруживались зараженности, лаборант-визировщик изолировала испорченные партии зерна от незараженных, таким образом строго следя за качеством пшеницы. Несмотря на свою юность (ей было всего 20 лет), Катя довольно быстро обрела сноровку в работе. Дружелюбная, радостная, весело щебетала она, летая из конца в конец огромного склада. Но в принципиальных вопросах Катя была непреклонна и твердо отстаивала свою позицию. Она стала первой, кто по-доброму отнесся к Дикбер. Благодаря ей чеченка начала учить русский язык, начиная с самых азов. «Это ЛО-ПА-ТА, это ПШЕ-НИ-ЦА…» От нее Дикбер узнала, что из родных у Кати только тетка, которая выходила девочку во время голода. А родители умерли один за другим, когда ей было 8 лет. У Катерины получалось на все смотреть непринужденно и легко. А помогала ей в этом простая формула. Они как-то лежали рядом на огромной горе зерна, отдыхая, и Катя поделилась: «Знаешь, Дикбер, я не верю, что жизнь может р-раз и измениться так, что станет ну совсем хорошо. Иногда я прошу у него: «Боженька, не надо мне милости, не надо мне легкой жизни. Ты лучше сделай меня сильнее, чтобы я могла все выдержать».

Прошло какое-то время. Дикбер немного окрепла, благодаря зерну, которое она понемногу приносила домой и ела, привыкла к физическим нагрузкам. К ней вернулась природная живость, она старалась работать добросовестно, бралась за любой труд, проявляя всю прыть, на которую была способна в свои 19 лет. Строже всех к ней на складе относилась, как ни странно, ее же соплеменница по имени Сацита. Хмурая, молчаливая женщина, которой было лет 25-27. Но выглядела она старше. При переезде от холода и голода умерли ее дочь и отец. Муж, спасая родных, надел свои калоши детям. Одну калошу дочке, другую сыну. Детские ножки в них помещались легко, но сил доехать хватило не всем. И теперь он лежал с обмороженными четырьмя пальцами правой ноги, не в силах ходить. «Ахьа ху лела до газа санна хьадда лелаш. Сихмало, тхо хьуна т1ехьа кхоьаш дац. (Ну что ты носишься, как коза? Не спеши так, нам за тобой не угнаться!)» – иногда устало осаживала ее Сацита. Бывало, она это говорила с некоторой злобой, не в силах смириться с постигшей их общей бедой. Но Дикбер уже было не остановить. Не только из-за того, что она была энергична от природы. Она хорошо помнила, через что пришлось пройти ей и ее родным. И этот страх не давал ей сбавлять обороты. На склад она приходила раньше всех и уходила позже многих женщин. Не для того, чтобы выслужиться, просто Дикбер всегда умудрялась находиться там, где надо было помочь. Выражение «удачно подвернулась под руку» было про нее. Женщины ее полюбили за готовность всегда подменить кого-то, кто устал или захворал. Вскоре и завскладом обратил на нее внимание. В один из дней он обсуждал с завхозом планы.
– Иваныч, скоро будем картошку садить. Но ее надо перебрать для начала. Скажи мне, сколько женщин мы можем перебросить на овощехранилище, у меня там людей не хватает? – поинтересовался Аязбай.
Завхоз прищурился, подумав: – Ну, пяток человек я найду…
– Отбери мне посноровистее кого-нибудь. Работа там – не то что здесь, грязная, сам знаешь. Нужно таких, как эта… Аязбай на секунду задумался, он никак не мог вспомнить труднопроизносимое для него имя.
– Иваныч, как зовут ту девушку, которая так шустро управляется с зерном, да и тебе, я смотрю, успевает подсобить?
– А-а, ну это Дикберушка. Из чеченов. Скачет, как моя кобылка, с которой я на фронте, стало быть, воевал. Молодец деваха, шустрая. Я без нее, как без рук… – тут Иваныч осекся. – Дикбер, Дикбер! – спешно крикнул он и махнул рукой. – Подь сюды, дочка.
Девушка подошла, как обычно, не поднимая глаз. Иваныч продолжил: – Вот тут начальство интересуется тобой. Работа для тебя есть.
– Большая ли у тебя семья, қызым? – спросил Аязбай. – Мама, папа, братья, сестры есть?
Дикбер поняла и на пальцах постаралась показать, сколько у нее родни. Аязбай пристально вгляделся в ее лицо, и она невольно взглянула на него. «Лицо у него доброе», – заметила она про себя.
– Ну ладно, барағой, жаным! – заключил Аязбай. Он сочувствовал этой чеченской девушке, вынужденной пахать за всю ее многочисленную семью. Работа на складе закончилась, и женщин отправили в овощехранилище перебирать картофель к весенней посадке. Там Дикбер впервые поняла, что сырая картошка с кожурой тоже бывает очень вкусной. Когда удавалось принести домой несколько картофелин, счастью не было предела.
Так прошли первая зима и весна в Казахстане. В конце июня стало совсем тепло, и их направили на строительство плотины для водохранилища. Эта плотина и водохранилище сохранились до сих пор. Давалась дневная норма работы, и в конце дня работники получали 100 грамм ржаного хлеба на человека. Чтобы получить побольше, люди выходили на работу всей семьей. Кели брала с собой всех детей – Ахмеда и Шахида, Лечу и Зулпу. Самому старшему из детей пятнадцать, самому младшему – семь лет. Чем не рабсила? Сначала все дети активно работали, но куда им угнаться за взрослыми. Минут через сорок они устали, и чтобы не мешались под ногами, Кели отправила их подальше в поле, чтобы снующие туда-сюда люди не сбили детей с ног. После суровой зимы поле было похоже на огромный участок грязного месива. Частые весенние дожди лишь недавно прекратились, и земля еще не успела толком прогреться и подсохнуть.
«Х1оккхаза ховши 1е ловзаш, со сихха схьа йог1а! Кхузара цхьанхьа ма г1олаш. (Сидите тут, поиграйте, я скоро приду. Никуда отсюда не отходите)», – строго наказала Кели и ушла работать.
На открытом пространстве их было хорошо видно, мальчишки были уже большие и, казалось, понятливые. Прошел час, а мама все не возвращалась. Леча и Зулпа играли поодаль отдельно. Ахмед ковырял палкой в земле и нашел пару старых клубней картофеля, видимо, оставшихся с прошлого года. Братья сильно проголодались, и Шахид предложил развести костер и запечь картошку, чтобы подкрепиться. Так и сделали. Натаскали сухих веток, старший из братьев чиркнул спичкой, и игра стала намного увлекательней. Умение самостоятельно развести костер возвышает любого мужчину, независимо от возраста. Что уж говорить про детей гор, да еще в таком возрасте, когда хочется самоутверждаться каждую секунду. Ахмед сунул в золу клубни, и пацаны, гордые, что занимаются делом никак не менее важным, чем взрослые, стали ждать.
– Глянь, может, уже все? – не терпелось младшему. – Мне кажется, они готовы, – через три минуты повторил он. – Они сейчас сгорят, Ахмед! – все канючил Шахид.
– Погоди, я проверю, – на правах старшего осадил брата Ахмед. – Давай, я попробую ее, если съедобна, то и ты свою долю получишь.
Он вытащил одну картофелину, долго дул, перекидывал ее из одной руки в другую, остужая. И наконец откусил кусочек.
– Да, ты был прав, она почти готова, брат.
Пока Шахид остужал клубень, старший из братьев уже доел свою порцию. – А чего она такая горькая? – спросил младший, Шахид. Он откусил и, почувствовав жжение на языке, теперь уже жевал нехотя и скривив рот.
– Ну да, немного была горькой, – подтвердил Ахмед. – Но как говорил отец, горячее сырым не бывает! – произнес он пафосно и хотел было произнести еще одну, как ему казалось, умную фразу, но вдруг почувствовал сильную резь в животе. – Ооох! – схватился он за живот и повалился на землю.
– Ахмед, что с тобой? – испугался младший и, бросив остатки картошки в костер, стремглав бросился в сторону строящейся плотины.
– Поправь опалубку. Вон там, слева. Да. Выше, еще выше, – Аязбай стоял поодаль и управлял стройкой, как вдруг истошный женский крик прорезал воздух. Он оглянулся и увидел, что нескольких женщин, с ревом бежали от места стройки куда-то в поле.
– Продолжайте без меня. Я сейчас. Иваныч, ты за главного, – распорядился Аязбай и быстро зашагал в ту же сторону, куда умчались несколько его работниц. Ахмед катался по земле и орал во все горло. Кели пыталась его успокоить, но не знала, что надо делать. Шахид стоял бледный, как полотно, и плакал, глядя на мучения брата. – Что вы тут делали, отвечай сейчас же!!! – кричала ему в лицо Дикбер. – Вы что-то съели?
Тот, боясь наказания, стойко молчал. Подбежавший Аязбай сразу обратил внимание на костер и, поковыряв в нем палкой, выкатил остатки недоеденной картошки.
– Вы ели картошку? – спросил он. Дикбер переспросила брата, и тот закивал.
– Так, ясно, срочно несите его в ближайший дом. Дайте ему выпить много воды и освободите желудок. Он, видимо, отравился прошлогодней картошкой, – уверенно заключил Аязбай, для верности помогая себе жестами. Женщины, подхватив мальчика, понесли его, тихонько причитая что-то на чеченском. Аязбай же приобнял Шахида. – Жылама, еркексын ғой. Успокойся! Ты же мужчина! Пойдем за ними.
Командный, уверенный и одновременно умиротворяющий тон чужого мужчины привел мальчика в чувство, он тотчас же задушил слезы и дальше шел молча. Убедившись, что женщины в точности следуют его указаниям, Аязбай поспешил назад, к месту будущей плотины.
Поздно вечером кто-то позвал его с улицы. Он вышел и увидел в свете луны Дикбер. – Мама велела прийти и сказать «спасибо» за спасение моего брата. Ему сейчас уже легче. Если бы не вы, он, наверное, умер бы.
– Нет, это обычный случай, старая картошка бывает ядовитой, – успокоил ее Аязбай. – Ею можно отравиться, но умереть не умрешь. Запомните, опасно есть прошлогоднюю картошку. Поэтому будьте осторожны, если найдете в поле. Ее там немало осталось. Брат пусть выздоравливает. И не переживайте, все будет так, как надо.
Дикбер шла домой, тихонько отщипывала и жевала кукурузную лепешку, которую ее мама Кели передала в знак благодарности для Аязбая. От волнения она совершенно забыла ее передать, думая над его последними словами. «Все будет так, как надо!» Ведь он сказал не «хорошо», не «замечательно» а именно «так, как надо». Этот уважаемый человек всегда все знает наперед, прямо как мой отец. Как же нам тебя не хватает, дада. Увижу ли я тебя еще когда-нибудь?
К осени чеченцы уже стали понемногу понимать не только русскую, но даже и казахскую речь. Местное население стало относиться к ним более доброжелательно. Дети начали ходить в местную школу.
– Когда вырасту, буду путешествовать по всему миру, – заявил как-то раз Ахмед.
– И куда ты собрался? – спросила его Дикбер. – Пока не знаю, но мы сегодня клеили географическую карту на ткань из мешка. Там нарисованы страны и города. Большая такая…Там Африка, Австралия есть…
Второй, после голода, проблемой было найти одежду. Та, что имелась в наличии, уже порядком поизносилась. И после рассказа Ахмеда о картах у Дикбер в голове созрел дерзкий план.
В каждом классе поочередно назначали дежурного, в обязанности которого входило помыть полы, вытереть начисто доску, закрыть окна, запереть класс на ключ и сдать его старику, который, в свою очередь, запирал и охранял всю школу. От Ахмеда требовалось лишь не закрывать плотно окна кабинета, где он мыл полы в тот день.
Была красивая звездная ночь, вовсю пели сверчки. Два человека, таясь, приблизились к школе. Первый встал на корточки, второй взобрался ему на спину, осторожно открыл окно и скрылся внутри помещения. Второй поднялся и, глядя по сторонам, стоял, не двигаясь. Через несколько минут из окна высунулась голова, и через мгновение из проема появилось нечто, свернутое в трубу. В ту ночь мамы Кели и Бату не спали до рассвета. Они размачивали географические карты, потом стирали и сушили мешковину. И через несколько дней было сшито вручную нижнее белье из грубого сукна непонятного цвета. Разбирательство по делу кражи ни к чему не привело, и вскоре из райцентра привезли новые карты, а сторожа заменили.
Так прошло относительно благополучное лето, и семья уже со страхом ждала следующей суровой зимы. Надо было запастись едой, теплой одеждой, дровами. А где их взять? Приближалась посевная. Вот она, последняя возможность немного подзаработать!
Аязбай три дня отнекивался и старался избегать прямого контакта с этой настырной чеченкой. Но каждое утро перед ним возникала фигура Дикбер.
– Я не могу тебя взять, Дикбер. Это посевная, работа там тяжелая и даже опасная для тебя.
Она исполняла уже до боли знакомый ему репертуар, который демонстрировали до нее многие женщины, вынужденные тащить на себе вся тяготы военной эпохи. Слезы, море слез и причитаний. А все потому, что другой работы в селе попросту не было. Риск умереть от голода и холода все еще грозил всем труженикам тыла.
– Дочка, ты же видишь, ни одна женщина не работает там. Чтобы управлять быками, надо быть сильной. Это абсолютно тупое и агрессивное животное. А если они тебя покалечат? Как я посмотрю в глаза твоей матери?
– Я справлюсь, – упрямо повторяла она, низко опустив голову. – Я не боюсь и точно справлюсь. У вас все равно мужиков мало. Пустила она в ход свой последний довод и чуть ли не впервые в своей жизни посмотрела чужому мужчине прямо в глаза, что категорически запрещалось не столько мусульманскими, сколько еще более суровыми законами вайнахов. В ее красивых серых глазах была та самая непреклонная уверенность, которая уже не раз заставляла Аязбая мысленно восхититься смелостью девушки.
«Әй, жарап тұр, жігерлі екен. Қолынан іс келетін сияқты. (Ай, молодец, напористая. Из нее, может, что-то и получится)», – подумал он про себя и, усмехнувшись, утвердительно кивнул. Она пошла прочь, а он еще долго провожал ее глазами.
– Познакомься с ним, Дикбер. Мальчика звать Тур, – сказал Иваныч. – По-казахски это означает «встать». А знаешь, почему? Дикбер отрицательно покачала головой.
– А лентяй он. Как встанет, так и стоит, жует свою жвачку.
– И что мне делать?
– Как говорится, каков наездник, такова и… скотина, стало быть. Ты, дочка, не бойся, я рядом буду. Хозяин должен быть строг, но милостив. Не ругай его плохими словами, но работу требуй…
Бык ей попался взрослый, со сложившимися привычками, менять которые он не собирался. Дикбер вспомнила, как она когда-то ухаживала за коровой, и произнесла шепотом: «Всевышний, я не прошу от тебя милости, но сделай сейчас меня сильнее, чтобы справиться с этой громадиной».
Тур был запряжен в плуг, и надо было начинать работу и одновременно учиться им управлять. Первое время девушка громко и зло кричала на него, но это помогало мало. Бык почти не обращал на нее внимания. Ни окрик, ни натянутые поводья не помогали. Иваныч хватался за кольцо, просунутое в нос, и возвращал Тура к работе. – Ничего, ничего, – подбадривал он ее, – подружитесь.
И действительно, хоть Дикбер и не была сильна физически, животное все меньше и меньше бунтовало. Порой девушка обходила Тура и, глядя ему в глаза, внушала команды. Ей было важно, чтобы бык ее видел, узнавал и уважал. Он был абсолютно глух к ее вялым командам, лучше реагируя на энергичный, краткий возглас. Иногда они менялись с Иванычем местами, и вскоре Дикбер заметила, что Тур больше любит работать, когда именно она ведет его. Маленькая чеченская девушка работала уже уверенно, наравне с другими, радуясь, что все-таки смогла преодолеть свой страх.
С этого дня хозяин зерносклада и заведующий овощехранилищем Аязбай Кудабаев каждый день внимательно наблюдал за Дикбер Такаевой, удивительно отчаянной и целеустремленной.
«О, Аллам-ай! Бұдан неткен қалындық шығар еді! Еріне адал жар, балаларына қадірлі ана болар ма еді. Ақылды, пысық, көрікті. Біздің туқумға осындай адам керек еді. Әттең… Бүркітбай осында болғанда ғой… (О Аллах, какая невеста из нее могла бы стать кому-то, – размышлял он. – И жена достойная. И, наверное, любящая, верная своим детям мать. Неглупая, активная, яркая. Она должна стать продолжательницей именно… нашего рода), – неожиданно для себя заключил он. – Э-эх, был бы сейчас брат Буркитбай тут…»
Через две недели Аязбай внезапно наведался в дом Кели. Для казаха прийти в любое время в гости – в порядке вещей. Не считается, что ты принес неудобства, и хозяева не огорчаются. У чеченцев же, напротив, не принято приходить в дом к соседу по любому поводу. Однако, если такой уважаемый человек, который дал работу и надежду на спасение, посетил семью Дикбер, то… Женщины с почетом его приняли.
– Ассаламалейкум, – поприветствовал домочадцев Аязбай. – Как живете? Что едите? Чем помочь? В чем нуждаетесь? – казалось, его интересовали все самые мелкие детали жизни переселенцев. Женщины обстоятельно отвечали на каждый вопрос. Потом он сел на табурет и попросил детей удалиться в другую комнату, а Кели и Бату – присесть напротив. Предстоял важный разговор.
– У меня есть младший брат Буркитбай, сейчас он на фронте. Когда он вернется, а я надеюсь, что он вернется живым и здоровым, я хотел бы его сразу женить на хорошей девушке. Я давно наблюдаю за вашей дочерью. Скромная и старательная, в общем, славная невеста. Не согласились бы вы отдать Дикбер за него замуж? И ваша и наша сторона – достойные люди, честные, трудолюбивые, мы одной с вами веры. Мне кажется, они бы подошли друг другу, поверьте моим словам. В свою очередь, я буду помогать вашей семье, буду покровительствовать вам и вашим родственникам. Дам крышу над головой, еду, одежду.
Кели с Бату сидели, не в силах вымолвить и слова.
– Я не прошу дать мне ответ прямо сейчас. Подумайте хорошенько, я не хочу никого торопить.
С этими словами он попрощался и ушел.
Во-первых, чеченцы своих дочерей за людей других национальностей не отдавали: как и всякая малая народность, они старались сохранить себя. Во-вторых, соглашаться на брак с человеком, которого никогда и никто из них не видел… И потом, Дикбер все еще была замужней женщиной. Пропал ее муж без вести или погиб, никто точно не знал. Но отсутствие новостей (пусть и долгое время) – тоже не самая плохая новость во время войны. В сильном замешательстве женщины обсуждали предложение Аязбая. С другой стороны, если прямо сейчас предлагают такую помощь… Их не поймет только тот, кто не видел смерть в лицо, не голодал до потери рассудка и не выносил жесточайших унижений.
Кели решила так: «Сколько еще продлится война, один Аллах знает. Когда вернется брат Аязбая с фронта – тоже неизвестно. Впереди зима, и надо как-то выживать. Надо дать согласие, а там увидим». А Дикбер успокоила себя мыслью: «Прямо сейчас меня ведь никто не забирает. Может, все и обойдется».
Как и обещал, Аязбай поселил всю семью в отдельный дом, купил им корову. Бедные женщины наконец-то оделись в новую, чистую одежду, обулись в теплые валенки, дома появилась крупа и даже мясо. Это было настоящее семейное торжество, когда впервые за много времени они сумели накормить детей и сами поесть досыта. Вскоре появились чеченские «родственники», которых до этого времени не было. Эти земляки, большинство из которых ни Кели, ни Бату не знали, стали приходить, просить хотя бы чашку муки или отрубей, чтобы прожить еще один день. Конечно, Кели всем старалась помочь.
ТАК НАДО…
Меиз просто обожала Аязбая. Он часто допоздна задерживался на складах, изредка ему приходилось даже ночевать прямо на рабочем месте, но, когда возвращался домой – жена принимала его ласково, без нравоучений и лишних расспросов, преданно заглядывая ему в глаза. Аязбай обнимал и нюхал детей, скучал по ним. Меиз бегала, накрывала стол, угощала, улыбалась, словно самая счастливая женщина в мире. Аязбай дома отдыхал душой, расслаблялся. Великолепная хозяйка и преданная жена – Меиз была в этом превосходна. Она относилась к типу женщин, умеющих подстроиться под любые, даже самые невыносимые обстоятельства жизни. При этом очень уважала свои чувства и желания, которые она ставила на первое место. Но материнство, к сожалению, не было ее главной добродетелью. И это в полной мере отразилось на несчастных детях отставшей на станции Бану. Когда Майдаш и Сайдулла остались без матери, Меиз стала относиться к ним довольно жестко. При Аязбае, конечно, это никак не демонстрировалось. А что происходило в его отсутствие, он не знал. Майдаш повезло чуть больше, она рано ушла замуж в соседнее село. Поэтому вся тщательно скрываемая на людях неприязнь Меиз доставалась бедному Сайдулле, который был еще подростком и не мог перечить мачехе.«Әй бала! Күн жылыды ғой. Ана қорадағы пішенге жатсаң болады. Мына тонды алып бүркенсең, тоңбайсың. (На улице уже тепло. Ты ведь вполне можешь спать на сеновале. Вот тебе полушубок, не замерзнешь.)»
Так мальчик ночевал до самых холодов в сарае, ходил в обносках, постоянно недоедал. Однажды Аязбай все-таки заметил, что у его старшего сына под полушубком, который кишит вшами, почти нет одежды. Он в гневе бросил его одежду в печку и заставил Меиз одеть Сайдуллу. «Жарайды, жақсы қөрмесең, жақсы көрмей-ақ қой. Бірақ, баламды бауырыңа тартып, жылы жүзбен қарасан болады ғой! (Не можешь принять – не люби! Но хоть немного заботься о моем сыне!)» Долго отец не мог себе простить, что без его внимания старший сын, оставшийся без матери, стал затравленным, запуганным ребенком. И тогда же Аязбай впервые задумался: «Әй қайдам… Өз құрсағынан шыққан балаларын қыстақта тастап, қолыма келген Мейіздің ішіндегісін білмеген екенмін! Көрсоқыр мен бұны қалай сезбегенмін! (Э-э нет! А какая она, Меиз? Что кроется за кроткой, мягкой внешностью женщины, которая бросила своих детей тогда на зимовке, и которую я принял? Какой же я слепец!)» Конечно, не каждая женщина способна принять и полюбить чужих детей. Но существует ведь чувство долга, совесть, в конце концов… Может быть, именно черствость Меиз к приемным детям, ее неискренность и повлияли на развитие дальнейших событий.
Через две недели Аязбай стоял и наблюдал, как быки вспахивают поле. Из правого кармана его ватника торчал наспех сунутый туда желтоватый листок. Это был документ, получить который боялись в каждой семье.
«Извещение. Кудабаев Беркутбай, уроженец Ворошиловского района Карагандинской области Казахской ССР в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 02.02.1943 г.»
Самая маленькая погонщица была так увлечена работой, что не заметила мужчину, стоящего на краю поля. А он все не уходил, тянул время, дожидаясь, пока отступят нахлынувшие воспоминания и исчезнет ком, застрявший в горле…
Вскоре Аязбай вновь пришел в дом Дикбер. Он был сильно расстроен и безо всякого вступления заявил: – Пришло извещение, что мой брат Буркитбай погиб на фронте. Я долго думал и решил… Дикбер мне очень нравится, и я буду у ваших старейшин просить вашу дочь за меня второй женой.
И ушел.
Кели, Бату и Дикбер плакали несколько дней.
Замуж…
Второй женой…
За человека старше на 25 лет…
Инвалида с одной рукой…
Это был ужас…
Так называемые старейшины – несколько человек из стариков и понимающие русский язык бывшие учителя. Посоветовавшись, они решили, что этот союз поможет всем чеченцам, которые по-прежнему находились в зависимом, бесправном положении. Ради этого стоит кем-то пожертвовать. Да и, в конце концов, выйти замуж за такого уважаемого человека не так уж и плохо. Но сначала решили спросить у отца Дикбер – Махмуда. Так и время можно потянуть, и надежда есть, что отец не даст согласия на этот брак. Написали письмо, изложили ситуацию и через месяц-полтора получили такой ответ: «Если он мусульманин, если помогает моей семье, то можно».
Так решилась судьба Дикбер.

Ранее не было случая, чтобы чеченка выходила замуж за мужчину другой национальности. Скорее небо рухнет на землю! Но все знали: во-первых, отец Махмуд дал разрешение, во-вторых, двум женщинам с маленькими детьми действительно жилось тяжело, и реальная помощь была очень нужна. Конечно, Аязбай слабо походил на жениха: значительно старше Дикбер, без руки, с женой и детьми… И все понимали – она должна пойти на такой шаг.
Никто из его родственников ему не поверил, когда Аязбай объявил, что женится на Дикбер. Те из них, кто жил далеко, в Каркаралинском районе, специально приезжали, чтобы лично убедиться в этом. Потом они вставали в длинную очередь тех, кто пытался отговорить мужчину от этого опрометчивого шага. В общем, Аязбай уподобился «сотрясателю вселенной», пусть и в меньших, сельских масштабах, однако поражающий эффект был сопоставимым. Его двоюродная сестра Макира разозлилась настолько, что никогда более не приезжала в гости, а появилась лишь на его похоронах через много лет.
Что и говорить, сорокалетний с гаком Аязбай был в районе самым «опытным» семьянином с солидным стажем: сначала Бану, потом Меиз, двое детей от первой жены и уже четверо от второй. Отговорить Аязбая никому не удалось. Он по-прежнему бы серьезно настроен на женитьбу.
Слух о ней быстро разошелся по поселку. Одни восхищались этим союзом, другие недоумевали, но открыто высказываться остерегались, чеченцы все-таки. Зато незаметно бросить камень вслед или обозвать Дикбер плохими словами могли, ничуть не стесняясь. Чтобы Меиз не сопротивлялась и другие его родственники успокоились, Аязбай пошел на маленькую хитрость: – Чечены сказали, что Дикбер уже вошла в нашу семью и считается невестой брата. Поэтому, если я от нее откажусь, то опозорю их род. Теперь я должен официально жениться на ней, иначе они меня убьют».
Наивная Меиз испугалась, пришла однажды вечером и на ломаном русском сказала Дикбер: «Моя твоя согласна, женись!»
Однако дочь Меиз Сауле никак не могла смириться. – Ты, может, и согласна, но я – против! Мало того, что из-за вас… из-за него погибла моя сестра, я сама чуть не умерла, так он еще и женится?! А ты кто теперь, мама? Жена? Любовница? Почему ты все это терпишь? Знай, что я этого не допущу! Она была замужем за человеком из районной комендатуры НКВД СССР. А в то время комендатуры боялись больше, чем отправки на фронт. Это ведь они вели ежедневный учет переселенцев со всех частей Союза, боролись с побегами, следили за соблюдением установленного в поселках общественного порядка и правил трудового использования. Нарушителей неминуемо ждала уголовная ответственность. Однако, в городах привлечение переселенцев к ответственности производилось все же на основании какого-никакого предварительного расследования. На селе все было иначе. Начальник комендатуры здесь был Бог и Царь.
Муж Сауле дождался, когда Аязбай уедет по делам, вызвал Дикбер в комендатуру и арестовал ее. «Ну вот, – размышляла несчастная девушка, когда ее заперли в КПЗ. – Сколько всего пришлось испытать – переезд в вагонах для скота, унижения, нищету, голод, холод, замужество это… Теперь для полного счастья не хватало еще попасть в тюрьму…»
В тот момент она еще не знала истинной причины задержания. Дикбер даже в голову не приходило спорить и доказывать свою невиновность. Она безропотно ждала своей участи, потому что привыкла к несправедливости и уже воспринимала ее как должное. Комендантский дурень любил выпячивать свою значимость перед бесправными односельчанами. И на этот раз, чувствуя полную безнаказанность, он нагло заявил Дикбер на допросе: – Захочу – сделаю тебя врагом народа, захочу – обвиню в том, что ты гонишь и продаешь самогон. Раз Аязбай от тебя не отказывается, значит, это ты должна от него отречься. Иначе не выпущу, сгною тебя в лагере, так и знай!
Дикбер, еще недавно не желавшая выходить замуж, вдруг почувствовала, как вскипает и поднимается откуда-то из глубины ее души ярость! Девушку сильно задело, что ее выставляют виноватой, как будто она сама настаивала на этом замужестве. А главное, каким мерзким способом хотят добиться от нее решения!
– Ах та-ак?! Делайте со мной, что хотите, но я теперь никогда от него не откажусь!
Этот случай также переполнил чашу терпения самого Аязбая, уставшего от интриг и придирок. Бледный как полотно, он бегал по разнообразным инстанциям, хлопотал. Со всеми в селе, от кого этот вопрос зависел, переругался. В результате, Дикбер отпустили через сутки. Конечно, Аязбай чувствовал себя виноватым во всей этой истории. Объявив о женитьбе с чеченкой, он невольно навлек на нее и ее родню гнев своих сородичей и непонимание односельчан. Чтобы, с одной стороны, загладить вину, а с другой – разрубить наконец этот узел несчастий, свалившихся на неповинных переселенцев, он твердо пообещал, что изменит их социальный статус и добьется разрешения на свободное передвижение Дикбер и ее семье. Ведь они не могли посетить даже соседнее селение. А статус свободного гражданина дал бы им возможность переехать в любое другое место, чтобы начать жить спокойно, найти постоянную работу, обрести больше прав. Аязбай прошел все инстанции, ездил даже в Алма-Ату и, благодаря своей пробивной силе, умению договариваться с людьми любого уровня, все-таки добыл соответствующие документы для всех родных Дикбер. Впоследствии это помогло Кели и Бату с детьми перебраться в Караганду.
Вскоре их брак был официально зарегистрирован, и Дикбер стала законной супругой Аязбая Кудабаева, взяв его фамилию. Ясное дело, пышной свадьбы не было, просто супруги зажили тихо и мирно. Первое, что сразу бросалось в глаза окружающим и импонировало Аязбаю, – это любовь Дикбер к чистоте и порядку. В селе Буденном чеченка могла дать фору любой из казахских келин в этом вопросе. В доме сразу повеяло аптечным порядком: белоснежные простыни и полотенца, всегда до блеска вымытые полы, чистая одежда. И в хозяйстве хорошо: вовремя накормленная скотина, подметенный двор, выбеленные стены дома. В этом отношении Дикбер была абсолютной противоположностью сестры Аязбая – Шани, единственной из его родни, с кем она поддерживала отношения. Чеченка жалела девушку, семья которой жила очень бедно, и как могла, старалась помочь, хоть и не понимала, как такая мирная по характеру девушка могла согласиться выйти замуж за диковатого Нурмухана. В казахской семье главным считается мужчина, и последнее слово за ним, но это последнее слово ему в уста вкладывает жена. Так иронично говорят в народе. Женщины-казашки свободолюбивы, своенравны. Именно так девочек воспитывают в семьях. Дочка считается «гостьей», ведь она подрастет и уйдет в другую семью. Учитывая расстояния между аулами, родители могли годами не видеть выданную замуж дочь, и это сформировало особо нежное отношение к девочке в семье. Ей отдавалось все самое лучшее, все самое вкусное и красивое, и за дастарханом она сидела на почетном месте – төр. Именно такой и была младшая сестра Аязбая – Шани, единственная девочка в семье. Порядком избалованная, она выросла не слишком расторопной хозяйкой. Рассеянная, непрактичная и при этом абсолютно безобидная, нежная, и медлительная. Она очень понравилась Нурмухану, здоровому грубоватому парню. Он служил в НКВД, в охране военнопленных японцев в одном из многочисленных лагерей Карлага. Любил выпить после работы, буянил. Он был бесцеремонным и прямолинейным, типичным служакой советской системы наказаний. Шани родила ему четверых сыновей и дочь. Когда появились двойняшки, молодая мать совсем перестала успевать по хозяйству, и тогда Нурмухан привел домой пленных в помощь жене. Они немного понимали по-русски и выполняли всю домашнюю работу, смотрели за детьми. Однако обращался с ними туповатый охранник грубо и жестоко. Частенько он издевался над ними, когда был нетрезв. Однажды вечером он в пьяном угаре куда-то засунул свои служебные документы и забыл, куда именно. Наутро во дворе устроил допрос. В тот момент из японцев в доме находился лишь один мужчина, который помогал по хозяйству.
– Изао, ты взял мои документы?
– Нет, господина, я не заходил домой.
Японец, беспрестанно кланяясь, продолжал все отрицать. Нурмухан взял в одну руку палку и приставил к левому виску японца, другой рукой выхватил пистолет и приставил его к правому виску несчастного.
– Признаешься – получишь палкой. Не скажешь, куда девал документы – нажму курок.
В этот момент Изао вдруг посмотрел в глаза распоясавшемуся НКВДшнику и начал что-то говорить по-японски. Нурмухан обомлел и опустил оружие. Конечно, он ничего не понял из сказанного, но тот столь уверенно произнес фразу, отчетливо выговаривая каждое слово, что Нурмухан молча развернулся и зашел в дом. Пленный боец Квантунской армии процедил сквозь зубы следующее:
«Ты думаешь, что честь для японца – это дело жизни и смерти? Уверяю тебя, честь для Изао намного, намного важнее…»

Казахстан еще со времен царской России, а особенно при Советской власти служил настоящим испытательным полигоном для многих людей: и для коренных жителей в годы откровенного геноцида, и для множества несправедливо обвиненных и сосланных насильно представителей других национальностей. Сталинская машина перемалывала всех без разбора по принципу «попал-пропал». Каждый выживал, как мог, – и чеченцы, и крымские татары, и белорусы, и немцы, и представители десятков других национальностей. Японцы в этом ряду стояли особняком, не только потому что были военнопленными, а из-за своих культурных особенностей и, главное, из-за отношения к смерти. Вернее, самого пути к смерти. Пути человека несломленного, а потому непобежденного. Если и умереть, то достойно, с высоко поднятой головой.
Число военнопленных и интернированных японцев, размещенных в Казахстане, составляло примерно 60 тыс. человек. Первый эшелон с японцами прибыл 5 октября 1945 года в Семипалатинскую область. Большинство из них (25 тысяч) разместили далее в Карагандинской области, также в Жезказганской, Восточно-Казахстанской, Алма-Атинской, Жамбылской областях. Подневольный труд японцев использовался в промышленности, в гражданском и промышленном строительстве, на шахтах, рудниках, в сельском хозяйстве. Японские военнопленные испытали на себе все ужасы советской системы ГУЛага, многие из них умерли от голода и невыносимых рабских условий в лагерях.
В народе говорят: «Біреудің саған ренжігені жолыңнын кесілгені» («Чья-то обида на тебя отрежет твой путь к удаче»). Умер Нурмухан довольно рано, в 55 лет. Шани пережила его на 10 лет. Каждый из четырех их сыновей умер, не дожив и до 30-ти лет нелепыми и случайными смертями. Дочь тоже прожила недолгую и тяжелую жизнь.
МАРЬЯМ
Еще лет десять после войны мужчины носили военную одежду. Сукно было очень качественным, носилось долго и донашивалось уже стариками. Зимы в Карагандинской области суровые, буранные, поэтому носили ватные стеганые штаны, шапки-ушанки, брезентовые плащи, на ногах – валенки из войлока. А чуть позднее у тех, кто мог себе позволить, появились валенки-чёсанки. Тонкий войлок молочно-белого цвета, подошва кожаная, с каблучком. Верх изящества! Еще были ватные фуфайки, которые могли претендовать на звание самой практичной, самой распространенной, самой удобной одежды на протяжении нескольких десятков лет. Их носили и мужчины, и женщины.В такой вот фуфайке, только сильно заношенной и старой, в 1946 году вернулся домой из лагерей Махмуд. Еще более молчаливый, сильно исхудавший, постаревший, но самое главное – живой, а в душе все такой же гордый и дерзкий. Двух своих жен с детьми он сразу перевез в Караганду, поближе к шахтам, к работе. Они сняли временное жилье, где прожили какое-то время. Дети выросли и уже работали. Махмуд постоянно проживал с Кели. Она – как была, так и осталась главной хозяйкой, достойно и в точности выполнив наказ старшего брата Махмуда. Пережила с Бату бок о бок все злоключения, в семье остались все живы. Но как только вернулся из лагерей муж, все стало по-прежнему. Бату, по характеру тихая, кроткая, довольствоваласьтолько тем, что имела. Кели вернулась на свой «трон», вела себя с ней холодно и сдержанно. Иногда Бату казалось, что к ее детям внимания было меньше, и она высказывала свои обиды Махмуду.
А Дикбер радовалась благополучному возвращению отца, которого она обожала. «Как хорошо, что им теперь будет легче, гораздо легче вместе с дадой», – рассуждала она. И даже находила общие черты характера в своем отце и муже.
Аязбай помог со стройматериалами, нашли участок и своими силами стали строить дом на два входа. Дикбер, тем временем, постепенно привыкала к семейной жизни. Следуя чеченским традициям, она не называла своего мужа по имени, для нее он навсегда стал Аяке. Аязбай же заменил труднопроизносимое чеченское имя «Дикбер» на более благозвучное для него «Марьям». Обретение ими новых имен стало началом новой для них жизни. Даже село Хорошевское, где они жили в те годы, было переименовано в совхоз имени Буденого.
Умный человек, интеллектуал, свободно владеющий тремя языками, Аязбай возлагал большие надежды на свою супругу. Несмотря на перенесенные ею горести, он видел в ней реальное воплощение женщины, непорочной в мыслях и поступках, образец истинной матери. Поэтому и выбор имени был столь возвышенным. Конечно, супружеский опыт Аязбая был богатым, но не слишком счастливым. Несчастья, лишения, а еще – ревность и амбиции обеих жен ломали идеальную картину мира, которую он старался построить как отец семейства. И Бану, и Меиз не прошли испытания трудностями. Дикбер же в полной мере продемонстрировала ему, на что она способна, когда борется за свою жизнь и за жизнь своих родных. Поэтому и выбор имени для чеченки был не случаен. Ведь согласно священной книге мусульман, с этим образом связывают самые чистые, самые добрые, самые идеальные представления о человеческой природе. Так зовут достойнейшую из всех земных женщин. И любил Аязбай ее безумно. Она навсегда осталась для него загадочной, иной, резко отличающейся от всех женщин, каких он знал.
В 1947 году Марьям забеременела, и это волшебство превращения в маму немного усмирило ее нрав, отвлекло от плохих мыслей и тоски по родине. 18 декабря она произвела на свет первого своего ребенка. И отец, хорошо знавший Коран, дал девочке имя Зайнаб – в честь одной из жен пророка Мухаммеда. Дочь от столь желанной им женщины, ради которой он готов был пойти на все. И не было на свете отца счастливее… Сельский родильный дом в то время представлял собой одну большую комнату для рожениц, комнатку для новорожденных и родовую. В каждой из них стояли отапливаемые кизяком, соломой или дровами печки. В холодные зимние ночи, чтобы сохранить тепло, дымоход старались прикрыть задвижкой. В тот день, 18 декабря, родилось четверо малышей. Утром Марьям принесли дочь на кормление, женщина приложила ее к груди, но у малышки вдруг безжизненно свесилась головка…
– Эрна! Эрна! Мой ребенок! – в ужасе закричала Марьям.
На ее крик прибежала акушерка Эрна, немка, которая принимала роды. Она бросилась к ребенку, стала смотреть других детей – они тоже не шевелились. Начала оказывать помощь, и через некоторое время дочь Марьям издала слабый писк.
Аязбай устроил грандиозный скандал и разбирательство. Выяснилось, что сторож, он же истопник, несвоевременно прикрыл задвижку дымохода. В итоге угарный газ проник в помещение, из-за чего трое из четырех младенцев погибли. Марьям часто вспоминала этот случай. И то, что ее дочь выжила, стало знаком – дальнейшая жизнь показала это.
После такого волнующего, во всех отношениях события, жизнь, как будто наладилась. Но проблемы в семье продолжались…
Аязбай, как и прежде, продолжал содержать Меиз с детьми, часто уезжал к ним на несколько дней. Повзрослевшие дети Меиз, их родственники и просто сочувствующие им соседи не оставляли чеченку в покое. Всякий раз какие-то люди не давали ей проходу на улице: оскорбляли, всячески обзывали. Однажды кем-то подосланный мальчишка кинул в Дикбер камень, и лишь платок на голове смягчил удар. И такая агрессия по отношению к Дикбер проявлялась регулярно. Женская ревность стара, как мир, и надо было искать выход из этой ситуации.
– Аяке, надо что-то решать. В меня опять кто-то камень сегодня бросил. Давай уедем отсюда. Я боюсь за нашу дочь, вдруг они еще что-нибудь сделают?
Аязбай, долго не рассуждая, согласился, так как и сам все видел и понимал. Через какое-то время он оставил работу заведующего зерноскладом – такое солидное, хлебное место, и они переехали в Караганду. Жилье удалось найти в виде домишки с маленькой комнаткой, недалеко от базара, в так называемом «старом городе».
Это было бедняцкое поселение шахтеров. Низкие саманные домики, тесно прижимались друг к другу, словно боялись этой мрачной атмосферы вокруг. Все окрашено в серо-графитовый цвет: стены, крыши, дороги, придорожная грязь. Рядом, буквально в пятидесяти метрах, возвышались горы угля. По их склонам бесперебойно поднимались тележки, одна за другой, уголь высыпался, и тележки бежали вниз. Сами, без участия человека. На это можно было смотреть бесконечно, сам процесс завораживал. Но это была помощь человеку, механизация тяжелого физического труда. Сами же люди сидели без работы. Многие приезжали в это невеселое поселение в поисках заработка. Обживались, заводили семьи. В окрестностях Караганды было много лагерей и, соответственно, много спецпереселенцев разных национальностей. И, как обычно случается, в центре поселка появился стихийный рынок, который постепенно расширился и стал занимать большую площадь.
Любой базар – это отдельное государство со своей спецификой, своим духом и настроением. Представьте себе послевоенное время, нигде ничего легально ни купить и ни продать. А рынок – это место, где могут исполниться многие желания. Торговали всем: хлебом, пирожками с кошачьим мясом и другой снедью, приготовленной дома, а также старой одеждой, посудой. Было много вязаных изделий, советской военной формы. Среди всей этой серости и грязи неожиданно можно было увидеть невероятно красивое платье из натурального шелка с гипюром или изящную сумочку с блестящим замком. Это были очень дорогие трофеи из побежденной Германии.
Общий фон – многоголосие зазывал, призывавших купить непременно их товар. Но самым ярким украшением базара были игрушки, настоящие детские коляски с деревянными колесами, которые мастерили и продавали китайцы. Китайцев было много. Они громко переговаривались между собой, иногда выкрикивали по-русски: «Бери! Спасиба!» Раскрашивали свои поделки в яркие зеленые и красные цвета. Игрушки у них свистели, двигались, а все дети собирались вокруг лотков, глазели на эти чудеса. И, как водится, где деньги – там и воры… Карманники, форточники и те, кто занимался уличным разбоем, сбивались в шайки, представлявшие серьезную опасность для людей. Малочисленная милиция была бессильна и в большинстве случаев не вмешивалась, а уж о полноценном расследовании кражи люди и мечтать не могли.
«Біз де бір сауда жасап көрейік. Мен саған боза жасауды үйретейін. Ол ашытқы мен құлмаққа тұндырылып, қант қосылған сыра сияқты сусын. Соны сатамыз. (Нам тоже надо чем-то торговать. Я научу тебя делать бозу. Это напиток, похожий на пиво с сахаром, настаивается на дрожжах и хмеле»), – заявил Аязбай вскоре после переезда.
Марьям, с ее хваткостью и энергией, быстро все усвоила, и дело пошло, как по-маслу. Пивом торговали прямо из дома, где и жили. Поставили столик, табуретки, и желающие могли прямо там присесть и утолить жажду. А напиток получался достаточно крепким, так что посетители иногда просто валились под стол. Но в итоге довольными были и клиенты, и хозяева. Аязбай, на всякий случай, познакомился с участковым милиционером, а потом пригласил его к себе и хорошенько угостил.
Аязбай вообще не сидел на одном месте. Он постоянно был в движении, в работе и часто уезжал по разным делам, а Марьям оставалась одна дома с ребенком. В помощницы взяли Соню, молодую немку сироту. Она помогала по хозяйству, приглядывала за ребенком. И вот, в один из вечеров Марьям с дочкой и Соня укладывались спать, как вдруг услышали чьи-то шаги на крыше дома. Потом начала сыпаться глина с потолка. Стало ясно, что кто-то пробирался в дом через чердак.
– Копай потише, – сказал мужской голос. – Да, я стараюсь, – ответил второй.
Женщины уже мысленно попрощались с жизнью, так как знали много случаев, когда грабители вырезали целые семьи, не щадили никого, если в доме было чем поживиться. И вдруг голоса исчезли, шум прекратился, люди ушли. Женщины еще минут десять сидели тихо, боясь шевельнуться. Потом Соня осторожно отодвинула штору и выглянула на улицу.
– Какой-то мужчина стоит около нашей калитки.
Дикбер подошла и увидела чей-то силуэт. Фигура прошагала из стороны в сторону, и на светлом фоне стены дома напротив она сумела разглядеть галифе и сапоги.
– Это военный, что ли? – решила Дикбер – А может, наш участковый? – обрадовалась Соня.
До самого утра две перепуганные женщины просидели, не сомкнув глаз.
Не зря Аязбай дружил с участковым. Как в воду глядел, что его семье пригодится помощь. Уезжая, он попросил того присматривать за его домом. Так, на всякий случай. И такой случай наступил. В тот вечер участковый милиционер, обходя район, подошел близко к дому и спугнул воров.
Одним из главарей шайки, в ту ночь разбиравших крышу дома Аязбая, был некий Жума. Молодой и дерзкий парень, он не пошел работать на шахту, а сколотил банду и занялся грабежом. Аязбай узнал обо всем от участкового, и когда Жума наведался к ним попить пива, подсел к нему. В беседе выяснилось, что они земляки. Бандит оказался из Акжара, соседнего поселка. Парень, конечно, пообещал, что дом Аязбая останется неприкосновенным. А через некоторое время пошли слухи, что его пырнули ножом где-то на окраине города в одной из потасовок. Эту историю Марьям много раз вспоминала и поражалась тому, как линия судьбы завязалась в неожиданный узелок. Прошло много лет, и родная племянница Жумы, Айтжамал из Акжара, стала женой одного из сыновей Меиз.

Несмотря на тягостную серую обстановку в поселке, Марьям впервые почувствовала себя более спокойно и уверенно. Благодаря «пивному делу» в доме уже появились какие-то деньги, дочка росла на радость обоим родителям, а главное, никто не цеплялся к женщине, не унижал и не кидал камни ей вслед. Но покой продлился недолго…
1949-й год. В один из дней Марьям услышала, что кто-то ее зовет.
– Марьям, Марьям! – звала соседка
– Что случилось?
– Выйди во двор, тебя спрашивают.
Марьям вышла, смотрит, а там какой-то худощавый мужчина с бородой, в кепке. Вроде из чеченцев, не разобрать толком.
– Хьо мила ву хьуна ху еза? (Ты кто, чего тебе?) – спросила Марьям.
– Дикбер, со ца войзар хьуна? Дукха хан ялла (Ты не узнаешь меня, Дикбер? Столько лет прошло…)
– Ца войзар (Не узнала), – изумленно ответила женщина, думая, что это кто-то из дальних родственников отыскался. Подошла поближе. – Сом 1Эла вай (Это же я, Али…)
Дикбер остолбенела. В этот момент у нее будто душа перевернулась, она и впрямь не узнала его, своего первого мужа. Он сильно исхудал, его глаза потеряли тот живой блеск, который она помнила, и перед ней стоял обычный, побитый временем и войной мужчина, мало отличавшийся от множества живущих в этом городе. Сколько времени она старалась не ворошить прошлое, ведь так больно было погружаться в воспоминания о нем… Но тут, разом всплыли в памяти ее радостные дни юной любви. Солнце, пробивающееся сквозь листья алычи, журчащий арык с прохладной горной водой, запах свежеиспеченных лепешек…
Так они и стояли, глядя друг на друга, точь-в-точь как тогда, перед отправкой на фронт. Дикбер вцепилась в колья ограды и зарыдала. Али шептал какие-то слова утешения, но она не слышала ничего. Руки ее в бессилии трясли ограду, она кричала в голос, словно пытаясь вырыдать все свои горести и всю накопленную боль. Потом немного успокоилась и медленно осела на лавочку рядом с калиткой.
– Хьуна ху оьшара, хьо х1унда веана кхуза? (Что ты хотел? Зачем ты приехал?)
– Хьо га ляар (Увидеть тебя…)
– Со х1инца марехь зуда ю. Кхи ма веллахь, кхи леха ма леха со ц1аккха а! Дела дёхьа! Са дёзал, ц1ина да, бера а ду. Хьоьца дийца са х1умма дац! (Сейчас я замужняя женщина. Слышишь, не приходи больше, не ищи меня никогда. Ради Аллаха! У меня семья, муж, ребенок. И говорить нам с тобой не о чем…) – сказала, как отрубила и зашла домой.
Али навсегда исчез из ее жизни.
Невозможно представить, что творилось в ее душе, как она страдала. Как бы могла сложиться ее судьба, если бы не война, не разлука… Он нарушил едва зарождающийся покой в ее душе, словно ветер сдул со свечки маленький огонек надежды на спокойную жизнь. Вернул воспоминания, всколыхнул память, поднял откуда-то из глубины ее души целый пласт прошлого, безвозвратно утерянного для нее.
Несколько дней она металась, была сама не своя. Сегодня бы сказали, что человек впал в депрессию. Но в то время, ни она, ни кто-либо другой не смог бы объяснить, что с ней происходит. Марьям погрузилась в такое уныние, что все валилось у нее из рук, ничего не хотелось делать. Лишь хныканье ребенка заставляло ее вставать с кровати и чем-то заниматься. Она настолько измучила себя, не зная, как найти выход, что в какой-то момент решила уйти из жизни, повеситься. Но дочурка Зайнаб была совсем маленькой, и только это удержало Дикбер от страшного шага. Слишком хорошо она знала, каково жить в этом жестоком мире сироте…
С этого момента тоска по своим родным уже не отпускала ее. Она захотела как можно скорее вернуться домой к отцу, вернуться, как в детстве, за его поддержкой, под его крыло, к Кели с Бату, к сестрам и братьям. Забыть, наконец, все, что с ней произошло в ссылке. Она терпела, терпела и в один из дней твердо решила, что уйдет.
Махмуд с семьей жил в другом конце Караганды. Марьям выбрала день, когда Аязбай был в отъезде, и отправилась к родным.
– Ты как здесь оказалась? – Махмуд очень удивился неожиданному появлению дочери с ребенком. – Он выгнал тебя из дома? – встревожился чеченец.
– Отец, я сама ушла, – ответила она и рассказала все, что ей не нравилось в ее семейной жизни, и все, что откровенно злило ее. – Я чужая там, я хочу к вам, в свою семью, я хочу говорить на родном языке. Не люблю я его! Жены и дети его другие… Они кидали в меня камни! – вдруг закричала дочь, нарушая рамки приличия. – Они обзывали меня последними словами! Разве я заслужила такое?!
Другой отец обнял бы свою любимую дочь, нашел слова утешения, в конце концов, плюнул бы на все и сказал: «А, ладно, оставайся!» Но только не Махмуд. Ни один мускул не дрогнул на его лице при виде плачущей Дикбер. Он сидел неподвижно словно статуя. – Вы сейчас живете отдельно, так ведь? – начал он разговор. – Мы не можем с ним так поступить. Вспомни, сколько хорошего он делал для всех нас. Твоя мать и братья живы лишь благодаря ему… Не каждый чеченец обладает таким характером и знаниями, как Аязбай. Он – настоящий мужчина, и я уважаю его как истинного сына своего народа. Мы должны брать с него пример. Я слышал его историю с женами и хорошо понимаю, как непросто ему было каждый раз заново создавать семью. Казахи пострадали не меньше нас, но посмотри, как они к нам относятся. Да, везде бывают плохие люди. Таких я встречал и у нас в Чечне. Война хоть и закончилась, но живем мы все еще трудно. Ни еды, ни работы нормальной… Дочка, ты хорошо знаешь, что у нас так не принято. Стало быть, в трудное время для тебя и всех наших родных он нужен был, а теперь, значит, нет?
Чуть подумав, он завершил: – Вернешься, если только он сам от тебя откажется.
В тот же день Дикбер, плача, возвратилась домой.
На следующий день Аязбай приехал из командировки. Марьям, как обычно, накрыла на стол. Когда супруг поужинал, она села напротив него и стала мысленно подбирать слова для трудного разговора.
«Я не могу так больше, Аяке. Я не выдержу. Не держи меня, отпусти. За что мне все эти мучения. Я не хочу жить так. Я не так хотела жить. Это не моя жизнь, а чья-то чужая. Это ошибка, это ошибка…»
Женщина вошла в то особое состояние, в каком она неистово общалась с Богом, и перестала осознавать, что ее мысленное обращение перешло в молитву, все громче звучавшую в ее голове: «Всевышний! Лучше забери меня, Всевышний. Сколько еще ты будешь меня терзать, испытывать? ЭТО НЕЧЕСТНО!!! Прекрати сейчас же это все! Оставь меня в покое!!! Забери меня хоть в рай, хоть в ад, но избавь от этих мук земных! Это хуже ада. Душе моей нет покоя! За что, за что? Почему я, почему я?»
Аязбай, до того сидевший неподвижно, вдруг развернулся всем телом и, глядя прямо ей в глаза, ответил, словно она произнесла все это вслух: – Я понимаю тебя и не стану с тобой спорить, Марьям. Ты можешь уйти, но при одном условии…
«О Аллах, как он понял, о чем я думала?» – испугалась Дикбер.
– Ты можешь уйти, но… Ты оставишь мою дочь в этом доме! – заключил он и вышел из-за стола. Женщина так и осталась сидеть на стуле, теребя край полотенца, лишь горькие слезы тихо лились из ее глаз…
Вскоре Аязбая пригласили заведовать зернохранилищем в селе Корнеевка. Они переехали и сначала снимали полдома, потом построили небольшой собственный дом. В один из дней к ним наведался Шепа, тот самый учитель.
– В Петропавловске у нас живет бывшая соседка. Она сказала, что, вроде, видела вашу сестру Курбику на рынке. Судя по всему, ей нелегко там сейчас. Она с ребенком на руках просит милостыню.
Эта новость была ударом для всех. Сейчас нам трудно представить, что было время, когда весть могла доходить неделю и даже месяц. Аязбай послал человека, и пока Курбику разы- скали и привезли, ее ребенок уже умер. Тем не менее, благодарности всей родни Марьям не было предела. Всегда гордая красавица Курбика – высокая, белокожая, в Чечне она рано вышла замуж и жила отдельно с семьей мужа. Их также выслали в Казахстан, муж умер, и она едва не погибла в нищете. Через год в Караганде Курбику выдали замуж второй женой за Селима. С ним она прожила всю жизнь, родила ему четверых детей. Аязбай с Селимом дружили. Чеченец часто приезжал в гости в Корнеевку, подолгу гостил, они целыми днями беседовали на разные темы.
Через много лет, когда чеченцам дали возможность вернуться в родные места, Марьям и Аязбай ездили в Чечню навестить ее родителей. Это было уже в 60-е годы. И в одну из встреч Курбика неожиданно обмолвилась:
– Дикбер, я бы позвала вас к нам домой в Гудермес, но стесняюсь перед соседями. Все-таки Аязбай такой старый и без руки…
Ох, как тогда обиделась Марьям!
– Да как тебе не стыдно! Он всех нас спас. Он тебя нашел на рынке в Петропавловске, доставил издалека полуживую, завшивевшую – одел, обогрел…
Но Бог все видит! Отец Махмуд, когда узнал об этом, в гневе выгнал Курбику из дома и велел не показываться ему на глаза, пока он сам не позовет. Ему было очень стыдно перед Аязбаем за дочь. Через пару месяцев Селим неудачно упал, сломал шейку бедра и до конца жизни не мог нормально ходить. Никогда больше Аязбай не переступал порог их дома.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ЗАЧЕМ»
Всю свою жизнь Марьям старалась, чтобы ее дети выросли достойными людьми, умели принимать правильные решения. Она была достаточно строгой матерью, но со своей старшей дочерью делилась многим и часто подолгу рассказывала о своей жизни. Известно, что детские воспоминания остаются очень яркими сценами в памяти детей. Я, Зайнаб, теперь опишу, что запомнила из рассказов мамы, других людей и что видела сама.
ДОЧКИ-МАТЕРИ
Она была небольшого роста, белокожая, с пронзительными серо-голубыми глазами, каштановыми волосами. А когда стала матерью, то превратилась в настоящую красавицу, какими становятся все женщины после рождения первого своего ребенка. Они, словно расцветают так, что окружающие невольно засматриваются на них. Марьям была именно такой в свои 26-27 лет. Настоящая экзотика для казахской среды, она была настолько очаровательной женщиной, что специально пониже опускала платок, надвинув его на глаза, и завязывала его по-старушечьи под подбородком. Ее злило повышенное внимание мужчин. Она уважала отца в силу его возраста, однако, если случались скандалы в доме, то они бывали страшные. Муж мог уехать к Меиз на месяц без предупреждения, а потом явиться домой, как ни в чем не бывало. Понять его можно, там тоже была семья, дети. Однако кавказский темперамент, помноженный на женскую ревность, – это адская смесь. Когда подвода отца появлялась на горизонте, у меня начинали трястись руки и ноги. Я знала – будет затяжной скандал с обещаниями повеситься, утопиться и прочим. Ведь в ее жилах кипела и бурлила кровь гордых чеченцев! Мы, дети, не всегда понимали сути скандалов, но боялись их, жалели и плачущую мать, и отца. Аязбай же никак не реагировал на эти сцены, и буря постепенно утихала, разбиваясь о неподвижную скалу его спокойствия.Самые ранние воспоминания моего детства были связаны с рождением сестры Сары. Между 18 декабря 1947 г. и 25 марта 1950-го всего 2 года и 4 месяца, однако я хорошо помню большую, освещенную керосиновой лампой комнату, видимо, ее снимали в аренду, потому что там находилась русская женщина. В углу комнаты стояла швейная машинка, и мама что-то быстро шила, видимо, пеленки и распашонки. Помню, посреди комнаты, упираясь в потолок, высился деревянный столб. Такие столбы были во всех домах. В них вбивали гвозди и вешали повседневную одежду. Однажды под столбом расстелили белую козью шкуру, и мама, опираясь за этот столб, стонала. Потом какая-то женщина увела меня в другую комнату.
Третья сестренка – Кулян, родилась 15 мая 1952 года. Тогда в селах не было электричества, и все пользовались керосиновыми лампами. В стенах между комнатами делалась специальная ниша, где стояла лампа и освещала сразу две комнаты. Если нужно было приглушить свет, ниша задергивалась шторками. Эти шторки очень ярко запечатлелись в моей памяти. В этом доме 25 августа 1954 года родился долгожданный (после трех дочерей) братик Закир. Из этого дома все пошли в 1-й класс Димитровской СШ №4. Учебников не было, вместо портфелей шили из сукна сумки с ручками и отдельно – мешочек для чернильницы, которая все время проливалась. А в чистых тетрадках на всех страницах я рисовала домики. Рисовала их везде, где только можно, хотя меня за это ругали. Когда родился второй братик Шамиль (18 февраля 1956 г.) мы уже жили в новом доме на горке. В верхней части села, на возвышении, какие-то люди под руководством отца построили дом. Беременная мама сама по-чеченски месила ногами глину с половой и мазала стены дома, белила и красила. Но в этом доме мы почему-то прожили недолго…
С самого раннего детства и вплоть до окончания школы у нас было правило: каждое утро после завтрака мама брала три спички и, не показывая нам, ломала их, чтобы получилась маленькая, средняя и большая. Три сестры – я, Сара и Кулян – тянули их. Кому доставалась длинная спичка, тот убирал дом в течение всего дня. Хозяин средней смотрел за скотом: надо было вывезти навоз, напоить животных водой из колодца, надергать коровам, лошади и овцам сена. Владелец самой короткой спички должен был в течение дня мыть всю посуду, включая сепаратор. Посуду мыть никто не любил, жир и сажа от печки на кастрюлях плохо отмывались. Но если кому-то из нас, старших сестер, доставалось мытье посуды, мы всеми правдами и неправдами уговаривали младшую Кулян поменяться обязанностями. Сейчас вспоминаю все это – так жалко ее. Самая маленькая, она не справлялась с огромными кастрюлями, влезала прямо внутрь них и так, целый день сидя в одной из них, пыталась отмыть жир. Мамка увидела это один раз и отлупила нас с Сарой, чтобы мы больше не хитрили.
С раннего детства в моей душе осталось жуткое чувство страха перед матерью. Страх наказания, страшные проклятия на чеченском языке, брошенные в никуда. Рождение каждого ребенка все больше отдаляло ее от мечты оставить старого и нелюбимого мужа и вернуться к своим, в свою среду, где говорят на ее родном языке. И она всю свою злобу и разочарование выражала в проклятиях, как когда-то ее мать Кели. Помню, у нас был теленок, мы кормили его с рук. Когда он подрос, отец решил отдать его в семью Меиз, там корова сдохла. Приехали ее родственники и прямо из сарая потащили теленка. До сих пор не могу забыть, как кричала и плакала мама, не хотела отдавать его. Трое старших детей болели тогда ветрянкой, лежали с температурой на одной широкой кровати и тоже рыдали. Марьям впала в отчаяние не столько из-за этого теленка, сколько из-за душевной боли, неудовлетворенности и безысходности… Там тоже были дети, о них тоже нужно было заботиться. Меиз с детьми жила в 18 километрах. Дочь отца от Меиз, Баян, вспоминала, что после редких отцовских приездов она вдыхала аромат подушки, на которой он спал, и тихо плакала. Дети рождались в обеих семьях одновременно. В 1947 году родились я и брат Сайфулла у Меиз. В 1950-м родились родная сестра Сара и брат Нурлан у Меиз и так далее…
Было бы неправильно думать, что мы, дети, не общались с нашими сводными братьями и сестрами, рожденными от других папиных жен. Мало понимающие в сложных взаимоотношениях взрослых, мы достаточно часто гостили в других семьях и невольно становились свидетелями некоторых судьбоносных событий.
РОДНОЙ ЧУЖОЙ
Где-то в начале 50-х годов вернулся из армии старший брат Сайдулла (сын Бану). Хорошо помню его в солдатской форме, обычно так и ходили в такой одежде до полного износа. Как-то раз, он пришел и начал уговаривать отца вернуть ему документы, даже плакал. Отец в ответ сердился, кричал, ставил какие-то условия. А однажды в его отсутствие мама отдала Сайдулле паспорт и военный билет. Аязбай, узнав об этом, очень разозлился и закатил грандиознейший скандал. А дело было вот в чем…Сайдулла познакомился с украинской девушкой и решил на ней жениться. Отец же хотел, чтобы он взял казашку (видимо, была какая-то кандидатура на примете), отобрал и спрятал документы, всячески отговаривая сына от его решения. Мама рассказывала, что родственники со стороны отца, обычно не разговаривавшие с ней, вдруг стали просить ее повлиять на девушку, а если надо, то и припугнуть, мол, ты же чеченка, испугается, может, да и уедет. А работала та невеста в колхозной бухгалтерии. Заходит Марьям в бухгалтерию и видит: сидит молоденькая, глаза огромные, голубые, очень скромно одетая и… беременная девчушка. Звали ее Валентина. Чеченка забыла все, что собиралась говорить. Зато вспомнила свои мытарства, подошла и спросила:
– Любишь его?
– Люблю.
– Тогда никого не бойся и выходи замуж! В крайнем случае, будешь есть, что я ем. Будешь носить, что я ношу!
Вот так, с помощью Марьям, они и поженились. Когда Сайдулла возмужал, он стал очень похож на своего отца. И внешне, и по характеру. Очень спокойный, улыбчивый, доброжелательный. Казалось, он вообще не умеет сердиться. Всех называл братишками и сестренками, приглашал в гости, искренне радовался гостям. Когда ему было плохо на душе, он мог лишь немного выпить, сразу пьянел и шел спать.
Валя, любимая его жена, шумная, крикливая украинка, пыталась командовать им. Но он, как и его отец Аязбай, обычно пропускал все мимо ушей, не отвечал ей, а просто занимался чем-нибудь по хозяйству. У них родилось два сына и дочь, которую он просто обожал, выполнял любые ее капризы. Все женщины поселка души не чаяли в Андрее, так его звали русские. А Валя жутко ревновала его к дояркам, которых он, работая шофером, отвозил и привозил с дойки. Любой человек рядом с ним чувствовал себя уютно, он излучал такое душевное спокойствие, что невольно хотелось с ним обняться, побрататься, посидеть-поговорить, поделиться сокровенным. Несмотря на свое непростое детство, он не озлобился, оставаясь для окружающих светлым человеком. Через много лет лишь одно удивительное событие заставило его с горечью вспомнить сиротское детство.
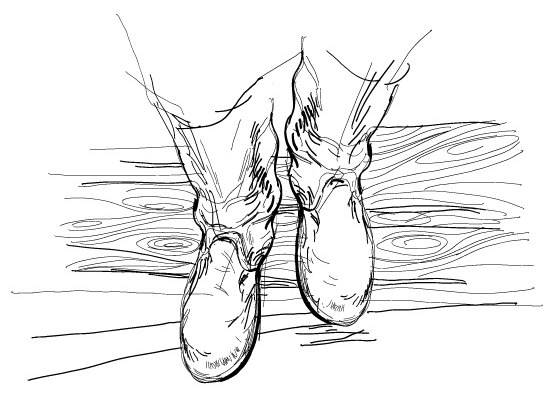
Как-то весенним утром (дело было в 90-х годах) к Сайдулле в дом постучались двое незнакомых мужчин.
– Здравствуйте, семья Сайдуллы тут проживает? – спросили они.
– Да, заходите. Я Сайдулла.
Мужчины представились, хозяин дома радушно проводил их в комнату, и они присели на диван. Один из них, постарше, начал разговор:
– В это, наверное, трудно поверить, дорогой Сайдулла, но жизнь иногда преподносит нам совершенно неожиданные сюрпризы. Он немного помолчал, не зная, как продолжить.
– Я внимательно слушаю, продолжайте, – попросил Сайдулла.
Второй подхватил: – Бану ведь ваша мать?
Удивленный Сайдулла ответил: – Да, и она пропала без вести, когда мы с сестрой были совсем маленькими.
Старший из мужчин выпалил: – Мы – ваши братья.
Бедный Сайдулла вытер выступивший от напряжения пот со лба и неуверенно переспросил: – Наверное, от Меиз или… Дикбер?
– Нет, мы ваши братья от Бану…
Сайдулла попытался что-то вспомнить и с сомнением в голосе произнес: – Но у нас с сестрой вроде больше не было братьев. Мать умерла до войны, ну… то есть пропала…
– Сайдулла, она не умерла в те годы. Она отстала от поезда и осталась жива. Потом она вернулась на родину и вышла замуж. Мы все это время жили в соседнем колхозе, и мама только перед своей кончиной рассказала нам о тебе.
На несчастного Сайдуллу было жалко смотреть в тот момент. У него выступили слезы на глазах, и он сказал растерянно: – А она знала, что мы живы? Почему она нас не искала?
Один из мужчин опустил голову, невольно чувствуя свою вину за их общую мать: – Скорее всего, знала… Мы не знаем, почему она так поступила. Она рассказала нам все о твоем отце, его второй жене, даже о чеченке мы слышали… Сайдулла был изумлен: – Даже о ней?
Второй мужчина продолжил: – Мы хотим попросить прощения от имени нашей общей матери. Она просила передать…
– Постой, – прервал его Сайдулла. – Так она знала обо мне, о Майдаш? Она рассказала, как к нам относились? Рассказала о нашем детстве без нее?
– Нет-нет, мы подробностей не знаем, но хотим с тобой наладить отношения и подружиться…
Но Сайдулла их больше не слушал. В их сводного брата словно вселился демон. – А вы спросили меня, хочу ли я теперь этого? Спросил меня кто-нибудь хоть раз, чего я хочу в жизни?
Сайдулла резко встал и подошел к окну. Мужчины сидели неподвижно, глядя в пол. – Так вот, – не поворачиваясь к ним, произнес Сайдулла. – Я вас никогда не знал и знать не хочу. Уходите и никогда не беспокойте ни меня, ни мою сестру!
Когда Сайдулла неожиданно умер через несколько лет, для всех это стало шоком, так как на здоровье он никогда не жаловался.
«Не ценила Андрея при жизни. Жалею сейчас, не сберегла! Никогда мне не будет так хорошо, как раньше в своем доме, с Андреем», – говорила Валентина, переехав жить после его смерти к детям.
НАЗАД ДОМОЙ
Мои первые воспоминания о Караганде – это бесконечные заборы, высокие, деревянные. Через щели были видны внутренние ограждения из проволоки и сетки. А на всех углах, в высоких деревянных будках стояли солдаты с оружием. Помню, мы с мамой ездили в город к Махмуду и Кели, проходили мимо этих заборов, и у меня аж сердце замирало от ощущения чего-то таинственного и неизвестного. Как-то я спросила:– Что эти солдаты там делают?
– Сталина охраняют, – ответила мама.
Я не знала, кто такой Сталин, но мне вдруг стало страшно.
Тогда в каждом доме висело радио, круглое, черное, с кнопками посередине, и все время о чем-то говорило, как мне казалось, очень строго и сердито. Рано утром оно играло гимн Советского Союза и утреннюю гимнастику. И вот эта круглая тарелка в один из дней, весной, очень значительно и трагично что-то сообщила. Мама вскрикнула и начала громко плакать. Я испугалась и спрашиваю: – Чего ты плачешь?
А она, еще сильнее зарыдав, отвечает: – Сталин умер!
Я сразу вспомнила забор, будку с охраной и подумала: «Не уберегли!»
Мама никак не могла успокоиться, всхлипывала и бормотала: – Енді не боламыз, не боламыз? (Что теперь с нами будет?)
Уже взрослой я так и не смогла объяснить себе, почему она так горевала, почему, несмотря ни на что, люди верили ему и связывали с ним свои надежды? Позже, уже через много лет, на мой вопрос о Сталине она ответила так:
– Мы ждали, что Сталин вернет нас на Кавказ. Поймет, что мы невиновны. А с его уходом было неизвестно, что будет с нами. Как будто остались на полпути…
В марте 1953 года кончина главного Тирана страны воспринималась как трагедия вселенского масштаба. В стране был объявлен четырехдневный траур. После похорон Сталина протяжно завыли гудки на заводах по всей стране. Позднее поэт Евгений Евтушенко по этому поводу написал: «Этот многотрубный вой, от которого кровь стыла в жилах, напоминал адский вопль умирающего мифического чудовища…»
В общественной жизни царила атмосфера всеобщего шока, все ждали, что жизнь в одночасье может измениться к худшему. Впрочем, были и другие настроения, вызванные смертью, казалось бы, бессмертного вождя: от сказанного вслух «Ну что, сдох этот…» и до мыслей про себя «ну наконец-то!» Миллионы заключенных и ссыльных, которые томились в лагерях и проживали на поселениях, восприняли эту новость радостно. Ссыльные, встречаясь, еще не смели высказать свои надежды, но уже не таили повеселевшего взгляда.
В 1957 году вышел указ, который разрешал депортированным чеченцам вернуться на родину. Все это время мамины родители: отец Махмуд, его жены Кели и Бату, дети Ахмед, Шахид, Леча, Курбика и Зулпа жили в г. Караганде, поселке Мелькомбинат по ул. Мельничной. Они очень часто приезжали в гости к Аязбаю, Дикбер ездила к ним на лето, меня отправляли к ним в помощь, там я усвоила чеченский язык. Приезжали и двоюродные мамины братья в любое время суток и останавливались у нас. Они работали шоферами на бензовозах, и, когда задували бураны, подолгу жили в Корнеевке. Они любили нас, детей, тискали, баловали, от них пахло махоркой и бензином. Махмуд с помощью Аязбая построил в Караганде очень хороший дом на два крыла. В одном крыле жил он сам с Кели и сыновьями. А в другом крыле – Бату с детьми. Посередине были большие зеленые ворота. По тем временам это был очень добротный кирпичный дом с верандами и отдельно стоящей большой кухней. Глава семейства часто сидел на веранде и пил черный чай с кусковым сахаром из стакана с блюдцем. Вкус того чая не забыть до сих пор…
Когда издали указ о разрешении вернуться на Родину, для чеченцев и ингушей это стало одновременно волнующим и шокирующим событием. Уже выросли их дети, которые только слышали, что есть такая земля, где все было по-другому, где дом – это «ц1ено» и где было лучше, чем тут. У дедушки Махмуда была радиола – большая ценность по тем временам. Сверху ставили грампластинки, а радио располагалось в нижней части ящика. По радио слушали новости, ловили музыку на коротких волнах, иногда даже можно было поймать чеченские мелодии. Я помню, как громко звучала музыка из той радиолы, и у всех сразу поднималось настроение. А еще на радиоле был зеленая лампочка. Она мигала в ритм мелодии, невозможно было оторвать глаз от этого чуда. И новость об указе дедушка узнал, слушая это радио. Многие сразу же засобирались в дорогу, начали распродавать нажитое. Но как быть с похороненными в чужой земле близкими и родными?
Старейшины собирались, обсуждали эту проблему, некоторые категорически не хотели оставлять прах умерших, другие с ними не соглашались. Не сразу, постепенно, в течение многих лет, большинству вайнахов удалось перезахоронить тела близких на родине.
Нет, наверное, на свете другого такого народа, который так любил бы свою землю, так чтил свои традиции, религию и язык, как чеченцы. Может, эта неистовость во всем, что касается их родины, нации, и спасла этот немногочисленный народ от вымирания.
Новость о переезде стала долгожданной для всех и ужасной для Дикбер. В один из дней Шахид привез эту весть к нам домой.
– Вы слышали, вышел указ, по которому нам разрешают вернуться в Чечню?! – счастливый, заявил он. Потом сгреб в охапку нас, детей, и начал по одному подкидывать, радостно смеясь.
– Это точно, Шахид? – серьезно спросила его Дикбер.
– Да-а-а! – закричал брат, продолжая играть с малышней, потом, увидев серое лицо сестры, остановился.
– Ну Дикбер, не расстраивайся ты так, – не зная, как успокоить сестру, произнес он и добавил, не подумав: – Может, все обойдется…
– Вы уедете, а я останусь, – она стояла, уткнувшись лбом в стену дома, и, расстроенная, смотрела на землю.
Все родственники и знакомые чеченцы собирались, бурно обсуждали эту новость, плакали и строили планы отъезда на их любимую родину. Некоторые не верили и все время переспрашивали: – Не может быть, а это правда? О Аллах, ты услышал наши молитвы…
Одна Дикбер в те дни ходила заплаканная и грустная. Когда уже были куплены билеты и все сидели на чемоданах, пришла еще одна весть: указ о возвращении чеченцев на родину был временно приостановлен. Случилось так, что первые семьи, вернувшиеся к себе домой, обнаружили в бывших своих домах других хозяев. То есть возвращаться было некуда. Начались разборки, потасовки, доходило до убийств. И власти решили приостановить действие своего указа. Однако наши уже продали дома, ехать нужно было в любом случае. Тогда они пошли на хитрость: переоделись в украинские рубашки и сарафаны, хорошо заплатили контролерам и проводникам и кое-как доехали домой. Дедушка выкупил свой дом и прилегающий к нему участок у поселившегося там осетина и мирно заселил туда свою семью. Дикбер так сильно горевала, что Аязбай скрыл от нее день отъезда родни, твердо пообещав, что отпустит ее навестить их.
Но не у всех все складывалось благополучно. Мы знали еще об одной семье, такой же, как наша, где мать – чеченка, а муж – казах. Они жили далеко от нас, в одном из отделений скотоводческого совхоза. У них было четверо детей. История их семьи была нам неведома, но то, как они уезжали, узнали все. У этой женщины было два брата и отец. Когда все засобирались в Чечню, они решили забрать и ее. При этом дети должны были остаться с отцом-казахом. Несчастная женщина умоляла, плакала, просила оставить ее с семьей. Но родственники остались непреклонны. Братья запугали ее мужа, а сестру выкрали, связали, бросили в машину и увезли. До Чечни она доехала, но примерно через год сбежала и вернулась к детям. Бедный муж не вынес всего случившегося. Он за это время начал выпивать, лишился работы, детей раздали по родственникам, в доме и хозяйстве была полная разруха. Чеченка собрала детей, попыталась все восстановить, но муж так и не бросил пить, через полтора года попал под трактор и погиб. Некоторые из родственников мужа обвинили чеченку в его смерти, и в итоге разнесчастная женщина осталась одна с детьми, без родни и без поддержки. Трагедию этой семьи знали многие, сочувствовали им, старались помочь. Дальнейшая их судьба осталась неизвестной.

Летом 57-го (мне уже было почти 10 лет) отец, как и обещал, собрал нас в дорогу. Огромный чемодан с подарками, беременная мама, на руках маленький Шамиль, еще какие-то тяжелые сумки… Мы стоим на перроне в Караганде. Однако чеченку в связи с указом не пускают в вагон. Аязбай ходил куда-то, разговаривал с кем-то и ,наконец, нам разрешили сесть в поезд. Очень мрачный плацкартный вагон, много народу, особенно детей. Ехали долго – 7 дней до Москвы, потом пересадка на другой поезд до Грозного на другом вокзале. В Москве именно в это время проходил Фестиваль молодежи, народу тьма. Как мы только добрались, одному Богу известно!
С грозненского вокзала на попутном грузовике доехали сначала до села Самашки и потом до Ачхой Мартана. Была уже ночь, водитель довез до какого-то места и выгрузил нас с вещами. Темень полная, тишина, мама с нами стоит посреди улицы и растерянно говорит вслух: «Все. Дальше не помню куда идти». И устало садится на чемодан. Вдруг из-за соседнего забора кто-то нас окликнул. Оказалось, ее слова случайно услышали… родственники. Были радостные крики, плач, объятия… опять слезы.
Я хорошо запомнила первое утро после утомительного путешествия, особенно необычайно насыщенные запахи созревших фруктов. Здесь было столько солнца, плодородной земли, журчащих арыков. Дома, в Караганде – суровый климат, земля, в основном, не плодородная, зелень скудная, фруктов вообще нет. На этом фоне Кавказ был раем на земле. Махмуд заново отремонтировал дом и начал строить новый. Электричества не было, воду носили из речки.
Вот так, погостили мы две недели в Чечне, а потом вернулись назад домой… в Казахстан.
ПАПИН СЫН
За время нашего отсутствия отец продал дом на горке и купил другой – на два входа, просторнее и теплее. Перевез вещи и ждал нас. В начале 60-х годов братья Шахид, Леча и племянник Абдулвахид в поисках работы вернулись в Казахстан и переехали к нам в Корнеевку. Поселились во второй половине дома и жили на полном содержании Аязбая. Дикбер каждый день сначала кормила их, а потом своих детей. Отец устроил их в сельпо на престижные, по тем временам, должности. Одного – заведующим магазином, второго – заведующим торговым складом. Помогал им во всех их делах и многих деликатных проблемах.
Шахид, младший из родных братьев Дикбер, был с детства очень беспокойным ребенком, дерзким и непослушным. Вырос в красивого парня, высокого, стройного. Женился он очень рано и, во-многом, случайно.
В те годы чеченцев в армию не призывали, они считались неблагонадежными, и сразу после школы Шахид начал работать на шахте. Ему уже исполнилось 18 лет (он поздно пошел в школу) и парень часто ходил на молодежные вечеринки чеченской диаспоры «Ловзар». Однажды он на спор с друзьями схватил за руку дочь одного уважаемого чеченца. Дерзкий спорщик, прямо как его отец. Девушку звали Аби. Она была ученицей 10-го класса. Высокая, худощавая, обычная, словом. А, как мы знаем, засматриваться на девушек у чеченцев не принято, притрагиваться нельзя, а уж нарочно схватить за руку считается нанесением оскорбления даже не столько девушке, сколько всей ее родне. Такое могло закончиться миром, только, если он возьмет ее замуж. Скандал кое-как уладили, а Шахида… женили. Он прожил с Аби до конца жизни. Как она переносила все его выкрутасы – непонятно, но родила ему пятерых детей.
Когда Азябай устроил Шахида на работу в Корнеевку, в сельпо, заведующим складом, парню совсем вскружила голову такая «хлебная должность». Однажды вечером, после получки, хорошо отметив это дело в какой-то компании, онподрался с соседом-казахом Мукушем. Да ладно бы просто подрался. Он умудрился ранить того ножом в бок. Аязбаю тут же об этом сообщили, они с Дикбер помчались на место событий и, не теряя времени, привезли раненого к себе домой, заперли в чулане и куда-то ушли. Дома остались дети – мал-мала меньше. Мукуш жутко их перепугал: орал, топал, бился в дверь, весь в крови, а они попрятались по углам и боялись дышать. Через какое-то время отец с матерью вернулись, обработали и перевязали рану, уложили раненого спать. Утром Аязбай поговорил с ним с глазу на глаз. Сказал, что с милицией все решил, но им с Шахидом нужно помириться, чтобы тот не угодил в тюрьму. И действительно. Они заключили мир и подружились настолько, что когда у Шахида родилась двойня – Хасан и Хусейн, он пообещал одного сына отдать бездетному Мукушу. Ушел, стало быть, в другую крайность. Тогда Аби вызвала Махмуда из Караганды. Он приехал, закрылся в доме с Шахидом и так отлупил своего сына солдатским ремнем с пряжкой, что тот не только навсегда забыл о своем решении, но и на долгое время превратился в тихого, мирного отца и мужа.
Наверное, мальчишки любой национальности, независимо от возраста, совершают «страшные» проступки, которые по прошествии времени кажутся забавными и пересказываются по многу раз. Как то раз старшие из пяти моих братьев – Закир, Шамиль и несколько соседских пацанов, спрятались за огородом в густой траве и решили впервые покурить. Бычки насобирали возле столовки. А прятались они не только от взрослых, но и от своих младших братьев, в надежности которых сильно сомневались. Но Камал, третий брат, их все-таки выследил.
– А мне дадите курнуть? – неожиданно нарисовался он за спиной ребят.
– Ага, иди отсюда, щас получишь у меня, – отогнал его старший Закир. Обиженный Камал пришел к матери и говорит:
– Мам, а они мне курнуть не дали.
– Чего? Курнуть?! – Дикбер чуть не поперхнулась чаем. – Кто там курит? Где они?
Взяла мать самую длинную палку во дворе и, спотыкаясь, рванула за огород. Камал бежал рядом и показывал, куда они спрятались. От ее крика мальчишки мигом побросали окурки, спички и почесали в разные стороны. Зная характер матери, сыновья надолго забыли игру с сигаретами.
Но, все равно их она баловала больше, чем дочерей. Нас, девчонок, мать держала сурово. В доме всегда много работы – большая семья, отец без руки, частые гости, огромное хозяйство. Даже учить уроки не было времени. Я, как старшая, несла самую большую нагрузку, поэтому и училась кое-как. С 10 лет доила коров, купала и стригла младших братьев, стирала и всегда думала: «Вот почему Любка, моя подруга, после школы может поспать, поиграть, а я никогда не могу?»
В своих детских размышлениях я приходила к выводу: «Отец без руки – виновата война! Мама вышла за него – виновата война. Кто затеял войну? Гитлер!»
Виноватым во всех моих детских бедах был Гитлер.
ВОРОВКА
Рождение у Дикбер детей, одного за другим, не давало покоя второй жене Аязбая. Я была в 6-м классе, мать тогда часто ездила в Караганду к родственникам. Именно в такие дни приезжали дочери от Меиз. Особенно часто навещала нас Айман. Она была студенткой мединститута, и отец помогал ей деньгами. Однажды после очередного ее визита Дикбер обнаружила, что все подушки и пуховые перины надрезаны и грубо, наспех зашиты.– Зайнаб, мен жоқта жастықтардағы жүнді ұрлатып қойып, ай қарап жүрсің бе? (Зайнаб, ты куда смотришь? Кто-то воровал пух из подушек в мое отсутствие!)
Кто мог тогда подумать, что развязка этой истории произойдет лишь через пять лет.
В 1965 году Дикбер вдруг тяжело заболела. Опухли руки и ноги до такой степени, что она не то что ходить – с постели не могла встать. Никто не мог поставить диагноз, думали, что она умрет. Махмуд забрал ее на Кавказ, чтобы, в случае чего, там похоронить. Не зная, как помочь, родственники в отчаянии решили показать ее одному целителю. Тогда такие вещи строго запрещались властью, можно было даже получить статью. Но случилось так, что род целителя оказался, так называемым, «кровником» дедушкиному роду, то есть за ним была не отомщенная, по строгим кавказским законам, смерть. Знахарь согласился посмотреть маму, за это ему пообещали простить давнюю обиду. Он посмотрел и сказал, что наведена порча на смерть. Описал не только женщину, которая могла это сделать, но и предметы, которые могли быть в перинах и подушках. Дал какой-то раствор в бутылке, чтобы пить понемногу для выздоровления.

Удивительно, но мама начала поправляться, приехала домой, созвала всех отцовских родственников, соседей и при всех начала потрошить перины и подушки. Если бы я не видела сама, никогда бы не поверила. Кости птиц, когти, сломанные металлические гребешки буквой «М», какие-то нитки, перемотанные клубками… Страшноватого мусора набралась целая совковая лопата. Все это нужно было сжечь подальше от дома и закопать. Люди были поражены, пошли разговоры: кто мог это сделать? Для селян ответ был на поверхности.
«Очевидно,– судачили они. – Несколько лет назад в дни отъезда Дикбер в Караганду и были подложены эти заговоренные предметы».
Слухи обо всем этом быстро дошли до Меиз. Она запаниковала и на всякий случай написала заявление в прокуратуру о том, что ей угрожают чеченцы. Хотя никто никого не обвинял и тем более не запугивал. Мало ли чего там полуграмотные женщины напридумывали? Однако, жители села еще долго с упоением пересказывали друг другу эту историю, которая со временем обросла совсем уж невероятными подробностями. По этим рассказам несчастная Айман – старшая дочь Меиз, которая приезжала в отсутствие чеченки, к концу жизни сошла с ума. Совсем в духе гоголевских произведений.
Я лишь одно могу подтвердить точно. После всего произошедшего мама быстро восстановила свое здоровье. И, несмотря ни на что, мы прекрасно общались и с Меиз, и с ее детьми, как обычные родственники. Без обиняков и взаимных претензий.
ОТЕЦ
А отец, конечно, был настоящий добытчик. Все, что нужно было для семьи, он возил мешками, коробками, ящиками, машинами. Обычно Аязбай просыпался рано утром и, как многие селяне, шел к сельской конторе, где обсуждались последние новости из жизни колхоза. Чуть позже просыпались восемь его детей. Дикбер после утреннего намаза и дойки коров готовила завтрак на 10 человек. Все уже садились завтракать, и тут в кухню обычно заходил отец. Дикбер изумлялась: «Аяке, сен дастарқаннан қалмай, үнемі дәл үстінен түсесің… (Аяке, ты никогда не опаздываешь. Всегда вовремя приходишь ко столу!)Кто-нибудь из старших детей обязательно бежал помочь помыть ему руку с мылом, и все садились за стол. Отец не спеша рассказывал новости, тут же обсуждались все домашние дела и планы. Могли и разругаться: супруга вспыхивала, как спичка, бывало раскричится, заплачет. Он молча допивал чай и уходил по делам. Всегда спокойный, с цепким, проникающим взглядом. Говорил мало, но убедительно. Широкоплечий, немного полноватый, ходил он неторопливо, смеялся тихо себе в усы, никогда не слышала я от него громкого смеха и брани. Самое страшное ругательство Аязбая: «Ай якори, сволыш!» Соседи, родственники часто обращались к нему за советом по разным делам. Он всегда внимательно слушал каждого, и всегда у него наготове было дельное, а то и весьма оригинальное решение.

Так как левой руки у него не было, а дома по хозяйству было много мужских дел, любому гостю предлагалось «подержать гвоздь». И вот так, иногда до самого ужина, они занимались какой-нибудь работой по дому. При этом Аязбай мастерски рассказывал разные истории, он знал наизусть множество историй из казахского героического эпоса. Цитировал наизусть сказки из «Тысячи и одной ночи» приглашенным гостям, да так, что те заслушивались, раскрыв рот. А гости часто были люди непростые: председатели, прокуроры, судьи… Такие знакомства помогали решать, порой, самые безнадежные вопросы.
В селе возле клуба стоял универмаг. Большие массивные двери и огромные окна у всех местных детей создавали ощущение, будто попал в сказочный мир. Заходишь, а там есть все: одежда, игрушки, цветные карандаши, продукты питания – магазины тогда были смешанного типа. Заведующей много лет была женщина по имени Тоня. Она казалась сказочной царицей, владелицей несметных богатств – пухлощекая, уверенная, крикливая.
Однажды по селу прокатилась шокирующая новость: универмаг ограбили! Причем воры проникли не через дверь или окно, как обычно бывает, а через крышу. Для небольшого села, где происходит не так много событий, это был шок. Приехали следователи из райцентра, магазин опечатали, начались допросы. Я пришла из школы раньше обычного. Бросила портфель, зашла в комнату и вижу: сидит эта «царственная» Тоня, плачет и громко сморкается.
– Аязбай, помоги мне, прошу тебя, помоги!
Тот внимательно выслушал ее объяснения, покачал головой, начал ее успокаивать. Из разговора я поняла, что в результате расследования кражи подозрение пало на саму заведующую магазином Тоню. Якобы, с целью сокрытия недостачи. Потом приходил ее муж. Они говорили с Аязбаем, который долго не соглашался, но потом, видимо, решил помочь. Он поочередно встретился со следователем, с судьей, и с прокурором. В конце концов, Тоня покрыла убытки магазина и осталась на свободе.
ПАМЯТЬ…
В последние два-три года своей жизни отец стал заметно сдавать. Спал сидя, задыхался от сердечной недостаточности. Сельская больничка не могла ему ничем помочь, а в райцентр он ехать отказывался, времени не было. Все бегал по дела и работал, работал, работал до конца дней…Однажды вечером Аязбай посадил Дикбер напротив себя и завел разговор о своей жизни, о прошлом и в конце сказал:
– Марьям, мы прожили с тобой двадцать пять лет. У нас восемь здоровых и красивых детей. Нас свел сам Бог, а не какой-то блуд или случайность. Тебя, с такого далекого Кавказа, и меня здесь, соединить мог только Всевышний. Хоть я и гожусь тебе в отцы, ты была верной, хорошей женой, уважала меня, даже полным именем не называла и не стыдилась моей инвалидности. Я благодарен тебе за все. А за страдания, которые причинил тебе вольно или невольно, ты меня прости.
Мама удивилась и оборвала этот разговор: – Сен шал, өсиет айтып кеттің ғой? Қоштасып жатқаннан саумысың? Ал, балаларды кім асырап-өсіреді? (Ты что, старик, надумал? Как будто прощаешься. А детей наших кто поднимать будет?)
В декабре папа заказал себе памятник из арматуры и бетона, надписал камень без даты кончины, приготовил лом, наточил лопаты. Дикбер возмущалась, сердилась, а он точно знал, что это скоро понадобится. Он всегда все знал наперед и говорил: «Мужчины нашего рода долго не живут».
В самом конце 1969 года Аязбай Кудабаев умер. Как же ему, наверное, хотелось жить, поднять детей. Возраст, когда еще полно желаний. Жаль… Он так много знал, многому мог научить, но так рано умер. Спасибо матери за ее мудрость в нашем воспитании. Мы с детства по сей день с радостью общаемся со всеми нашими братьями и сестрами от других жен отца. От трех браков у него родились 16 детей.
Насколько ему были благодарны люди, которых отец спас от смерти, стало понятно потом, через долгое время. Как говорится, большое видится издалека.
В 1963 году он как-то поехал в Чечню в гости к Махмуду с Кели. В первые дни после приезда он шел по улице, навстречу попалась какая-то женщина, которая сначала прошла мимо, а потом окликнула его. Она подошла к нему и прямо посреди пыльной дороги встала перед ним на колени. Аязбай смутился и попытался поднять ее одной рукой, а она плакала, благодарила его сквозь слезы:
– Если есть рай на том свете, то ты его заслуживаешь, Аязбай! Ты спас когда-то от голода нашу семью, и я никогда этого не забуду.
Эту женщину звали Сацита. Та самая чеченка, которая работала когда-то бок о бок с Дикбер на зерноскладе.
Таких людей, таких случаев было немало, пока мы, его дети, росли, взрослели. В разных местах нам встречались незнакомые люди, которые вспоминали отца с благодарностью. Через 30-40 лет после его кончины, когда мы бывали на родине в Караганде, приходили седые люди – аксакалы, чтобы просто поздороваться с детьми Аязбая. В 2016 году передавала пожелания долгой жизни его детям незнакомая чеченская семья, которой когда-то помог Аязбай Кудабаев.

После его смерти Дикбер с детьми, по настоянию отца Махмуда, переехала в Чечню и поселилась в его доме в Ачхой Мартане. Дети пошли в местную школу. Один из младших братьев, Камал, учился тогда в 5-м классе. И однажды учитель, услышав его фамилию, расспросил его, откуда он приехал. В классе повисла пауза. Учитель прервал урок и начал рассказывать детям об отце Камала, с которым был знаком, каким добрым и благородным был Аязбай. Совсем уже седого учителя звали Шепа.
В 1972 году перед своей кончиной дедушка Махмуд собрал всех детей, снох и завещал своей любимице Дикбер свой дом, корову и имущество. Но, к большому сожалению, мать не смогла жить в Ачхое. Мальчиков постоянно дразнили, каждый день из школы они приходили с синяками. Дети бывают жестокими, а ребенок другой национальности часто становится объектом насмешек. И Дикбер приняла решение переехать в станицу Червленая, где жили люди разных национальностей – ногайцы, терские казаки, кумыки и другие. Там купили маленький дом и стали жить. Ей было очень трудно одной. 6 детей школьного возраста, всех нужно кормить, одевать. Крутилась, как могла. Сажала редиску и мешками возила на попутных машинах в Грозный, дотемна торговала, и так каждый день. Всех детей она подняла, все получили высшее образование, обрели семьи. 17 внуков и 25 правнуков увидела Марьям при жизни.
Как только не стало Махмуда, державшего всю свою семью твердой рукой, связь Дикбер с родными стала ослабевать. Ее братья и сестры обзавелись детьми, у каждого из них появились свои дела и заботы. Тогда впервые она почувствовала себя одинокой и никому не нужной в родных краях. Дети Аязбая так и не стали своими на Кавказе. Не найдя родственной поддержки, мои братья и сестры по одному вернулись и обосновались в Казахстане. Дикбер какое-то время пожила в Чечне, но разрушительная война в 90-х годах вновь вынудила ее покинуть родину и уехать к детям в Казахстан. Второй раз в жизни ей пришлось бежать, наспех повесив замок на ворота дома, который впоследствии был разграблен и разрушен. Так получилось, что Казахстан дважды становился ее вторым родным домом…
Если Махмуд был главой своей семьи по статусу, то его любимая дочь Дикбер стала дарительницей жизни по своему предназначению. Правда, она никогда не осознавала этого. Конечно, душевная травма у нее была – идеальных родителей не существует. И, возможно даже, мы развиваемся и растем именно благодаря несовершенству наших родителей.
Суровые национальные традиции, непростое время, трагические события – все это не прошло просто так для чеченки. Поэтому свою жизнь она оценивала не так, как эта жизнь на самом деле выглядит со стороны. Дикбер считала, что какие-то вещи делала неправильно, она чувствовала себя виноватой – по большей части безосновательно. Потому что ее все любили и уважали не только за то, что она была матерью, и не за то, что была женой всесильного Аязбая, но за то, что она в первую очередь была хорошим человеком. И прожила более, чем достойную жизнь бок о бок со своим мужем-казахом. Они в своих человеческих качествах были партнерами, достойными друг друга: не шли по головам, не душили чужие жизни, не доносили ни на кого, не обрекали людей на голодную смерть, а наоборот, помогали всем.
Его выбор Дикбер, как матери его детей и хранительницы очага был точен, а ее сон в вагоне по дороге в Казахстан стал пророческим. Поэтому он и назвал ее Марьям, понимая, какой крест она несет, сама того не осознавая. Сколько раз она молила Бога об освобождении, но Создатель к ней не прислушался. Вместо избавления смертью ей предстояло проснуться и жить, жить дальше.
Говорят, что Всевышний не может быть везде одновременно, поэтому он придумал матерей.
Такой я ее и запомнила – истинной матерью! *** – Мам, когда далнаш делают, творог кладут в начинку или необязательно?
– Не помню уже, забыла все. Да и не делала их давно.
– Ну мам, как это можно забыть?
– Не поверишь, Зайнаб, многое забыла, даже некоторые слова на чеченском. Редко говорю, не с кем… Я вот вспоминаю, как там на родине было. Вижу большую разницу с тем, как здесь, в Казахстане, живут. Почти каждый день кто-нибудь из снох или братьев твоего мужа приходит поздороваться, какие-то подарочки приносят, к себе домой часто приглашают без повода. Как-то все просто и приятно. Все время находишься в центре внимания, чувствуешь себя нужной. Казахи в этом отношении более открытые и простодушные. У нас на Кавказе народ сдержанный, нарушать спокойствие, приносить неудобства неожиданным приходом даже к родне считается невоспитанностью. Если приглашают гостей, то самый уважительный повод – это читать мовлид, чтение сур из Корана, религиозные песнопения. Я уже привыкла к казахским обычаям, и чеченские мне сейчас кажутся слишком строгими. Много условностей, много запретов.. Не говорю, что это плохо, некоторым народам это необходимо и там это выглядит уместно. Я просто отвыкаю от них…
Дикбер Кудабаева (Такаева) пережила всех родных братьев и сестер, а также четверых из восьми своих детей. Она свободно говорила на казахском, русском и чеченском языках, до конца жизни сохранила ясность ума, живые эмоции, желания, и лишь неизлечимая болезнь не дала ей перешагнуть 100-летний рубеж.
Аязбай Кудабаев 1900-1969 гг. Похоронен в Карагандинской области. Дикбер Такаева 1925-2016 гг. Похоронена в г. Алматы.
ЭПИЛОГ
Раннее летнее утро. Девочка, лет двенадцати, не спеша спускается по тропинке с горы. Одной рукой она придерживает глиняный кувшин, который удобно располагается на правом плече. Воздух уже нагрелся, и ей приятно касаться прохладного сосуда. Одно неосторожное движение, и холодные капельки воды сначала обжигают шею, а потом, нагревшись на коже, уже не чувствуются. Девочка идет первой, а вслед за ней идут в село несколько детей и три женщины. У всех такие же глиняные кувшины с водой из горной речки. Они весело переговариваются, смеются. Тропинка ведет через небольшую рощу, деревья высокие, ветвистые, и если поднять голову, то неба почти не видно, оно перекрыто сплошным потолком из широкой листвы. Еще немного, и роща заканчивается. Открывается изумительный вид на село.Вон там, с краю, как на ладони – родной дом. Девочка немного замедляет шаг, вглядываясь в каждую деталь. Вот двое ее братишек сидят в траве около ограды, у одного из них в руке палка, которой он бьет о землю. К ним подходят две женщины. Каждая из них несет по одному младенцу. Одна из них улыбается и обнимает ребенка. Тут девочка замечает своего отца. Он только что вышел из дома и у самой двери наблюдает за тем, как играют его дети.
«Дада!» – машет ему рукой девочка с горки.
Он ее замечает, улыбается и машет в ответ. Потом, счастливый, показывает на ее маленьких братьев. Из-за его спины выглядывает старшая сестра девочки. Отец ей что-то говорит, та смеется в ответ. Девочка, желая поскорее присоединиться к родным, ускоряет шаг и скрывается из виду, уходя вдаль, по петляющей среди буйной зелени тропинке.
Село просыпается, а солнце медленно ползет к своему зениту, обещая жаркий день…

Последние комментарии
12 часов 56 минут назад
17 часов 4 минут назад
17 часов 21 минут назад
17 часов 42 минут назад
20 часов 24 минут назад
1 день 3 часов назад