Комиссаржевская



ОТ АВТОРА
И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.М. Лермонтов
Для наших современников имя великой русской актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской (1864—1910) говорит, увы, не слишком много. Вероятнее всего, это связано с самой эфемерной фактурой сценического действа, которая подвержена неминуемому быстрому забвению. Невозможно удержать, сохранить в памяти — тем более в памяти потомков — интонации актёрского голоса, особенности мимики, специфику движений. Театральная реальность уходит бесследно и восстановлению не поддаётся. У историков театра существует такое понятие, как «реконструкция», но и она не воссоздаёт полного и достоверного впечатления от спектакля: неповторимая индивидуальная игра актёра через 100 лет после его смерти не может быть прочувствована, увидена, услышана, пережита. Так, ушли в небытие, оставив после себя только громкие имена, Екатерина Семёнова и Василий Каратыгин, Павел Мочалов и Михаил Щепкин, Эрнесто Росси и Томмазо Сальвини, Элиза Рашель и Анджолина Бозио, Элеонора Дузе и Вера Комиссаржевская... Между тем современники награждали Комиссаржевскую самыми громкими эпитетами, один из которых почти пушкинского масштаба — «Солнце России». Александр Блок писал о ней: «Все мы были влюблены в Веру Фёдоровну Комиссаржевскую, сами о том не ведая, и были влюблены не только в неё, но в то, что светилось за её беспокойными плечами, в то, к чему звали её бессонные глаза и всегда волнующий голос»[1]. Комиссаржевская была символом своей эпохи, ярким, осознанно воспринятым, объединяющим. Несколько поколений людей, видевших её на сцене, были заражены общим вирусом любви и преклонения. Эта книга о В. Ф. Комиссаржевской, безусловно, не первая её биография и не первая попытка понять, кем же была эта «чайка русской сцены» для своих современников, какое послание оставила она потомкам. Действительно ли можно говорить о ней только как о крупном явлении в театре эпохе модерна или в неправильных чертах её одухотворённого лица запечатлелось нечто большее? И, может быть, не случайно О. Э. Мандельштам начал свой очерк о Комиссаржевской общими размышлениями о веке: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени»?[2] На эти или подобные вопросы пытались ответить почти все историки театра, которые касались деятельности В. Ф. Комиссаржевской, и всякий раз возникал оттенок недоумения: актриса, которая оставляет главную сцену страны, где она уже добилась всенародного признания и настоящей славы, которая отказывается от самых выгодных и блестящих предложений ведущих режиссёров, которая в конце концов вообще бросает театр ради создания школы нового человека, — актриса ли это на самом деле? Ровно таким же вопросом задавался её современник, близко и хорошо знавший её человек, актёр А. А. Мгебров: «Строго говоря, Вера Фёдоровна была даже не актриса в узком смысле этого слова. Она не умела перевоплощаться в ролях, не умела создавать вполне законченного рисунка, как это делала, например, Савина; во всех ролях она казалась почти одинаковой: менялось платье, причёска, изменялись слова и ритм, но всегда оставались глаза, улыбка, глубоко страстный, трепетный, грудной, ей одной присущий, голос... И во всех ролях неизменно были места и мгновения, когда звучал, обнажённый до исступления, хотя и укрытый за сценической формой её протест. Это был глубокий, мучительный, страстный протест во имя любви до одержимости, по-видимому не покидавший её ни на мгновение...»[3] Эта странность, которая, казалось бы, должна насторожить зрителя, если не оттолкнуть его, была скорее тем исключительным качеством, которое невероятно привлекало к Комиссаржевской сердца современников. В ней чувствовали искренность, в её протесте было что-то родственное эпохе, её игру зачастую не воспринимали как сценически условную; казалось, во всех своих ролях она делилась с публикой самым сокровенным, говорила о себе самой. Известный театральный критик А. Р. Кугель, при жизни Комиссаржевской порой сурово отзывавшийся о её работах, после её смерти написал: «В поклонении Комиссаржевской, в “обожании” её было неизмеримо больше человеческой ласковости, любви и преданности, нежели собственно эстетической благодарности за дары искусства. Искусство Комиссаржевской не заключало в себе ничего ослепительного и исключительного. У неё не было стиля, строгой гармонии, она не обладала высоким мастерством. Нередко в её голосе, в драматическом её пафосе чувствовались болезненные нотки, какая-то правда почти физического страдания. С точки зрения искусства, которое страшится натурализма, это было порой просто дурно. Но именно тогда толпа особенно обожала Комиссаржевскую»[4]. Комиссаржевская была зрительским идолом, ей поклонялись, за ней следовали восторженные толпы, она была исключительно современна. Как писал тот же А. Кугель: «В ней не было ни капли классичности, и она терялась — буквально — когда надевала костюм Маргариты или Дездемоны»[5]. Но в чём состояла тайна этой популярности, если не в сценическом мастерстве? Чем так приковывала к себе эта не очень уверенная в себе, болезненная, маленькая женщина с вечным вопросом во взгляде, с «плоской спиной курсистки»? Попытка дать ответы на эти и другие загадки здесь будет предпринята.
Казалось бы, успех задуманного предопределён личной историей. Так случилось, что В. Ф. Комиссаржевская приходится автору этой книги двоюродной прапрабабушкой — родство далёкое, но ощущаемое через прошедшее столетие. Её фотографический портрет, помешавшийся на стене нашей советской квартиры в дни моего детства, долго воспринимался мной как портрет моей мамы — это сходство очевидно и по сей день. В Ленинграде и Москве жили немногочисленные родственники — все очень пожилые люди, — носившие эту прославленную фамилию. В их скудном, разворованном революцией и войной хозяйстве ещё хранились материальные свидетельства жизни той, кого все они безоговорочно считали яркой звездой мирового значения на скромном горизонте семейной истории, а между собой называли по-домашнему «Верочкой». Старушки Комиссаржевские (они приходились Вере Фёдоровне двоюродными племянницами) успели рассказать о ней много легендарных историй; я была одной из слушательниц, правда, увы, в таком возрасте, который не способен сберечь для будущего позитивистское зерно. После смерти этих последних природных Комиссаржевских хранившиеся у них вещественные крупицы были утрачены, рассказанные ими истории спутаны и частично забыты. Не стоит упускать из внимания ещё и особенности эпохи 1970-х, когда о многом безопаснее и привычнее было умалчивать, поэтому даже сохранённое в памяти поражает обилием лакун и нестыковок, которые, видимо, настало время залатать. Одним словом, семейная близость к В. Ф. Комиссаржевской, заботливо сопровождавшей меня с детства и теперь требующей моего отчёта, не облегчает стоящую передо мной задачу, а наоборот, во многом её осложняет. Эту сложность придётся преодолевать соединением и наложением добытых архивных материалов, эпистолярных и мемуарных свидетельств с теми сведениями, порой ничем и никак не подтверждаемыми, которые кажутся мне тем не менее заслуживающими внимания и которые исходят из глубин семейной памяти. И хотя облик моей героини неминуемо получится субъективным — не фотографией, а, скорее, портретным изображением, но остаётся надежда, что субъективность эта будет искуплена искренним стремлением автора к фактической правде и психологической достоверности. Ошибки на этом пути, конечно, возможны. Важно заметить, что в мои задачи не входит создание ещё одного мифа о Комиссаржевской. Сознательное же стремление к демифологизации никак не связано с намерением развенчать великую актрису или уличить в недобросовестности исследователей её жизни и творчества. Уважение, восхищение и любовь, которые я привыкла испытывать к ней с детства, возможно, позволят мне заглянуть за тот плотный занавес, которым скрыт её реальный образ от взгляда потомков, и понять, почему её имя и жизнь превратились в прекрасную и горькую легенду об идеальном существе, доставившем на землю огонь высокого дарования и не нашедшем себе места среди людей.
Сердечную благодарность выражаю всем, кто сопровождал меня на этом исследовательском пути. Прежде всего, Ольге Николаевне Купцовой, моему неизменному проводин ку в мир театра, подарившей этой книге часть своей жизни, и Юлии Петровне Рыбаковой, крупнейшему исследователю биографии и творчества В. Ф. Комиссаржевской, помогавшей мне ориентироваться в архивном пространстве, лично снабжавшей ценными документами и всегда благосклонно отвечавшей на мои бесчисленные вопросы. Горячо благодарю также за энергичную дружескую и профессиональную поддержку Светлану Борисовну Потёмкину и Донателлу Гаврилович, благодаря усилиям которой мне посчастливилось отправиться с Комиссаржевской в Италию для встречи с Элеонорой Дузе в 2015 году. Особая моя благодарность — моей маме Ирине Львовне Соловьёвой, живой хранительнице семейного предания, и всей моей семье, посильно помогавшей мне вспомнить то, что, казалось, забыто навсегда.
«Я ВСЕГДА БУДУ ЖИТЬ »
Он вспоминал то время, когда глотал биографии великих людей, стремясь поскорее добраться до описания их смерти. В ту пору ему страстно хотелось знать, что могут гений, величие, чувствительность противопоставить смерти.Альбер Камю
10 февраля 1910 года в Ташкенте, после двух недель мучительной болезни, перед самым концом внезапно отступившей, а потом столь же внезапно возвратившейся, скончалась Вера Фёдоровна Комиссаржевская. Её смерть явилась неожиданным финалом, прервавшим, как казалось, активное развитие интриги. Незадолго до своего трагического появления в Ташкенте она приняла никому не понятное и в общем никем не одобренное решение — покинуть сцену. «Я ухожу потому, — объясняла она 15 ноября 1909 года в своём открытом письме труппе, — что театр в той форме, в какой он существует сейчас, — перестал мне казаться нужным, и путь, которым я шла в исканиях новых форм, перестал мне казаться верным»[6]. Идея создания театральной школы захватила её и волновала тем сильнее, чем более отчётливо она чувствовала тупик своей сценической деятельности. Перед труппой она обязывалась довести до конца намеченные гастроли, которые географически охватывали огромные российские пространства. «Еду за счастьем!»[7] — декларировала она. Из Харькова, где режиссёр А. П. Зонов по поручению Веры Фёдоровны огласил её открытое письмо, труппа перебралась в Полтаву, затем — Екатеринослав, Ростов-на-Дону, Тифлис, после небольшого перерыва в середине декабря — Баку, Ашхабад, Самарканд, Ташкент... 19 января, вскоре после приезда в Ташкент, неизвестная болезнь свалила двух актрис из труппы, днём позже — двух актёров и парикмахера. Диагноз поставили только через неделю — 26 января доктору М. И. Слониму стало очевидно, что болезнь, настигшая труппу Комиссаржевской, — оспа. В тот же день вечером по программе гастролей шёл спектакль по пьесе Г. Зудермана «Бой бабочек», и с первыми признаками болезни Вера Фёдоровна всё-таки вышла на сцену и отыграла всю пьесу до конца в сложнейших условиях, когда почти половина исполнителей была экстренно заменена. Уехала из театра уже в сильном жару. Несмотря на неоднократное привитие оспы (а может быть, как раз вследствие этого), болезнь развивалась очень быстро, жар не спадал в течение недели. Однако 2 февраля наступило долгожданное облегчение. Несмотря на потерю сил, отсутствие аппетита — естественные результаты тяжёлого заболевания, у близких появилась и крепла надежда. Уже велись разговоры о возможном продолжении гастролей, о скором возвращении Комиссаржевской к делам. Но улучшение длилось только несколько дней. В ночь на 9 февраля наступила резкая перемена к худшему: вновь сильный жар, оспа приняла самую опасную — гнойную — форму, начался сепсис, отказали почки. Консилиум врачей признал, что положение безнадёжно. Очень страшно описывают свидетели её последние часы. С их слов А. А. Дьяконов запишет: «Вновь сильнейший жар... Назревшая оспенная сыпь обнаруживает под собою страшное количество гноя... Малейшее движение — нечеловеческая боль... Вера Фёдоровна теряет сознание... Гной, сходя с тела, срывает его покровы. <...> Ночью страшное разрушение тела продолжается... Омертвели ткани туловища, рук и ног... К утру деятельность пульса прекратилась. <...> Рассказывают, что Вера Фёдоровна ещё накануне вечером, когда пришли врачи — с неистовою силою, в исступлении воскликнула: — Довольно! Довольно! Довольно!»[8] А ведь совсем незадолго перед тем она говорила с уверенностью, которая поражала многих: «Я всегда буду жить». Она «думала в то время не о жизни в памяти людей, не о бессмертии своего искусства (об этом она никогда не думала), атакой каталось, что она живая — такая, какая она есть — не может перестать быть*[9]. На следующий день, 10 февраля 1910 года, Вера Фёдоровна скончалась. Случившееся было абсолютной неожиданностью даже для родственников, ободрённых недавними сообщениями об улучшении состояния больной. А для широкой общественности извещение о смерти Комиссаржевской было подобно грому: 45-летняя актриса, находившаяся в расцвете своего таланта, энергичная, полная планов, внезапно умерла от неведомой болезни на окраине империи. Как выразился А. Р. Кугель, «есть что-то беспощадно злое, как трагикомическая маска, в том, что Комиссаржевская скончалась в Ташкенте от оспы. Почему оспа? Именно оспа? Почему Ташкент? Именно Ташкент? Что за странные, что за обидные, глумливые сочетания! “Бальзак венчался в Бердичеве”, — повторяет беспрестанно один из чеховских героев. Бальзак венчался в Бердичеве; Комиссаржевская умерла в Ташкенте от оспы. В этих подробностях кончины словно нашла завершение вся иррегулярная, своеобразная мятущаяся жизнь Комиссаржевской»[10]. Её брат Ф. Ф. Комиссаржевский писал о том же: «Вера <...> умерла одиноко, во время своей последней гастрольной поездки, вдали от семьи и друзей, по ту сторону Каспийского моря, в азиатском городе Ташкенте, сломленная ужасной болезнью — чёрной оспой, которой она заразилась на Самаркандском базаре»[11]. Оспа была не только мучительна в самом примитивном, физическом смысле, она доставляла умирающей ещё и дополнительные психологические страдания, связанные с искажением её внешнего облика. Комиссаржевская очень трезво относилась к своей внешности и красавицей себя не считала, более того — говорила о себе с известной и иногда спасительной иронией. Тем не менее брат запомнил и впоследствии записал её фразу: «Ничто не заставит меня отчаяться и потерять мужество, кроме ужаса стать безобразной»[12]. Во время последней болезни она, конечно, поневоле думала об этом. Владимир Афанасьевич Подгорный, актёр труппы, раньше её заразившийся оспой, вспоминал: «7 февраля я вышел из больницы. Мне сказали, что в этот день Вере Фёдоровне стало значительно лучше. Беспокоились лишь за то, что болезнь может оставить следы на её лице. Опасность для жизни миновала. На другой день я купил цветов и отправился навестить её, хотя я знал, что не увижу. Она распорядилась, чтобы никто не видел её во время болезни: в тот день, когда она почувствовала, что оспа стала высыпать на лице, она позвала к себе Зонова и попросила его больше не входить в её комнату и никого не впускать к ней, кроме врача и сестёр, ласково простилась с ним и прибавила, что в случае плохого исхода она просит его сделать так, чтобы никто не увидел её мёртвой»[13]. Это распоряжение было выполнено в точности. По существовавшим тогда карантинным правилам тело Комиссаржевской нужно было захоронить на месте смерти, в Ташкенте. Однако официальные препятствия были преодолёны, и двойной плотно закрытый гроб всё же доставили в столицу — уж очень несправедливым казалось всё происшедшее, чтобы добровольно отказаться от доступной для поклонения могилы, осязаемого знака памяти. Ф. Ф. Комиссаржевский, много лет проживший в Лондоне, вспоминал впоследствии: «Когда гроб с телом Веры привезли из Ташкента в Петербург, встречавшая его толпа была так велика, что могла бы заполнить собой Трафальгарскую площадь, Стрэнд и Уайтхолл»[14]. Пресса с ужасом внезапной потери и болью скорби писала о происшедшем: «Дружный взрыв искренней печали, охвативший печать русскую, с давно неслыханною силою, — этот долгий по сроку, но короткий по выражению (я не читал ни одной “длинной” статьи о Комиссаржевской) надгробный вой, в котором то и дело различаешь голоса, давно отвыкшие от какой бы то ни было впечатлительности, — явление совершенно исключительное. Этого даже после смерти Чехова не было»[15].
Глава I РОДИТЕЛИ
Фёдор Петрович Комиссаржевский (1832—1905)
Род Комиссаржевских берёт своё начало на украинской земле, где близость западной, воспринятой через Польшу культуры чувствовалась исконно сильнее, чем в глубине России. Кажется, что эта близость отразилась в самой фамилии этой разветвлённой и чадолюбивой семьи, которая мелькает в архивных документах Волыни по крайней мере с рубежа XVIII—XIX веков. Среди потомственных дворян Волынской губернии фамилия Комиссаржевских не значится[16], о чём можно догадаться и из скупых фактов семейной истории. Сама фамилия представляет загадку: не только с точки зрения её происхождения, но даже и — написания. В XIX веке она зачастую писалась с удвоением двух согласных: «м» и «с». Вера Фёдоровна, как известно, любила именно эту, артистически усложнённую форму своего имени и хотела видеть его на афишах в таком написании: Коммиссаржевская. Очевидно, что в основании фамилии латинский корень: commissarius — означает «уполномоченный», выполняющий особые поручения. Как поясняет Этимологический словарь М. Фасмера, в Россию это слово попало в XVII веке через немецкий язык (Kommissar). Как видим, в латинском (и немецком) оригинале оно действительно снабжено удвоенным «м». В русском языке это слово, однако, писалось по-разному, и твёрдое правило установилось только в XX веке — после тех событий, которые вывели его в несомненный «топ»: революции и Гражданской войны. В Словаре В. И. Даля «комисар» написано вообще без удвоений, и значение его определяется как «смотритель, пристав, приказчик», «заведующий припасами». В этой книге фамилия её героини будет писаться по современным правилам русского языка — Комиссаржевская. О значении и происхождении фамилии нужно сказать ещё несколько слов. Наши скудные знания и догадки о далёком прошлом семьи уводят в самое начало XIX столетия. Жившая в Волынской губернии (вероятнее всего — в Почаеве) православная семья Комиссаржевских только-только вышла из мещанского сословия. Нам почти ничего не известно о старших членах этой семьи, история сохранила только имя Пётр, которое принадлежало отцу пятерых сыновей: Фёдора, Дмитрия, Модеста, Семёна и Владимира, — и его звание. Пётр Комиссаржевский имел чин коллежского регистратора и служил канцеляристом (секретарём) при Волынской духовной консистории. Духовная консистория была крайне маленьким учреждением, состояла из четырёх членов и секретаря[17]. Коллежский регистратор — самый низший (XIV) чин по Табели о рангах — присваивался людям, вступившим на путь государственной службы из «низов», зачастую имевшим лишь начальное образование. До 1845 года он давал право на личное дворянство, однако дворянские права регистраторов были ограничены. Если они происходили не из потомственных дворян, то не могли покупать деревни и владеть крепостными. Собственно, от дворянства оставался только почёт — коллежский регистратор титуловался «Ваше благородие». Отрывочные сведения говорят о том, что трое из пяти названных братьев Комиссаржевских учились в Волынской духовной семинарии, крупном (более шестисот учеников) образовательном учреждении Украины. Семинария была открыта 14 мая 1796 года в городе Остроге, где в Преображенском монастыре размещалась архиерейская кафедра. В 1831 году архиерейский дом и консистория были переведены в Почаевский монастырь. Существовал проект перевести туда же и семинарию, но вместо этого 6 апреля 1836 года она переместилась в город Кременец, в здания бывшего польского лицея графа Чацкого[18]. В списках выпускников находятся имена Семёна Петровича Комиссаржевского, закончившего семинарию в 1847 году по второму разряду, Владимира Петровича Комиссаржевского — в 1851 году по первому разряду и Фёдора Петровича Комиссаржевского, выпускника 1853 года по второму разряду. То, что такое количество молодых представителей семьи выбрало духовное поприще, говорит о многом. Прежде всего о том, что семья исторически связывала с ним своё существование. Такой массовый выбор семинарии как способа получения образования мог быть оправдан именно традицией рода. Вероятно, и тут мы можем только предполагать, кто-то из предков названных выше пяти братьев Комиссаржевских подвизался в священническом служении или, по крайней мере, тоже учился в семинарии. Сама фамилия, содержащая польскую огласовку (в польском языке перед некоторыми гласными звук «р» читается как «ж», а в написании остаются обе буквы: «rz»), как кажется, имеет искусственное — семинарское происхождение. «Заведующий припасами» — продовольственными или вещевыми, хранитель склада, по-военному «интендант» — должность почётная и необходимая при любом ведомстве, в семинарии столь же актуальная, как и в армии. Кроме того, профессиональная деятельность отца семейства была тесно связана с церковью. И хотя Пётр Комиссаржевский не имел никакого сана, он был плотно включён в дела епархиального управления и его повседневную жизнь, далёкую от светской. Оговоримся, что окончание духовной семинарии совсем не означало обязательного продолжения образования в том же направлении, хотя лучшие ученики направлялись после семинарии в Киевскую духовную академию. Но можно было выбрать и светскую карьеру, даже поступить в университет. Многие из выпускников так и делали. Хотя были и те, которые не отказывались от служения, принимали постриг или рукополагались в священство. В любом случае выпускники семинарии в середине XIX века — это тот, постепенно становящийся довольно многочисленным класс людей, которые скоро вольются в новое разночинское сословие, составившее впоследствии основу русской интеллигенции. Историк свидетельствует: «Выпускники семинарий, выходившие из духовного ведомства, шли на службу в различные светские учреждения, другие учительствовали в начальных духовных или светских учебных заведениях, третьи — продолжали учёбу в высших учебных заведениях, по окончании которых некоторые из них стали известными учёными, педагогами, писателями, государственными и общественными деятелями»[19]. Из трёх братьев, окончивших семинарию, ни один не пошёл по пути церковного служения. Владимир Петрович Комиссаржевский, выказавший особенную ревность к учёбе и заслуживший самый лестный отзыв при выпуске, впоследствии, словно реализуя метафору, скрытую в собственной фамилии, служил в интендантском ведомстве в Варшаве. Про Семёна Петровича, учившегося, наоборот, не слишком прилежно, достоверно ничего не известно, кроме того, что он жил и умер в Харькове скромным чиновником. С сыном Семёна Петровича, Семёном, дружила и всегда с удовольствием встречалась во время своих странствий по России его двоюродная сестра Вера Комиссаржевская. Обманул ли ожидания родителей третий сын, Фёдор Петрович Комиссаржевский, избравший после окончания семинарии не только путь светский, но и крайне ненадёжный, непредсказуемый, мы не знаем. Но именно его ожидали настолько блестящая карьера и настолько громкая слава, что фамилия скромной малороссийской мелкочиновной семьи Комиссаржевских стала всемирно известной. О юном Ф. П. Комиссаржевском осталось немного сведений. Вот характеристика выпускника, данная ему в 1853 году, в год окончания Волынской духовной семинарии: «Фёдор Петрович Комиссаржевский, 21 г., из Варшавского Духовного училища, поступил в 1847 году, сын Коллежского регистратора, служившего при Волынской духовной консистории, Петра Комиссаржевского. Способностей хороших, прилежания достаточного, успехов хороших, поведения хорошего»[20]. Из этой краткой записи можно сделать несколько выводов. Во-первых, Ф. П. Комиссаржевский учился в Варшавском духовном училище — учебном заведении первой ступени и окончил его пятнадцатилетним юношей. Это означает, что семья его, скорее всего, жила некоторое время в Варшаве. Поскольку в духовных училищах обучение занимало шесть лет, Фёдор Петрович начал его девятилетним мальчиком. Вряд ли его отослали учиться в другой город, тем более в другую страну, если семья жила на Украине, где и своих духовных училищ было множество. Вероятнее всего, с Варшавой была в то время связана служба его отца Петра Комиссаржевского. С 1834 года на территории Царства Польского существовало православное викариатство Волынской епархии. Местом пребывания первого архиерея епископа Антония Рафальского была назначена Варшава. В 1840 году его усилиями было открыто Варшавское духовное училище, в 1841-м учеником в нём стал Ф. П. Комиссаржевский. Надо полагать, что отец его, чиновник консистории Волынской епархии, был в то время прикомандирован к её Варшавскому отделу, и вся семья переехала в Царство Польское вместе с ним. К сожалению, пока не удалось установить точного места рождения Ф. П. Комиссаржевского. Сам он в краткой анкете на вопрос о дне, годе, месте рождения и звании родителей отвечает: «17 февраля 1832 года. Чиновники. Киевская губерния»[21]. Н. Ф. Скарская, его дочь, утверждает, что Ф. П. Комиссаржевский родился «в деревне близ города Почаева», что кажется более вероятным, поскольку по долгу службы отцу семейства нужно было находиться при Почаевском монастыре, где с 1831 года разместилась консистория. Во всей справочной биографической литературе о Ф. П. Комиссаржевском на русском языке год его рождения указан как 1838-й, с ошибкой на шесть лет[22]. Откуда взялась ошибочная дата, неизвестно. Десятилетие после окончания Фёдором Петровичем семинарии, вплоть до 1863 года, полно загадок и чудесных превращений, в результате которых никому не ведомый Волынский семинарист стал всемирно известным оперным исполнителем, имя которого красовалось на афишах крупнейших оперных домов России и Европы. Это десятилетие плохо задокументировано, поэтому будем говорить о нём гипотетически, опираясь в том числе на семейные предания. После окончания семинарии Ф. П. Комиссаржевский решил попытать счастья и поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Решение, принятое им, было далеко не стандартным. Возможность продолжить обучение выпускники Волынской семинарии обычно реализовывали на более доступном уровне: всё-таки в относительной близости были крупные учебные заведения — Харьковский и Киевский университеты. Особенной популярностью у бывших семинаристов пользовался Варшавский университет. Как удалось Комиссаржевскому добраться до столицы, трудно судить — поездка туда сама по себе была дорогим удовольствием; кроме того, нужно было как-то и чем-то жить в Петербурге, невыгодно отличающемся по уровню цен от малороссийской провинции. Возможно, он был принят в университет, что называется, на казённый кошт[23]. Студентов, обучающихся за счёт государства и живущих на полном казённом обеспечении, было до пятидесяти на каждом факультете, на юридическом даже больше. Такая возможность давалась малоимущим абитуриентам, которые показывали хорошие способности и имели достойные характеристики с прежнего места учёбы. Однако сам факт переезда с окраины империи в её центр свидетельствует о предприимчивости, смелости, самостоятельности и, возможно, авантюрном складе небогатого, незнатного и никому не известного молодого человека, решившегося оторваться от родной почвы и пойти по совершенно отдельному, сложному и совсем не обязательно успешному пути. Юридический факультет был избран, скорее всего, потому, что он давал самые широкие возможности для будущего выбора профессии. Ф. П. Комиссаржевский окончил университет в 1857 году и вышел из него с чином титулярного советника, который знаменовал собой для разночинца известную границу в дальнейшем продвижении по Табели о рангах — следующий чин уже давал право на потомственное дворянство. Перешагнуть эту черту человеку низкого происхождения в то время было фактически невозможно. Чин титулярного советника автоматически присваивался лицам, получившим высшее образование, но не имеющим учёной степени. Иными словами, сдавать специальные экзамены для получения степени кандидата Ф. П. Комиссаржевский не стал. Вероятно, причиной было то, что к концу своего обучения в университете он уже отчётливо понимал: юриспруденция не может определять его будущего. Совсем иная деятельность мерещилась ему в самых смелых мечтах. Однако окончив курс, он всё же пошёл на службу в Департамент податей и сборов Министерства финансов (вероятно, отрабатывая казённое содержание в университете) и задержался там на три года. Вечность для человека, уже осознавшего своё настоящее призвание. Следующий неожиданный виток судьбы Ф. П. Комиссаржевского представляется совершенно фантастическим: в 1860 году он оказывается в Милане — учеником известного певца, композитора, автора нескольких опер и музыкального педагога Пьетро Репетто (1824—1870), мужа известной итальянской певицы-сопрано Эльвиры Репетто-Тризолини[24]. Как мог состояться переезд из Волыни в Санкт-Петербург, всё же более или менее объяснимо. Но поездка за границу и обучение у известного маэстро, несомненно, требовали непомерных материальных вложений, которые не могла обеспечить ни семья Комиссаржевских (отец семейства давно уже умер, и мать вышла замуж вторично за С. И. Калабановича, тоже человека из семинаристских кругов), ни скромное жалованье начинающего юриста. На этот счёт существует семейная легенда, что вокальные способности начинающего певца были отмечены одним из столичных меценатов. Имени этого мецената память не сохранила. Но он действительно мог слышать Фёдора Петровича, любительски певшего в университетском студенческом хоре, возможно, солировавшего в нём. Или — что тоже очень вероятно — в одном из петербургских храмов, куда бывший семинарист мог устроиться на клирос даже с сугубо корыстной целью — немного заработать. Так или иначе, но деньги на заграничную поездку и учёбу в Италии начинающий певец раздобыл. Два года обучения у Репетто — конечно, ничтожный срок для овладения вокальным искусством. Собственно, блестящие результаты, достигнутые Ф. П. Комиссаржевским после столь краткого курса у итальянского маэстро, говорят, с одной стороны, о его страстном стремлении освоить эту «науку», трудолюбии и недюжинных ученических способностях, что не такой уж редкий случай для разночинца, тем более провинциала, неожиданно вынесенного судьбой на новую дорогу; с другой — о природном таланте, что называется «голосе от Бога», которым, видимо, он был награждён. «Как великий дар он получил при своём рождении голос, удивительный по красоте тембра, да к тому же ещё и абсолютную музыкальность»[25], — свидетельствует Надежда Скарская, средняя дочь Ф. П. Комиссаржевского. Через два года Фёдор Комиссаржевский под итальянским сценическим именем «Teodoro di Pietro» (псевдоним вполне прозрачный, соединяющий имя его итальянского педагога и его собственные имя и отчество) начал своё триумфальное шествие по европейским оперным сценам. Он пел в Милане в театре Ла Скала, в Генуе, Флоренции, Риме, затем в Мадриде и Барселоне; судьба занесла его даже в Южную Америку — в оперу Рио-де-Жанейро. Видимо, тогда же, выступая в Афинах, Комиссаржевский получил экзотический титул «певца короля Эллинов», который потом неоднократно воспроизводился во всех его российских документах[26]. В 1863 году Фёдор Петрович впервые после своего отъезда в Италию оказался в Санкт-Петербурге. Он приехал на гастроли с итальянской труппой и вышел на сцену в роли Дженнаро в опере Г. Доницетти «Лукреция Борджиа». Его тенор, как сообщают современники, обладал особым «тёплым» тембром, что делало голос выразительным и проникновенным. Кроме того, Фёдор Петрович был необычайно одарён актёрским талантом, и трагическая роль несчастного сына знаменитой злодейки в его исполнении тронула петербургскую публику чрезвычайно. В газете «Голос» был помещён подробный отчёт о его дебюте: «О замечательном таланте этого артиста публика уже знала по слухам, а потому дебют г-на Комисаржевского возбудил живейший интерес. Все билеты разобраны были нарасхват; театр был совершенно полон; слушать артиста явилась самая избранная, в отношении музыкальности, публика. Наши известные меломаны и дилетанты, и знатоки музыки едва ли не в полном своём составе заседали в этот вечер в партере и в ложах Мариинского театра и ждали с любопытством появления на сцене русского певца, сформировавшего свой талант за границею и составившего себе там довольно заметную репутацию. <...> Перед нами был действительный талант, даровитый певец, замечательный мастер своего дела. <...> Мы смело скажем, что такого певца ещё не было на нашей русской оперной сцене. Были и есть на ней певцы, обладающие замечательным голосом, который, в отношении природных средств, несравненно богаче г. Комисаржевского; но зато такого разработанного голоса, такого правильно сформировавшегося артиста, который в подобной степени, как г. Комисаржевский, удовлетворял бы строгим требованиям современного искусства оперного пения, мы ещё не слыхали. <...> Голос у г. Комисаржевского, как мы уже заметили, не особенно богатый. Тембр его, правда, очень мягкий, приятный, преимущественно в средней части регистра; интонация совершенно верная; но диапазон невелик, и звук не отличается замечательной силой и полнотой, и, таким образом, главною долею успеха на сцене г. Комисаржевский обязан своему искусству пения. Поёт он, действительно, с замечательным умением. <...> Каждая фраза, сказанная певцом, проникнута смыслом, имеет характер, отделана с надлежащею художественностью. Это пение, полное внутренней жизни, пение настоящее драматическое. <...> Вокализация г. Комисаржевского весьма изящна, а вместе с тем и играет г. Комисаржевский очень хорошо. <...> Нужно ли прибавлять к сказанному, что публика приняла такого даровитого артиста самым радушным образом? Г. Комисаржевский имел самый блестящий успех»[27]. Рецензент отметил важную деталь: голос, который произвёл такое впечатление на петербургскую публику, не был особенно большим по диапазону, глубине и силе звука, но артист профессионально им управлял — что удивительно, учитывая краткость его профессиональной подготовки. Он сочетал камерную и оперную манеры исполнения, словно обращаясь к каждому отдельному зрителю, безукоризненно владел искусством фразировки и тончайшей нюансировки голоса. Кроме того, Комиссаржевский был чрезвычайно артистичен: не в том условно-отвлечённом смысле, который был принят на оперной сцене того времени, а как драматический актёр. Это достигалось глубоким погружением в суть образа, психологической проработкой роли. Исследователи говорят о «беспрецедентной для того времени интеллектуализации творческой работы»: «В углублённом, драматически неоднозначном раскрытии человеческой личности и психологии Комиссаржевский первым из певцов преодолел пропасть, лежавшую между оперной и драматической сценами...»[28] Примерно о том же писал и современник певца — А. В. Амфитеатров: «Коммиссаржевский действительно был русским Кальцоляри[29], т. е. при довольно посредственном голосе обладал несравненным совершенством пения: изящество кантилены, яркий темперамент, вдохновенная декламация, красота дикции — все! <...> Коммиссаржевский был действительно очень умён. <...> И, будучи человеком образованным, эстетически тонким, он действительно искал в опере новых идей, форм — музыкальной драмы. Боролся с ерундовою условностью того, что теперь называют “вампукой”, старался осмыслить бессмыслицу, вдохнуть подобие реальности в ирреально ходульные небылицы в лицах»[30]. Впоследствии Ф. П. Комиссаржевский, ставший уже опытным преподавателем, не уставал повторять, что «оперный артист, не умеющий сыграть свою роль, ограничивающийся на оперной сцене трафаретом и рутинными приёмами, много теряет даже при условии очень хорошего голоса и вокального исполнения»[31]. Конечно, это сознательное, интеллектуальное и в высшей степени профессиональное отношение к вокальному искусству в том смысле, в котором этим словом можно охарактеризовать работу лучших оперных певцов, виртуозно владеющих своим голосом, не могло не поразить слушателей. Была у Ф. П. Комиссаржевского ещё одна специфическая черта: тридцатилетний певец был замечательно хорош собой. Статный, черноволосый красавец, с артистической шевелюрой, чёрными горящими глазами — в его облике было что-то итальянское, романтическое и донжуанское. Словом, все те черты, которые так часто становятся дополнительным фактором для сценического успеха. В. П. Шкафер вспоминал о своей первой встрече с Комиссаржевским, которая произошла много позже: «...Мимо меня быстро и энергично шёл очень красивый, высокого роста, стройный, похожий на художника, пожилых лет человек, с седеющими длинными волосами и окладистой бородой»[32]. Как видим, даже пожилой Фёдор Петрович выглядел энергичным и одухотворённым красавцем. Что уж говорить о нём в молодости! Исследователи подтверждают ошеломительное впечатление, которое произвёл Комиссаржевский на публику: «Магическое обаяние, одухотворённый, утончённый артистизм наэлектризовывали зрителей не менее, чем мягкий, богатого бархатистого оттенка лирический тенор, меланхолически-томный и задушевный в грудных нотах баритонального тембра, обволакивающе-проникновенный в cantabile, mezzo voce и piano, полный драматического смысла и чувства в декламации и portamento. Глубинная страстность облекалась в мерцающе-нежные тона, а драматический накал оттенялся обдуманно отстранённым изяществом формы»[33]. Заслуженные Комиссаржевским в роли Дженнаро овации не прошли незамеченными не только для восторженно принимавшей артиста публики, но и для дирекции Императорских театров. Практически сразу он получил ангажемент от Мариинского театра — ему предложили контракт на должность ведущего тенора. Так состоялось возвращение на родину. Надо отметить, что Италия, в которую Фёдор Петрович попал почти чудесным, фантастическим образом и с которой у него, видимо, были связаны самые пьянящие воспоминания первых успехов, первой славы, не говоря уже о чисто жизненных впечатлениях от её природы, языка и разлитого повсюду искусства, — Италия навсегда осталась в его душе землёй обетованной. Туда, как и многие русские деятели искусства, он стремился «во дни сомнений и тягостных раздумий», туда бежал от семейных скандалов и бытовых неурядиц, туда уезжал черпать вдохновение. И в конце своей жизни он вернулся в эту дорогую его сердцу страну, чтобы остаться там навсегда и быть упокоенным на кладбище Тестаччо, в земле Вечного города.
Мария Николаевна Шульгина (1840—1911)
Под предлогом учения мы всецело предавались любви, и усердие в занятиях доставляло нам тайное уединение.П. Абеляр «История моих бедствий»
Николай Дмитриевич Шульгин (1805—1873) был полковником, служил в лейб-гвардии Преображенском полку, элитарном воинском подразделении. Он принадлежал к известному дворянскому роду. Портрет его родственника А. С. Шульгина, участника Бородинского сражения и всей антинаполеоновской кампании, написанный кистью Дж. Доу, находится в знаменитой Галерее героев войны 1812 года в Зимнем дворце. Среди родственников, носивших эту прославленную фамилию, были и другие весьма известные и сослужившие славную службу отечеству люди. Семья полковника Н. Д. Шульгина состояла из жены и двоих сыновей, Дмитрия и Николая, когда родился третий ребёнок — дочь Мария. Рождение девочки было связано с печальным событием — в родах умерла её мать. Отец стал самостоятельно воспитывать детей, перенеся всю свою любовь на младшую дочь, баловал её и, по семейным свидетельствам, предоставлял ей большую свободу. Мария Николаевна, как пишет в своих воспоминаниях Н. Ф. Скарская, сопровождала отца наравне с братьями во время их лагерной жизни, умела ездить верхом и прекрасно держалась в седле, была увлечена театром, особенно музыкальным, страстно любила оперу (в Мариинском театре у семьи Шульгиных была постоянно абонированная ложа) и сама пробовала петь. В увлечениях Марии Николаевны охотно участвовал её брат Николай, который тоже был заядлым театралом. Н. Ф. Скарская вспоминает: «Мама отличалась природной музыкальностью: играла на фортепьянах не хуже заправского пианиста, знала толк в народных песнях, любила их слушать и пела сама; голос у неё был не велик, но красив и задушевен, так что никого не могло удивить, когда однажды девушка высказала настойчивое желание учиться пению у лучшего во всём Петербурге певца ипедагога Комиссаржевского»[34]. Комментируя этот мемуар, стоит заметить, что Ф. П. Комиссаржевский в 1863 году, о котором идёт речь в этом сюжете, не был ещё «лучшим во всём Петербурге педагогом», он совсем недавно впервые вышел на Петербургскую сцену и только-только стал солистом Мариинского театра. Но частные уроки он, видимо, уже давал, а возможно, и начинал набирать известность как педагог. Впоследствии этот нелёгкий хлеб станет одной из существенных статей заработка Ф. П. Комиссаржевского. Достоверно же то, что Мария Николаевна Шульгина очень хорошо играла на фортепьяно и неплохо пела, но никогда не выносила своего искусства за пределы семьи и дома. Относительно её знакомства с Ф. П. Комиссаржевским существует ещё одна легенда, вышедшая из недр семьи, которую рассказала ближайшая подруга Веры Фёдоровны Мария Ильинична Гучкова (Зилоти): «Отец В. Ф. передал ей свою богатую натуру. Он был очень умным, интересным, талантливым человеком и пользовался во всей Европе огромным успехом. Он очень оригинально познакомился с матерью В. Ф. Во время поездки в Швейцарию, находясь на вершине горы, восхищенный открывшимся ему видом, он запел арию из оперы, с другой горы раздался красивый женский голос, вторящий ему. Окончив арию неожиданным дуэтом, Комиссаржевский перешёл на другую гору и познакомился с молодой девушкой (М. Н. Шульгина)...»[35] В доказательство этой романтической версии можно привести только тот факт, что Женева входит в список гастрольных городов Фёдора Петровича, составленный им самим[36]. Иными словами, в Швейцарии он бывал, но никаких достоверных сведений о его пребывании там не сохранилось. В переговорах с артистом о частных уроках вокала принял участие брат Марии Николаевны, гвардейский офицер и любитель оперы Н. Н. Шульгин, человек, судя по семейным воспоминаниям, очень обаятельный, отличавшийся живым умом и демократическими взглядами. Скорее всего, его искренний интерес к личности Ф. П. Комиссаржевского и увлечённость сценой сыграли свою роль — и сделка была заключена. Её последствия, однако, оказались весьма неожиданными. Если молодой одарённый артист быстро и естественно принял на себя роль Абеляра, то в этом не было ничего удивительного. Е1о и Мария Николаевна Шульгина не осталась равнодушной и охотно сыграла Элоизу. О заключении официального брака между ними не могло идти никакой речи — Шульгин-старший был человеком вполне консервативных взглядов; происхождение и чин его были таковы, что абсолютно исключали возможность породниться с безродным артистом, прошлое которого терялось в легендах, а вопрос происхождения вызывал оправданные сомнения. Единственный шанс для влюблённых был романтический: побег и тайный брак. К этому крайнему средству они по обоюдному согласию и прибегли. Венчание состоялось в Царском Селе, с шаферами и певчими (одним из шаферов Фёдора Петровича был, к слову, его родной брат Семён — неизвестно, правда, присутствовал ли он лично на венчании или только дал своё заочное согласие), и, собственно, тайным оно было только для отца Марии Николаевны, которому в конце концов, во избежание скандала, пришлось этот брак признать, хотя родственное общение между ним и зятем-артистом так и не установилось. Н. Ф. Скарская писала в своих воспоминаниях, что за безрассудный поступок дочери отец поплатился карьерой: Н. Д. Шульгин был принуждён выйти в преждевременную отставку с повышением в чине до генерал-майора. Однако эти сведения не подтверждаются фактами. Свидетельство о заключении брака от 15 января 1864 года удостоверяет, что в Покровской церкви при женском духовном училище в Царском Селе были обвенчаны «артист Императорских С.Петербургских театров Фёдор Петров Коммисаржевский, Православного вероисповедания, первым браком, 31 год» и «Лейб-Гвардии Московского полка, отставного Генерал-Майора Николая Димитриева Шульгина дочь девица Мария Николаева, Православного вероисповедания, первым браком, 22 года»[37]. Обратим внимание на то, что в момент заключения брака отец невесты уже состоял в отставке. Вскоре и, разумеется, вне связи с обстоятельствами брака сестры вышли в отставку и двое его сыновей. Видимо, Н. Д. Шульгин был сильным и энергичным человеком, потому что все эти удары его не сломили, а дали другое направление его деятельности. Он организовал в Петербурге собственную транспортную компанию: на личные средства генерала были куплены одноконные каретки-фиакры для общего пользования горожан. Однако по каким-то причинам это транспортное средство популярностью не пользовалось, и вскоре дело пришлось продать со значительными убытками. Пожалуй, эта коммерческая неудача сломила Николая Дмитриевича больше, чем все семейные неурядицы. Он удалился в своё имение Буславля Вышневолоцкого уезда, где вёл чрезвычайно уединённый образ жизни, был нелюдим и слыл человеком крутого и жёсткого нрава. В северном имении, занимаясь хозяйством и домом, он прожил ещё несколько лет до своей смерти 11 февраля 1873 года и был похоронен в селе Федово Вышневолоцкого уезда[38]. Имение отошло по завещанию братьям Марии Николаевны. Потом в нём долгое время жил и хозяйствовал Николай Шульгин, навещать его приезжали в Буславлю и Мария Николаевна, и её дети. Вера Комиссаржевская с детства испытывала к дяде особенную привязанность. Перед смертью Н. Д. Шульгин успел примириться с дочерью. По прошествии нескольких лет после своего отъезда из Петербурга он, при содействии младшего сына Николая, поддерживающего отношения с сестрой и её семейством, предпринял усилия для сближения. Комиссаржевские получили приглашение провести лето в Буславле вместе с детьми. Фёдор Петрович этим приглашением не воспользовался — вероятнее всего, из соображений ущемлённой гордости, а Мария Николаевна с дочерьми отправилась в отцовское имение. О проведённом там времени, деде и самом имении будет впоследствии очень эмоционально вспоминать Н. Ф. Скарская. Этим воспоминаниям мы ещё посвятим соответствующие страницы.
Глава 2 РОЖДЕНИЕ ГЕРОИНИ
Пришла порою полуночной На крайний полюс, в мёртвый край.Александр Блок
Вера была старшей и любимой дочерью в семье. Так часто случается, когда родители, сами глубоко погруженные в служение искусству, с раннего детства замечают в своём отпрыске искры не меньшего дарования и связывают с ним надежды на будущее. Нередко это оборачивается домашней тиранией, препятствующей дальнейшему развитию таланта или коверкающей личность и ломающей судьбу. В случае с Комиссаржевскими всё было совершенно иначе. Прежде всего нужно отметить, что в доме царила любовь. Страсть, вспыхнувшая между родителями, казалось, не угасала. И сила её была такова, что включала в свою орбиту и новорождённую дочь, многозначительно названную Верой. М. Н. Шульгина вспоминала: «27-го октября 1864 г. родилась дочь моя, Вера. Она была так миниатюрна, что доктор Ипполит Михайлович Тарновский, который присутствовал при родах, говорил, что первый раз встречает в своей практике так хорошо сложенного ребёнка, при такой удивительной миниатюрности, и прозвал её “куклой”. Вера была подвижной, очень здоровой и выросла, не подвергаясь никаким болезням. Ей было три месяца, когда она отличала отца своего от других; стоило ему войти, как Вера вся встрепенётся и, громко смеясь, протягивает ему ручонки. Это обожание было взаимно, продолжаясь до самой смерти Фёдора Петровича»[39]. Многие мемуаристы отмечают безалаберность и бессистемность в воспитании детей и наполнявшую дом полубогемную, «артистическую» атмосферу. Семья быстро разрасталась — к 1869 году в ней было четверо детей: три дочери, Вера, Надежда и Ольга, и сын Гриша. Помимо детей Мария Николаевна занималась домом, который всегда был открыт для посетителей из мира большого искусства. Страстно преданная мужу, она жила его интересами гораздо больше, чем жизнью детей. Сам Фёдор Петрович, занятый преимущественно театром и вынужденный ради заработка давать частные уроки, которые он как истинный артист ненавидел всей душой[40], конечно, не мог взять на себя тяготы детского воспитания. Для этой цели в дом были приглашены гувернантки. Две из них, Евгения Адольфовна Леман и Анна Платоновна Репина, впоследствии сопровождали Веру Фёдоровну почти до самой её смерти. Е. А. Леман появилась в доме, когда Вере было шесть лет. М. Н. Комиссаржевская с благодарностью вспоминает о её благотворном влиянии на дочь: «...Играя в лото, Вера выучилась читать, и так скоро и хорошо, что через год, когда муж мой сломал себе ключицу, падая во время спектакля “Фра Дьяволо”, и должен был вылежать, не шевелясь, две недели, Вера читала ему вслух не хуже взрослого человека»[41]. А. П. Репина поступила в дом гувернанткой, когда Вере исполнилось десять лет, в трудный период — незадолго до этого от скарлатины скончался шестилетний брат Веры Гриша, второй ребёнок в семье, самый близкий к ней по возрасту и, видимо, очень ею любимый. Нервная и впечатлительная по природе девятилетняя девочка пережила его смерть чрезвычайно тяжело. Анна Платоновна вспоминала: «Худенькая, хрупкая девочка с тёмными глазами и светлыми кудрявыми волосами, с подвижным, вечно изменявшимся выражением лица, впечатлительная, откровенная, добрая, ласковая, вспыльчивая, но отходчивая, Верочка чутко относилась ко всему окружающему. Своим детским сердцем она многое понимала в отношениях старших и рано узнала горести жизни. Отца она обожала и ревновала его ко всем. Он имел на неё огромное влияние, в особенности в смысле развития художественной стороны её натуры»[42]. О ревности дочери к отцу писала М. Н. Комиссаржевская. Речь в её мемуарах идёт о 1877 годе, когда Е. А. Леман пришлось покинуть свою воспитанницу по своим семейным обстоятельствам: «...Мы пригласили одну барышню, которая была полной противоположностью Женичке; до нас она никогда не жила при детях. Очень добрая, хорошая девушка, желания угодить было много, но умения мало. Вера ей очень не симпатизировала, и мне часто приходилось удерживать её от резкого обращения с нею. При чём она говорила мне: “Терпеть не могу кривляк”. Должна прибавить, что она была хорошей пианисткой, так что мой муж часто пел под её аккомпанемент и просто заставлял её играть. Ясно было, что Вера ревновала отца»[43]. Вернёмся к пылкой, увлекающейся, экспансивной натуре Ф. П. Комиссаржевского. Как вспоминает Е. А. Леман, «свои порывы, увлечения, отсутствие систематичности и последовательности Фёдор Петрович вносил и в семью, в воспитание детей. Резкие переходы в настроении духа Фёдора Петровича, конечно, действовали на окружающих, и в особенности на чуткую Верочку. Безалаберность воспитания и образования Веры Фёдоровны видна уже из того, что она перебывала во многих учебных заведениях, оставаясь везде самое непродолжительное время. Она училась в Виленской гимназии, в Петербургской гимназии Ольги Оболенской, в Коломенской гимназии. Была даже пансионеркой в Ивановском училище, куда поместил её отец. Жила она там недели две. Фёдор Петрович не выдержал разлуки с дочерью и снова взял её домой. Наконец, была она в Рождественской гимназии, откуда вышла из второго класса. Ходила она зиму и в музыкальную школу. Только благодаря своим исключительным способностям, Вера Фёдоровна могла приобрести те знания, которыми обладала впоследствии. <...> Учитель-студент, занимавшийся с ней одно время, приходил в восторг от её способностей, отзывчивости, оригинальности и с юмором рассказывал об её ученических тетрадях, в которых трудно было найти начало и конец, так всё в них было перепутано, перечёркнуто, зачерчено и разрисовано. Молодому репетитору-студенту нравилась эта оригинальность, но строгий педагог пришёл бы, наверное, в отчаяние...»[44]. Это свидетельство, как кажется, многое объясняет в укладе дальнейшей жизни Веры Фёдоровны, в специфике её личности. О необычайной любви Веры к отцу, граничащей с обожанием и преклонением, мы уже упомянули. Это и понятно: вся его театральная, яркая, наполненная событиями и интересными встречами жизнь, кипение его таланта, игра его артистических сил проходили перед её глазами, жадно впитывались, требовали её участия. И она с самого детства, заворожённая этой волшебной, находящейся почти за гранью реальности жизнью, всячески стремилась подражать отцу, делать шаги по той же дороге, прежде всего, конечно, для того, чтобы быть ему нужной, чтобы говорить с ним на одном языке. Поприще актрисы, таким образом, было предопределено для Веры Фёдоровны с самого раннего детства, и произошедшее позже смещение от оперного в сторону драматического театра решающей роли не играло. Надо заметить, что Фёдор Петрович платил старшей дочери исключительной взаимностью. М. И. Гучкова вспоминала: «Отец Веры был умнейший, очаровательный человек. Больше всех любил Веру (если не сказать, просто её одну)»[45]. Отметим здесь, чтобы дальнейшее повествование не вызывало разночтений, что при таких болезненно заинтересованных отношениях, какие с младенчества сложились у Веры с отцом, особенного духовного родства между ней и матерью не установилось. Любимицей Марии Николаевны была средняя дочь, Надежда, что впоследствии тектоническим разломом пройдёт через всю семью, навсегда отколов Веру от её близких. В 1860—1870-е годы Фёдор Петрович был на вершине своей известности. В Мариинском театре он пел главные партии во всех самых знаменитых операх той поры. Если прочитать этот, далеко не полный перечень, становится очевидной степень его чрезвычайной востребованности на императорской сцене: Манрико в «Трубадуре» Дж. Верди (1864), Руджерио в «Фенеле» Д. Обера (1864), Лионель в «Марте» Ф. Флотова (1864), Эдгарв «ЛючиидиЛаммермур» Г. Доницетти (1866), Князь в «Русалке» А. С. Даргомыжского, Эльвино в «Сомнамбуле» Дж. Беллини (1866), Фауст в «Фаусте» Ш. Гуно (1870), Фра Дьяволо во «Фра Дьяволо» Д. Обера (1871), Октавио в «Дон Жуане» В. А. Моцарта (1876), Самозванец в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского (1876), Вакула в «Кузнеце Вакуле» П. И. Чайковского (1876), Герцог в «Риголетто» Дж. Верди (1878) и т. д. До 1880 года, когда он в последний раз вышел на императорскую сцену, репертуар его только увеличивался и пополнялся русскими операми, которых он не пел раньше, и новыми ролями, которым соответствовал его баритональный тенор. Одним словом, Вера выросла под непрерывные овации зала и восторженные крики публики, обращённые к её отцу. Собственно, окончание певческой карьеры Ф. П. Комиссаржевского фактически совпало с концом счастливой семейной жизни. Вернее, разрушение семьи во многом способствовало его решению покинуть сцену. Кроме того, Фёдор Петрович обладал такими качествами личности, которые могли покорить не только сердце любящей дочери. Он был ярким человеком, способным на безрассудный поступок, поражавшим своей смелостью и презрением к опасности. Согласимся, качества, безусловно привлекательные в любом мужчине. Другой стороной этой незаурядной личности был авантюризм, который не может принести достойных плодов без сочетания с безрассудством и смелостью, но эта черта была глубоко спрятана под внешностью героя-любовника и успешной карьерой большого артиста, а также — до поры до времени — под кровом благополучной семьи. Вера с детства знала, что отец её может быть героем не только на сцене. В частности, в 1866 году прессу обошёл следующий анекдот. Известный тенор Комиссаржевский с женой и ребёнком приехал летом отдыхать в Баварию — как раз в тот момент, когда разразилась так называемая «семинедельная война» между тремя державами: Пруссией, Италией и Австрией. Конфликт был коротким, но военные действия — напряжёнными. В курортном городе Бад-Киссинген, где Комиссаржевский находился с семьёй, 28 июня состоялась битва. Хозяин гостиницы Hotel Wittelsbach, пытаясь спасти своих постояльцев, спрятал их в подвале дома, где они были в безопасности от пуль и картечи. Но когда прусские войска овладели городом (Бавария сражалась на стороне Австрии), в запертые двери подвала стали стучать. Хозяин в испуге спрятался, и отворить решился только русский постоялец — Комиссаржевский. Дальше приведём текст одной из заметок: «Только что он это сделал, ворвались пруссаки и бросились с бранью на г. Комиссаржевского. Один из них ударил его прикладом по плечу. Г. Комиссаржевский объяснил, что он — иностранец, русский, и что хозяин неизвестно где. Пруссаки ему не поверили; он показал им свой паспорт, который они изорвали и бросили. Солдаты потащили с собою г. Комиссаржевского, окружённого направленными на него штыками, в квартиры дома. Наверху они приказали ему отпирать двери квартир. “У меня нет ключей, сказал им г. Комиссаржевский, — я уже объявил вам, что я не хозяин; ломайте двери”. И с этим словом он сам первый выбил ногою дверь. Пруссаки вошли и осмотрели все квартиры дома. Потом они поднялись по лестнице на чердак. У самой двери чердака они направили на г. Комиссаржевского ружья и сказали ему: “Если на чердаке мы найдём хоть одного баварца, то убьём и его, и тебя”. К счастию г. Комиссаржевского, на чердаке никого не было...»[46] В этой истории много поэтического вымысла. Комиссаржевский ведёт себя и выглядит примерно так, как один из сыгранных им персонажей — Фра Дьяволо из одноимённой оперы Обера. Он бесстрашен до дерзости, не дорожит собственной жизнью, с лёгкостью подвергается смертельной опасности и во всех ситуациях сохраняет недюжинное спокойствие и присутствие духа. Вряд ли Вера могла помнить подобный эпизод, если он действительно имел место, — ей тогда не исполнилось ещё двух лет[47]. Но слухи об этом, конечно, доходили до неё в виде легенд и впоследствии. В частности, в более поздней версии рассказывалось, что Комиссаржевский сумел усмирить суровых солдат пением и расположить их в свою сторону. Поистине Орфей, зачаровывающий скалы! Существует ещё одна почти фантастическая история, о которой вспоминают всегда, когда речь заходит о Ф. П. Комиссаржевском, и которая была особенно популярна по идеологическим причинам в советские времена. Якобы в период своего трёхлетнего пребывания в Италии молодой ученик Репетто успел принять участие в повстанческих действиях Гарибальди, в начале 1860-х разворачивающихся на новом этапе. Никаких документальных доказательств этому, конечно, найти невозможно, но мифология утвердилась. И, вероятно, для Веры была значимой и многое определила в её дальнейших поисках. Конечно, стиль жизни в доме Комиссаржевских целиком и полностью был подчинён театральным будням и праздникам. Случалось, что Фёдор Петрович репетировал дома вместе со своими партнёрами. Известно, что дети были свидетелями репетиций «Бориса Годунова» Мусоргского, «Каменного гостя» Даргомыжского. Актёры проходили выборочные сцены, решали профессиональные вопросы. Дети на репетиции, конечно, не приглашались, но умели устроиться так, что видели и слышали всё, им необходимое. Зарождение спектакля так или иначе происходило на их глазах. Известные актёры того времени Ф. И. Стравинский, Е. В. Клебек, О. О. Палечек, Е. А. Лавровская, Д. М. Леонова, главный режиссёр Мариинского театра Г. П. Кондратьев, первые композиторы эпохи были домашними людьми в этой артистической семье. Об атмосфере дома вспоминает Н. Ф. Скарская: «Комиссаржевский был тенором эпохи 60—70-х годов. Таким был и круг друзей нашей семьи, кровно связанных с музыкальной жизнью тех лет. <...> Среди этих деятелей искусства был Стравинский, отец будущего композитора, оперный бас, одарённый выдающимся талантом драматического актёра, с которым по искусству гримироваться мог соперничать один только Шаляпин. Эскизы своих гримов Стравинский с чудесным мастерством зарисовывал сам, а нередко и лепил их из глины. Здесь можно было встретить Палечека, который по справедливости считался непревзойдённым руководителем оперного хора. Знаменитая своим голосом дородная Леонова и замечательная певица Лавровская также любили бывать в нашей семье. Навещал наших родителей Цезарь Антонович Кюи, автор “Ратклифа”, которого никак не удавалось поставить на оперной сцене... Композитор бывал с женой и дочкой, нашей однолеткой. Среди друзей отца был Даргомыжский, и одним из достойнейших был Мусоргский»[48]. Естественно, что жизнь детей, нисколько не отделённых от этой взрослой артистической жизни, шла не совсем правильно с точки зрения классической педагогики. Ни строгий распорядок, ни соблюдение чётких бытовых правил, ни неукоснительное приготовление уроков, ни регулярность занятий не вменялись им в обязанности. С одной стороны, это давало определённую свободу, в том числе в выражении себя и развитии творческих способностей личности; с другой — способствовало формированию всевозможных психологических проблем, с которыми детям предстояло потом жить. Как деликатно подметил составитель биографического очерка, посвящённого В. Ф. Комиссаржевской, близко знавший её Е. П. Карпов, «на всём укладе семейной жизни Комиссаржевских лежал отпечаток артистичности, некоторого, если можно так выразиться, художественного беспорядка, отсутствия буржуазной прилизанности и чопорности»[49]. В середине 1870-х годов Ф. П. Комиссаржевский купил небольшое имение недалеко от Вильно, в местечке, которое носит литовское название Бездонис, и присвоил ему название Марьино (или Марусино), в честь жены. Туда Комиссаржевские теперь уезжали на летний сезон. Вероятнее всего, имение было куплено на деньги, которые Мария Николаевна получила по завещанию отца, умершего в 1873 году[50], хотя Фёдор Петрович как солист Мариинского театра зарабатывал очень хорошо и мог содержать семью без труда. В имении он, свободный от своих занятий, часто читал вслух; иногда — вся семья, в том числе и дети, участвовала в чтении по ролям. Интонации Веры Фёдоровны, которые впоследствии производили такое сильное впечатление на зрителей и слушателей, очень напоминали отцовские. Вольное или невольное подражание его чтецкому таланту поставило её неповторимый голос. Естественно предположить, что дети, как это было принято в то время вообще, а в театральных семьях особенно, ставили домашние спектакли. О пристрастии старшей дочери к сценической игре вспоминала впоследствии её мать. Вера разыгрывала для своих сестёр небольшие пьески собственного сочинения или показывала комические сценки. «...Сюжет состоял большей частью в том, что старая дева, воображая себя интересной, кокетничала с молодёжью, которая поднимала её на смех. Роли всех лиц исполняла Вера одна, очень талантливо и комично, так что в комнате всё время слышался смех и просьба детей о повторении. Десяти лет спектакли её были серьёзней, так как в них входила музыкальная часть: сцены из опер, где участвовал отец. Его роль она брала на себя, а сестре своей Наде предоставляла роль партнёра...»[51] Друг детства Комиссаржевской А. А. Фрей вспоминал, как по инициативе Марии Николаевны в качестве сюрприза для Фёдора Петровича решили ставить детский рождественский спектакль. Репетиции устраивались специально в те дни, когда он был занят в опере и возвращался поздно. Но произошла «утечка информации», и, узнав о готовящейся премьере, Фёдор Петрович сам взялся режиссировать. Для постановки была выбрана небольшая стихотворная комедия современного автора Н. И. Куликова «Которая из двух», две главные женские роли достались старшим сёстрам, а единственную мужскую исполнял Фрей. Роль горничной за малолетством других актёров была разделена надвое — вместо традиционной горничной Лизы на сцене появились горничная и лакей. К спектаклям готовились основательно: придумывали и делали декорации, шили костюмы. Играли в гостиной, рампу устроили из комнатных цветов и растений. Суфлёрской будкой стал кабинет Фёдора Петровича, откуда подавала спасительные реплики Мария Николаевна. Интересно, что после детского спектакля вечер продолжался выступлениями взрослых. На рояле играл М. П. Мусоргский, пел известный лирико-драматический тенор Н. Г. Дервиз. Естественно, что такие вечера оказывали на детей магическое действие. По воспоминаниям А. П. Репиной, впечатлительная Вера ещё долго бредила ими, повторяя реплики сыгранных ею ролей. Были и более серьёзные пробы. Фрей рассказывает о спектакле, поставленном детьми в квартире близкого друга семьи Комиссаржевских доктора А. К. Хрщоновича. На этот раз только декорации были собственного изготовления; костюмы достали в Мариинском театре, был приглашён профессиональный парикмахер. Всячески поощряя увлечение театром, Фёдор Петрович со свойственной ему непоследовательностью резко высказывался против актёрского будущего детей, не желал видеть дочерей на профессиональной сцене. (Впоследствии он легко изменит своё мнение и сам выведет их на «роковой дебют».) Собственно, воле отца никто сопротивляться и не собирался, тем более что вечного праздника театра с его неистребимой магией домочадцам Фёдора Петровича хватало с лихвой. Другое дело, что никакая иная деятельность не увлекала так Веру, как сценическая. У неё была, правда, поразительная память — она легко запоминала поэтические и прозаические тексты, что впоследствии очень пригодилось ей как актрисе. В её письмах нередко встречаются цитаты из прочитанных книг, часто философского содержания, которые она приводит для подтверждения своих мыслей. Цитаты эти не сверены, приведены по памяти. Однако проверка практически не показывает расхождений с первоисточником: Вера Фёдоровна почти не ошибалась — её цепкая память сохраняла те самые слова и обороты, которые использовал автор. Однако прилежанием и усидчивостью она не отличалась с детства, не признавала никакой дисциплины, была противницей любой систематичности, ненавидела грамматику всех языков. Чистописание было для неё невозможным занятием. Это, кстати, заметно по почерку уже взрослой Веры Фёдоровны, который зачастую невозможно разобрать не из-за сложности, а из-за неряшливости начертания. Естественно, что природная или воспитанная обстановкой в семье беспорядочность натуры будущей актрисы только подкреплялась постоянными сменами гимназий и пансионов. Смена правил, смена педагогов, смена учебных предметов, нигде ничего всерьёз, нигде никакой глубины, на усилия для постижения наук просто не хватало ни времени, ни желания, ни старания... В общем так и получилось, что школой для Комиссаржевской стал театр, а главной педагогической методикой, хорошо ею освоенной впоследствии, — самообразование. Удивительно, что во взрослом возрасте ей удавалось ограничить себя строжайшей самодисциплиной, которая позволяла глубоко и серьёзно подходить к тем постановкам, в которых она участвовала, и к тем ролям, которые ей доводилось играть. Восьми-девятилетней девочкой Вера побывала в имении своего деда Н. Д. Шульгина Буславле. Эта была та самая примирительная летняя поездка — вероятно, незадолго до смерти старика, — от которой отказался отец. О ней выразительно вспоминает в своих мемуарах Надежда Фёдоровна. Мы приведём несколько фрагментов из них, помня о том, что Надя была на четыре года моложе сестры, и свидетельства пяти- или даже четырёхлетней девочки с трудом могут быть восприняты как действительные воспоминания. Возможно, они составлены не столько из собственных впечатлений, сколько из рассказов старших. В любом случае в них проступает характер Веры, даже если события воссозданы не вполне точно.
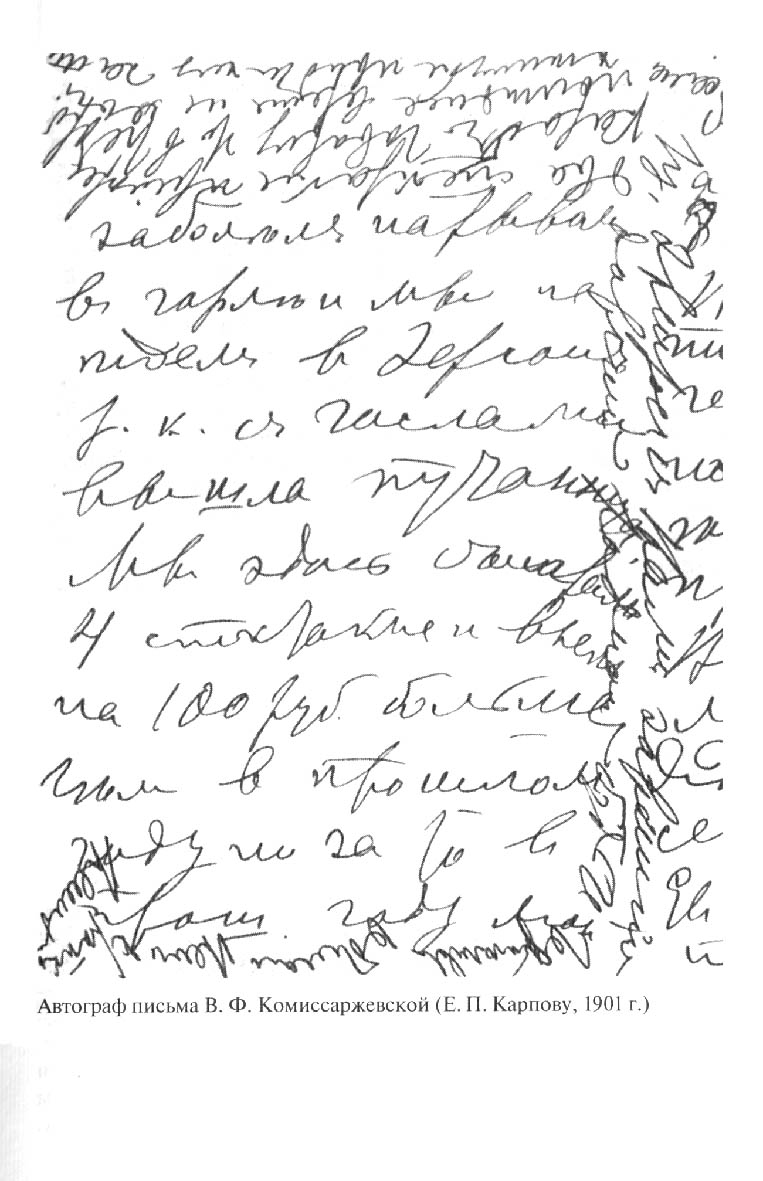 Старая усадьба, с её размахом, традиционным укладом, множеством дворовых построек, разнообразием человеческих типов и занятий, близостью к природе, свободой, волей-неволей предоставленной девочкам, очень им понравилась. Иное дело — дед, хмурый, нелюдимый, вспыльчивый старик. Неизвестно, был ли действительно таким Н. Д. Шульгин в эти годы, но дети избегали деда, изредка даже посмеивались над его чопорностью и властностью, а в усадьбе находили себе всевозможные развлечения. Одно из них Н. Ф. Скарская описывает так: «Добрались и до кухни. Познакомились с поваром Никитичем. Тотчас заметив, как он по-особенному курит из трубочки, Вера поскорей сдружилась с ним, а заодно и с его диковинной трубочкой. С этого дня мы забегали к Никитичу ежедневно — поболтать, справиться, что будет к обеду. Мимоходом сестра выпрашивала заветную трубочку — на одну только минуту! — и тянула из неё удушливый дым до тех пор, пока её не начинало тошнить»[52]. Это странное увлечение Скарская объясняет прирождённым артистизмом сестры — Никитич как-то особенно курил, с «аппетитным присосом», так что Вере непременно хотелось повторить, сыграть, даже с ущербом для собственного здоровья.
Ещё один эпизод чрезвычайно характерен. В нём видно, какое влияние имела старшая сестра на младшую и как беззастенчиво им пользовалась. В усадьбе праздновали Покров, служили всенощную, был приглашён священник, сходилась дворня для участия в службе, после неё освящались все усадебные постройки, поля и угодья, а потом в дом допускались просители. «Эти праздничные посетители представляли для нас, двух дедушкиных внучек, особенный интерес. Ольгуша по малолетству держалась на отлёте.
— Смотри, Надя, — говорит мне сестра, поблескивая лукавыми глазами, — какой страшный человек сидит в том конце зала, возле окна! Похож на монаха. Верно, странник.
Ай-ай-ай, какой тощий... Стань на моё место, смотри в щёлочку, видишь? Он, наверно, носит железные вериги. Не скрипи дверью, нас заметят. Стой тихо, не шевелись. Монахи и странники надевают на себя тяжёлые вериги. Их только не видно, потому что под подрясником. Вот бы посмотреть!
Я, отрываясь от щёлочки, оборачиваюсь к сестре — её причуды всегда неожиданны, фантастичны и несбыточны, я к ним привыкла, но на этот раз меня берёт оторопь. Я опять смотрю в щёлочку и снова оборачиваюсь к сестре.
— Как это — посмотреть?
— Просто посмотреть. Подойти к нему и посмотреть. Да нет, ты бы никогда не могла на это решиться.
В Верином голосе звучат нотки разочарования. Это её военная хитрость. <...> Вера знала, если раздразнить моё самолюбие и усомниться в моей любви, я проделаю всё что угодно, чего бы мне это ни стоило. Так было и в тот раз. Снова оглядев в щёлочку поле действий и опять обернувшись к сестре, я прочла в её глазах столько лирической разочарованности, что во мне разом пробудилась вся моя храбрость. Я отворила дверь с такой смелостью, которой сама удивилась. Пересекла зал и вдруг, повернувшись в сторону окна, очутилась возле странника. Он поднялся навстречу, желая, должно быть, спросить о чём-либо касательно дедушки. Когда мы оказались близко один против другого, странник своим необыкновенным, аскетическим видом испугал моё воображение, и мне пришлось призвать на помощь всё своё мужество, для того чтобы решиться действовать. Неожиданно для себя самой я быстрым движением распахнула полы страннической рясы. Растерявшийся от неожиданности человек одно мгновенье стоял почти раздетым — волосатый, истощённый и грязный. Он глядел на озорницу пылающим взглядом, от которого у меня побежали мурашки по телу, и я вихрем унеслась обратно за дверь.
— Что же ты, Вера, выдумала? Никаких вериг на страннике нет...»[53]
Очевидно (если вообще верить этому рассказу), что Вера выдумала вериги по нескольким причинам: с одной стороны, из любви к игре в том значении этого слова, в котором игру воспринимают дети. В ней мало фальши и много искренней веры в чудесное. Вероятнее всего, она верила в то, что странник носит на себе тяжёлые цепи, и посмотреть на них очень хотелось. С другой стороны, это было испытание Надиной лояльности. Преданность малолетней сестры, её готовность пойти на подвиг ради своей любви к Вере подвергались проверке, и, скорее всего, не раз. Вера испытывала и себя саму, собственные актёрские способности, силу их воздействия на окружающих. Ну и, наконец, абсолютное неприличие сцены, явное пересечение границ дозволенного, на которое она толкала Надю, непредсказуемость финала, возможность наказания должны были щекотать её нервы. Этим эпизодом удивительно подсвечиваются непростые отношения между двумя сёстрами, которым нам ещё придётся посвятить не одну страницу этой книги. С уверенностью можно утверждать, что Вера была для младшей Нади недосягаемым образцом, кумиром, которым она восхищалась и на которого смотрела снизу вверх, а эти чувства редко когда обходятся без зависти, пусть даже самой безобидной. Стремление быть не хуже, чем сестра, преодолеть свою природную робость, вырваться за пределы собственной личности, фактически — стать ею, Надя пронесёт через всю свою человеческую и сценическую жизнь.
Приведём интересный мемуар М. И. Гучковой, хорошо подсвечивающий отношения в семье: «Я видела Надю в каком-то водевиле, это, верно, была первая её проба, но она так старалась копировать Веру, что мне было неприятно. И я вспоминала, как её “Мусенька” (мать. — А. С.-К.) всегда досадовала, что у Веры проявился талант, а у Нади — нет»[54].
В последний раз в Буславлю приехали уже после смерти деда. Имение перешло к новому владельцу — Николаю Николаевичу Шульгину, который не очень хорошо справлялся с управлением. Настроение у всех было подавленное, погода не позволяла проводить на улице много времени, в эти дни дети развлекались тем, что пели отрывки из отцовских опер и сами ставили сценки собственного сочинения, сооружая декорации и придумывая костюмы. Чаще всего автором этих сценок была Вера. Н. Ф. Скарская вспоминает:
«В одной из Вериных опер мне почему-то запомнились пять строк:
Старая усадьба, с её размахом, традиционным укладом, множеством дворовых построек, разнообразием человеческих типов и занятий, близостью к природе, свободой, волей-неволей предоставленной девочкам, очень им понравилась. Иное дело — дед, хмурый, нелюдимый, вспыльчивый старик. Неизвестно, был ли действительно таким Н. Д. Шульгин в эти годы, но дети избегали деда, изредка даже посмеивались над его чопорностью и властностью, а в усадьбе находили себе всевозможные развлечения. Одно из них Н. Ф. Скарская описывает так: «Добрались и до кухни. Познакомились с поваром Никитичем. Тотчас заметив, как он по-особенному курит из трубочки, Вера поскорей сдружилась с ним, а заодно и с его диковинной трубочкой. С этого дня мы забегали к Никитичу ежедневно — поболтать, справиться, что будет к обеду. Мимоходом сестра выпрашивала заветную трубочку — на одну только минуту! — и тянула из неё удушливый дым до тех пор, пока её не начинало тошнить»[52]. Это странное увлечение Скарская объясняет прирождённым артистизмом сестры — Никитич как-то особенно курил, с «аппетитным присосом», так что Вере непременно хотелось повторить, сыграть, даже с ущербом для собственного здоровья.
Ещё один эпизод чрезвычайно характерен. В нём видно, какое влияние имела старшая сестра на младшую и как беззастенчиво им пользовалась. В усадьбе праздновали Покров, служили всенощную, был приглашён священник, сходилась дворня для участия в службе, после неё освящались все усадебные постройки, поля и угодья, а потом в дом допускались просители. «Эти праздничные посетители представляли для нас, двух дедушкиных внучек, особенный интерес. Ольгуша по малолетству держалась на отлёте.
— Смотри, Надя, — говорит мне сестра, поблескивая лукавыми глазами, — какой страшный человек сидит в том конце зала, возле окна! Похож на монаха. Верно, странник.
Ай-ай-ай, какой тощий... Стань на моё место, смотри в щёлочку, видишь? Он, наверно, носит железные вериги. Не скрипи дверью, нас заметят. Стой тихо, не шевелись. Монахи и странники надевают на себя тяжёлые вериги. Их только не видно, потому что под подрясником. Вот бы посмотреть!
Я, отрываясь от щёлочки, оборачиваюсь к сестре — её причуды всегда неожиданны, фантастичны и несбыточны, я к ним привыкла, но на этот раз меня берёт оторопь. Я опять смотрю в щёлочку и снова оборачиваюсь к сестре.
— Как это — посмотреть?
— Просто посмотреть. Подойти к нему и посмотреть. Да нет, ты бы никогда не могла на это решиться.
В Верином голосе звучат нотки разочарования. Это её военная хитрость. <...> Вера знала, если раздразнить моё самолюбие и усомниться в моей любви, я проделаю всё что угодно, чего бы мне это ни стоило. Так было и в тот раз. Снова оглядев в щёлочку поле действий и опять обернувшись к сестре, я прочла в её глазах столько лирической разочарованности, что во мне разом пробудилась вся моя храбрость. Я отворила дверь с такой смелостью, которой сама удивилась. Пересекла зал и вдруг, повернувшись в сторону окна, очутилась возле странника. Он поднялся навстречу, желая, должно быть, спросить о чём-либо касательно дедушки. Когда мы оказались близко один против другого, странник своим необыкновенным, аскетическим видом испугал моё воображение, и мне пришлось призвать на помощь всё своё мужество, для того чтобы решиться действовать. Неожиданно для себя самой я быстрым движением распахнула полы страннической рясы. Растерявшийся от неожиданности человек одно мгновенье стоял почти раздетым — волосатый, истощённый и грязный. Он глядел на озорницу пылающим взглядом, от которого у меня побежали мурашки по телу, и я вихрем унеслась обратно за дверь.
— Что же ты, Вера, выдумала? Никаких вериг на страннике нет...»[53]
Очевидно (если вообще верить этому рассказу), что Вера выдумала вериги по нескольким причинам: с одной стороны, из любви к игре в том значении этого слова, в котором игру воспринимают дети. В ней мало фальши и много искренней веры в чудесное. Вероятнее всего, она верила в то, что странник носит на себе тяжёлые цепи, и посмотреть на них очень хотелось. С другой стороны, это было испытание Надиной лояльности. Преданность малолетней сестры, её готовность пойти на подвиг ради своей любви к Вере подвергались проверке, и, скорее всего, не раз. Вера испытывала и себя саму, собственные актёрские способности, силу их воздействия на окружающих. Ну и, наконец, абсолютное неприличие сцены, явное пересечение границ дозволенного, на которое она толкала Надю, непредсказуемость финала, возможность наказания должны были щекотать её нервы. Этим эпизодом удивительно подсвечиваются непростые отношения между двумя сёстрами, которым нам ещё придётся посвятить не одну страницу этой книги. С уверенностью можно утверждать, что Вера была для младшей Нади недосягаемым образцом, кумиром, которым она восхищалась и на которого смотрела снизу вверх, а эти чувства редко когда обходятся без зависти, пусть даже самой безобидной. Стремление быть не хуже, чем сестра, преодолеть свою природную робость, вырваться за пределы собственной личности, фактически — стать ею, Надя пронесёт через всю свою человеческую и сценическую жизнь.
Приведём интересный мемуар М. И. Гучковой, хорошо подсвечивающий отношения в семье: «Я видела Надю в каком-то водевиле, это, верно, была первая её проба, но она так старалась копировать Веру, что мне было неприятно. И я вспоминала, как её “Мусенька” (мать. — А. С.-К.) всегда досадовала, что у Веры проявился талант, а у Нади — нет»[54].
В последний раз в Буславлю приехали уже после смерти деда. Имение перешло к новому владельцу — Николаю Николаевичу Шульгину, который не очень хорошо справлялся с управлением. Настроение у всех было подавленное, погода не позволяла проводить на улице много времени, в эти дни дети развлекались тем, что пели отрывки из отцовских опер и сами ставили сценки собственного сочинения, сооружая декорации и придумывая костюмы. Чаще всего автором этих сценок была Вера. Н. Ф. Скарская вспоминает:
«В одной из Вериных опер мне почему-то запомнились пять строк:
...Мой друг прекрасный,
Тебя молю,
Надень фрак красный! —
Во фраке этом Тебя люблю.
Самая младшая сестра Ольга и я изображали хор и повторяли одно последнее слово какой-нибудь фразы. В тот раз, о котором идёт речь, у нас шла не опера, а драма. Так как Ольга почему-то не могла участвовать, мы позвали на помощь девочку, которую дядя Коля взял из деревни для домашних услуг. Содержания всей драмы я не помню, но одна из сцен осталась у меня в памяти. “Он”, интересный и очень богатый человек, влюблён в “неё”, но не пользуется взаимностью. “Она” бедна и, хотя любит другого, по просьбе родных выходит за богача. На сцене венчание. Вера, конечно, жених — она любит мужские роли, деревенская Аннушка — невеста, я — священник. На чердаке отыскалась роскошная риза, которую дедушка держал в доме для церковных служб. Вера относится к представлению очень серьёзно, волнуется. Аннушка испугана. Я больше всего занята ризой, она мешает мне двигаться. Вера объясняет Аннушке, что невеста должна очень страдать, так как воспоминание о возлюбленном не покидает её ни на минуту. Поэтому, когда священник спросит, любит ли она жениха, у неё должно вырваться признание: “Нет, не люблю”. Вслед за тем начинается трагическая сцена жениха, он не хочет верить своему горю, но невеста подтверждает свой ответ священнику, и тогда жених стреляется. Начинаем сцену. Вера с любовью смотрит на Аннушку, у которой от вытаращенных глаз лицо кажется деревянным. Никто не обращает внимания на такую мелочь. Я задаю Вере традиционный вопрос священника: — Любишь ли ты её? Вера отвечает с жаром: — Да! С тем же вопросом я обращаюсь и к Аннушке, то есть к невесте: — Любишь ли ты его? Аннушка отрицательно трясёт головой. Мы затаили дыхание — скажет ли Аннушка условленные слова? Она чувствует наше волнение и через силу выговаривает: — Не. Напряжённое молчание напоминает ей о том, что она ещё не всё сказала, и тогда она с трудом договаривает: — Не люблю его. Вера кидается к ней, хватает её за руку... — Как?! Ты не любишь меня? Аннушка молча кивает головой. Её безмолвный ответ выходит очень сильным, драма у Веры нарастает, но тут вдруг Аннушка с простодушным облегчением добавляет: — Стало быть, что так. Драматическое напряжение рассеялось как дым. Вера срывает с себя костюм: — Нет, ты ничего не понимаешь, играть с тобой нельзя!»[55] Собственная наивная режиссура, одновременно воспринимаемая как вторая реальность, и страстная вовлечённость в сюжет, который полностью выдуман ею же, — удивительное сочетание. Слово «играть», которым Надежда Фёдоровна заканчивает описанную сцену («играть с тобой нельзя!»), двоится и приобретает дополнительный оттенок: то ли имеется в виду обычная детская игра, то ли сценическое действо, которому придаётся гораздо большее значение. Оно вполне серьёзно, им нельзя пренебрегать, его надо по-настоящему прожить. Так протекли детство и первые годы отрочества В. Ф. Комиссаржевской, которые вполне можно назвать счастливыми. А в 13 лет на Веру обрушилось несчастье — пожалуй, второе после смерти малолетнего брата. Несчастье это не прошло бесследно и многое предопределило в её дальнейшей судьбе.
Глава 3 ВЫНУЖДЕННОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ
В актрисы её посвятило личное страдание.А. Я. Александров
В конце 1870-х годов, во время своих гастролей в Вильно, Фёдор Петрович Комиссаржевский познакомился с литовской княжной Марией Петровной Курьятович-Курцевич. Она была дочерью генерал-майора русской армии, православного вероисповедания и моложе знаменитого артиста ровно на 20 лет. Эта встреча положила конец спокойной и счастливой семейной жизни Комиссаржевских. Со свойственными ему страстью и безоглядностью Фёдор Петрович кинулся в новый роман, а затем, когда обстоятельства того настоятельно потребовали, принял решение просить у жены развода. С одной стороны, этот поворот судьбы, конечно, вызывает законное возмущение у человека, осведомлённого о предшествующих событиях биографии певца: тот способ, который он применил, чтобы жениться на Марии Николаевне Шульгиной, был тоже чрезмерным, выходящим за рамки дозволенного. Но теперь в семье росли ещё три дочери: старшая — Вера — была уже подростком, младшей — Ольге — было почти 10 лет. Уход отца из семьи не только ставил её в униженное положение, но и лишал всякого материального достатка, фактически помещал за грань бедности. О психологической травме, которая при этом наносилась детям и жене, не стоит даже и говорить. Об этом не сохранилось подробных свидетельств — только глухие упоминания. Е. П. Карпов писал: «На впечатлительную, детскую душу Верочки размолвки между отцом и матерью ложились неизгладимым, тяжёлым гнетом и, несомненно, отразились на всей её дальнейшей жизни»[56]. Это, конечно, справедливо, как справедливо и то, что Вера боготворила своего отца и сама мысль о разлуке с ним, о его неминуемом уходе была для неё, вероятнее всего, невыносима. Правда и то, что этот развод отразился на личной судьбе Веры Фёдоровны и на тех непростых выборах, которые ей в самом скором времени пришлось совершать. С другой стороны, в уходе отца, которого осудить она никак не могла, она, вероятно, увидела и решительность незаурядно сильного человека, и столь характерное для него жизнелюбие, и веру в счастье, которое ещё возможно и непременно будет, и — честность перед самим собой и перед обеими женщинами, которых он не желал и не стал обманывать. Необходимо учесть ещё и то обстоятельство, что Мария Николаевна, несомненно, продолжала любить своего мужа и отпускать его не хотела. Но — отпустила. Более того, с позиции обыденного сознания, она принесла, казалось бы, совсем уж невозможную для самолюбивой женщины жертву. Бракоразводный процесс в ту пору всё ещё выглядел неприглядно. Он не подразумевал расставания по обоюдному согласию равных в проявлении свободы воли супругов. Как и брак, развод мог быть только церковным, в сложных случаях совершался он с соизволения Святейшего синода, и достаточной причиной считалась только супружеская измена. На уличённого в прелюбодеянии супруга после расторжения брака накладывалась строгая епитимья — ему не разрешалось вступать в новый брак. Поскольку для Фёдора Петровича, стоявшего на пороге своего второго супружества, такие условия были неприемлемы, Мария Николаевна согласилась принять на себя вину за несуществующую измену. Бракоразводный процесс длился два года и потребовал множества усилий и затрат: в частности, для оплаты расходов пришлось продать любимое семейное имение Марьино. Однако фактически семья распалась в 1880 году: перед Великим постом Комиссаржевский в последний раз вышел на сцену Мариинского театра и уехал из Петербурга в Италию. А 21 мая 1882 года в церкви при Императорском российском посольстве во Флоренции протоиерей Владимир Левицкий обвенчал его с М. П. Курцевич. В свидетельстве о браке в графе «Жених» записано: «Русский подданный из дворян, артист-художник Его Величества Короля Эллинов Фёдор Петрович Коммиссаржевский, православного вероисповедания, разведённый, с правом вступить в новый брак, как первобрачному»[57]Указан и возраст жениха — 48 лет. Уже через несколько дней после заключения брака в молодой семье родился первый ребёнок. Мальчика назвали в честь отца Фёдором. С 1876 года семья Комиссаржевских жила преимущественно в Марьине, где старшие девочки сначала получали домашнее образование, а потом были помещены в Виленский институт приходящими. Семья на зиму перемещалась в Вильно, а летом возвращалась в имение. Когда началось охлаждение между отцом и матерью, сказать трудно. Однако известно, что последнюю зиму своего контракта с Мариинским театром Фёдор Петрович жил отдельно в Петербурге, куда просил отпустить к нему Веру. Поскольку девочке надо было учиться, то он, исполняя свой родительский долг, поместил её сначала в Коломенскую гимназию, затем пансионеркой в Ивановское’ училище, но, как уже было сказано, ненадолго. Расстаться со своей любимицей отец оказался не в состоянии, да и сама Вера, по-видимому, страстно желала жить с ним. К Великому посту 1880 года, когда закончился срок контракта, продлевать его Фёдор Петрович не стал. Вера вернулась кматери. Мария Николаевна вспоминала: «Она привезла письмо от отца; он писал, что убит горем, но вынужден расстаться навсегда с семьёй, что уезжает за границу, благословляет меня с детьми и просит молиться о нём»[58]. Заметим, однако, что после расставания родителей Вера не осталась жить с матерью, а вернулась в Петербург — формально, чтобы окончить гимназию. Зиму 1880/81 года она провела в семье своей гувернантки А. П. Репиной. В её воспоминаниях об этом времени звучат уже знакомые мотивы: Вера казалась много моложе своих пятнадцати-шестнадцати лет, совершенно не интересовалась нарядами и поклонниками; она не любила регулярных занятий и под любым предлогом избегала их; в каждую свободную минуту разыгрывала комические сценки собственного сочинения, героями которых были муж и жена с вымышленными именами — Пётр Иванович и Мария Семёновна; строгий распорядок был Верой отвергаем — она не любила даже есть в определённое время, могла вскочить ночью и отправиться на поиски пищи, которую потом с аппетитом поедала в постели. Ни танцы, ни игры молодёжи Веру не занимали, она любила петь, но и пела мало и неохотно, когда приходили гости, ссылаясь на запрет отца. Запрет, впрочем, легко объясним мутацией голоса. Профессиональный певец, даже предполагая, что дочь наделена хорошими вокальными данными, не мог позволить ей петь в этом опасном возрасте. Окончив гимназию, летом 1881 года Вера покинула Петербург. В последующие два года жизнь семьи складывалась и раскладывалась заново, как бесконечный пасьянс. Вера разрывалась между отцом, к которому стремилось всё её существо, и матерью, которой она, вероятно, сочувствовала. Относительно этого времени мы располагаем, по крайней мере, двумя противоречивыми свидетельствами. М. Н. Комиссаржевская в своих мемуарах рассказывает так: «Я <...> получила письмо от Фёдора Петровича, полное упрёка, что я настроила Веру против него — иначе она не могла бы ответить на его письмо так, как ответила. Я спросила Веру, когда и что она писала отцу; она мне призналась, что получила от него письмо <...> с просьбой приехать жить с ним, предупреждая, что если она согласна, то должна отказаться видеться со мной, пока не будет сама самостоятельным человеком. “Я ответила ему, сказала Вера, что никогда не оставлю тебя, что довольно того, что он нас всех бросил”... и при этом она залилась слезами и обняла меня»[59]. Необычайно близкие и тёплые отношения Веры с матерью, которые хотела подчеркнуть в своих воспоминаниях Мария Николаевна, как нам уже доводилось писать, — абсолютный миф. Со слов самой Веры Фёдоровны об этом периоде сообщала М. И. Гучкова: «Вера ушла к отцу, когда он поселился со второй женой, но пробыла недолго. Та была плоха и груба с Верой»[60]. Вероятно, после развода родителей Вера попыталась жить с отцом, к которому её влекло, несомненно, больше, чем к матери. Но отношения с мачехой не складывались, остаться надолго в новой семье отца не получалось. Марии Николаевне тоже, конечно, приходилось непросто, прежде всего в материальном смысле: «То, что Фёдор Петрович присылал для детей (75 р.), не могло хватать на жизнь; я получала от моего брата 30 р. в месяц, так что жить в Петербурге с дочерьми было очень тяжело. От продажи имения остатков не оказалось за уплатой долгов»[61]. Вторая дочь Надежда была устроена с помощью родственника, известного врача П. С. Калабановича[62] (который в это время возглавлял Свято-Троицкую общину сестёр милосердия), в один из петербургских закрытых женских институтов, а на лето отправилась в имение Рукавишниковых близ станции Сиверская по Варшавской железной дороге, куда её пригласили погостить. Но у этих богатых и радушных людей она не нашла себе места: несмотря на то, что обстановка в имении напоминала ей Марьино, её преследовало ощущение бедной приживалки. Кроме того, сказывалась тоска по дому. То же было и в институте, где Надежда сразу почувствовала другой ритм и склад жизни — отсутствие привычки к регулярным системным занятиям не давало ей возможности втянуться в учёбу. Она стала болеть и вскоре была вынуждена покинуть институт, что и сделала с нескрываемой радостью. Так сложилось, что к 1882 году обе старшие дочери вновь объединились в одной квартире, которую сняла их мать — на Гончарной улице, неподалёку от вокзала, близ железнодорожного товарного двора. Место было, конечно, далеко не престижным, грязным, подозрительным. Н. Ф. Скарская вспоминала: «С оглушительным грохотом прыгали по булыжным кочкам ломовые телеги, толкался вполпьяна неизвестный сброд, в порывах ветра одичало носились по изломанным тротуарным плитам клочки соломы, сена и пыли, как жалкое подобие деревенского перекати-поля... Бывало, Вера и я смотрели из окна сумрачной комнаты на уличных прохожих, усевшись на подоконнике точно так же, как когда-то, в счастливые дни, в Марусине... Но какая во всём плачевная разница! Унылый городской пейзаж нагонял унылые думы. Бедная мамочка! Как бы ей помочь выбиться из тяжёлой нужды?..»[63] Планы строились разные, один наивнее другого. В числе прочих Скарская называла и такой: Вера раздумывала, не пойти ли ей прямо в Александринский театр со своими сценками, которые она с детства разыгрывала перед домашними. Возможно, это и недостоверный мемуар — уж слишком кажется такая ситуация надуманной, даже для дочери артиста, выросшей, что называется, за кулисами. Но, вероятно, он основан на ощущении девушкой, почти ещё подростком, своих выдающихся сценических талантов, ощущении, прямо скажем, в то время ещё сильно преувеличенном. В дальнейшем Вере предстояло пойти именно таким путём, материально поддерживая не только мать, но и сестёр на протяжении многих лет. Но между романтическими мечтами у окна квартиры на Гончарной улице и тяжёлой реальностью ежедневной сценической работы разверзлась ещё одна бездна, через которую нашей героине вот-вот предстояло перепрыгнуть. 30 мая 1884 года двадцатилетняя Вера Комиссаржевская вышла замуж. Граф Владимир Леонидович Муравьёв, талантливый молодой художник, светский красавец, представитель известного рода русских государственных деятелей, был тем человеком, чью фамилию Вера Фёдоровна носила до середины 1890-х годов. Выбор её кажется абсолютно логичным и не требующим никаких пояснений. Связать свою жизнь девушка с таким воспитанием, которое получила юная Комиссаржевская, и с таким творческим воображением, которым она обладала, могла только с человеком искусства. К моменту встречи и знакомства со своей будущей женой 23-летний В. Л. Муравьёв ещё мало чего достиг: в 1881 году он оставил Пажеский корпус, отказавшись таким образом от государственной карьеры (в отличие от своего брата Николая, который такую карьеру успешно сделал), и стал вольноприходящим учеником в пейзажном классе М. К. Клодта, профессора Петербургской академии художеств. Такое положение ни к чему не обязывало, и образование молодого художника трудно назвать систематическим. К 1884 году В. Л. Муравьёва ещё нельзя считать сформировавшимся художником, он только подавал надежды, талант его был заметен, но не отточен, совершенствование шло трудно и медленно. Этому процессу мешала богемная жизнь, которую вёл молодой человек, пользуясь преимуществами своего рождения. Охота, светские мероприятия, разного рода развлечения, в том числе и не вполне невинные, занимали его чрезвычайно. Эта неприятная черта Муравьёва впоследствии сказалась, во-первых, на его собственном творчестве — он стал художником преимущественно одного жанра, охотничьего пейзажа, а во-вторых, решительно повлияла на мировосприятие его жены. Вера Фёдоровна твёрдо усвоила одну весьма важную истину, которая до той поры не приходила ей в голову: без систематических усилий даже в творческой профессии (и прежде всего именно в ней!) невозможно достичь сколько-нибудь значительных успехов. Образ молодого одарённого человека, бездумно растрачивающего талант в светских увеселениях и в сумятице богемной жизни, будет ещё долго преследовать её и давать пищу размышлениям о предназначении художника в самом широком смысле этого слова. Более того, вероятно, понимание важности работы над собой, в том числе образовательной, пришло к Вере Фёдоровне благодаря недолгому и несчастливому её браку. Однако всё это было несколько позже. «Свадьбу справили с непонятной и ненужной поспешностью»[64], — пишет в своих воспоминаниях Н. Ф. Скарская. Поспешность, однако, понятна. Прежде всего, она была следствием страстной влюблённости, но немаловажно и то обстоятельство, что семьи как единого организма, живущего общей артистической жизнью, с некоторых пор Вера Фёдоровна была лишена и, видимо, очень желала этот пробел восполнить. Ей казалось, что общность их с Владимиром взгляда на искусство и личная готовность служить ему дадут ей возможность повторить путь собственной матери, но без трагического финала. А. П. Репина писала впоследствии о впечатлении, произведённом на неё бывшей воспитанницей в это время: «Я встретила в Гостином дворе Верочку. Она кинулась ко мне весёлая, счастливая и рассказала, что она вышла замуж, что муж её — художник, много обещающий талант, что они небогаты, но счастливы. Подробностей, толкового, практического рассказа об обстановке их семейной жизни не было. Было только светлое ликование молодости, беззаботное, самонадеянное»[65]. Конечно, ни о какой профессиональной карьере для себя Вера Фёдоровна в ту пору всерьёз не думала и думать не могла. А планировала она, с отмеченной умудрённой опытом Репиной самонадеянностью, быть всего лишь преданной женой своего мужа-художника, как её мать была преданной женой её отца-артиста. И таким способом поддержать, укрепить, вырастить его несомненный талант, стать его правой рукой, его советницей, опорой, помощницей, единомышленницей. Упущено было, конечно, главное: В. Л. Муравьёву ничего этого не требовалось. Неизвестно, как он смотрел на свою семейную жизнь, задумывался ли о её будущем или довольствовался настоящим моментом счастья и обладания любимой женщиной, но с уверенностью можно утверждать, что принятую на себя добровольно Верой Фёдоровной роль он не принял, своей свободной жизни не изменил и ежедневной близостью жены стал довольно быстро тяготиться. Молодые жили попеременно то в Петербурге, то в имении Муравьёвых, то на съёмной даче, где гостили и младшие сёстры Комиссаржевские. Н. Ф. Скарская много раз становилась свидетельницей бурных семейных сцен и даже скандалов между супругами, быстро утратившими взаимопонимание. Правда, её воспоминания об этом периоде жизни сестры нужно воспринимать с известной осторожностью, поскольку она была лицом заинтересованным в определённом освещении событий. Однако отношения в супружеской паре Муравьёвых были непростыми и иллюзии довольно быстро утрачивались. Неизвестно, на какой срок растянулся бы этот процесс, который зачастую занимает не годы, а десятилетия, если бы не произошла катастрофа, мгновенно уничтожившая все упования на будущее. Вера Фёдоровна узнала об измене мужа, причиной которой стала её собственная младшая сестра Надежда, соратница и непременная участница детских игр, подруга, доверенное лицо, ближайшая спутница всей сознательной жизни. В своих мемуарах Н. Ф. Скарская не обходит этой стороны отношений с сестрой и зятем, но, естественно, расставляет свои акценты. Учитывая полученный ею впоследствии крайне тяжёлый опыт отношений с В. Л. Муравьёвым, стремление обвинить во всём только его психологически объяснимо и оправданно. Понятно также, что восемнадцатилетняя девушка, вчерашний подросток, пережившая семейный раскол, в самом сложном возрасте лишённая постоянного общения с матерью, вынужденная жить у чужих людей и учиться в заведении, заведомо не удовлетворявшем запросам её личности, была одинока, искала понимания и любви. Желание Надежды принадлежать и служить искусству было не менее горячим, чем у Веры, но вылилось оно в пластические формы. Надежда стала импровизировать в жанре свободного танца, ставшего столь популярным чуть позже, в культуре модерна. В основании его лежала идея Ф. Ницше о танце как метафоре свободы и танцоре как воплощении раскрепощённого творческого духа. «И хотя есть на земле трясина и густая печаль, — писал Ницше, — но у кого лёгкие ноги, тот бежит поверх тины и танцует, как на расчищенном льду»[66]. В начале 1880-х годов, о которых идёт здесь речь, теоретическое обоснование танца в известном сочинении Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1885) только-только появилось, а до практических экспериментов в этой области великих американских и европейских танцовщиц Айседоры Дункан, Рут Сен-Дени, Мари Вигман было ещё далеко. Все они были значительно моложе Надежды Комиссаржевской, черпающей свои вдохновения буквально из воздуха времени. Впоследствии адепты свободного танца активно боролись с «моральными запретами и табу, реформируя не только сценический костюм, — вплоть до полного обнажения танцующего, но и образ жизни, проповедуя эмансипацию и отказ от брачных уз»[67]. Ничего этого, конечно, не могло ещё быть в сознании молодой танцовщицы, но было нечто вполне родственное — ощущение, что тело говорит, выражая самые сокровенные смыслы, которые невозможно передать иным способом. И ещё одно, чрезвычайно существенное качество танца, видимо, сыграло свою роковую роль: эмпатия, или, как её ещё называют специалисты, кинестезия, вовлекающая зрителя в движение, заставляющая его подсознательно вживаться в танец, воспринимать его не столько эмоционально, сколько телесно. Учтём ещё, что Надежда Фёдоровна, в отличие от своей сестры, считалась в семье красавицей, обладала яркой и выразительной внешностью. Молодой художник стал деятельным организатором, зрителем и вдохновителем этих «живых картин». На вопрос, догадывалась ли Надежда, на краю какой пропасти она танцует и к чему может привести исполнение этого танца, мы ответить не в состоянии. Сама она описывает своё тогдашнее состояние в терминах античного рока: «Жизнь моя определялась замкнутым кругом одних и тех же противоречий», «неизживаемым ощущением рокового гнёта, нависшего надо мной и над сестрой грозною тучей». Однако стоит вспомнить здесь её собственные переживания детства, связанные с безусловным превосходством старшей сестры и тем преклонением, которое Надежда испытывала перед Верой, стремясь, с одной стороны, подражать ей, с другой — хотя бы в чём-то превосходить. Теперь в непростом любовном треугольнике преимущество было очевидно на стороне младшей сестры, придавало ей недостающую уверенность в своих силах и — кто знает? — возможно, радовало ощущением одержанной победы. Всё это, конечно, втайне от самой себя. На поверхности лежало совсем иное. «Однажды, — пишет Н. Ф. Скарская, — я поймала на себе взгляд молодого человека, который должен был принадлежать только моей сестре. Сердце сжалось предчувствием беды»[68]. Как долго продолжалась их связь до того, как о ней стало известно Вере Фёдоровне, сказать трудно. В. Л. Муравьёв, осознав, что может потерять жену, пытался её удержать, клялся в любви — и при этом продолжал свои отношения с Надеждой. Та, конечно, казнила себя и даже (опять же, если верить её мемуарам) предприняла попытку самоубийства, но просто отойти в сторону уже не могла — она была беременна от своего зятя. Дальнейшее развитие событий было трагическим и бурным. Развод воспринимался Верой Фёдоровной как неизбежность. Интересно, что муж её вовсе не понимал этой неизбежности и всячески старался наладить отношения с женой, прибегая к разным способам, в том числе и к откровенной лжи. Сама Вера Фёдоровна рассказывала впоследствии об этом так: «После того он пришёл ко мне снова <...> и клялся, и уверял, что меня любит... но я узнала, что связь продолжалась... он же лгал... всё время гадко лгал»[69]. Н. В. Туркин, один из восторженных биографов В. Ф. Комиссаржевской, передавал её слова: «Я <...> едва не сделалась самоубийцей. Я застала его в мастерской. Я нарочно прошла туда, чтобы ни с кем не встречаться, и там произошло наше объяснение. Когда я ему сказала своё решение, он упал на колени и, целуя мои ноги, говорил: “Никогда, никогда этого не будет, разве могу я, узнав тебя, любить кого-нибудь другого?” И его мольбы стали переходить в бурную вспышку. Был момент, когда я стала колебаться, но мысль, что он должен принадлежать той, которая будет матерью его ребёнка, отрезвила меня. Я решила защищаться. Я попросила его принести мне стакан воды, а сама смотрела на охотничий нож, который лежал на столике у меня под рукой. Ещё мгновение, и я вонзила бы нож в себя, но он послушался меня и пошёл за водой. Я воспользовалась этой минутой и убежала»[70]. В биографической литературе о Комиссаржевской существует устойчивая легенда, что Вера Фёдоровна из сострадания к сестре во время развода с графом Муравьёвым, повторяя подвиг матери, вину в супружеской неверности приняла на себя и тем самым дала бывшему мужу возможность узаконить свои отношения с Надеждой. Нужно признать, что это несомненный миф. В копии свидетельства о браке Веры и Владимира, полученной в 1903 году, есть соответствующая приписка: «Записанный под № 5 брак потомственного дворянина, графа Муравьёва с дочерью Артиста певца Короля Эллинов, девицею Верою Фёдоровною Комиссаржевскою, решением Санкт-Петербургского Епархиального начальства, утверждённым Святейшим Синодом, расторгнут по виновности мужа с воспрещением ему навсегда вступать в новый брак, отметка учинена по указу из Д. Консистории, от 30 октября 1890 года, за № 8978»[71]. Несмотря на полученный запрет, Надежда всё же стала женой В. Л. Муравьёва, и её дочь Елена родилась как будто в законном браке. На самом деле брак законным не являлся и был заключён, очевидно, за денежную мзду не очень добросовестным деревенским священником в церкви села Коложиц Ямбургского уезда 10 января 1892 года. Эта история выплыла на свет в 1903 году из-за обращения в суд самой Надежды Фёдоровны, которая к этому времени все свои жизненные проблемы решила и захотела снова выйти замуж, встретив П. П. Гайдебурова, с которым и прожила впоследствии до самой своей смерти. Она официально просила признать её брак с Муравьёвым недействительным. Было учреждено расследование, опрошены все возможные свидетели, и прошение Н. Ф. Комиссаржевской было удовлетворено. В процессе следствия её спросили, знала ли она о запрете на церковное венчание, который получил Муравьёв после своего развода, и если да, то почему решилась на такой шаг. Надежда Фёдоровна ответила: «Ради дочери моей и графа Муравьёва Елены, родившейся в 1888 г. и ныне усыновлённой дядей моим Николаем Николаевичем Шульгиным»[72]. Брак, для заключения которого потребовалось немало хлопот, теперь можно было аннулировать — дочь Елена носила вполне законно родовую фамилию Шульгина и обладала устойчивым социальным статусом. Для Веры Комиссаржевской эта история не прошла бесследно. После пережитой трагедии она пыталась отравиться. Потом попала на месяц в психиатрическую клинику, как сама говорила: «Тогда случилось со мной что-то ужасное... Я сошла с ума и была в сумасшедшем доме... целый месяц...»[73] Встречаются глухие намёки на страшную болезнь, которой заразил свою жену Муравьёв во время их недолгой совместной жизни. Возможно, она стала дополнительной причиной психического срыва, пережитого Верой, и истоком тех тяжёлых патологических состояний, о которых упоминали впоследствии многие мемуаристы. После лечения Вера впала в длительную депрессию, из которой выходила медленно и тяжело. Естественно, что самое деятельное участие в воскрешении её к жизни должны были принять близкие люди, семья. Но семейная ситуация не была простой и однозначной, хотя Вера, без сомнения, оказалась страдающей стороной. Конечно, она была старшей сестрой, но возрастная разница в три года здесь совершенно несущественна. А жизненного опыта у неё было не многим больше, чем у Надежды. Кроме объективной сложности, была ещё и субъективная: отец и мать разделились в своих симпатиях. Отец был на стороне Веры, мать переживала за Надю. Надо, однако, признать, что оба они сумели найти в себе достаточно сил и любви, чтобы остаться в близких и дружеских отношениях с обеими дочерьми, участницами этой семейной драмы. Удивительно, что и сама Вера не разорвала в дальнейшем отношений с сестрой, хотя о прежней близости и доверительности, конечно, уже не могло идти речи. Совместная жизнь Надежды Фёдоровны и Владимира Леонидовича Муравьёва длилась недолго. Поначалу они уехали из Петербурга и поселились в одном из имений, принадлежавших графу, где родилась их дочь Елена. Казалось, что вдали от столичных искушений новая семейная жизнь может постепенно наладиться. Граф был страстным охотником, он уходил в леса на несколько дней. Эта традиционная дворянская забава в его случае была связана с другими удовольствиями, не столь невинными. Граф много пил, в том числе и во время охоты, кутил на вокзалах, заводил беспорядочные романы. Воспоминания об этом времени Н. Ф. Скарской полны устрашающих картин домашнего насилия: «Жизнь с графом в деревне, в моём добровольном затворничестве, с каждым годом становилась невыносимее. Было бы ужасно для меня вспоминать все те сцены, которые я вынуждала себя терпеть ради моей дочери. Все они были не только отвратительны, но и беспричинны: в меня целились из револьвера, меня жгли нагретыми щипцами для волос или, приставляя кинжал к груди, грозили зарезать. Последний год жизни с отцом моего ребёнка был особенно ужасным»[74]. Мы помним, однако, что Надежда Фёдоровна могла быть не вполне объективна в мемуарах, поскольку чувство вины перед сестрой преследовало её в течение всей жизни — ей необходимо было оправдаться, в том числе подчёркивая и несколько утрируя иррациональную жестокость мужа. Кроме того, как бывшая жена графа Муравьёва, она нуждалась ещё и в оправданиях другого рода: изданные в 1959 году записки Скарской требовали отчётливой социальной позиции — нужно было открещиваться от своих связей с дворянством, в том числе и семейных. Стоит предположить, что образ развратного, избалованного и не контролирующего себя мужа нарисован намеренно сгущёнными красками. Надежда Фёдоровна описывает своё окончательное бегство из дома графа — зимой, ночью, вместе с пятилетней дочерью, с помощью крестьян, буквально под дулом заряженного ружья (у В. Л. Муравьёва был большой арсенал оружия). Если в этом описании есть хоть некоторая доля истины, то нетрудно поверить, что её семейная жизнь сама по себе была самым суровым наказанием за вину перед сестрой. Косвенно это сообщение подтверждает М. И. Гучкова, которая могла знать о событиях только со слов Веры Фёдоровны: «Самое тяжёлое время — её замужество. Он (граф Муравьёв) ничего не зарабатывал, пил, а она должна была всё устраивать. Тяжело было слушать её рассказы об этой жизни. Когда сошёлся с сестрой, ещё больше пил, до того, что собрался резать её и дочь. Тогда Надя с девочкой убежали босиком (было в декабре) на станцию ж<елезной> д<ороги>, им удалось уехать в Петербург, и приехали к Вере. Я его видела только один раз, когда он пришёл на квартиру Веры, а так как я раздавала билеты на бенефис, то открыла дверь, но не впустила — впечатление было ужасное!»[75] Частично с этим рассказом перекликается то, что пишет далее о себе Надежда Фёдоровна: «В Петербурге я поселилась временно, вместе с девочкой, у мамы с Верой»[76]. Участие Веры, возможно и вынужденное, в судьбе младшей сестры, способность принять под свой кров не только её, но и ребёнка, рождённого от бывшего мужа, конечно, вызывают восхищение. Однако не следует забывать, что Вера в это время жила не одна, а вместе с матерью и сестрой Ольгой. Вполне вероятно, что у неё не было иного выхода, и решения принимала в этой ситуации не она. Биограф В. Ф. Комиссаржевской Е. П. Карпов завершает рассказ об этом тяжелейшем периоде её жизни такими словами: «Глубоко потрясённая неожиданным ударом, разразившимся над ней, обманутая, пережившая тяжёлую сердечную драму, Вера Фёдоровна осенью 1885 года уехала от мужа, чтобы никогда больше к нему не возвращаться. И опять для Веры Фёдоровны наступает скитальческая жизнь, полная лишений. Больная, с разбитыми вконец нервами, почти ненормальная психически, она едет с сестрой Ольгой Фёдоровной в Липецк, по предписанию докторов, поправлять расшатанное здоровье. Проживя там сезон, она, всё ещё больная, возвращается в Петербург, поселяется у матери, где живёт до 1891 года[77]. В этот период у неё зарождается мысль посвятить себя сцене...»[78] В одном из своих поздних писем Комиссаржевская сама прокомментировала внутреннее состояние, которое переживала в этот период и которым потом щедро делилась со своими «падшими» героинями: «Никогда человек не бывает так высок нравственно, как после падения, если оно совершилось вопреки его духовному я. Дух угнетён, потому что над ним было совершено насилие, и чтобы не дать ему упасть окончательно, поднимается со дна души всё хорошее, что там есть, и обостряется в своём стремлении доказать, что его много, что оно сильно и не ослабеет уже больше никогда. Важно удержать такой момент и дать духу расправить крылья...»[79] Едва только выскользнув из-под невыносимого груза страдания и безнадёжности, она поймала воздушный поток, и он понёс её к новой жизни.
Глава 4 VITA NUOVA
Iо mi senti’ svegliar dentro a lo core Un spirito amoroso che dormia...Dante Aligieri[80]
В 1888 году, то есть через три года после фактического развода, Вера Фёдоровна ещё не могла найти в себе силы продолжать жить и даже не пыталась нащупать новый путь. В одном из писем этого времени, адресованном М. В. Черняевой-Козловой, учительнице деревенской школы, с которой она познакомилась и, видимо, сблизилась в Липецке во время своего лечения на водах в 1886—1887 годах, Комиссаржевская писала: «Так как Вы интересовались моим здоровьем, то я спешу сообщить Вам, что чувствую себя сравнительно хорошо, вообще же о себе рассказывать, ей-богу, ничего не могу, потому что это и так Вам должно быть ясно: в этом “ничего” — всё». И далее: «У Вас, не правда ли, внешняя жизнь дружно идёт с нравственной, а вот когда они не ладят, тогда очень скоро исчерпывается интерес к жизни и делается из человека пешка, двигающаяся по инерции»[81]. Ощущение пустоты вовне и внутри себя самой позволяло Комиссаржевской двигаться пока только «по инерции», никакого творческого порыва не рождало. Хотя смутное желание движения всё же теплилось в ней — не могли пройти даром уроки, полученные от отца, не могло исчезнуть, уйти в никуда страстное обожание искусства, — теплилось, но пока не разгоралось, не находило реального применения. Ещё одной своей приятельнице по Липецкому курорту, жене лечившего её профессора Соловьёва, она признавалась в своём духовном бессилии: «Как в этой мерзкой, отвратительной, безотрадной жизни, полной таких неразрешимых противоречий, как не упасть в борьбе, выпадающей на долю каждого мыслящего и чувствующего человека? По-моему, если возможно найти более или менее нравственного удовлетворения, то его должны находить люди, отрешившиеся, насколько возможно, от личной жизни для чего-нибудь более высокого; несомненно, им очень нелегко, на их долю выпадает масса страданий, но они наверное не упадут от первого толчка судьбы, на которые она так щедра, не опустят руки, встряхнутся и идут опять вперёд, готовые на всё ради далеко-далеко светящегося огонька; пусть они одни видят этот огонёк, пусть они не дойдут до него, но он им светит, даёт силу, веру, с которыми они сделают, один больше, другой меньше, но сделают хотя что-нибудь. Вот что и ужасно: сознавать это и не иметь силы быть похожим хотя немного на то, чем надо быть, не иметь силы подняться, упав после первого толчка; сначала от бессилия, а потом понемногу вопрос: зачем, к чему всё это, когда, будучи полон самых хороших желаний и стремлений, видел, насколько это бесполезно»[82]. Думается, что тот образ человека, ведомого высокой целью, который рисует Комиссаржевская в письме, во многом коррелирует с личностью её собственного отца. Фёдор Петрович, конечно, пережил драматические эпизоды, расставшись к тому времени со своей второй семьёй, но не изменил ни своему призванию, ни своей профессиональной стезе, не отчаялся, не впал в депрессию, не пошатнулся. Наоборот, с неиссякаемой энергией искал применения своему таланту, участвовал в новых амбициозных проектах, отдавался преподаванию. Бессмысленность и тяготы борьбы за собственную душу пока перетягивают для Комиссаржевской чашу весов, хотя внутреннее убеждение в необходимости служения «высокому» всё-таки присутствует на этом безотрадном фоне. И, заглянув в будущее, надо признать, что оно-то как раз и составляло центр личности Веры Фёдоровны и в конце концов дало ей силы переломить ситуацию. Важно отметить, что Комиссаржевская от природы была весёлым, жизнерадостным, любознательным и чрезвычайно способным на всякую игру, шалость, шутку человеком. Вот как описывает своё знакомство с ней актёр Юрий Озаровский: «Она сама подходит ко мне и по-товарищески протягивает руку. Глаза так смеются, что мне сразу хочется сделаться её приятелем... — Ну, с вами-то, — говорит она, — мы наверное подружимся: ведь я тоже ученица Владимира Николаевича (Давыдова)... Притом, вы, наверное, любите шалости? — То есть? <...> — Ну вот в Пассаже показывают живую фотографию. Как только наладятся репетиции, мы отправимся с вами из театра и вдосталь насладимся диковинкой. — А как вы думаете, — спрашиваю я, — скоро наладятся репетиции? Вера Фёдоровна прыскает от смеха и убегает на сцену...»[83] Трагедия юности не смогла вытравить в Комиссаржевской врождённой способности к веселью и интереса к жизни, но наложила странный отпечаток, о котором вспоминал друживший с ней Ф. П. Купчинский: «Она была ребёнком, когда веселилась, смеялась, шутила, прыгала, кружилась, напевала, ещё недавно, ещё недавно, и после вдруг задумывалась, садилась тихая, медленная, вся будто застигнутая нежданной печалью...»[84] Были ли эти резкие смены настроения следствием пережитой катастрофы или знаком особого психического склада актрисы, сказать трудно. Но факт остаётся фактом: их фиксировали и о них рассказывали потом разные мемуаристы, которые близко знали Веру Фёдоровну. Мать Комиссаржевской вспоминала, что доктора очень рекомендовали после возвращения дочери с Липецкого курорта найти для неё какое-нибудь специальное занятие, дело, которое бы захватило её и отвлекло от тяжёлых переживаний. Зная о сценическом даровании дочери, Мария Николаевна предложила ей переговорить с В. Н. Давыдовым о частных уроках актёрского мастерства. Эта мысль её воскресила. В. Н. Давыдов — одно из громких имён в русской театральной традиции. С 1880 года он работал в труппе Александрийского театра, завоевав симпатии зрителей блестящим мастерством, тонким вкусом и художественным тактом. Виртуозное владение всеми средствами внешней выразительности, безукоризненная техника перевоплощения позволяли ему одинаково успешно выступать в комедийных, трагических, водевильных и даже женских ролях[85]. Одновременно с активной сценической деятельностью Давыдов преподавал, среди его учеников — человек, впоследствии близкий Комиссаржевской, актёр Н. Н. Ходотов. О Давыдове как педагоге он вспоминал исключительно восторженно: «Определённой научной системы преподавания у Давыдова не было. Его педагогическая система вытекала из его личного сценического опыта и поразительной неповторимой техники показа. Давыдов учил нас практически, наглядно раскрывая приёмы своей игры и игры представителей различных актёрских стилей. В своей гениальной памяти он хранил воспоминания об игре крупнейших артистов России и Европы и из пестроты запомнившихся ему образов в каждом отдельном случае извлекал тот, который казался ему убедительным для данного положения. Давыдов не боялся известного разнобоя в показе, его не смущало различие приёмов и методов творчества: ему было важно лишь, чтобы при различных приёмах достигалось претворение в образ. Боялся он только притворства. Каждое внешнее противоречие при его указаниях, или, лучше сказать, при его “технике показа”, незаметно стушёвывалось и приводило к неоспоримому выводу: “Так надо, а так не надо”»[86]. Узнав о желании Веры Фёдоровны, Давыдов легко согласился заниматься с ней и предложил крайне умеренную плату как дочери актёра — «половину того, что брал с других учениц»[87]. Однако даже этих денег мать обеспечить ей не могла, пришлось взять в долг, поскольку разочаровывать дочь в тех обстоятельствах, в которых она находилась, Мария Николаевна никак не хотела. Разочарование пришло само собой — Давыдов отнёсся к дарованию Веры Фёдоровны очень скептически. Его практическая методика преподавания не приносила в её случае ощутимых результатов, и особенно радужных прогнозов на будущее ученицы Давыдов не давал. Почему гениальный актёр классической школы и одарённый опытный педагог не нашёл общего языка с начинающей актрисой и не разглядел в ней незаурядный талант? Вероятно, природа их дарования была слишком различной, как различны были и представления об актёре и его задачах, хотя, конечно, ничего конкретного сейчас сказать невозможно. Впоследствии Давыдов будет высказываться о своей бывшей ученице исключительно комплиментарно. Известен только печальный факт, вновь повернувший судьбу В. Ф. Комиссаржевской в неожиданную сторону: «Среди сезона она была очень огорчена заявлением В. Н. Давыдова, что за недостатком времени он продолжать с ней занятия не может и советовал ей поступить в театральную школу, на что она не согласилась»[88]. Но, как это часто бывает, жизнь предоставила ей новые возможности, которые оказались тесно связаны с самым главным человеком в её актёрской и человеческой судьбе — её отцом. Ещё в 1883 году Ф. П. Комиссаржевский, вернувшийся из Италии с новой семьёй, получил предложение возглавить оперный класс Московской консерватории. Это произошло после того, как он оставил большую сцену и с большим энтузиазмом воспринял возможность начать жизнь заново. Своему приятелю, журналисту и драматургу О. К. Нотовичу Фёдор Петрович писал: «Вы уже знаете, конечно, что я приглашён в Московскую консерваторию профессором обучения класса пения <...> называемого оперным, но правильнее лирической декламации. В четверг была первая лекция, а вчера некоторые ученики и ученицы выразили мне свой восторг и благодарность, прибавив, что, судя по тому, что я сказал им в первой лекции, они узнают то, о чём не имели понятия»[89]. В сравнении с Петербургской консерваторией атмосфера Московской, организация занятий, отношения между преподавателями и учениками нравились новому профессору. Один из учеников Ф. П. Комиссаржевского в этом учебном заведении В. П. Шкафер вспоминал о нём с чувством благодарности и восхищения: «В оперном классе он читал лекции сценического искусства, после которых происходили практические занятия на сцене. Разыгранные отдельные отрывки из опер подвергались критическому разбору, происходил подробный анализ сыгранного. Это приучало учеников к сознательной работе над ролью. Ученики старались вырабатывать привычку, осмыслить действие, дать тот или иной образ, характер, типичность изображаемого лица. Обладая крупным режиссёрским талантом и будучи сам певцом-актёром, Ф. П. Комиссаржевский с особенной любовью, охотой и настойчивостью вбивал в наши юные головы ценные мысли, которые в будущей нашей артистической деятельности принесли нам огромную пользу. Он не уставал повторять, что оперный артист, не умеющий сыграть свою роль, ограничивающийся на оперной сцене трафаретом и рутинными приёмами, много теряет даже при условии очень хорошего голоса и вокального исполнения»[90]. Сегодня эти истины кажутся прописными, однако подлинный артистизм, давно завоевавший законное место на драматической сцене, в те времена для оперы не казался столь обязательным. Собственно, быть певцом-артистом, как аттестует Ф. П. Комиссаржевского В. П. Шкафер, требовало незаурядной настойчивости в преодолении штампов и внутренней свободы в проявлении своей творческой индивидуальности. Кроме того, Комиссаржевский настойчиво старался провести идею собственно русской певческой школы (в противовес господствующей итальянской), указывая на лучшие образцы русской оперной музыки. На роль главы такой школы он имел все основания претендовать. Педагогом школы он хотел видеть человека, обладающего знаниями эстетических наук, литературы, истории, музыки, которые в неразрывном синкретическом единстве составляют основу оперного искусства. «Изучение пения как искусства сложно и требует от учителя образования обширного»[91], — утверждал он. Отсутствие таких учителей в России тяготило и волновало его. Мы ещё вспомним об этих установках Ф. П. Комиссаржевского в конце книги, когда речь пойдёт о планах его дочери организовать театральную школу новой формации. И ученики, и коллеги Фёдора Петровича всегда отмечали не только его одарённость, образованность, но и незаурядный ум — качество, казалось бы, совсем не сценичное. Не понимая умом, артист всегда может глубоко прочувствовать свою роль, в нём работает мощная интуиция, дающая порой постижение очень глубокое, но не рациональное по своей природе. Ф. П. Комиссаржевский не был интуитивным артистом, он размышлял над своими ролями и требовал того же от учеников. Шкафер вспоминает: «“Глупых голосов” Ф<едор> П<етрови>ч не выносил; он скажет: “Странно, человек он умный, а вот голос его дурак! На черта он нужен!” А бывало и наоборот — он в раздражении обмолвится по адресу недаровитого ученика: “Чёрт возьми, вывел из терпения, такой непонятливый, а голос прекрасный, настоящий оперный голос, но что вы с таким сделаете, ни черта не понимает, что ему объясняешь!” От таких учеников он скоро отказывался»[92]. Кроме рутинной педагогической работы Фёдор Петрович выступал в Московской консерватории и как режиссёр. В разные годы он поставил оперные спектакли «Волшебная флейта» (1884), «Водовоз» (1885), «Свадьба Фигаро» (1888). Актёры Большого театра, на сцене которого Комиссаржевскому тоже довелось петь в сезоне 1882 года после ухода из Мариинского, под его руководством готовили свои оперные партии. Одним словом, авторитет его как педагога, певца и режиссёра был очень высок. Однако несмотря на свой успех, Фёдор Петрович долго в Московской консерватории не задержался. Причиной, вероятно, был конфликт с администрацией. 11 февраля 1888 года Ф. П. Комиссаржевский написал директору Московской консерватории С. И. Танееву следующее письмо: «Думая, что мне в силу принятых на себя обязательств по отношению учреждения и равно моих учеников необходимо до разрешения вопросов продолжать занятия в классе пения, я рассчитываю завтра в обычный час 9.00 утра быть в классе. <Прошу> Вас снять с меня обязанности по оперному классу. Примите уверения в уважении Вашего покорнейшего слуги Ф. Комиссаржевского»[93]. О конфликте судим исключительно по тону письма и глухому упоминанию каких-то неразрешённых вопросов, которые могли воспрепятствовать продолжению работы Комиссаржевского со студентами. А. В. Амфитеатров упоминает в своих мемуарах, что администрация Консерватории была недовольна активной публицистической деятельностью Ф. П. Комиссаржевского, в том числе его сотрудничеством с газетой «Московский листок», имевшей дурную репутацию. Достоверны ли эти сведения, неизвестно. В любом случае прошение его было удовлетворено, и вскоре начался новый этап деятельности этого неутомимого человека. Не прошло и нескольких месяцев после увольнения из Консерватории, а Ф. П. Комиссаржевского уже приглашают в Смоленск «для устройства оперного отдела по случаю проезда Великого князя»[94]. В Смоленске в это время не могло быть оперного отдела в театре, потому что театра в привычном понимании, как и постоянной театральной труппы, до 1919 года не существовало. В летние месяцы антрепренёрами использовались для сезонных постановок театральные залы. Оперный отдел мог быть при музыкальном обществе; вероятно, его-то и ездил организовывать Фёдор Петрович летом 1888 года по приглашению М. К. Тенишевой (тогда Николаевой), его преданной ученицы[95]. После окончания студии М. Маркези в Париже она занималась в 1887 году с Комиссаржевским в Москве: «С Комиссаржевским у нас завязались очень дружественные отношения. Он предсказывал мне очень хорошую карьеру и даже по моей просьбе поехал на следующее лето в Смоленск для участия в любительском спектакле, который предполагали устроить по случаю приезда великого князя Владимира Александровича»[96]. Предполагалось поставить по одному действию из опер «Рогнеда», «Фауст», «Аида» с приглашением столичных артистов. Спектакль расстроился из-за светской интриги, к которой наш герой не имел ни малейшего отношения, и Фёдор Петрович остался отдыхать у Тенишевой в знаменитом имении Талашкино, занимался с ней пением и лечился водами. Учеником Комиссаржевского во время его работы в Консерватории был начинающий актёр К. С. Алексеев — будущий великий Станиславский, размышлявший тогда о карьере певца. Он оставил о своём учителе любопытные воспоминания: «В то время в преподавательском мире имел успех знаменитый певец — тенор Фёдор Петрович Комиссаржевский. <...> Я стал брать у него уроки пения. Ежедневно, по окончании занятий в конторе, часто не успев пообедать, я летел в другой конец города, на урок к своему новомудругу. Не знаю, что принесло мне больше пользы: самые ли уроки или разговоры после них. Когда мне показалось, что мои вокальные занятия подвинулись настолько, что я могу уже выступить в какой-нибудь партии, было решено ставить спектакль. Сам Ф. П. Комиссаржевский, соскучившись по сцене, захотел поиграть вместе со мной. Наш театр-столовая пустовал, и потому было решено воспользоваться им. Я готовил две сцены — дуэт с Мефистофелем из “Фауста” (Комиссаржевский и я) и первый акт из оперы Даргомыжского “Русалка”, в которой я пел Мельника, а Комиссаржевский — князя. Кроме того, для остальных учеников были приготовлены другие отрывки, в которых участвовали настоящие певцы с голосами не чета моему. Со второй репетиции я охрип и чем дальше пел, тем было хуже. <...> Встав на одни подмостки с хорошими певцами, я понял непригодность своего голосового материала для оперы, недостаточность музыкальной подготовки. Мне стало ясно, что из меня никогда не выйдет певца и что мне нужно навсегда расстаться с мечтами об оперной карьере. Уроки пения прекратились, но я не переставал, чуть ли не каждый день, ездить к своему бывшему учителю, Ф. П. Комиссаржевскому, для того чтобы говорить с ним об искусстве и встречаться у него с людьми, причастными к музыке, пению, с профессорами Консерватории, где Комиссаржевский заведовал оперным классом, а я ещё продолжал быть в числе директоров. Скажу по секрету, что втайне у меня была дерзкая мысль сделаться помощником Комиссаржевского по классу ритма, который я измышлял для себя. Дело в том, что я не мог забыть очаровательного впечатления, которое осталось во мне, при оперных пробах, от ритмического лицедейства под музыку. <...> Я доказывал Комиссаржевскому необходимость культивирования физического ритма для певца. Он увлёкся моей мыслью. Мы уже нашли аккомпаниатора-импровизатора и по целым вечерам жили, двигались, сидели, молчали в ритме. К сожалению, Консерватория отказала Комиссаржевскому в устройстве проектируемого класса, и наши пробы прекратились. <...> Итак, пение не было моим призванием. Что делать? Возвращаться в оперетку, к домашним спектаклям? Но я уже не мог этого сделать. Слишком многое я узнал от Комиссаржевского о высших целях и задачах искусства»[97]. В этой развёрнутой характеристике отметим постоянное стремление Комиссаржевского говорить со своими учениками об искусстве, на практике воплощая собственные представления о функции педагога, работающего не только с голосовым физиологическим материалом, но и с внутренним миром, душой ученика. Важное значение имеет и чрезвычайная подвижность Комиссаржевского, его готовность воспринимать новое и внедрять в жизнь, с лёгкостью отдавать время и силы на то, что представляется важным для профессионального мастерства. Это качество — следствие искреннего увлечения своим делом, полной погружённости в него. Вернувшись в Москву в августе 1888 года, Фёдор Петрович активно включился в новое предприятие. В середине сентября театральному художнику Ф. Л. Соллогубу было отправлено за его подписью следующее послание: «Шестнадцатого сентября сего года, в помещении Общества Искусства и Литературы (Тверская, угол Большого Гнездниковского переулка, дом Гинцбурга) имеет быть собрание членов-учредителей означенного Общества для прочтения утверждённого Правительством устава, избрания правления и осмотра помещения. На это собрание покорнейше просит Вас, Милостивый Государь, пожаловать в 7 часов вечера Фёдор Петрович Комиссаржевский, Константин Сергеевич Алексеев, А. Федотов»[98]. Константин Сергеевич Алексеев легко узнается по сочетанию имени и отчества даже теми, кто не знает, что Станиславский — это псевдоним легендарного режиссёра. Александр Филиппович Федотов — актёр и режиссёр, один из тех деятелей, благодаря которым к началу XX века русскому театру удалось выйти на высочайший мировой уровень. 7 августа 1888 года министр внутренних дел утвердил устав Общества искусства и литературы. При нём было создано Музыкально-драматическое училище, которое просуществовало до 1891 года. Общество разместилось в Москве в Нижнем Кисловском переулке, в доме, принадлежавшем семье высокопоставленных чиновников Секретарёвых, у которых был свой частный театр, поэтому и сцена его скоро получила негласное прозвище «Секретарёвка». Станиславский вспоминал об этом так: «Представителем артистического мира и мира писателей был сам Федотов, представителем музыки и оперы был Комиссаржевский, представителем художников — граф Соллогуб. Кроме того, к нашему Обществу примкнул издатель возникавшего в то время литературно-художественного журнала “Артист”[99], имевшего впоследствии большой успех. Основатели этого журнала воспользовались возникающим Обществом, чтобы популяризировать своё начинание. По мере всё возрастающих мечтаний, было решено открыть и драматическую, и оперную школу. Как обойтись без них, раз среди нас были такие известные преподаватели, как Федотов и Комиссаржевский!»[100] В своих воспоминаниях Станиславский упоминает ещё об одном интересном факте. Для подкрепления средств Общества был дан большой костюмированный бал в залах бывшего Благородного собрания. Убранством помещения заведовали лучшие художники, а участниками его были многие из артистов. «На этом балу имел особенный успех любительский цыганский хор, составленный из учеников и членов Общества. В качестве солисток хора выступали обе дочери Ф. П. Комиссаржевского, приехавшие из Петербурга. У них были прекрасные голоса и хорошая манера петь, усвоенная от отца. Это было первое выступление перед большой публикой известной артистки Веры Фёдоровны Комиссаржевской»[101]. О появлении в Москве дочерей Комиссаржевского вспоминает и другой его ученик — Шкафер, который продолжал заниматься с ним и вне стен Консерватории: «Придя в Училище на урок, я встретил Фёдора Петровича; у него мы узнали, что к нему приехали из тогдашнего Петербурга его две дочери, которые будут участвовать в объявленном костюмированном вечере. “Я вас познакомлю со своими девочками”, — сказал он нам — ученикам и повёл в свой кабинет. Кабинет у него был очень большой, со вкусом обставленный, похожий скорее на хорошую гостиную, где можно не только работать, но и отдыхать, принимать знакомых и друзей, — ничего казённого, сухого, официального. Около ваз с цветами стояли две очаровательные, изящные девушки, одна из них блондинка, другая брюнетка. Рядом с ними стоял офицер-моряк. “Дети, вот вам мои ученики, знакомьтесь!” — представил нас Фёдор Петрович. Это и были Вера Фёдоровна и Ольга Фёдоровна Комиссаржевские, мигом пленившие нашу компанию. Вера Фёдоровна была уже в замужестве и успела развестись. Офицер-моряк рекомендовался Сергеем Ильичем Зилоти»[102]. Об этом человеке необходимо сказать несколько слов. Сергей Ильич Зилоти — страстный поклонник театра и музыки, избравший, однако, путь профессионального военного. Он начинал как младший офицер Тихоокеанской эскадры контр-адмирала Макарова, а погиб в ноябре 1914 года в звании генерал-лейтенанта флота. Настоящий боевой офицер, он был участником Русско-японской и Первой мировой войн, получил множество наград. Однако свою профессиональную деятельность Сергей Ильич ухитрялся сочетать со служением искусству. Он был очень музыкален, играл на гитаре, пел, писал стихи и музыку, выступал в роли режиссёра любительских театральных спектаклей, руководителя хора. Эти его увлечения не случайны. Семья Зилоти была тесно связана с музыкой. Младший брат Сергея, Александр, был всемирно известным пианистом, учился в классе Н. Г. Рубинштейна, по контрапункту — у С. И. Танеева, по гармонии — у П. И. Чайковского, затем в Вене брал частные уроки у Ф. Листа, с П. И. Чайковским впоследствии был очень дружен, редактировал его партитуры. В 1880-х годах профессорствовал в Московской консерватории по классу фортепиано. В 1887 году Александр Ильич Зилоти женился на Вере Третьяковой, дочери основателя знаменитой художественной галереи П. М. Третьякова и представительницы известной семьи меценатов В. Н. Мамонтовой. Зилоти были в близком родстве с Рахманиновыми. С. В. Рахманинов, их двоюродный брат, учился в Консерватории в фортепианном классе А. И. Зилоти. Вообще вся эта большая дружная семья жила преимущественно музыкой и искусством. После окончания Морского корпуса Сергей Ильич был командирован во Владивосток. Вернувшись в середине 1880-х годов в столицу, он отправился для поправления здоровья на Липецкие воды, где и познакомился с Верой Фёдоровной Комиссаржевской. «Там она встретила старшего из братьев Зилоти — Сергея, — описывает историю этого знакомства близкая родственница Зилоти М. Г. Шторх. — Сергей сделал ей предложение, этот роман вернул её к жизни. Некоторое время Вера Фёдоровна считалась его невестой, но они так и не поженились, разошлись — видимо, слишком ещё свежа была рана от первого брака. Удивительно, но дружба между ней и Сергеем сохранилась навсегда, сблизилась она и с его братом, Александром Ильичом Зилоти, оба были люди искусства, темпераментные, импульсивные, иногда даже резкие от прямоты и честности чувств. А лучшей её подругой на всю жизнь осталась младшая сестра жениха Мария Ильинична <...>»[103]. Воспоминания Марии Ильиничны Зилоти (Гучковой) мы уже не раз цитировали в этой книге. Приведём ещё один фрагмент этих мемуаров о её первой встрече с В. Ф. Комиссаржевской: «Я впервые познакомилась с ней в Москве в день моего выпускного экзамена. Мне было 17, ей 25. Мой брат привёл её к нам как свою невесту. Брак этот расстроился, В. Ф. всё же вошла в нашу семью и осталась в ней другом»[104]. Мария Зилоти, как и все члены этой семьи, была влюблена в Комиссаржевскую, старалась как можно меньше с ней разлучаться, поклонялась её актёрскому таланту, да и вообще, судя по её воспоминаниям, считала её лучшим человеком, с которым ей довелось встретиться на земле. Вот какой увидела Веру Фёдоровну юная Мария Зилоти: «...Вспомнила только теперь, какое впечатление у меня было в первый же момент нашего знакомства. Это цвет волос — блондинка с пепельным оттенком, каких я всю жизнь больше не встречала. Необыкновенно красивы (и завивались от природы), и ещё её хрупкость. Она не была особенно худа, но вся даже без движений производила впечатление, что сейчас разобьётся, как стекло, если упадёт. И это оставалось всю жизнь. Даже пожать крепко руку было страшно, что рука сломается. Такой я тоже никогда больше не встречала. Я считаю, что это шло изнутри, а не только физически. Что-то поразительное». И далее: «Недавно кто-то спрашивал про В<еру>, и мне трудно было дать краткое, но верное представление, и после прочла, что Марина Цветаева сказала про Пастернака, что он неиссякаемое истекание света. То же самое я бы сказала и про В<еру>»[105]. Сделав предложение, Сергей Ильич не замедлил привезти свою невесту в родовое имение Знаменка, которое находилось в Тамбовской губернии на высоком берегу реки Матыры. М. Г. Шторх вспоминает о красивом господском доме, утопавшем в сирени, парке с вековыми липами и елями, который частично сохранился и по сей день, церкви с колокольней за резной оградой. Об уютной домашней роскоши сейчас, понятно, остались только воспоминания. А в конце 1880-х годов в имении протекала очень интенсивная жизнь, связанная, прежде всего, с молодым поколением Зилоти, среди которых были две сестры и четыре брата. «В этом доме, — пишет Ю. П. Рыбакова, — Комиссаржевская нашла то семейное тепло, которое потеряла с уходом отца. Привязчивая к людям и благодарная за внимание, она стала своей в Знаменке, бывая там ежегодно, а то и по нескольку раз в год»[106]. Дети называли её «тётя Вера», хотя в семье не было принято называть чужих «тётями», но для Комиссаржевской делалось исключение. Её должны были особенно притягивать не только домашняя атмосфера, но и общая семейная одарённость и общее увлечение музыкой во всех её видах: Александр Ильич был превосходным пианистом, приезжал в Знаменку и начинающий композитор С. В. Рахманинов, Сергей Ильич был поклонником цыганского пения, писал романсы, сам прекрасно пел. Ему удалось собрать небольшой хор из местных певчих, и с ним он выступал на домашних концертах. Одним словом, обстановка была театрализованная, и Вере Фёдоровне, видимо, она показалась родной. Роман с С. И. Зилоти хотя и не закончился свадьбой, но воскресил её к жизни и многое определил в её дальнейшей судьбе. Прежде всего благодаря ему Комиссаржевская вышла на сцену. Вернувшись из Владивостока, Сергей Ильич продолжал служить в Петербурге, но довольствоваться только службой не умел и развил активную музыкальную деятельность. Имея Знаменский опыт, в столице он также организовал любительский хор, который исполнял цыганские песни. Среди участников не было ни одного профессионального певца и ни одного цыгана, но цыгане специально приезжали из Новой Деревни, где они жили в то время, чтобы послушать выступления хора. Концерты проходили в Морском собрании флотского экипажа, куда съезжалась и петербургская публика. Сёстры Комиссаржевские, Вера и Ольга, стали в этом хоре «цыганскими примадоннами». М. И. Гучкова вспоминала: «...Зимой они пели вдвоём с сестрой Ольгой на вечерах, которые устраивал мой брат (С. И. Зилоти) в Морском собрании. Там бывала вся знать до государя включительно. Ольга пела как прирождённая цыганка, никогда их не слышавши. Как передать, что чувствовали при Верином пении!!! Брат всегда аккомпанировал ей на гитаре. Успех этих вечеров был исключительный»[107]. О литературно-музыкальных вечерах, устраиваемых в Морском корпусе, довольно пространно писала пресса, указывая имена главных исполнителей. Имя гр. Муравьёвой (официальный развод Вера Фёдоровна получит только в 1890 году) то и дело мелькало в отчётах об этих концертах. После смерти Комиссаржевской в газете «Одесский листок» были опубликованы следующие воспоминания: «В хоре участвовало много очень красивых молодых женщин и девушек. Среди них была и Вера Фёдоровна в цыганском костюме с распущенными волосами. Она не была красавицей, но её звёзды-глаза на маленьком бледном лице поражали всех. Последний аккорд безумной лихости вдруг оборвался. С. И. Зилоти перевернул гитару жестом настоящего цыгана... И сейчас же тихий, едва слышный звук струны на его гитаре стал аккомпанировать пению. То пела Вера Фёдоровна, и пение это вдруг преобразило всю залу. Лица стали серьёзны, побледнели. Женская скорбь бесшумно влетела в залу, горькие слёзы и рыдание в тёмных, забитых углах напомнили о себе, женщина измученная, оскорблённая, самоотверженная изливала душу свою в пении романса...»[108] Понятно, что, приехав к отцу в Москву, сёстры Комиссаржевские были приглашены участвовать в готовившемся благотворительном концерте, в который было включено выступление цыганского хора, составленного из учеников и учениц оперной школы. Вера и Ольга солировали во время выступления хора и имели большой успех. В. П. Шкафер вспоминает: «У Веры Фёдоровны был небольшой голос меццо-сопрано, тёплого тембра. Пение её трогало до слёз — уменьем хорошо фразировать, чётко говорить слова, какими-то особенностями тембровых голосовых вибраций, доходящих до вашего сердца. Этому научить нельзя. Здесь сказывается интеллект артиста, вся его художественно-артистическая природа. Звук этот был одухотворённым...»[109] Впоследствии С. Н. Дурылин писал о голосе Комиссаржевской и его воздействии в драматических ролях: «Когда Томазо Сальвини спросили, что нужно для того, чтобы сделаться трагиком, он отвечал: voce, voce, voce — голос, голос, голос. Первое, чем радовала, трогала, потрясала Комиссаржевская, был голос, голос, голос. Удивительной чистоты, непоколебимой свежести и серебристости, он сам в себе уже таил власть над слушателями. Дочь знаменитого певца, мастера bel canto, Ф. П. Комиссаржевского, она унаследовала от отца тот артистический вокализм, который так исключительно редок у драматического актёра»[110]. А. Н. Феона, актёр, работавший впоследствии с Верой Фёдоровной, вспоминал свои впечатления от её пения: «У В. Ф. был чарующий своеобразный голос — меццо-сопрано, переходящее в контральто, хотя, по внешности, в ней можно было бы скорее предположить высокий голос. К этому надо прибавить удивительно приятный грудной тембр и идеальную для драматической актрисы музыкальность...»1" О низком, густом, грудном голосе, очарования которого невозможно передать, во многих своих письмах говорит М. И. Гучкова (Зилоти). Она оказалась обладательницей единственной, наверное, записи голоса Комиссаржевской, случайно ею испорченной. Уезжая на свои последние гастроли, Вера Фёдоровна, по просьбе подруги, в утешение ей в связи с предстоящей разлукой, уже одетая, буквально на пороге, прочитала для записи стихотворение Апухтина «Ночь в Монплезире», которое часто исполняла и во время концертов со сцены под аккомпанемент арфы. «Тогда были ещё граммофоны, — вспоминает Гучкова, — и я, заводивши его для всех, ошиблась и повернула пластинку в обратную сторону. Можете себе представить, в каком я отчаянии...»[111][112] Осенью 1890 года Вера и Ольга Комиссаржевские переехали жить к отцу — к этому времени он уже остался один, его второй брак распался. В этом браке у Фёдора Петровича было двое сыновей, об одном из них, соименном отцу, мы уже упоминали, впоследствии он станет сотрудником сестры и в стенах её театра постепенно вырастет в самостоятельного режиссёра, будет ставить и оперные спектакли, приобретёт известность как теоретик театра. В 1919 году Ф. Ф. Комиссаржевский эмигрировал в Великобританию, где работал на разных сценах и с разными труппами. Ставил не только драматические, но и оперные спектакли, зачастую выступал как художник-оформитель собственных постановок, серьёзно изучал историю костюма, преподавал в Королевской академии драматического искусства. Во время Второй мировой войны перебрался в США, где тоже осуществил несколько постановок. Умер Ф. Ф. Комиссаржевский в 1954 году. Второй сын, Николай, родился в 1884 году в Москве, его биография скромнее. Он не связал свою жизнь с театром. Зато с отличием окончил Императорский лицей цесаревича Николая, в котором учился с 1899 по 1904 год. И в том же году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где прослушал полный курс наук. Доподлинно известно, что Н. Ф. Комиссаржевский после революции остался в России, в 1930-х годах работал заведующим культурным сектором московского Дома писателей, в 1931 году вместе со своей женой Анной Михайловной (урождённой Красовской) собрал сборник в память своей сестры, в октябре 1937 года был арестован по обвинению в шпионаже и 8 января 1938 года расстрелян на полигоне в Коммунарке. Все дети Ф. П. Комиссаржевского не просто были знакомы, но крепко дружили, несмотря на сложную семейную историю, обиды, ссоры и драматические разрывы, происходившие между их родителями. Вероятно, мощным объединяющим их фактором была личность отца, значимая для каждого по-своему, но никого из них не обделившая своим влиянием. Когда Фёдор Петрович остался в Москве один, дочери, скучавшие по отцу во время его второго брака, старавшиеся часто с ним видеться, поспешили к нему — помогать по хозяйству и греться в лучах его таланта. Они, конечно, стали посещать оперный класс, который вёл в училище Ф. П. Комиссаржевский. Тут нужно сделать небольшое отступление: по некоторым мемуарам нам известно, что Фёдор Петрович вроде бы не хотел делать из своих дочерей актрис и противился их артистической карьере. Однако М. И. Гучкова, лично с ним знакомая, сообщает иное: «Вера Фёдоровна с детства мечтала о театре. Отец её, известный певец, хотел сделать её оперной артисткой, но это не удалось, и В. Ф. осуществила свою мечту, став драматической артисткой»[113]. Как бы то ни было, видя стремление своей старшей дочери к сцене, Фёдор Петрович стал включать её в ученические концерты и спектакли. Известно, что играла она в спектакле «Каменный гость». О совместной подготовке к этому спектаклю вспоминает В. П. Шкафер. Упомянул о нём в своих мемуарах и А. В. Амфитеатров: «Полулюбительский спектакль, в котором участвовали юноша Станиславский и молодая барышня, готовившаяся к оперной карьере, В. Ф. Комиссаржевская. Весь состав спектакля не помню, но, между прочим, шла сцена из “Каменного гостя” Пушкина, Вера Фёдоровна играла Лауру и пела вставные испанские романсы: “Я здесь, Инезилья” Даргомыжского и другой какой-то... Лаурою Веру Фёдоровну я, конечно, не помню, но вообще-то пела она прелестно...»[114] Вероятно, Лаурой Комиссаржевская стала только временно — чтобы спеть романс Даргомыжского, в женском исполнении предназначенный для меццо-сопрано. Вообще же в «Каменном госте» она репетировала и играла донну Анну. Летом Ф. П. Комиссаржевский вместе со своими учениками ездил на гастроли в провинцию, где показывал поставленные им оперные спектакли. Летом 1891 года он включил в свои гастрольные постановки и старшую дочь. Она пела Зибеля в «Фаусте» и няню в «Евгении Онегине». Н. В. Туркин, вероятно, со слов самой Комиссаржевской, писал об этом: «Выступления Веры Фёдоровны в партиях Зибеля и няни не сопровождались заметным успехом. Наоборот, отец нашёл, что у неё очень слаба грудь и что идти ей в оперные певицы опасно»[115]. В источниках разной степени достоверности встречаются глухие намёки на деспотический характер Фёдора Петровича. В мемуарах матери М. Н. Комиссаржевской рассказывается, например, о таинственном женихе семнадцатилетней Веры и несостоявшейся свадьбе. Фёдор Петрович якобы был категорически против брака, хотя в этот момент уже давно жил со своей второй семьёй и управлял судьбой дочери, так сказать, дистанционно. С. И. Смирнова-Сазонова упоминает в своём дневнике о слухах, окружавших Комиссаржевскую: говорили, что отец, обучая её вокалу, был строг с ней до жестокости: «При всех кричал на неё, доводил до слёз, потом, бросив ноты, говорил: “Или петь, или реветь”»[116]. В качестве причины, заставившей Комиссаржевскую уйти из оперы, мемуаристка, вероятно, не вполне точно называет катар горла — хронический ларингит. Так была погребена, может быть, самая дорогая мечта Комиссаржевской. Оперная сцена была её родным домом, её яслями, её школой, крепко-накрепко связывающей её с отцом. Но необходимость отказаться от намерения стать оперной певицей была действительно объективной. Оперная карьера в чём-то сродни карьере спортивной, многое зависит от физической формы, от природных данных, от устройства организма. «Слабая грудь» — в то время приговор, не подлежащий обжалованию; опасность чахотки была слишком серьёзной угрозой. Учитывая слабое здоровье Комиссаржевской, которое впоследствии не раз угрожало не только продолжению карьеры, но и самой её жизни, это решение было исключительно своевременным. Как ни странно, добровольный отказ от оперы Вера Фёдоровна пережила не очень тяжело. Это произошло, вероятно, потому, что перед ней уже маячила другая перспектива — готовясь к оперным гастролям, она репетировала драматические роли; надеясь на певческую карьеру, участвовала в драматических спектаклях Общества искусства и литературы, которые ставили А. Ф. Федотов и К. С. Станиславский. Роли её, однако, были, как правило, маленькими, часто водевильными, и всерьёз к ним не относились ни она сама, ни окружающие. Комиссаржевская была очень увлечена драматическим театром, не пропускала значимых спектаклей, размышляла над игрой разных актёров. В это время в Москве гастролировала Элеонора Дузе, великая итальянская актриса. Её психологическая манера игры произвела на Комиссаржевскую большое впечатление. Впоследствии в истории театра эти два имени оказались рядом. В исполнении обеих актрис театроведы находят общие черты, позволяющие говорить не о заимствовании, а о типологии, связанной с требованием эпохи, властным запросом времени, на который такое актуальное и всегда современное искусство, как театр, не может не откликнуться. Внешние впечатления, которые получала Комиссаржевская в театре, переплавлялись в её сознании в глубоко осмысленные убеждения, касающиеся высокой роли сценического искусства и собственного места в нём. В. П. Шкафер, близко подружившийся с Комиссаржевской, вспоминал о их нескончаемых разговорах: «Мне кажется, что в своей жизни никогда я так много не думал и не говорил о вопросах искусства в театре, как с Верой Фёдоровной. Даже в перерывах работы она находила время писать мне большие письма, которые почти всегда начинались словами: “позабыла сказать Вам нужное и интересное, боюсь, что опоздала”... и писала своим оригинальным языком вдоль и поперёк исписанного письма»[117]. Приобретённая в детстве манера «вдоль и поперёк» исписывать ученические тетради осталась с Комиссаржевской на всю жизнь. Письма её трудночитаемы не только из-за почерка, но и из-за манеры записи, при которой одна строка наползает на другую, образуя скорее графический орнамент, чем предназначенный для восприятия текст. Это происходит, конечно, от обилия мыслей, которые требуется высказать сразу все, которые связаны не столько логической последовательностью, сколько творческой внезапностью, озарением. «Вере Фёдоровне, — пишет Шкафер, — всегда надо было говорить “много”, как будто это был постоянный неиссякаемый источник, родник живого духа, не дававший ей никогда покоя»[118]. Как легко узнаются в этой особенности начинающей актрисы уроки, полученные от отца, для которого разговоры об искусстве никогда не были досужей болтовнёй: они входили как необходимая часть в его собственные размышления о предназначении актёра — своём предназначении, становились частью педагогического воздействия на учеников. После участия в нескольких водевилях Комиссаржевской досталась роль Бетси в «Плодах просвещения» Л. Н. Толстого. Спектакль был программным для Общества искусства и литературы, премьера состоялась 8 февраля 1891 года. Комиссаржевская вышла на сцену под псевдонимом Комина[119]. И сам спектакль, и её игра произвели на публику и на театральных критиков чрезвычайно благоприятное впечатление. Вспоминая впоследствии этот спектакль, будущий мхатовец В. В. Лужский, в то время ученик драматического отделения Общества искусства и литературы, писал о ней так: «Комиссаржевская играла Бетси. Такой барышней бывшего дворянского круга, и именно круга семей Толстых, Давыдовых, Лопатиных — туляков и орловцев — семей, приблизившихся к разночинству, к влиянию профессорских и докторских кружков, с налётом цыганщины, начинающегося декадентства, — такой Бетси, как В. Ф., не было ни на одной из сцен. Мне потом пришлось видеть пьесу в других, не только любительских, но и профессиональных театрах Москвы и Петербурга. Её задор, молодое любопытство, шик во вскидке лорнета к глазам и, вместе с тем, характерная тупость глаза от сознания своего превосходства при лорнировании трёх мужиков с фразой: “Вы не охотники? Тут к Вово должны были прийти охотники” — несомненно, удовлетворили бы все сложные требования Немировича-Данченко и Станиславского, даже после выработанной ими художественной актёрской линии. Какая и тогда была в этой актрисе загорающаяся и зажигающая окружающих сила! А сцена с Таней в начале 3-го акта, когда Бетси застаёт ту за протягиванием нитки и потом заставляет признаться в надувательстве всего спиритического президиума, начиная с профессора, кончая Звездинцевым — отцом Бетси. Сколько ума! Какое предвкушение краха “спиритичества”, сколько мести загоралось в глазах В. Ф.!»[120] На спектакле присутствовал знаменитый тогда актёр И. П. Киселёвский, много игравший как в провинции, так и на частной петербургской сцене и обладавший хорошими связями с антрепренёрами. Е. П. Карпов приводит разговор, состоявшийся между Киселёвским и Комиссаржевской сразу после спектакля (об этом разговоре он мог знать только от одного из его участников): «На спектакле присутствовал И. П. Киселёвский. Комиссаржевская ему понравилась. Он пришёл к ней в уборную, сказал несколько комплиментов и прибавил: — Вам грех зарывать талант... Вы должны идти на сцену... — Не берёт никто... — ответила Вера Фёдоровна. — А вы серьёзно хотите? — И очень даже... да не знаю, как попасть... — Я вас устрою, будьте покойны... Киселёвский отрекомендовал Веру Фёдоровну антрепренёру Синельникову, и она вскоре заключила с ним контракт в Новочеркасск»[121]. В пересказе Карпова совсем отсутствует временная протяжённость, наполненная, с одной стороны, неудачными оперными гастролями и окончательным решением отказаться от профессиональной певческой карьеры, а с другой — сомнениями в успехе на новом поприще и тягостным ожиданием, которые сопровождали Веру Фёдоровну вплоть до того момента, пока дело не получило, наконец, счастливого разрешения. А это произошло далеко не сразу после спектакля «Плоды просвещения», но только через два года. Летом 1893 года Киселёвский, игравший в подмосковных летних театрах, настоял на том, чтобы пригласить для некоторых спектаклей Веру Фёдоровну. Она играла с ним в паре в «Медведе» А. П. Чехова и в комедии польского драматурга М. Балуцкого «Денежные тузы», разыгранной на сцене Кусковского театра. Один из московских театральных критиков П. И. Кичеев так писал о своём впечатлении: «Не говоря уже о её благоприятных внешних средствах, г-жа Комиссаржевская обладает неимоверным чувством меры в исполнении каждой роли, за которую берётся, и таким художественным чутьём к правде и реальности воспроизводимых ею образов, какое природа даёт очень немногим своим избранным»[122]. После несомненного успеха в летнем театре Комиссаржевская могла рассчитывать на контракт. И он вскоре был ей предложен. Н. В. Туркин свидетельствует: «В этом году Н. Н. Синельников искал для пополнения своей новочеркасской труппы артистку на водевильные роли и обратился к И. П. Киселёвскому, который должен был служить у него в этом сезоне, с просьбой рекомендовать артистку. И вот тогда Киселёвский, с одной стороны, горячо стал убеждать Веру Фёдоровну поступить на сцену, с другой — рекомендовал Н. Н. Синельникову взять именно её. Вера Фёдоровна в то время стояла лицом к лицу с нуждою. Она искала заработка. Это облегчило задачу Киселёвского. Синельников тоже согласился, и Вера Фёдоровна подписала с ним условие на 150 руб. в месяц на водевильные роли»[123]. Если говорить точнее, то она поступила в труппу Синельникова на роли вторых «инженю» с водевильным пением. Оклад, предложенный начинающей актрисе, был невелик. В принципе такую сумму мог получать учитель гимназии или городской врач, но для актрисы она неминуемо урезалась необходимостью самостоятельно оплачивать сценический гардероб. Учитывая, что в Новочеркасск вместе с Верой отправились жить её мать и сестра Ольга, такого жалованья едва могло хватить на скудное пропитание. Дочерям материально помогал отец, но и его дела шли не очень хорошо. В 1891 году из-за разногласий между оперным и драматическим отделами училища, а также из-за нехватки средств Обществу искусства и литературы пришлось сузить свою деятельность. Ф. П. Комиссаржевский покинул его, оперный отдел прекратил своё существование. Летом 1892 года Фёдор Петрович, стремившийся уехать в Италию для поправления здоровья, писал О. К. Нотовичу, который в это время издавал ежедневную газету, имевшую раздел «Театр и музыка»[124]: «Жить хочется, а средств для поправления нет, так как пенсию отдаю дочерям, а сам живу трудом. Не признаете ли Вы меня достойным быть сотрудником и корреспондентом Вашим в Италии. Гонорар, который Вам угодно было бы назначить, дал бы мне возможность просуществовать год. Я поселился бы во Флоренции, в центре Италии»[125]. Такой способ заработка был Комиссаржевским испробован и ранее: в 1887—1888 годах он работал музыкальным рецензентом газеты «Московский листок» под псевдонимом Дилетант. Всё это, конечно, входило в понятие «жить трудом», но Фёдор Петрович был уже человеком в преклонном возрасте, здоровье его пошатнулось, и дочерям рассчитывать на его помощь было невозможно. Конечно, вопрос заработка стоял перед Верой Фёдоровной. Но несомненно также и то, что она готова была на жертвы, чтобы встать на ноги совсем в ином, нематериальном, смысле. Актёрская профессия открывала перед ней новый путь, по которому она смело и радостно пошла. Начало пути было трудным. Комиссаржевской было 29 лет — возраст, в котором вообще начинать уже нелегко, особенно учитывая принципиальную разницу в восприятии возраста между нашим веком и тем временем, о котором идёт речь. Актрисы в конце XIX столетия выходили на большую сцену, как правило, гораздо раньше — по крайней мере, двадцатилетними. Вот как описывает Н. Н. Синельников общее впечатление от внешности актрисы: «В то время это была миниатюрная женщина с лицом, уже отмеченным печатью прожитого, но освещённого светом прекрасных глаз, обладательница изумительного тембра голоса»[126]. Очевидно, что даже при беглом взгляде внешний облик актрисы был далёк от первой юности. Кроме того, контракт, который подписала Вера Фёдоровна, подразумевал её участие в ролях, в которых обычно играли совсем юные артистки. «Ingenue» — девочка-подросток, молодая невинная барышня. Это возрастное несоответствие было существенным психологическим препятствием прежде всего для неё самой, и его требовалось перешагнуть. Можно представить себе, сколько мужества, решительности и, главное, желания оказаться на профессиональной актёрской стезе, стать частью театра потребовалось В. Ф. Комиссаржевской, чтобы 19 сентября 1893 года впервые выйти на сцену Новочеркасского театра в спектакле Г. Зудермана «Честь». С другой стороны, играть совсем юных девочек ей, несомненно, позволяло внутреннее самоощущение. Многие мемуаристы свидетельствуют, что до самых последних дней в Комиссаржевской, наряду с заметной усталостью и отпечатком прожитых лет, сохранялись непосредственность, весёлость, любопытство, какая-то «пугливая детскость». «Она часто терялась в жизни, — терялась совсем, как маленькая девочка: отпрядывала, по-детски открывала рот, умоляюще складывала руки и смотрела испуганными широкими глазами. Напугать её так ничего не стоило: достаточно было сказать ей любые слова строгим голосом. Когда она терялась, она совсем не владела собой и способна была делать вещи, о которых нельзя вспоминать без улыбки»[127]. Так что внутренний органический потенциал для «инженю» у Комиссаржевской был.
Глава 5 «ИГРАТЬ БЕЗ ОТКАЗА»
Знай одно: никто тебе не пара — И бросайся каждому на грудь.Марина Цветаева
Н. Н. Синельников был в театральном мире человеком с прочной репутацией. Его труппа, несмотря на провинциальный статус, считалась одним из лучших российских театральных коллективов и по составу участников, и по уровню организации. В 1891 году Синельников организовал товарищество на паях, что давало его актёрам чувство независимости от антрепренёра. Синельников привлекал талантливых актёров, старался создать для их работы такие условия, чтобы они надолго задерживались в труппе, обеспечивая этим её стабильность. В работе театра он делал ставку на личное творчество и серьёзность репертуара, однако этого не всегда можно было достигнуть. Как правило, в провинции (да и не только там!) пьесы ставились одна за другой, роль режиссёра сводилась к расстановке и разведению актёров на сцене, репетиций было всего несколько, актёры зачастую плохо знали текст, но публика была нетребовательной, воспринимала театр как увеселение — билеты расходились. Н. В. Туркин приводит следующий анекдот, произошедший с известным нам актёром Киселёвским. Обладая плохой памятью (а возможно, просто ленясь), он с трудом заучивал роли и зачастую выходил на сцену, совсем не зная своих реплик. «Пришлось ему, например, играть раз какого-то дядюшку, уговаривающего племянника жениться. Льётся речь: “Будет у тебя своя квартира, уют в комнатах, пойдут детки...” На последнем слове Киселёвский поперхнулся и никак не может его произнести. — Детки! Пойдут детки! — надрывается суфлёр. Киселёвский ворчит: “какие там девки? чёрт знает, как пишут!” И, смягчая грубость языка автора, он говорит: — Пойдут к тебе дамы сомнительного поведения...»[128] Подобные случаи были частными, актёры, не зная текста, толпились перед будкой суфлёра, искажали смысл реплик, проваливая авторский замысел. Синельников осознанно боролся с этим: увеличил репетиционные сроки, требовал от актёров хорошего знания текста. Сам работал вместе с ними над ролями, стремился к созданию профессионального спектакля. Выбор пьес для постановки диктовался условиями, в которые антрепренёр был поставлен, то есть прежде всего вкусами публики, но всё же ему удавалось протащить на сцену и серьёзные вещи. Так, событиями сезона 1893/94 года стали «Горе от ума» и «Плоды просвещения». Недаром Новочеркасск считался театральным городом! В то время когда Комиссаржевская появилась в труппе Синельникова, в ней оказались крупные артисты: Н. П. Рощин-Инсаров, А. М. Шмидтгоф, С. П. Волгина, Е. Г. Медведева, И. П. Киселёвский. Сам Н. Н. Синельников и как актёр, и как режиссёр пользовался большим успехом. К Комиссаржевской Синельников отнёсся практически — без особенных ожиданий. Он взял её в труппу, потому что ему необходима была замена актрисы того же амплуа, которая приходилась Синельникову родной сестрой и в том сезоне временно работать не могла. С её возвращением Комиссаржевская лишалась своего места. Её дарование он считал, видимо, ограниченным, и амплуа водевильной, комической актрисы казалось ему самым для неё подходящим. Туркин писал: «Н. Н. Синельников горячо оспаривал возможность для В. Ф. Комиссаржевской стать драматическою актрисою. Как он развивал мотивы своего отрицания, я не помню сейчас подробно, но мне глубоко врезалась в память одна его фраза: — Она рождена для комедии. У неё в лице есть природная комическая складка»[129]. Комический талант у Комиссаржевской, несомненно, имелся. Она обладала хорошим чувством юмора, была от природы весёлой и заражала других своей весёлостью, в небольших водевильных ролях умела находить и характерные стороны. Но этим её дарование не ограничивалось; она была, конечно, прежде всего драматической актрисой. Увидев её на одном из спектаклей Общества искусства и литературы, В. В. Стасов заметил: «В ней так и брызжет талант. Но это не то, что ей надо. У этой маленькой, худенькой актрисы я вижу в глазах выражение великой печали. И эта чуть заметная складка у рта... Драма — вот её призвание»[130]. Интересно, что о комическом таланте Комиссаржевской впоследствии будет убеждённо говорить В. Э. Мейерхольд: «Время, в которое она жила, требовало от неё не всех красок, которыми она обладала, — высокой романтической комедии не оказалось в её репертуаре, а у неё были для неё все данные: большие ресурсы шаловливой жизнерадостности, внутренний мажор»[131]. Впоследствии Синельников записал воспоминания о работе с Комиссаржевской. Эти воспоминания, конечно, окрашены более поздними впечатлениями и, возможно, некоторым чувством вины перед актрисой, которую он, опытный режиссёр, не сумел разглядеть в полной мере. Однако есть в них, вероятно, и доля истины, воскрешённой памятью человека, видевшего актрису каждый день, следившего за её работой: «В то время в большом ходу были небольшие комедийки, в которых фигурировали подростки, гимназисты и гимназистки (“Школьная пара”, “Под душистою веткой сирени”, “На тот свет”, “Летняя картинка” и т. д.). У нас эти пьески тоже были поставлены, и сценическая работа профессиональной актрисы В. Ф. Комиссаржевской началась над “героинями” “Школьных пар”. Я был неизменным её партнёром, изображая мальчишек-гимназистов. Вот так-то мне представился счастливый случай наблюдать, как буквально на моих глазах изо дня в день росло дарование будущей великой артистки. Пьески эти повторялись очень часто, но Вера Фёдоровна каждый раз была другой. Сценка, шедшая вчера заразительно весело, сегодня неожиданно для меня, её партнёра, принимала другой оттенок. Услышу новую интонацию, взгляну на выражение её чудных глаз, как-то сразу пойму, поддержу её настроение, и сценка вдруг получает другую, чем вчера, окраску, и вся пьеска стала другою, и проходит с ещё большим успехом. — Почему вы не предупредили меня об изменениях в роли? — спрашиваю я по окончании. — А я и сама не знала, и для меня это было неожиданно, — отвечала Вера Фёдоровна. Уже тогда выражение глаз делало чудеса с её лицом. От того или иного выражения глаз лицо её делалось светлым, улыбающимся лицом ребёнка, но изменялся взгляд — и на лице тучка, туман, тембр голоса изменялся, она начинала вдруг говорить на низких нотах. Новый взгляд — и перед вами девочка, ребёнок. Глаза расширяются, испытующе всматриваются, как бы настойчиво ждут нужного, необходимого ответа»[132]. Когда Комиссаржевская приехала в Новочеркасск, она должна была выйти впервые на сцену в одноактном водевиле «Волшебный вальс», написанном её коллегой по труппе А. М. Шмидтгофом. Но сразу по приезде Комиссаржевская заболела; как уже говорилось, она вообще отличалась слабым здоровьем, сказалось также нервное напряжение, и дебют пришлось отложить. Сезон в театре открылся 12 сентября, она вышла на сцену только через неделю. Синельников вспоминает: «С первых репетиций молодая актриса завоёвывает симпатии мои и Рощина-Инсарова, который по моей просьбе, чтобы поддержать дебютантку, согласился играть небольшую роль. Нашим товарищам, не участвующим в репетициях, мы сообщаем, что новаяактриса обладает прекрасным тембром голоса, говорит необыкновенно просто, правдиво и т. д. Все заинтересованы и в полном составе явились на дебют. Дебют сошёл хорошо. И главное: за кулисами со всех сторон раздаются похвалы»[133]. Мать Комиссаржевской, Мария Николаевна, трепетно следившая за успехами и неудачами дочери, подробно описывает, как происходило первое выступление Веры Фёдоровны в роли Альмы в пьесе Зудермана «Честь»: «Страху и волнений было, конечно, без конца. Вторая её роль была в “Волшебном вальсе” Шмидтгофа — роль Верочки — с пением, которым она вызвала целую бурю восторга; последнюю сцену просили повторить и вызывали её, Синельникова, Шмидтгофа без конца. Это её страшно приободрило, и она ещё больше отдалась своему делу»[134]. Видимо, огромную роль сыграли два фактора, о которых упомянуто в процитированных мемуарах. Во-первых, чрезвычайно важной оказалась для Веры Фёдоровны поддержка товарищей по труппе, которые отнеслись к начинающей актрисе очень доброжелательно. Учитывая, что среди актёров Синельникова были многие с весьма громкими именами и недюжинными дарованиями, для Комиссаржевской это было существенно. Во-вторых, удачный дебют и последующий успех у публики, связанный главным образом с пением актрисы, укрепили её уверенность в себе, а в этом и в последующие годы, став уже знаменитой и прославленной, Вера Фёдоровна всегда ощущала недостаток. Кроме водевилей и одноактных пьес Комиссаржевская играла и в серьёзных постановках — знакомую ей уже Бетси в «Плодах просвещения», Лизу в «Горе от ума», Марью Антоновну в «Ревизоре» и др. Критики довольно скоро её отметили, и статьи, посвящённые театру, неизменно характеризовали игру новой «второй инженю», с течением времени — всё более развёрнуто.
 К концу 1893 года Комиссаржевская заработала авторитет неординарной и очень талантливой актрисы. Ей посвящает большую подробную статью театральный критик Гранитов (Н. В. Туркин). Он писал: «Комиссаржевская — ingenue comique. В ней всё есть для того, чтобы стать очень большой артисткою: миловидная наружность, красивый звучный голос, выразительные глаза и, главное, огонёк молодости, тот святой огонёк, которым артистка увлекает зрителей. В пьесе Т. Л. Куперник “Летняя картинка” Комиссаржевская играет главную роль Шуры. Играть эту роль лучше нельзя: нет ни единого лишнего штриха, нет и признака шаржа; Комиссаржевская-Шура — сама прелесть, само очарование, сама молодая жизнь, полная неподражаемой красоты и неисчерпаемого веселья. Дай бог, чтобы мы увидели тот чудный цветок, который в недалёком будущем будет представлять на русской сцене г-жа Комиссаржевская, при условии, конечно, если она будет добросовестно работать, чутко следить за литературой»[135]. Эти удивительные свойства, отмеченные критиком на самых ранних порах деятельности Комиссаржевской, никуда не ушли и впоследствии, когда она обрела всероссийскую славу. Они не свидетельствуют о наличии у актрисы особого мастерства, умения, техники. Но зато с несомненностью говорят о её необычайной искренности и абсолютном даре вживания в роль. Но ещё — и об ограниченности её возможностей: она всегда могла хорошо сыграть только ту роль, в которой находила что-то своё, глубоко её задевающее, личное. Иными словами — играла саму себя. Свою статью Туркин заканчивает пророческими словами: «Как знать, может быть, недалеко время, когда новочеркасский театр будет гордиться тем, что его сцена первая приютила чудный цветок театрального мира»[136].
Мать Комиссаржевской вспоминала, что накануне Масленой недели — последней театральной недели перед Великим постом, когда спектакли уже не игрались, артисты труппы заявили Синельникову о их общем желании назначить Вере Фёдоровне бенефис. Она была чрезвычайно этим тронута и очень серьёзно отнеслась к выбору пьесы. Синельников ей предлагал сыграть «Бесприданницу»: «Читал ей всю пьесу два раза. Одно место в-роли Ларисы растрогало её до слёз, но играть не стала.
— Боюсь! Потом, когда окрепну, а теперь страшно»[137].
Она выбрала комедию современного драматурга В. А. Крылова «В осадном положении». Бенефис прошёл под несмолкающие аплодисменты, публика многократно высказывала актрисе своё обожание, после каждого акта делала ей подношения. Одним из подарков была гигантская роза из дорогой шёлковой ткани, которую таким образом, чтобы не задеть её гордости, поднесли Комиссаржевской на платье для выступления на студенческом вечере, куда она была приглашена. В маленьком городе всё про всех известно — знали, что у актрисы нет денег на платье.
Бенефис состоялся 15 февраля 1894 года, а 22 февраля сезон закрылся. Предложения работать в будущем сезоне в Новочеркасском товариществе Комиссаржевская от Синельникова не получила. Причиной было, прежде всего, возвращение в труппу актрисы, роли которой исполняла Комиссаржевская. Но было и другое обстоятельство, которое не позволяло ей остаться, — неудавшийся роман с легендарным актёром труппы Николаем Петровичем Рощиным-Инсаровым.
Рощин-Инсаров, конечно, псевдоним. Настоящая фамилия этого актёра Пашенный. В актёры он попал из гусар, ещё в юности резко изменив свой жизненный путь. Он был на три года старше Веры Фёдоровны и намного её опытнее профессионально, играл в разных театрах, начиная с 1883 года главным образом героев-любовников. Среди его персонажей были и роли классического репертуара: Чацкий, чеховский Иванов, Тригорин, Глумов. Как писал его близкий друг Влас Дорошевич уже после его гибели, Рощин-Инсаров отказывался играть таких людей, «каких на свете не бывает», в том числе, например, Гамлета — ведь каждый человек носит в душе своего Гамлета. «Но каждый человек носит в душе и своего Чацкого, — возражал В. М. Дорошевич. — Это не мешало ему играть Чацкого, быть превосходным Чацким, быть лучшим из Чацких»[138]. Но звёздной ролью Рощина-Инсарова Дорошевич считал Иванова, «русского Гамлета». «Он был поэтом рыхлого, слабого русского человека. Это был актёр Чехова. В чеховских ролях он достиг вершин своего творчества. Когда он играл Иванова, дядю Ваню, Тригорина в “Чайке”, — чувствовалась чеховская душа. Недаром он любил в литературе Чехова, в живописи — Левитана. Он понимал и любил слабость русского человека, потому что сам был таким, и с любовью их рисовал, как с любовью говорят о близких людях»[139]. Слабохарактерность Рощина-Инсарова — качество, отмеченное в панегирической статье Дорошевича как положительное для актёра такого типа, — сыграла в его судьбе свою вполне определённую роль. Он вёл богемный образ жизни, много пил, несмотря на значительные доходы от спектаклей никогда не имел лишней копейки за душой, несколько раз пытался встать на ноги и взять себя в руки, но эти попытки успехом не увенчались.
Кроме того, Рощин-Инсаров был интересен внешне, и многочисленные любовные истории, героем которых он постоянно становился, были неотъемлемой частью его биографии. «Он любил женщин, — писал В. М. Дорошевич, — и женщины любили его. <...> В нём было нечто от Дон Жуана. Каждый раз, — а Бог свидетель, как часто это бывало! — он увлекался искренне. С каждой новой донной Анной и даже Лаурой для него начиналась — Новая жизнь!»[140]
Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминала о Рощине: «Человек он был большого таланта, оригинального и темпераментного. В жизни он был тем актёром, каких принято описывать в романах и представлять себе: бесчисленные победы над женщинами, романы, кутежи, дуэли. Он и кончил свою жизнь необычно: его застрелил из ревности муж его возлюбленной, его приятель, застрелил предательски — в спину, когда тот наклонился над умывальником. Он был очень интересен, строен, с выразительными глазами, мешал ему несколько глуховатый и хрипловатый тембр голоса, но поклонницы его даже этот голос находили чарующим и сходили по нём с ума»[141]'.
Голос Рощина составлял резкий контраст по отношению к его выразительному лицу и прекрасной фигуре («совершенно без металла, малозвучный, с хрипотой»[142]), однако актёр научился владеть им так, что ему удавалось выразить самые тонкие оттенки переживаний своих персонажей. И постепенно голос его стал легендой, неотделимой от личности актёра и его дарования.
Другим внешним недостатком Рощина были плохие зубы, которые, конечно, портили впечатление. Незадолго до гибели он отважился на серьёзную операцию — удалил все зубы, заменив их протезами. Он был увлекающимся актёром и относился к своей профессии, конечно, серьёзно, как к своему истинному призванию. Ю. М. Юрьев писал о нём: «Николай Петрович был, несомненно, культурный актёр, много работающий над собой, несмотря на свой легкомысленный характер в быту. У него была склонность к богеме, а наряду с этим он мог несколько ночей подряд не спать, подготавливая какую-либо новую роль, если она почему-либо захватывала его»[143].
Таков был этот яркий и интересный человек, который встретился Комиссаржевской в самом начале её профессионального пути и который сразу проявил к ней, как пишут мемуаристы, исключительный интерес. Надо думать — не только как к актрисе, но, наряду с этим, конечно, и как к женщине.
Теперь нам придётся сказать несколько слов об отношении к этому интимному вопросу самой В. Ф. Комиссаржевской, которую жизнь лишила семьи, любимого мужа, веры в мужчин, уверенности в себе, надежд на будущее. Обычно биографы Комиссаржевской трактуют её отказ искать после развода с Муравьёвым личного счастья стремлением всецело посвятить себя искусству. Во многом она сама способствовала созданию такого мифа, мы ещё столкнёмся в её письмах и воспоминаниях о ней с подобной установкой. Однако позволим себе усомниться в однозначности такой трактовки. Она действительно больше не вышла замуж и отвергла несколько весьма достойных предложений, начиная с С. И. Зилоти. Конечно, прежде всего, это означает разочарование в институте брака. Она не хотела больше семейной жизни — но она, безусловно, искала личного счастья.
Ею всегда интересовались мужчины, которые окружали её на театральных подмостках, — таково родовое качество театральной среды. Но и она редко когда отказывала им во внимании. О её способности влюбляться, о разнообразии и многочисленности её романов, о возрасте её самых молодых любовников впоследствии, когда имя Комиссаржевской уже гремело на всю Россию, ходили легенды. А. А. Мгебров пишет об этом: «Какова была Вера Фёдоровна в жизни? Мы знаем, какова она была на сцене, но какой она была в жизни, мы ничего не знаем, и для всех, кто соприкоснулся с Верой Фёдоровной, остаётся только одно — загадка. Мне лично кажется, что в жизни Вера Фёдоровна была абсолютной девственницей, в полном смысле этого слова... Как все девственницы, которые возводят девственность в культ, она была очень сурова, строга и недоступна... Говорят, Вера Фёдоровна меняла любовников, как перчатки, и жила всегда в приподнято-эротическом возбуждении. Говорили даже, что она и юношей привлекала к себе в театр не без тайного стремления. Всё это — величайший, глупый, лживый вздор... И вздор, если допустить даже что всё это действительно было... т. е. что она действительно знала пороки и страсти»[144].
Зная, каково было начало биографии Комиссаржевской, во всём этом нужно видеть не распущенность известной актрисы, позволяющей себе слишком многое, а безрезультатные попытки найти, наконец, того человека, который заговорит с ней на одном языке. В тот период, о котором сейчас идёт речь, — человека, который смотрел бы на искусство и служение ему тем же восхищенным взглядом, готов бы был принести на этот алтарь любые жертвы, выстраивал бы свою личность сознательно так, чтобы извлечь из неё как можно больше пользы для того воистину чудесного явления, которое называется театром. Попытка нащупать такую родственную душу среди коллег по профессии объясняет многое в любовных связях Комиссаржевской фактически на протяжении всей её жизни. Говоря точнее, она искала такого человека, который бы мог заменить в её душе немеркнущий образ отца — страстно и искренне преданного своему делу, отдавшего искусству всю свою жизнь, не разменивавшегося на мелочи, не терпящего компромиссов. Требования, которые она предъявляла к каждому новому своему избраннику, были так высоки, что никто из них не выдерживал испытания. Разочарование наступало быстро, отрезвление было каждый раз тяжёлым. Это, однако, не означало, что поиски прекратятся.
Были у Комиссаржевской не только «театральные романы». В иных случаях она искала высокой и идеальной любви, на которую её избранники тоже оказывались неспособными. В любом случае с её стороны это была постоянная погоня за призраком, который, конечно, так и не дался ей в руки.
Рощин-Инсаров был одним из встреченных на этом пути. Думается, в самом его начале. Роман, видимо, завязался очень быстро — они буквально нашли друг друга: он, Дон Жуан, не мог пропустить такой женщины, она не могла не обмануться в таком привлекательном мужчине. Совершенно очевидно также, почему этот роман столь быстро сошёл на нет: естественно, Комиссаржевская не сумела найти в Рощине отклик на свои сокровенные чувства. Высота постижения мира, которой она от него требовала, была ему чужда. Он был прекрасным артистом и — слабохарактерным человеком. Цельность и устремлённость личности Комиссаржевской к одной, ведомой только ей цели, её бескомпромиссность, её неизменная готовность к жертве, вероятно, казались ему чрезмерными. Она же не соглашалась на паллиативы.
Уход Комиссаржевской от Синельникова был в очень большой степени мотивирован разрывом с Рощиным-Инсаровым. Ей, конечно, было страшно снова оказаться не у дел, особенно после такого удачного первого сезона, успев в полной мере ощутить магию сцены, почувствовав свои силы. Но и оставаться в одной труппе с Рощиным было бы неприятно, поэтому отказ Синельникова продлить контракт она восприняла без внутреннего надрыва.
Уже после ухода Комиссаржевская написала Рощину-Инсарову большое письмо, которое фиксировало разрыв их отношений. Она подробно говорила в нём и о своих не нашедших почвы идеалах, нереализованных надеждах, фактически — о своих иллюзиях, которые разбились о почву реальности. «На Вас, на того, каким я считала Вас до сих пор, я поставила крест, а настоящего Вас мне жаль и всегда будет жаль. Но знайте, жалость бывает разной»[145], — предупреждает она адресата, которому надо готовиться к самому суровому приговору. «Видите ли, я до боли ищу всегда, везде, во всём прекрасного, начиная, конечно, с души человеческой, и, найдя это прекрасное, увидя эту искру, я готова не только простить всё остальное, но себя, всю себя готова отдать без размышлений, чтоб раздуть эту искру в пламя; но есть одно свойство человеческое, не порок, а прямо свойство, исключающее всякую возможность присутствия этой искры, понимаете, вполне исключающее, — это пошлость. И вот она-то и засела в Вас, заела Вас, пустила глубокие непоколебимые корни. Это для меня так же ясно теперь, как неясны были до сих пор многие в Вас противоречия».
В этом выпаде содержится не только чрезмерное и не совсем, вероятно, справедливое обвинение разочаровавшейся женщины, которое она бросает своему бывшему возлюбленному, но и положительная программа Комиссаржевской. Стремление отыскать искру прекрасного в человеческой душе, а потом раздуть её в пламя, посвящая этому действительно много сил и времени, — почти всегда просматривается в отношениях Веры Фёдоровны с мужчинами, которых она любила. Конечно, не все её романы хорошо задокументированы, не во всех случаях сохранились переписка или мемуарные свидетельства. Но тогда, когда исследователь может ими воспользоваться, картина вырисовывается довольно сходная: и впоследствии, решаясь на роман с человеком, чаще всего много моложе её самой, Комиссаржевская попутно ставила своей целью изменить его личность, просветить его светом собственной души, воспитать, дать ему возможность внутренне, духовно преобразиться.
Отношения с Рощиным-Инсаровым, вероятно, строились по сходной схеме, хотя он не был моложе её годами, но ощущение, что она владеет тайным знанием, которым может и должна поделиться, заставляло её принимать на себя роль духовного наставника. Очевидно, Рощин-Инсаров, который сначала показался ей родственной душой, готовой откликнуться на её зов, оказался человеком, гораздо более приземлённым, чем она ожидала. Его погружённость в богемную среду, его жизнелюбие и легкомысленность — качества, никак не соответствующие высокому идеалу Комиссаржевской. Осознав это, она прежде всего его разлюбила. Снисходить и прощать слабости она в этот период ни минуты не была способна или не видела в этом смысла. Возможно, своим последним письмом она делала ещё одну, уже вполне бескорыстную попытку пробудить в нём дремлющие в глубине духовные источники, поэтому и писала так резко и напрямик: «Артист Вы большой, повторяю, но Вы никогда не будете тем, чем могли б быть при Вашем таланте. Вы останетесь на точке замерзания, никто, ничто не спасёт Вас: от себя спасения нет. Вы заснули для духовной жизни, без которой начнёт умирать в Вас и артист. В той среде, с которой Вы сроднились душой, так же мало высоких человеческих чувств, как много Вы о них толкуете со сцены. Вы безжалостно затоптали нежный, едва пробивающийся всход понимания смысла жизни...» Как видим, именно среда объявляется Комиссаржевской источником той пошлости, которая губит талант, отнимает волю, лишает будущего. «Что могло бы спасти Вас? Одно, только одно: любовь к искусству, к тому искусству, которое давно перестало быть для Вас целью, а стало лишь средством удовлетворения собственного тщеславия и всевозможных стремлений, не имеющих ничего общего с искусством». Очевидно, что смысл жизни — служение искусству, которое может быть только целью и никогда — средством.
Заканчивается письмо очень характерным для Комиссаржевской выводом, касающимся уже не столько Рощина, сколько её самой, с её драматической личной историей, с её отверженностью и одиночеством. Она рассуждает о причинах, увлёкших её адресата в ложном направлении: «Во-первых, Вы рано вступили в эту ядовитую для молодой души атмосферу, а во-вторых, не было возле Вас женщины-друга. Именно женщина должна была дать Вам ту поддержку, которая нужна каждому человеку, а артисту особенно. <...> Да, именно при возрождении в человеке артиста, при развитии его необходимо присутствие возле него такой женщины. Умная, чуткая, любящая, она способна дать всё, начиная от верной поддержки в духовном его мире и кончая страстью со всеми её безумствами. Тогда подобная встреча могла бы сделать из Вас почти гения, теперь — она прошла бы для Вас незаметной, так как атома в Вашей душе не осталось, способного слиться с душой такой женщины».
Здесь чувствуется оскорблённая гордость женщины, оказавшейся в чуждой для себя роли. Она мечтала быть не любовницей, а соавтором, единомышленницей, подругой в самом высоком смысле, но для этого её избранник должен быть с ней, по крайней мере, «ростом вровень». Есть в этом финале и горестное воспоминание о прошлом — ведь именно такой женой, таким другом она мечтала быть когда-то для В. Л. Муравьёва, тоже артиста, тоже весьма одарённого человека и тоже оказавшегося недостойным, проигравшего её, «как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль».
В письме Рощину-Инсарову содержится ещё один неявный, но угадываемый мотив, о котором нужно упомянуть отдельно. Мысль о необходимости воспитания идеального человека, в конце 1890-х годов ещё только зревшая, набиравшая соки, чтобы потом выплеснуться в работах корифеев символизма, пусть и не в мистериальном и не в религиозном, а в личном ключе, уже существовала в сознании Комиссаржевской, дочери своего века, на полшага опережающей время. Существовала задолго до того, как стать достоянием общественности и слиться с ожиданиями крупнейших теоретиков и практиков театра. Но об этом нам ещё предстоит говорить отдельно.
Из писем Комиссаржевской этой поры видно, что она находится на творческом и душевном подъёме, обдумывает разные возможности для себя, ищет приемлемые варианты. Надо сказать, что в этих раздумьях очень много трезвости, практической смётки и реалистичного взгляда на жизнь, на саму себя и свою профессию и очень мало романтических устремлений. Так, Н. В. Туркину, театральному критику, с которым она сблизилась и сдружилась в Новочеркасске и который много писал о ней в местной газете, она признавалась: «О карьере я думаю совсем, совсем мало (хочу быть точной и не говорю, что о карьере не думаю), но без ангажемента ужасно боюсь остаться, а это может случиться»[146]. Точность Комиссаржевской действительно заслуживает самой высокой оценки! Но как она ни старается, как ни пытается привлечь свои знакомства и рекомендации, пока ничего постоянного не вырисовывается.
В марте 1894 года она едет в Тифлис по приглашению Тифлисского артистического общества. В 1893—1895 годах Фёдор Петрович Комиссаржевский жил в Тифлисе и работал профессором Тифлисского музыкального училища, основанного десятилетием ранее М. М. Ипполитовым-Ивановым. Он, конечно, был главным и самым требовательным зрителем на её спектаклях. Вероятно, его суда она ждала и боялась больше, чем суда зрителей и своих ближайших коллег. А может быть, наоборот, была уверена, что именно отец оценит и поймёт лучше остальных те тончайшие оттенки смысла и переживания, которые она была мастерицей передавать с самых первых своих ролей. Так и вышло: отец был рад и горд и ободрил дочь, признав в ней законную свою наследницу по линии искусства.
Гастроли в Тифлисе дали Комиссаржевской на короткое время некоторую материальную свободу. Вернувшись в Москву, она продолжает свои попытки найти ангажемент и вскоре получает приглашение от актёра В. А. Казанского, вместе с которым играла в Новочеркасске у Синельникова. На летнее время он отправился в пригороды Петербурга, где работал управляющим в антрепризе молодой предприимчивой актрисы П. А. Струйской, туда же звал на три летних месяца Комиссаржевскую. Она незамедлительно согласилась.
Антреприза была в Озерках и Ораниенбауме; публика на спектакли в основном съезжалась петербургская — дачники, то есть требовательная и пресыщенная. Это, конечно, был вызов. Комиссаржевскую привлёк новый драматический репертуар — за три месяца работы она сыграла в четырнадцати новых серьёзных ролях. Среди них Луиза («Коварство и любовь» Шиллера), Клерхен («Гибель Содома» Зудермана), царица Анна («Василиса Мелентьевна» Островского) и др. И хотя жаловалась в письмах Туркину: «...Учу, учу без конца»; «Я так занята, как я не знала, что можно быть занятой», — при этом словно проговаривалась: «Но я играю уже роли, а не рольки»; «Успех я имею колоссальный. Говорят везде и всюду обо мне...»[147]
«Петербургский листок» от 16 июня сообщает: «Молодая, симпатичная актриса ещё новичок на сцене, в ней по её молодости не выработались ещё искусственные приёмы для “приподнятой” сильной драматической игры. У актрисы нет ещё надлежащих физических данных, чтобы сообщить изображаемому ей характеру рельефную страстность, колоритный темперамент, резко выделить сильные переходы в игре; но г-жа Комиссаржевская в силу её грациозности, пластичности жестов, изящной фигуры, особенной чисто индивидуальной способности говорить просто, без ужимок, гримас, традиционных приёмов, умеет сообщать своим движениям такую пленительную плавность, что, смотря на игру этого внезапно рождённого таланта, невольно чувствуешь себя как бы обновлённым этой игрой, прощаешь многое, очень многое неопытной актрисе, которой все единогласно предрекают блестящую сценическую будущность»[148].
Для самой Комиссаржевской этот летний сезон стал мостом, переброшенным в будущее. У неё, с одной стороны, укрепилось ощущение верно найденного пути («Я хочу сказать, что теперь только люблю по-настоящему своё дело и дам, дам, ей-богу, дам что-нибудь большое»[149]); с другой — недовольство собой, неудовлетворённость сделанным всё чаше охватывают её. В таком противоречии нет ничего удивительного, оно свойственно любому творческому, действительно одарённому человеку. Но как мы увидим дальше, в случае Комиссаржевской её внутренние терзания были настолько серьёзным фактором, что в критические моменты её биографии превращались в двигательную силу огромной мощности, срывающую её с места, заставляющую искать новые пути, иной раз уводящие с прямой проторённой дороги в тёмные проулки и тупики.
Как справедливо пишет о Комиссаржевской Ю. П. Рыбакова, «какой счастливый и лёгкий путь мог быть у этого дарования! В общем итоге она знает только успех, в крайнем случае, легко извиняемую обстоятельствами, временную не то чтобы неудачу, а просто недостаточную удачу. Как-то особенно легко её имя связывается с именем знаменитого отца. Как-то само собой разумеется, что её ждёт большое будущее. Все трудности и трагические ситуации она искала и находила сама. Ей в высшей степени было свойственно то чувство пути, которое Блок считал признаком таланта»[150]. «Я ужасно, невозможно собой недовольна, так хочу скорей, скорей быть лучше, так подчас теряю всякую надежду на то, что это когда-нибудь будет...»[151] — признается она Туркину.
Лейтмотивом через все творческие переживания проходит тема катастрофического отсутствия денег: «...я должна бы отказываться от драматических ролей, так как я не могу на моё жалованье одеваться как нужно для этих ролей»[152]. Жалованье, о котором упоминает Комиссаржевская, было таким же, как в Новочеркасске, — 150 рублей в месяц. Но при этом жить приходилось в столице, а не в провинции, и сценический гардероб всё так же полностью оплачивался из личных средств артистов. Комиссаржевская влезла в долги, из которых потом ещё долго не могла выпутаться.
Ещё один лейтмотив — интриги, с которыми отчасти она уже столкнулась в антрепризе Синельникова. В Озерках же ощутила изнанку театральной жизни во всей её неприглядности. Подводя итоги летнего сезона, Вера Фёдоровна писала: «В смысле успеха — он превзошёл мои ожидания, но такая масса подлостей, интриг, зависти, подкопов, что я пишу вся дрожа»[153].
Поскольку публика неизменно принимала новую актрису чрезвычайно горячо — как пишет в одном из писем сама Комиссаржевская: «Я никогда теперь не выхожу на сцену без встречи», то есть без стихийных аплодисментов зрителей при появлении, — то невозможно было оставить её без бенефиса. Он был назначен на 17 августа, игралась пьеса Э. Вильденбруха «Жаворонок». Мать актрисы вспоминала: «Бенефис её был назначен поздно, так что больше половины дачников покинули Озерки, и Вера была уверена, что в день своего бенефиса будет играть при горсточке публики. Назначен был “Жаворонок”, и когда Вера шла в уборную, в кассе сбор был очень мизерный, но в 7 часов подходит поезд, полный пассажиров, которые высаживаются в Озерках и становятся вереницей к кассе; со следующим поездом та же история, и театр оказался полон. Этот неожиданный факт так приподнял энергию моей Веры, что она сыграла “Жаворонка” чудесно. Вызовам и овациям не было конца...»[154]
Вскоре после этого Вера Фёдоровна описывала свой бенефис Н. В. Туркину. В её интерпретации сталкиваются разные эмоции — горечь от переживания театральных интриг и радость от сознания своей победы, преодоления всех трудностей: «Довольно сказать, что мне дали бенефис 17-го, а 12, 13, 14 и 15-го было 4 спектакля подряд. Все уже уехали с дач, так как всё время идёт дождь. Но, несмотря на это, 8-часовой поезд привёз из Петербурга массу публики, и я получила 3 букета, 2 огромные корзины с цветами и большой, колоссальных размеров китайский веер, на котором было нашпилено голубое муаровое платье и несколько веток французских цветов. На веере висела лента с надписью: “В. Ф. Комиссаржевской от Озерковских почитателей”. Если бы не материальная сторона, так самолюбие было бы удовлетворено вполне, то есть не самолюбие, а отрадное сознание того, что меня любят, что и было наглядно доказано публикой»[155].
Вера Фёдоровна немного сгущает краски: 15 августа давали спектакль, в котором она не была занята, стало быть, у неё всё-таки было перед бенефисом два свободных дня (что, конечно, тоже немного!). Кроме того, на спектакле «Коварство и любовь» 12 августа, в котором она играла Луизу, — произошло чрезвычайно важное и приятное для неё событие. На нём присутствовали В. А. Крылов, управляющий труппой Александрийского театра, и режиссёр Александринки Ф. А. Фёдоров-Юрковский. Они лично подтвердили приглашение Комиссаржевской на Александрийскую сцену, опубликованное 7 августа в газете «Новое время». Так что готовясь к своему бенефису, она уже знала, что победила. Предложение Императорского Александрийского театра значило для актёра очень многое. Прежде всего, признание профессионального сообщества, высокую оценку заслуг. Для Комиссаржевской это было тем более неожиданно, что она совсем недавно впервые вышла на театральную сцену, ещё не минуло и года с тех пор, как она сыграла свою первую роль в Новочеркасске. Кроме того, работа на императорской сцене давала новые возможности, в том числе и материальные. Выпутаться из бесконечных долгов, перестать подсчитывать копейки, вести спокойную безбедную жизнь в столице — об этом, казалось бы, можно было только мечтать. Особенно учитывая, насколько собственная несостоятельность тревожила Веру Фёдоровну — подсчётами своих жалких доходов, распределением долгов, составлением бюджета на будущее она щедро заполняла в это время страницы своих писем. Однако — Комиссаржевская ответила на предложение Александрийского театра отказом. «Мне дали дебют на императорской сцене, сами позвали меня и предложили, но я не взяла»[156], — с гордостью сообщает она Туркину. Не взяла — и согласилась на другое, менее блестящее предложение виленского антрепренёра К. Н. Незлобина, который тоже видел её на подмостках озерковского театра. Это решение Комиссаржевской можно объяснить по-разному. Прежде всего неуверенностью актрисы в своих силах. Всё же, несмотря на успех в Озерках, она прекрасно понимала, что путь её на сцену только начинается. Однако стоит предположить и другое: Комиссаржевская уже тогда знала себе цену. Ей не хватало опыта, но размениваться она не желала и, вполне вероятно, метила именно в Александринский театр. Примером для неё мог быть, как всегда, Ф. П. Комиссаржевский, который приехал в Петербург уже победителем, никогда не был на вторых ролях, он просто перешагнул несколько ступеней, перелетел через них на самый верх той высокой лестницы, которая ведёт актёра к славе. Она не хотела начинать в Петербурге, она хотела сразу покорить столицу. Косвенные подтверждения именно такому образу мыслей Комиссаржевской мы ещё найдём впоследствии.
К концу 1893 года Комиссаржевская заработала авторитет неординарной и очень талантливой актрисы. Ей посвящает большую подробную статью театральный критик Гранитов (Н. В. Туркин). Он писал: «Комиссаржевская — ingenue comique. В ней всё есть для того, чтобы стать очень большой артисткою: миловидная наружность, красивый звучный голос, выразительные глаза и, главное, огонёк молодости, тот святой огонёк, которым артистка увлекает зрителей. В пьесе Т. Л. Куперник “Летняя картинка” Комиссаржевская играет главную роль Шуры. Играть эту роль лучше нельзя: нет ни единого лишнего штриха, нет и признака шаржа; Комиссаржевская-Шура — сама прелесть, само очарование, сама молодая жизнь, полная неподражаемой красоты и неисчерпаемого веселья. Дай бог, чтобы мы увидели тот чудный цветок, который в недалёком будущем будет представлять на русской сцене г-жа Комиссаржевская, при условии, конечно, если она будет добросовестно работать, чутко следить за литературой»[135]. Эти удивительные свойства, отмеченные критиком на самых ранних порах деятельности Комиссаржевской, никуда не ушли и впоследствии, когда она обрела всероссийскую славу. Они не свидетельствуют о наличии у актрисы особого мастерства, умения, техники. Но зато с несомненностью говорят о её необычайной искренности и абсолютном даре вживания в роль. Но ещё — и об ограниченности её возможностей: она всегда могла хорошо сыграть только ту роль, в которой находила что-то своё, глубоко её задевающее, личное. Иными словами — играла саму себя. Свою статью Туркин заканчивает пророческими словами: «Как знать, может быть, недалеко время, когда новочеркасский театр будет гордиться тем, что его сцена первая приютила чудный цветок театрального мира»[136].
Мать Комиссаржевской вспоминала, что накануне Масленой недели — последней театральной недели перед Великим постом, когда спектакли уже не игрались, артисты труппы заявили Синельникову о их общем желании назначить Вере Фёдоровне бенефис. Она была чрезвычайно этим тронута и очень серьёзно отнеслась к выбору пьесы. Синельников ей предлагал сыграть «Бесприданницу»: «Читал ей всю пьесу два раза. Одно место в-роли Ларисы растрогало её до слёз, но играть не стала.
— Боюсь! Потом, когда окрепну, а теперь страшно»[137].
Она выбрала комедию современного драматурга В. А. Крылова «В осадном положении». Бенефис прошёл под несмолкающие аплодисменты, публика многократно высказывала актрисе своё обожание, после каждого акта делала ей подношения. Одним из подарков была гигантская роза из дорогой шёлковой ткани, которую таким образом, чтобы не задеть её гордости, поднесли Комиссаржевской на платье для выступления на студенческом вечере, куда она была приглашена. В маленьком городе всё про всех известно — знали, что у актрисы нет денег на платье.
Бенефис состоялся 15 февраля 1894 года, а 22 февраля сезон закрылся. Предложения работать в будущем сезоне в Новочеркасском товариществе Комиссаржевская от Синельникова не получила. Причиной было, прежде всего, возвращение в труппу актрисы, роли которой исполняла Комиссаржевская. Но было и другое обстоятельство, которое не позволяло ей остаться, — неудавшийся роман с легендарным актёром труппы Николаем Петровичем Рощиным-Инсаровым.
Рощин-Инсаров, конечно, псевдоним. Настоящая фамилия этого актёра Пашенный. В актёры он попал из гусар, ещё в юности резко изменив свой жизненный путь. Он был на три года старше Веры Фёдоровны и намного её опытнее профессионально, играл в разных театрах, начиная с 1883 года главным образом героев-любовников. Среди его персонажей были и роли классического репертуара: Чацкий, чеховский Иванов, Тригорин, Глумов. Как писал его близкий друг Влас Дорошевич уже после его гибели, Рощин-Инсаров отказывался играть таких людей, «каких на свете не бывает», в том числе, например, Гамлета — ведь каждый человек носит в душе своего Гамлета. «Но каждый человек носит в душе и своего Чацкого, — возражал В. М. Дорошевич. — Это не мешало ему играть Чацкого, быть превосходным Чацким, быть лучшим из Чацких»[138]. Но звёздной ролью Рощина-Инсарова Дорошевич считал Иванова, «русского Гамлета». «Он был поэтом рыхлого, слабого русского человека. Это был актёр Чехова. В чеховских ролях он достиг вершин своего творчества. Когда он играл Иванова, дядю Ваню, Тригорина в “Чайке”, — чувствовалась чеховская душа. Недаром он любил в литературе Чехова, в живописи — Левитана. Он понимал и любил слабость русского человека, потому что сам был таким, и с любовью их рисовал, как с любовью говорят о близких людях»[139]. Слабохарактерность Рощина-Инсарова — качество, отмеченное в панегирической статье Дорошевича как положительное для актёра такого типа, — сыграла в его судьбе свою вполне определённую роль. Он вёл богемный образ жизни, много пил, несмотря на значительные доходы от спектаклей никогда не имел лишней копейки за душой, несколько раз пытался встать на ноги и взять себя в руки, но эти попытки успехом не увенчались.
Кроме того, Рощин-Инсаров был интересен внешне, и многочисленные любовные истории, героем которых он постоянно становился, были неотъемлемой частью его биографии. «Он любил женщин, — писал В. М. Дорошевич, — и женщины любили его. <...> В нём было нечто от Дон Жуана. Каждый раз, — а Бог свидетель, как часто это бывало! — он увлекался искренне. С каждой новой донной Анной и даже Лаурой для него начиналась — Новая жизнь!»[140]
Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминала о Рощине: «Человек он был большого таланта, оригинального и темпераментного. В жизни он был тем актёром, каких принято описывать в романах и представлять себе: бесчисленные победы над женщинами, романы, кутежи, дуэли. Он и кончил свою жизнь необычно: его застрелил из ревности муж его возлюбленной, его приятель, застрелил предательски — в спину, когда тот наклонился над умывальником. Он был очень интересен, строен, с выразительными глазами, мешал ему несколько глуховатый и хрипловатый тембр голоса, но поклонницы его даже этот голос находили чарующим и сходили по нём с ума»[141]'.
Голос Рощина составлял резкий контраст по отношению к его выразительному лицу и прекрасной фигуре («совершенно без металла, малозвучный, с хрипотой»[142]), однако актёр научился владеть им так, что ему удавалось выразить самые тонкие оттенки переживаний своих персонажей. И постепенно голос его стал легендой, неотделимой от личности актёра и его дарования.
Другим внешним недостатком Рощина были плохие зубы, которые, конечно, портили впечатление. Незадолго до гибели он отважился на серьёзную операцию — удалил все зубы, заменив их протезами. Он был увлекающимся актёром и относился к своей профессии, конечно, серьёзно, как к своему истинному призванию. Ю. М. Юрьев писал о нём: «Николай Петрович был, несомненно, культурный актёр, много работающий над собой, несмотря на свой легкомысленный характер в быту. У него была склонность к богеме, а наряду с этим он мог несколько ночей подряд не спать, подготавливая какую-либо новую роль, если она почему-либо захватывала его»[143].
Таков был этот яркий и интересный человек, который встретился Комиссаржевской в самом начале её профессионального пути и который сразу проявил к ней, как пишут мемуаристы, исключительный интерес. Надо думать — не только как к актрисе, но, наряду с этим, конечно, и как к женщине.
Теперь нам придётся сказать несколько слов об отношении к этому интимному вопросу самой В. Ф. Комиссаржевской, которую жизнь лишила семьи, любимого мужа, веры в мужчин, уверенности в себе, надежд на будущее. Обычно биографы Комиссаржевской трактуют её отказ искать после развода с Муравьёвым личного счастья стремлением всецело посвятить себя искусству. Во многом она сама способствовала созданию такого мифа, мы ещё столкнёмся в её письмах и воспоминаниях о ней с подобной установкой. Однако позволим себе усомниться в однозначности такой трактовки. Она действительно больше не вышла замуж и отвергла несколько весьма достойных предложений, начиная с С. И. Зилоти. Конечно, прежде всего, это означает разочарование в институте брака. Она не хотела больше семейной жизни — но она, безусловно, искала личного счастья.
Ею всегда интересовались мужчины, которые окружали её на театральных подмостках, — таково родовое качество театральной среды. Но и она редко когда отказывала им во внимании. О её способности влюбляться, о разнообразии и многочисленности её романов, о возрасте её самых молодых любовников впоследствии, когда имя Комиссаржевской уже гремело на всю Россию, ходили легенды. А. А. Мгебров пишет об этом: «Какова была Вера Фёдоровна в жизни? Мы знаем, какова она была на сцене, но какой она была в жизни, мы ничего не знаем, и для всех, кто соприкоснулся с Верой Фёдоровной, остаётся только одно — загадка. Мне лично кажется, что в жизни Вера Фёдоровна была абсолютной девственницей, в полном смысле этого слова... Как все девственницы, которые возводят девственность в культ, она была очень сурова, строга и недоступна... Говорят, Вера Фёдоровна меняла любовников, как перчатки, и жила всегда в приподнято-эротическом возбуждении. Говорили даже, что она и юношей привлекала к себе в театр не без тайного стремления. Всё это — величайший, глупый, лживый вздор... И вздор, если допустить даже что всё это действительно было... т. е. что она действительно знала пороки и страсти»[144].
Зная, каково было начало биографии Комиссаржевской, во всём этом нужно видеть не распущенность известной актрисы, позволяющей себе слишком многое, а безрезультатные попытки найти, наконец, того человека, который заговорит с ней на одном языке. В тот период, о котором сейчас идёт речь, — человека, который смотрел бы на искусство и служение ему тем же восхищенным взглядом, готов бы был принести на этот алтарь любые жертвы, выстраивал бы свою личность сознательно так, чтобы извлечь из неё как можно больше пользы для того воистину чудесного явления, которое называется театром. Попытка нащупать такую родственную душу среди коллег по профессии объясняет многое в любовных связях Комиссаржевской фактически на протяжении всей её жизни. Говоря точнее, она искала такого человека, который бы мог заменить в её душе немеркнущий образ отца — страстно и искренне преданного своему делу, отдавшего искусству всю свою жизнь, не разменивавшегося на мелочи, не терпящего компромиссов. Требования, которые она предъявляла к каждому новому своему избраннику, были так высоки, что никто из них не выдерживал испытания. Разочарование наступало быстро, отрезвление было каждый раз тяжёлым. Это, однако, не означало, что поиски прекратятся.
Были у Комиссаржевской не только «театральные романы». В иных случаях она искала высокой и идеальной любви, на которую её избранники тоже оказывались неспособными. В любом случае с её стороны это была постоянная погоня за призраком, который, конечно, так и не дался ей в руки.
Рощин-Инсаров был одним из встреченных на этом пути. Думается, в самом его начале. Роман, видимо, завязался очень быстро — они буквально нашли друг друга: он, Дон Жуан, не мог пропустить такой женщины, она не могла не обмануться в таком привлекательном мужчине. Совершенно очевидно также, почему этот роман столь быстро сошёл на нет: естественно, Комиссаржевская не сумела найти в Рощине отклик на свои сокровенные чувства. Высота постижения мира, которой она от него требовала, была ему чужда. Он был прекрасным артистом и — слабохарактерным человеком. Цельность и устремлённость личности Комиссаржевской к одной, ведомой только ей цели, её бескомпромиссность, её неизменная готовность к жертве, вероятно, казались ему чрезмерными. Она же не соглашалась на паллиативы.
Уход Комиссаржевской от Синельникова был в очень большой степени мотивирован разрывом с Рощиным-Инсаровым. Ей, конечно, было страшно снова оказаться не у дел, особенно после такого удачного первого сезона, успев в полной мере ощутить магию сцены, почувствовав свои силы. Но и оставаться в одной труппе с Рощиным было бы неприятно, поэтому отказ Синельникова продлить контракт она восприняла без внутреннего надрыва.
Уже после ухода Комиссаржевская написала Рощину-Инсарову большое письмо, которое фиксировало разрыв их отношений. Она подробно говорила в нём и о своих не нашедших почвы идеалах, нереализованных надеждах, фактически — о своих иллюзиях, которые разбились о почву реальности. «На Вас, на того, каким я считала Вас до сих пор, я поставила крест, а настоящего Вас мне жаль и всегда будет жаль. Но знайте, жалость бывает разной»[145], — предупреждает она адресата, которому надо готовиться к самому суровому приговору. «Видите ли, я до боли ищу всегда, везде, во всём прекрасного, начиная, конечно, с души человеческой, и, найдя это прекрасное, увидя эту искру, я готова не только простить всё остальное, но себя, всю себя готова отдать без размышлений, чтоб раздуть эту искру в пламя; но есть одно свойство человеческое, не порок, а прямо свойство, исключающее всякую возможность присутствия этой искры, понимаете, вполне исключающее, — это пошлость. И вот она-то и засела в Вас, заела Вас, пустила глубокие непоколебимые корни. Это для меня так же ясно теперь, как неясны были до сих пор многие в Вас противоречия».
В этом выпаде содержится не только чрезмерное и не совсем, вероятно, справедливое обвинение разочаровавшейся женщины, которое она бросает своему бывшему возлюбленному, но и положительная программа Комиссаржевской. Стремление отыскать искру прекрасного в человеческой душе, а потом раздуть её в пламя, посвящая этому действительно много сил и времени, — почти всегда просматривается в отношениях Веры Фёдоровны с мужчинами, которых она любила. Конечно, не все её романы хорошо задокументированы, не во всех случаях сохранились переписка или мемуарные свидетельства. Но тогда, когда исследователь может ими воспользоваться, картина вырисовывается довольно сходная: и впоследствии, решаясь на роман с человеком, чаще всего много моложе её самой, Комиссаржевская попутно ставила своей целью изменить его личность, просветить его светом собственной души, воспитать, дать ему возможность внутренне, духовно преобразиться.
Отношения с Рощиным-Инсаровым, вероятно, строились по сходной схеме, хотя он не был моложе её годами, но ощущение, что она владеет тайным знанием, которым может и должна поделиться, заставляло её принимать на себя роль духовного наставника. Очевидно, Рощин-Инсаров, который сначала показался ей родственной душой, готовой откликнуться на её зов, оказался человеком, гораздо более приземлённым, чем она ожидала. Его погружённость в богемную среду, его жизнелюбие и легкомысленность — качества, никак не соответствующие высокому идеалу Комиссаржевской. Осознав это, она прежде всего его разлюбила. Снисходить и прощать слабости она в этот период ни минуты не была способна или не видела в этом смысла. Возможно, своим последним письмом она делала ещё одну, уже вполне бескорыстную попытку пробудить в нём дремлющие в глубине духовные источники, поэтому и писала так резко и напрямик: «Артист Вы большой, повторяю, но Вы никогда не будете тем, чем могли б быть при Вашем таланте. Вы останетесь на точке замерзания, никто, ничто не спасёт Вас: от себя спасения нет. Вы заснули для духовной жизни, без которой начнёт умирать в Вас и артист. В той среде, с которой Вы сроднились душой, так же мало высоких человеческих чувств, как много Вы о них толкуете со сцены. Вы безжалостно затоптали нежный, едва пробивающийся всход понимания смысла жизни...» Как видим, именно среда объявляется Комиссаржевской источником той пошлости, которая губит талант, отнимает волю, лишает будущего. «Что могло бы спасти Вас? Одно, только одно: любовь к искусству, к тому искусству, которое давно перестало быть для Вас целью, а стало лишь средством удовлетворения собственного тщеславия и всевозможных стремлений, не имеющих ничего общего с искусством». Очевидно, что смысл жизни — служение искусству, которое может быть только целью и никогда — средством.
Заканчивается письмо очень характерным для Комиссаржевской выводом, касающимся уже не столько Рощина, сколько её самой, с её драматической личной историей, с её отверженностью и одиночеством. Она рассуждает о причинах, увлёкших её адресата в ложном направлении: «Во-первых, Вы рано вступили в эту ядовитую для молодой души атмосферу, а во-вторых, не было возле Вас женщины-друга. Именно женщина должна была дать Вам ту поддержку, которая нужна каждому человеку, а артисту особенно. <...> Да, именно при возрождении в человеке артиста, при развитии его необходимо присутствие возле него такой женщины. Умная, чуткая, любящая, она способна дать всё, начиная от верной поддержки в духовном его мире и кончая страстью со всеми её безумствами. Тогда подобная встреча могла бы сделать из Вас почти гения, теперь — она прошла бы для Вас незаметной, так как атома в Вашей душе не осталось, способного слиться с душой такой женщины».
Здесь чувствуется оскорблённая гордость женщины, оказавшейся в чуждой для себя роли. Она мечтала быть не любовницей, а соавтором, единомышленницей, подругой в самом высоком смысле, но для этого её избранник должен быть с ней, по крайней мере, «ростом вровень». Есть в этом финале и горестное воспоминание о прошлом — ведь именно такой женой, таким другом она мечтала быть когда-то для В. Л. Муравьёва, тоже артиста, тоже весьма одарённого человека и тоже оказавшегося недостойным, проигравшего её, «как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль».
В письме Рощину-Инсарову содержится ещё один неявный, но угадываемый мотив, о котором нужно упомянуть отдельно. Мысль о необходимости воспитания идеального человека, в конце 1890-х годов ещё только зревшая, набиравшая соки, чтобы потом выплеснуться в работах корифеев символизма, пусть и не в мистериальном и не в религиозном, а в личном ключе, уже существовала в сознании Комиссаржевской, дочери своего века, на полшага опережающей время. Существовала задолго до того, как стать достоянием общественности и слиться с ожиданиями крупнейших теоретиков и практиков театра. Но об этом нам ещё предстоит говорить отдельно.
Из писем Комиссаржевской этой поры видно, что она находится на творческом и душевном подъёме, обдумывает разные возможности для себя, ищет приемлемые варианты. Надо сказать, что в этих раздумьях очень много трезвости, практической смётки и реалистичного взгляда на жизнь, на саму себя и свою профессию и очень мало романтических устремлений. Так, Н. В. Туркину, театральному критику, с которым она сблизилась и сдружилась в Новочеркасске и который много писал о ней в местной газете, она признавалась: «О карьере я думаю совсем, совсем мало (хочу быть точной и не говорю, что о карьере не думаю), но без ангажемента ужасно боюсь остаться, а это может случиться»[146]. Точность Комиссаржевской действительно заслуживает самой высокой оценки! Но как она ни старается, как ни пытается привлечь свои знакомства и рекомендации, пока ничего постоянного не вырисовывается.
В марте 1894 года она едет в Тифлис по приглашению Тифлисского артистического общества. В 1893—1895 годах Фёдор Петрович Комиссаржевский жил в Тифлисе и работал профессором Тифлисского музыкального училища, основанного десятилетием ранее М. М. Ипполитовым-Ивановым. Он, конечно, был главным и самым требовательным зрителем на её спектаклях. Вероятно, его суда она ждала и боялась больше, чем суда зрителей и своих ближайших коллег. А может быть, наоборот, была уверена, что именно отец оценит и поймёт лучше остальных те тончайшие оттенки смысла и переживания, которые она была мастерицей передавать с самых первых своих ролей. Так и вышло: отец был рад и горд и ободрил дочь, признав в ней законную свою наследницу по линии искусства.
Гастроли в Тифлисе дали Комиссаржевской на короткое время некоторую материальную свободу. Вернувшись в Москву, она продолжает свои попытки найти ангажемент и вскоре получает приглашение от актёра В. А. Казанского, вместе с которым играла в Новочеркасске у Синельникова. На летнее время он отправился в пригороды Петербурга, где работал управляющим в антрепризе молодой предприимчивой актрисы П. А. Струйской, туда же звал на три летних месяца Комиссаржевскую. Она незамедлительно согласилась.
Антреприза была в Озерках и Ораниенбауме; публика на спектакли в основном съезжалась петербургская — дачники, то есть требовательная и пресыщенная. Это, конечно, был вызов. Комиссаржевскую привлёк новый драматический репертуар — за три месяца работы она сыграла в четырнадцати новых серьёзных ролях. Среди них Луиза («Коварство и любовь» Шиллера), Клерхен («Гибель Содома» Зудермана), царица Анна («Василиса Мелентьевна» Островского) и др. И хотя жаловалась в письмах Туркину: «...Учу, учу без конца»; «Я так занята, как я не знала, что можно быть занятой», — при этом словно проговаривалась: «Но я играю уже роли, а не рольки»; «Успех я имею колоссальный. Говорят везде и всюду обо мне...»[147]
«Петербургский листок» от 16 июня сообщает: «Молодая, симпатичная актриса ещё новичок на сцене, в ней по её молодости не выработались ещё искусственные приёмы для “приподнятой” сильной драматической игры. У актрисы нет ещё надлежащих физических данных, чтобы сообщить изображаемому ей характеру рельефную страстность, колоритный темперамент, резко выделить сильные переходы в игре; но г-жа Комиссаржевская в силу её грациозности, пластичности жестов, изящной фигуры, особенной чисто индивидуальной способности говорить просто, без ужимок, гримас, традиционных приёмов, умеет сообщать своим движениям такую пленительную плавность, что, смотря на игру этого внезапно рождённого таланта, невольно чувствуешь себя как бы обновлённым этой игрой, прощаешь многое, очень многое неопытной актрисе, которой все единогласно предрекают блестящую сценическую будущность»[148].
Для самой Комиссаржевской этот летний сезон стал мостом, переброшенным в будущее. У неё, с одной стороны, укрепилось ощущение верно найденного пути («Я хочу сказать, что теперь только люблю по-настоящему своё дело и дам, дам, ей-богу, дам что-нибудь большое»[149]); с другой — недовольство собой, неудовлетворённость сделанным всё чаше охватывают её. В таком противоречии нет ничего удивительного, оно свойственно любому творческому, действительно одарённому человеку. Но как мы увидим дальше, в случае Комиссаржевской её внутренние терзания были настолько серьёзным фактором, что в критические моменты её биографии превращались в двигательную силу огромной мощности, срывающую её с места, заставляющую искать новые пути, иной раз уводящие с прямой проторённой дороги в тёмные проулки и тупики.
Как справедливо пишет о Комиссаржевской Ю. П. Рыбакова, «какой счастливый и лёгкий путь мог быть у этого дарования! В общем итоге она знает только успех, в крайнем случае, легко извиняемую обстоятельствами, временную не то чтобы неудачу, а просто недостаточную удачу. Как-то особенно легко её имя связывается с именем знаменитого отца. Как-то само собой разумеется, что её ждёт большое будущее. Все трудности и трагические ситуации она искала и находила сама. Ей в высшей степени было свойственно то чувство пути, которое Блок считал признаком таланта»[150]. «Я ужасно, невозможно собой недовольна, так хочу скорей, скорей быть лучше, так подчас теряю всякую надежду на то, что это когда-нибудь будет...»[151] — признается она Туркину.
Лейтмотивом через все творческие переживания проходит тема катастрофического отсутствия денег: «...я должна бы отказываться от драматических ролей, так как я не могу на моё жалованье одеваться как нужно для этих ролей»[152]. Жалованье, о котором упоминает Комиссаржевская, было таким же, как в Новочеркасске, — 150 рублей в месяц. Но при этом жить приходилось в столице, а не в провинции, и сценический гардероб всё так же полностью оплачивался из личных средств артистов. Комиссаржевская влезла в долги, из которых потом ещё долго не могла выпутаться.
Ещё один лейтмотив — интриги, с которыми отчасти она уже столкнулась в антрепризе Синельникова. В Озерках же ощутила изнанку театральной жизни во всей её неприглядности. Подводя итоги летнего сезона, Вера Фёдоровна писала: «В смысле успеха — он превзошёл мои ожидания, но такая масса подлостей, интриг, зависти, подкопов, что я пишу вся дрожа»[153].
Поскольку публика неизменно принимала новую актрису чрезвычайно горячо — как пишет в одном из писем сама Комиссаржевская: «Я никогда теперь не выхожу на сцену без встречи», то есть без стихийных аплодисментов зрителей при появлении, — то невозможно было оставить её без бенефиса. Он был назначен на 17 августа, игралась пьеса Э. Вильденбруха «Жаворонок». Мать актрисы вспоминала: «Бенефис её был назначен поздно, так что больше половины дачников покинули Озерки, и Вера была уверена, что в день своего бенефиса будет играть при горсточке публики. Назначен был “Жаворонок”, и когда Вера шла в уборную, в кассе сбор был очень мизерный, но в 7 часов подходит поезд, полный пассажиров, которые высаживаются в Озерках и становятся вереницей к кассе; со следующим поездом та же история, и театр оказался полон. Этот неожиданный факт так приподнял энергию моей Веры, что она сыграла “Жаворонка” чудесно. Вызовам и овациям не было конца...»[154]
Вскоре после этого Вера Фёдоровна описывала свой бенефис Н. В. Туркину. В её интерпретации сталкиваются разные эмоции — горечь от переживания театральных интриг и радость от сознания своей победы, преодоления всех трудностей: «Довольно сказать, что мне дали бенефис 17-го, а 12, 13, 14 и 15-го было 4 спектакля подряд. Все уже уехали с дач, так как всё время идёт дождь. Но, несмотря на это, 8-часовой поезд привёз из Петербурга массу публики, и я получила 3 букета, 2 огромные корзины с цветами и большой, колоссальных размеров китайский веер, на котором было нашпилено голубое муаровое платье и несколько веток французских цветов. На веере висела лента с надписью: “В. Ф. Комиссаржевской от Озерковских почитателей”. Если бы не материальная сторона, так самолюбие было бы удовлетворено вполне, то есть не самолюбие, а отрадное сознание того, что меня любят, что и было наглядно доказано публикой»[155].
Вера Фёдоровна немного сгущает краски: 15 августа давали спектакль, в котором она не была занята, стало быть, у неё всё-таки было перед бенефисом два свободных дня (что, конечно, тоже немного!). Кроме того, на спектакле «Коварство и любовь» 12 августа, в котором она играла Луизу, — произошло чрезвычайно важное и приятное для неё событие. На нём присутствовали В. А. Крылов, управляющий труппой Александрийского театра, и режиссёр Александринки Ф. А. Фёдоров-Юрковский. Они лично подтвердили приглашение Комиссаржевской на Александрийскую сцену, опубликованное 7 августа в газете «Новое время». Так что готовясь к своему бенефису, она уже знала, что победила. Предложение Императорского Александрийского театра значило для актёра очень многое. Прежде всего, признание профессионального сообщества, высокую оценку заслуг. Для Комиссаржевской это было тем более неожиданно, что она совсем недавно впервые вышла на театральную сцену, ещё не минуло и года с тех пор, как она сыграла свою первую роль в Новочеркасске. Кроме того, работа на императорской сцене давала новые возможности, в том числе и материальные. Выпутаться из бесконечных долгов, перестать подсчитывать копейки, вести спокойную безбедную жизнь в столице — об этом, казалось бы, можно было только мечтать. Особенно учитывая, насколько собственная несостоятельность тревожила Веру Фёдоровну — подсчётами своих жалких доходов, распределением долгов, составлением бюджета на будущее она щедро заполняла в это время страницы своих писем. Однако — Комиссаржевская ответила на предложение Александрийского театра отказом. «Мне дали дебют на императорской сцене, сами позвали меня и предложили, но я не взяла»[156], — с гордостью сообщает она Туркину. Не взяла — и согласилась на другое, менее блестящее предложение виленского антрепренёра К. Н. Незлобина, который тоже видел её на подмостках озерковского театра. Это решение Комиссаржевской можно объяснить по-разному. Прежде всего неуверенностью актрисы в своих силах. Всё же, несмотря на успех в Озерках, она прекрасно понимала, что путь её на сцену только начинается. Однако стоит предположить и другое: Комиссаржевская уже тогда знала себе цену. Ей не хватало опыта, но размениваться она не желала и, вполне вероятно, метила именно в Александринский театр. Примером для неё мог быть, как всегда, Ф. П. Комиссаржевский, который приехал в Петербург уже победителем, никогда не был на вторых ролях, он просто перешагнул несколько ступеней, перелетел через них на самый верх той высокой лестницы, которая ведёт актёра к славе. Она не хотела начинать в Петербурге, она хотела сразу покорить столицу. Косвенные подтверждения именно такому образу мыслей Комиссаржевской мы ещё найдём впоследствии.
Глава 6 ВИЛЬНО
Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи?О. Мандельштам
Вильно был не чужим городом для Комиссаржевской. Имение Марьино, в котором она росла, находилось неподалёку от него. В Вильно Вера и Надежда учились — здесь некоторое время жила со своими дочерьми после развода М. Н. Комиссаржевская. Это был культурный город, население его выгодно отличалось от казачьего Новочеркасска. И пригласивший её антрепренёр К. Н. Незлобии не был так стеснён требованиями публики, как Синельников, он делал ставку на серьёзный репертуар. Сам Незлобии был одним из самых видных антрепренёров Российской империи; работал он со многими талантливыми и незаурядными актёрами, требовал дисциплины и точности в исполнении сценических заданий, так что актёры за глаза даже называли метод его работы «незлобинским деспотизмом». Репутация у него была, однако, безукоризненной; работавшие с ним актёры отмечали добросовестность в постановке спектаклей и честность в денежных расчётах. В начале сезона 1894/95 года Незлобии ещё чередовал драматический спектакль с опереттой, но вскоре отказался от этого, почти исключительно избирая для своих постановок драмы. Виленская публика не возражала, пресса приветствовала этот выбор. Одна из актрис незлобинской труппы вспоминала впоследствии: «Незлобии дело поставил на большую ногу. На каждую новую постановку тратилась уйма денег, зато и пьесы повторялись по 10-12 раз в сезон, что для провинциального театра было явлением далеко не обычным. И все спектакли проходили при полных сборах»[157]. Комиссаржевская, приехав в Вильно, сразу почувствовала, как изменилось её положение в театральном мире. Теперь она может выбирать роли, Незлобии ценит её и внимательно прислушивается к её запросам. Е. П. Карпов писал впоследствии: «Репертуар её значительно расширился. Она заняла амплуа первой комической и драматической инженю. В два сезона в Вильно Комиссаржевская переиграла около ста ролей, среди которых были: Рози в “Бой бабочек”, Лариса в “Бесприданнице”, Луиза в “Коварство и любовь”, Негина в “Таланты и поклонники”, Клара в “Горнозаводчике”, Софья и Лиза в “Горе от ума”, Клерхен в “Гибели Содома” и многие другие. Комиссаржевская пользовалась в Вильно громадным успехом и вскоре сделалась любимицей публики»[158]. Актёры, игравшие в том сезоне с Комиссаржевской, отмечали тем не менее её неуверенность в себе. «Когда она работала над ролью, она волновалась, была недовольна собой. И после спектакля никогда не чувствовала себя удовлетворённой»[159]; «...Я встречала на сцене робкую, неуверенную в себе молодую актрису, способную в любой момент впасть в состояние полной растерянности»[160]. Об этой растерянности и неудовлетворённости писала Туркину и сама Комиссаржевская, почти в тех же выражениях: «Я имела большой, беспрерывный успех, — да, это приятно, но дальше, дальше? Поймите, я никогда не бываю довольна собой, никогда»[161]. Актриса Н. Л. Тираспольская тонко подмечает ещё одну черту Комиссаржевской, которую, как кажется, можно назвать определяющей в её даровании: «— А всё-таки я вам завидую, — говорила мне Вера Фёдоровна. — Ваше амплуа гораздо разнообразнее. То играете вы соблазнительницу или разлучницу, то мерзавку или интриганку — вот широкий простор! А главное, вы можете отдыхать от собственных переживаний. Я же по природе своей обязательно должна сочувствовать своей героине — иначе играть не умею. Мне каждую роль надо оросить кровью своего сердца... И это была не эффектная фраза совсем ещё юной актрисы. Комиссаржевской действительно не удавались роли, чуждые её природе»[162]. Н. Л. Тираспольская рассказывает о репетициях слёзной драмы Е. Зеланд-Дубельт «Две сиротки», посвящённой трагической судьбе двух сестёр, одна из которых слепая. Слепую Луизу играла Комиссаржевская, Тираспольская — вторую сестру, Генриетту. В кульминационной сцене слепая Луиза в поисках ключа ощупывает пол и натыкается на труп своей сестры. В этом трагическом месте Вера Фёдоровна неизменно начинала хохотать, выводя из себя режиссёра, который ждал от актрисы прямо противоположной эмоции. Мелодраматические ситуации и характеры были для Комиссаржевской чужими, казались искусственными, не имели отношения к её внутреннему миру. Зато психологическая драма, в противовес предсказаниям Синельникова, оказалась тем жанром, который полностью захватил её и позволил максимально реализовать свои возможности. Интересно, однако, что наиболее достоверно и точно ей удавалось передать только глубоко личное, пережитое, прочувствованное. В других ролях она была бледна и особенно ничем не выделялась, порой играла просто плохо, как замечали самые беспристрастные критики, но слава Комиссаржевской росла изо дня в день, и недостатки чаще всего проходили незамеченными на фоне шумного успеха. Тем более что вскоре она стала легко отделять зёрна от плевел, выбирая только те роли, которые чувствовала до конца. И тогда покоряла публику безраздельно. Такой случай описывает в своих воспоминаниях А. Я. Бруштейн, уроженка Вильно, видевшая Комиссаржевскую на сцене ещё ребёнком и хорошо запомнившая её игру в одноактной пьесе В. И. Немировича-Данченко «Ёлка», которая ставилась для съезда зрителей, — в роли Оли Бабиковой. Приведём большой фрагмент из этих прекрасных воспоминаний, ценность которых несомненна: устами заинтересованной и талантливой современницы передаются тончайшие оттенки поведения актрисы на сцене. Сюжет пьесы таков, что мгновенно отсылает к детству самой Комиссаржевской и ставит её в ситуацию, ею пережитую. Герой пьесы Бабиков оставляет свою первую семью ради женитьбы на блестящей молодой женщине, молодожёны готовятся праздновать первое в совместной жизни Рождество. Действие начинается с того, что супруги украшают в сочельник ёлку. Когда Бабиков остаётся один, горничная вводит в кабинет его дочь от первого брака Олю, подростка лет шестнадцати. «В меховой шапочке и короткой жакетке, из-под которой видны коричневое гимназическое платьице и чёрный фартучек, девочка держится прямо, чересчур прямо. Ей во что бы то ни стало нужно сохранить достоинство, удержаться от подступающих слёз, и она тянется вверх, в струнку. <...> Комиссаржевская не старалась, как это делают иные травести, во что бы то ни стало показаться зрителю ребёнком. Она не старалась внушить зрителю: “Я — маленькая! Я — ребёнок! Я — девочка!”, напротив, все усилия Оли Бабиковой в исполнении Комиссаржевской были направлены к тому, чтобы казаться отцу, — а вместе с тем, значит, и зрителю, — как можно более взрослой. Она держалась с отцом официально, отчуждённо, почти сурово. Она пришла для того, чтобы возвратить ему деньги, которые он прислал им к празднику, к ёлке. Она говорила отрывисто, на низких нотах своего удивительного голоса... им не надо... У них всё есть... Но была в этом такая гордость ребячьего сердца, такая незаживающая обида на покинувшего их отца, прежде такого любящего и любимого, что зрительный зал сразу стих и стал прислушиваться. А девочка на сцене, отвернувшись от отца, чтобы скрыть готовые заплакать глаза, внезапно увидела портрет его новой жены. Поражённая, Оля идёт к портрету: “Какая красивая...” — И, сразу поняв, кто именно изображён на портрете, она добавляет с искренним удивлением: “И какая она тут добрая, папа!” Отец спешит уверить Олю, что жена его добрая и на самом деле, а не только на портрете, — очень хорошая и добрая. Комиссаржевская — Оля долго молчала. Она недоверчиво и медленно качала головкой. Глаза её наполнялись слезами, словно перед ними встало всё то горе, какое внесла в жизнь Оли и её семьи эта красивая, нарядная молодая женщина. Она говорила почти шёпотом, как бы про себя: “Добрая... Разве добрые так делают, как она?” И горько, беспомощно всхлипнув, она порывисто прятала лицо на плече обнявшего её отца. Слёзы неудержимо катились по её лицу, дрожала припухшая, искривлённая горем верхняя губка. Голос перехватывало, она говорила быстро-быстро, торопясь выговориться. Нервные, неловкие руки, словно против воли, дотрагивались до отца, до его плеча, до отворотов его пиджака; и были в этих лёгких птичьих касаниях любовь к отцу, скрываемая из гордости, и застенчивость, и горе ребёнка, которого валит с ног непосильная тяжесть — быть судьёю взрослых, — а он изо всех сил сопротивляется отчаянию, собирает всё своё мужество. Эта сценка длилась, вероятно, не более десяти минут, но сколько было в ней тончайших оттенков глубокого, правдивого чувства! И когда девочка Оля Бабикова ушла от отца, театр взорвался таким дружным громом рукоплесканий, какие вряд ли выпадали на долю “пьесок для съезда”»[163]. Совершенно очевидно, насколько искренне переживала Комиссаржевская драматическую коллизию пьесы — и уход отца из семьи, воспринятый как трагедия, как раз когда она была в возрасте Оли Бабиковой, и попытка (неудачная) установить контакт с его новой женой, и страстная любовь к отцу, и жалость к матери, и стремление простить и понять то, что подростку недоступно. Личный опыт обеспечивал абсолютное вживание в роль. Иными словами, Комиссаржевская играла саму себя, это она была той обиженной, гордой, нежной и любящей девочкой, для которой ничего не было важнее счастья своего отца и которая в пылу благородства могла воскликнуть: «Забудь о нас, папочка, только сам будь счастлив!» Достоверность исполнения Комиссаржевской была отмечена критиками. «Виленский вестник» сообщал о спектакле: «В драматическом этюде “Ёлка” выступила г-жа Комиссаржевская — Оля и дала такую правдивую, реальную картину, что заставила зрителя с замиранием сердца следить за её игрою, впрочем, игрою неправильно было бы назвать исполнение г-жи Комиссаржевской, это была не игра, а жизнь. Перед зрителями была в эту минуту не г-жа Комиссаржевская, а была действительно Оля Бабикова, и все в эту минуту переживали её горе, страдали её страданиями, обливались её слезами — до того проста и естественна была артистка и обаятельна её игра. Так захватывать всех одним моментом может только большой талант художника, а г-жа Комиссаржевская в этой маленькой роли проявила его в полном блеске»[164]. Второй легендарный спектакль Комиссаржевской в Вильно был по пьесе Г. Зудермана «Бой бабочек». Там актриса тоже играла юную девочку Рози — роль, ставшую одной из главных в её репертуаре на всю жизнь. В этой роли она вышла на сцену в последний раз в Ташкенте, уже в лихорадке, чувствуя подступающую болезнь. Рози — художница, которая выросла в семье бедных немецких бюргеров с их приземлённым мировосприятием, с их зацикленностью на материальных благах. Она мечтает о счастье, о великой любви. Расписывая бабочками веера, она сама подобна бабочке, едва касается земли, а большей частью — парит в воздухе. Н. Л. Тираспольская вспоминает об особом жесте Комиссаржевской, передающем этот полётв мир мечты: «В пьесе Зудермана “Бой бабочек” ей удалось найти не только своеобразную речь, но и выразительный жест. В нём не было однообразия, он не являлся выражением лишь общей характеристики персонажа, а заключал в себе самые тонкие нюансы, передающие всё многообразие внутреннего состояния героини»[165]. В Рози много искренности, наивности, детского жизнелюбия. Пьеса рассказывает, как под воздействием жизненной грязи и пошлости — того, что всей душой ненавидела Комиссаржевская, — девочка преображается: «Комиссаржевская с великим мастерством и проникновенной правдивостью передавала этот труднейший переходный момент: рождение взрослого человека из ребёнка, последние часы детства, первое зарождение новых чувств»[166]. Рози влюблена в Макса, богатого жениха своей старшей сестры Эльзы, которая составляет её полную противоположность своей расчётливостью, циничностью и отсутствием всякого полёта. В своих чувствах Рози боится признаться даже самой себе, настолько счастье близких людей важнее и дороже для неё своего собственного. Она просто не может понять, что сестра собирается использовать будущего мужа, продолжая встречаться со своим бывшим возлюбленным Кесслером, воплощением пошлости, хитрости и жизненной ловкости. На своё свидание с ним для отвода глаз она зовёт Рози. Однако чтобы Рози им не мешала, её решили напоить шампанским. Сцена опьянения, самая трудная в пьесе, удавалась Комиссаржевской особенно хорошо. А. Я. Бруштейн вспоминает: «В исполнении Комиссаржевской пьяная девочка не была противна — она вызывала взволнованное сочувствие к ней и острую неприязнь к тем взрослым негодяям, которые заставили Рози пить. <...> В последнем действии с самого появления Рози — Комиссаржевской было видно, что за истекшую ночь в ней произошли большие перемены. Внешне ничто не изменилось: то же серо-голубое платье, коротенькая, до локтей, тальмочка, старенькая круглая шляпка-канотье с птичьим крылышком — явные обноски старших сестёр. Но Рози-ребенка, Рози-девочки уже не было. Был взрослый человек, страдающий и несчастный»[167]. Несмотря на подразумеваемый жанром пьесы счастливый конец, на зрителя спектакль производил драматическое впечатление. Комиссаржевская, как пишет об этом Ю. П. Рыбакова, «намеренно подчёркивала слабость, угнетённость Рози, акцентировала внимание зрителя на её страданиях. Актрису будут упрекать за излишний драматизм, за отсутствие “хорошего смеха умиления”, потому что она видела больше драматурга, умела определить самую далёкую перспективу роли»[168]. Конечно, пьеса Зудермана «Бой бабочек» направлена против обывательской морали, тяготеющей над живым и творческим существом, против холодного расчёта, отрицающего искреннее человеческое чувство. Однако Комиссаржевская вкладывала в образ Рози свои сокровенные переживания, о которых публика не догадывалась. Отношения с родной сестрой, борьба за одного мужчину, юношеская мечта о большой любви, разбивающаяся о цинизм и пошлость окружающей жизни, — всё, пережитое Рози, испытанное ею самой, таким образом вышло на свет и, теряя над ней власть, было предъявлено зрителям. «Театр был совершенно покорен — люди аплодировали, кричали, не хотели расходиться после окончания спектакля»[169]. Совершенно особым, тоже личным, образом Комиссаржевская интерпретировала образ Софьи в «Горе от ума»: вместо ограниченной, самовлюблённой барышни на сцене появилась гневная, мстительная Медея, по-прежнему любящая Чацкого, но не способная простить ему нанесённые обиды. Не в семейной ли драме Комиссаржевской-Муравьёвой коренилось такое прочтение традиционной роли? Воистину эта актриса умела играть только себя саму. Один из крупнейших театральных критиков того времени Ю. Беляев писал о ней: «Вместо всякой сценической опытности и школы она принесла драме самое себя. Какой была в жизни, такой и заиграла. Про неё тогда говорили: “Она во всех ролях похожа на ...Комиссаржевскую. Она играет себя”. Это была правда. Но эти судители забывали только одно: её природный талант; забывали, что и для “игры в себя” нужно искусство. Сначала была одна жизнь, потом стало две жизни, и вторая, т. е. сценическая, должна была переживать первую в изображении искусства. Счастливы те актёры, которые могут черпать и радости и страдания из склада готовых приёмов, у кого холодная кровь и сухие слёзы. Несчастны те, кто воистину переживает каждое движение души, кто плачет настоящими слезами, чьё сердце обливается кровью во имя его героя. Надо ли говорить, что Комиссаржевская играла именно так»[170]. Комиссаржевская прослужила в антрепризе Незлобина два года. В конце второго сезона был её бенефис, на который она решилась представить «Бесприданницу» и впервые в своей жизни сыграла Ларису Огудалову. Вспомним, что в феврале 1893 года в Новочеркасске она отказалась от предложения Синельникова взять «Бесприданницу» в качестве бенефисного спектакля. Теперь для неё это стало возможным. Логика этой роли для Комиссаржевской была, вероятно, близка к тому, что она показывала в «Бое бабочек»: та же чистая, немного наивная душа, жаждущая любви и счастья, отказывающаяся жить по материальным законам и следовать двойной морали, цельная натура, отдающая всю себя чувству. Цыганского темперамента, крайности, блеска, размаха, которые традиционно сопровождали образ Ларисы, в её игре не было. Театральная критика сразу отметила эти особенности как недостаток, «бледность» исполнения. Но таково было намерение актрисы; она не стремилась нажимать на все педали, которые приводили бы в действие уже известные механизмы. Она прорабатывала иную сферу, у Островского, скажем откровенно, не столь очевидную — внутреннее действие, или психологический подтекст. Для Комиссаржевской важно было показать не то, что делает и как ведёт себя Лариса, а то, что скрыто в её душе, но исподволь прорывается наружу. Именно поэтому 4-е действие пьесы, её трагический финал захватывали зрителя. О «бледности» образа уже не могло идти речи, зал рыдал. В Вильно Комиссаржевская вообще нашла своего зрителя. «Её встречали и провожали овациями, засыпали цветами и разноцветными приветственными бумажками. В ожидании Комиссаржевской у театрального подъезда дежурили толпы молодёжи, чуть не вступая порой врукопашную с поклонниками других актрис»[171]. И впоследствии, когда Комиссаржевская возвращалась в Вильно на гастроли и снова выходила на сцену, её неизменно ожидал искренний и горячий приём. Такова событийная канва жизни Комиссаржевской за те два года, которые она провела в Вильно и за которые добилась невероятного по яркости и скорости успеха. Если же заглянуть в её письма этого времени, то картина будет ошеломительной. В них нет ни удовлетворения своей артистической деятельностью, ни радости от побед, ни душевного спокойствия, ни желания жить, зато много жалоб, прежде всего на расшатанные нервы и слабое здоровье, которое всё время напоминает о себе то внезапным заболеванием, то сердечным припадком. Вот несколько характерных фрагментов её эпистолярия: «Ах, как здесь всё мерзко, если бы вы знали»[172]; «Да, я останусь собой, если только я останусь жить, но не думайте, что я хочу лишить себя жизни, хотя и эта мысль несомненно приходила в голову, но характера у меня мало, даже обстоятельствам противостоять не умею...»; «Говорю я о смерти не насильственной, а так, может быть, подкосит, плохо я себя чувствую»; «Как мне тяжело жить!»[173]; «Во всех отношениях ужасно тяжёлые дни приходится переживать»[174]; «После бенефиса, сыграв 2—3 спектакля, я опять заболела и теперь чувствую себя очень скверно, то есть прямо я устала очень»[175]; «Я заболела, и очень опасно. Еле-еле успели захватить воспаление лёгких, и я вот уже третью неделю лежу и только начинаю оправляться…»[176] Конечно, жалобы на здоровье имеют прямое отношение к реальности — Комиссаржевская действительно часто болела и отличалась крайне хрупкой организацией. Болезни её зачастую были связаны с нервным напряжением. Другое дело — мироощущение. Она не то чтобы падала духом при малейшей неудаче — о неудачах в письмах вовсе нет ни одного слова. Вероятно, чувствительных неудач, провалов вообще не было за два года работы в виленском театре. Речь идёт об особом взгляде Комиссаржевской на мир, который никак нельзя назвать оптимистическим и жизнеутверждающим. Ей было свойственно — и это свойство останется до самого конца — остро подмечать трагические стороны, касалось ли это самой себя, своих близких или репетируемых ролей. Многие современники, однако, пишут о Комиссаржевской как о весёлом, жизнерадостном человеке. Весёлость и умение отдаваться сиюминутным радостям тоже были в ней, но скорее как внешние, бытовые, естественные стороны характера. Стоило же ей задуматься, и страдание, связанное с собственным несовершенством или несовершенством мира, мгновенно выплывало на поверхность, руководило её жизненной философией и не позволяло быть счастливой. Счастливой Комиссаржевская никогда не была. Жизнь её в 1894—1895 годах протекала преимущественно на театральных подмостках. Актриса отдалась полностью тому, что теперь составляло смысл и цель её существования. Однако это совершенно не означало отсутствия личных чувств и связей, которые, как кажется, поддерживали её в самые тяжёлые минуты депрессии и неуверенности в себе. Пётр Ярцев вспоминал: «Были две черты у Комиссаржевской — такие разные и вместе понятные только в ней: до детскости пугливая неуверенность в себе и рядом упрямая жажда власти над людьми. Все люди, которые с ней соприкасались, должны были принадлежать ей, только о ней думать, только её любить. Здесь она была ревнива, подозрительна беспредельно и никогда не прощала»[177]. С этой чертой Комиссаржевской мы ещё неоднократно столкнёмся. Кажется, что проявлением её были и отношения с Н. В. Туркиным. Переписка явно свидетельствует о том, что они выходили за рамки просто дружеской связи. Так, в начале сентября 1894 года Комиссаржевская обращает к нему следующие проникновенные слова: «Ваши редкие письма, сказанное Вами в строках и между строк так много говорили мне о том, что я права, считая Вас своим другом. Я не знаю, понимаете ли Вы, что значит сознание, что есть другой человек, который придёт к тебе, откликнется на призыв твоего нравственного “я” во всякое время. Дойдя до такого сознания, можно не писать, не говорить и быть покойной и довольной. Случалось ли Вам когда-нибудь замечать, что если любишь кого-нибудь очень и живёшь в одном городе, то можно примириться с разлукой хотя на месяц, скорей, чем если любимый человек уедет на неделю из города. Понимаете ли, что я этим хочу сказать?»[178] Был ли это действительный роман или только эпистолярный, сказать достоверно невозможно. Такой же неверный след встречаем в переписке с В. И. Никулиным, в то время тоже актёром незлобинской труппы, который покинул Вильно в начале осени 1894 года и с которым у Комиссаржевской успели завязаться дружеские тёплые отношения. В письме тоже неоднозначно: «Если скука по мне не уляжется, а будет так отважна, что рискнёт пустить глубже корни, то, может быть, Вы приедете на той неделе? Знаете, я сейчас жалею о том, что приходится ставить знак вопроса»[179]. Конечно, главная причина такой доверительности — родство душ, общий язык, человеческий интерес друг к другу. Но всё же читатель, вероятно, согласится, что тон писем Комиссаржевской чрезвычайно волен. Это происходит не от излишней уверенности в своих женских чарах — такая черта Вере Фёдоровне отнюдь не была свойственна, — но от сознания своей внутренней силы, которая (и она это знала) оказывала неотразимое воздействие на мужчин. Она, конечно, играла, но результаты этой игры оборачивались порой запутанной жизненной историей, как это случилось с ещё одним другом Комиссаржевской — Сергеем Спиридоновичем Татищевым, с которым актриса познакомилась в Вильно. Восторженный почитатель актёрского таланта, заядлый театрал, Татищев был, конечно, покорен игрой Комиссаржевской. Уезжая, он предложил ей помощь в устройстве её карьеры, между ними завязалась переписка. С. С. Татищев — человек, о котором стоит сказать несколько слов, поскольку это фигура, заметная в государственной жизни России конца XIX столетия. Он был успешным дипломатом, работал в разных российских посольствах, в том числе и в Австрии. О его приключении в Вене ещё будет сказано несколько слов впоследствии. Во время Русско-турецкой войны Татищев поступил добровольцем в Дунайскую армию и служил в гусарском полку, участвовал в знаменитом кровопролитном сражении под Плевной. В начале 1880-х годов состоял чиновником особых поручений при министре внутренних дел. По личному поручению В. К. Плеве подготовил исследование «История социально-революционного движения в России. 1861 — 1881», которое считается первой аналитической работой по истории русского терроризма. Очевидно, что Татищев придерживался консервативных взглядов и старался по мере сил бороться с развивающейся эпидемией революционности. Выйдя в отставку, сотрудничал в нескольких журналах, вёл политическое обозрение в журнале «Русский вестник». Однако известен Татищев прежде всего своими историческими трудами: пятисотлетней историей рода Татищевых, биографией Александра III. В начале 1870-х годов, когда Татищев работал в российском посольстве в Вене, особой известностью пользовалась в Европе опереточная артистка Термина Майерхоф (Hermine Meyerhoff), исполнительница главных ролей в опереттах Иоганна Штрауса (2-го), И. Кальмана и других крупнейших композиторов того времени. Ей было немногим больше двадцати лет. Она была исключительно популярна и исключительно хороша собой. Дополнительно прославил её скандал 1869/70 года: в мае 1869-го она снялась обнажённой в фотоателье Адель Вильгельма Перлмуттера с условием, чтобы клише были уничтожены. Однако даже и при таком условии этот поступок для того времени был более чем эпатажным. Клише, однако, сохранились, и фотографии обнажённой модели (правда, без имени) были выставлены в Галерее искусств Зонненталя. Госпожа Майерхоф подала в суд, и в 1870 году суд вынес решение в её пользу. Сам судебный процесс, на котором снова и снова обсуждался вопрос демонстрации обнажённого тела истицы, был тоже событием, выходящим из ряда вон. К нашей истории биография Термины Майерхоф имеет прямое отношение, потому что С. С. Татищев с 1870-х годов, несмотря на дипломатический статус, высокое происхождение и политическую роль, был практически её гражданским мужем. В 1877 году в Париже у них родилась дочь Мария, после чего они на время расстались: Татищев участвовал в военных действиях, Термина продолжала свою театральную карьеру в Вене, совершая триумфальные гастрольные поездки по всей Европе. В 1888 году г-жа Майерхоф покинула сцену, и в том же году С. С. Татищев снова возникает в её жизни — они заключают официальный брак. По-русски она была записана как Герминия Юрьевна Мейергоф. Жили они то в России, то в Европе. Умер Татищев в Граце в 1906 году. Такое подробное повествование о семейной жизни и приоритетах С. С. Татищева нужно нам для того, чтобы прояснить весьма непростую ситуацию в его отношениях с Комиссаржевской. Татищев был покорен её талантом, актёрскими данными и предложил помощь — обещал переговорить с директором императорских театров И. А. Всеволожским. Собственно, не очень понятно, почему Комиссаржевская нуждалась в подобном содействии, если Александринка уже один раз проявила к ней интерес и пригласила на свою сцену. Приглашение это осталось в силе и после отказа актрисы. Однако условия, которые предлагал Комиссаржевской Императорский театр, её не очень-то устраивали. И она последовательно и планомерно настаивала на своём. В том числе и через С. С. Татищева, на которого в это время очень полагалась. Правила для поступающих на императорскую сцену актёров были общими: обязательно полагался дебют. Его можно сравнить с вступительным экзаменом. В зале во время такого дебюта присутствовали все представители администрации и художественной части театра. И только после удачного дебюта принималось решение о предоставлении актёру контракта, который подписывался сразу на три года, лишая актёра свободы передвижения. Комиссаржевской такая жёсткая зависимость не нравилась. Она требовала возможности поступления в театр без дебюта, с контрактом на один год, с жалованьем в четыре тысячи рублей[180], пользованием казённым театральным гардеробом и правом выступить осенью (то есть сразу после начала сезона) в трёх пьесах по её выбору. Татищев усердно вёл переговоры, но встречал на этом пути довольно жёсткое сопротивление, связанное с косностью любой государственной структуры и её традиционным консерватизмом. Не уступала и Комиссаржевская. В своих письмах она ясно и настойчиво требует желаемого. «Я отлично понимаю, что Всеволожск[ий], не видав меня ни разу на сцене, не может подписать со мной контракт, какие бы блестящие отзывы обо мне ему ни давали»[181], — видимо, соглашается она с доводами Татищева. Однако: «Не желать поступить на императорскую] сцену было бы дико. Но я Вам и объяснила и доказала (припомните наш последний разговор), что не могу идти на императорскую] сцену иначе как при тех условиях, какие я предлагаю. Если я им нужна, то они согласятся, так как я ничего невозможного не прошу, а если я им не нужна, то не лучше ли мне ехать в какой-нибудь университетский город и занять там такое положение, при котором не страдало бы моё самолюбие и нервы; тем более, что последние, благодаря сложившейся жизни, достаточно расшатаны»[182]. Обратим внимание на твёрдость в заявлениях актрисы и её раздражённую интонацию. Очевидно, что представления о Комиссаржевской как о небесном создании, оторванном от земной почвы и парящем в мире своих творческих грёз, не имеют реального основания. Преодолевая препятствия, она упорно стремилась к максимальной свободе выбора. Конечно, эта свобода была тесно связана с желанием полностью отдаваться служению искусству. Но так уж получилось, что духовные устремления Комиссаржевской были неотъемлемой частью её профессионального пути, и она прекрасно понимала, как нужно наиболее эффективно его выстраивать. «Торопиться с выяснением этого вопроса заставляет меня следующее: я получила два очень хороших приглашения на будущий сезон и должна дать ответ. <...> Для меня это вопрос очень важный, так как раз я не сойдусь с императорским театром, то не хочу пренебрегать хорошими приглашениями»[183]. Впоследствии мы столкнёмся с совершенно иными решениями Веры Фёдоровны, объяснить которые будет не так просто, но на каждом повороте судьбы она абсолютно отчётливо видела, чего она не хочет. Положительная программа была не такой очевидной. Ведя через Татищева переговоры с Александринским театром, Комиссаржевская знала точно, что не хочет быть привязанной к императорской сцене на три года, хотя впоследствии получилось так, что она задержалась на ней дольше. Несмотря на хлопоты Татищева, Комиссаржевская остаётся в театре Незлобина на второй сезон: ей был предложен контракт с повышением жалованья ещё до окончания сезона. И она подписала его. На летнее время Незлобии планировал гастроли в Старой Руссе, куда тоже пригласил Комиссаржевскую. Татищев прилагает всевозможные усилия, чтобы вытащить Комиссаржевскую в Петербург — если пока не на императорскую сцену, то хотя бы в знаменитый столичный театр его коллеги и единомышленника А. С. Суворина, с которым он сотрудничал в периодических изданиях. Но Комиссаржевская как будто избегает этой чести. Из Старой Руссы она пишет Татищеву, видимо, отвечая на его упрёки: «Ни на минуту я не “пренебрегала” Вашим желанием и стремлением расчистить мне дорогу к цели, к достижению которой направлены все мои помыслы. Но я не виновата, что ряд обстоятельств помешал мне до сих пор воспользоваться Вашей милой предупредительностью. Зачем Вы мне говорите “одумайтесь!”, будто бы я сама не понимаю всей целесообразности Ваших советов?! Я с удовольствием бы приняла предложение Суворина, прямо с большим удовольствием, но я кончила в Вильно, заключила контракт и не выполнить его не могу. Вы скажете, напрасно я торопилась, и будете правы, но я не могла иначе сделать»[184]. Сколько милой непоследовательности в этих строках! Одновременно и обезоруживающее признание опыта и правоты собеседника, и собственной слабости и неразумности, и сердечной благодарности за заботу... и при этом — хорошо замаскированной твёрдости. Конечно, Комиссаржевская принимает решение продлить контракт с Незлобиным не в результате минутного порыва. Она всё хорошо продумала — покорять императорскую сцену она явится прямо из провинции, суворинский театр — лишняя ступенька, она не хочет, чтобы к ней привыкали в столице, она предполагает ворваться туда «незаконной кометой в кругу расчисленных светил»: «Если я им нужна, то они согласятся». Зададимся вопросом: почему С. С. Татищев на протяжении почти двух лет прилагает такие усилия, чтобы перетащить Комиссаржевскую на столичную сцену? Было ли в этом неуклонном желании только стремление помочь молодому дарованию и послужить таким способом искусству? Из сохранившегося эпистолярия с очевидностью следует, что нет. Ю. П. Рыбакова предполагает, что Татищев сделал Комиссаржевской предложение руки и сердца, на которое та ответила отказом[185]. Это предположение нам приходится отвергнуть в силу неоспоримого факта — в то время, когда Татищев окружал своим вниманием Комиссаржевскую, он был уже женат на Термине Майерхоф, с которой оставался в официальном браке до самой своей смерти. Ю. П. Рыбакова сравнивает ситуацию Татищев — Комиссаржевская с драматургическим дуэтом Великатов — Негина (А. Н. Островский «Таланты и поклонники»), однако правильнее было бы сравнить её с другой литературной парой: Лариса — Кнуров («Бесприданница»), Татищев предлагает Комиссаржевской не столько содержание (от этого он, дворянин, всё-таки воздерживается, хотя и помогает ей выйти из затруднительного материального положения), сколько просто свои чувства, в природе которых трудно усомниться. Ну и, конечно, совместное путешествие в Париж. Татищев зовёт Комиссаржевскую в Париж во время Великого поста 1896 года, заманивая её возможностью сыграть на парижской сцене. Она с большим интересом откликается на это предложение. «...Скажите мне, — взволнованно спрашивает она в письме, — если бы я нашла средства поехать этим постом за границу, помогло ли бы это, то есть придвинуло бы возможность сыграть мне в Париже в 96 году. Конечно, я попросила бы тогда Вас познакомить меня с кем нужно заранее»[186]. Попутно она ссылается на семейные причины, которые могут помешать исполнению её планов, под семейными причинами подразумевая безденежье и тяжёлые долги, из которых никак не удавалось вырваться. Прочитав про «семейные причины», Татищев, вероятно, вообразил, что речь идёт о новом замужестве. В следующем письме Комиссаржевская успокаивает его: «Даю Вам слово, что упомянутые мной семейные условия не имеют никакого отношения к моему сердцу и предполагаемая Вами причина никогда не могла бы заставить меня изменить направление пути, по которому я иду <...>»[187]. Прежде чем переходить к развязке этой истории, попытаемся ответить себе на вопрос: как же относилась сама Комиссаржевская к своему «другу и попечителю», как она называет Татищева в одном из писем, и чего ожидала от этой «дружбы»? Думается, что ни минуты не сомневалась в природе интереса к ней Татищева: она была уже вполне зрелой женщиной, чтобы строить иллюзии и тешиться самообманом. Однако, вероятно, рассчитывала всё же на искренность его желания помочь ей продвинуться вне зависимости от того, как сложатся их личные отношения. Собственно — была права. Благородства Татищева вполне хватило на то, чтобы вести многомесячные переговоры с Александринским театром и добиться принятия тех условий, которые настойчиво выставляла Вера Фёдоровна. Была ли она осмотрительна в этих отношениях? Очевидно, что нет. Письма Татищеву полны намёков, полупризнаний, полусогласий, из которых, при определённом складе мышления, можно сделать далекоидущие выводы: «На второй неделе поста я буду в Петербурге, и мы с Вами увидимся и обо всём переговорим, а переговорить мне с Вами хочется и надо об очень многом, многое Вам сказать, о многом спросить и составить сообща программу будущего моего в том направлении и смысле, какие Вас интересуют или по крайне мере интересовали очень недавно»[188]. О каком будущем идёт речь? Только ли об артистическом или Комиссаржевская намекает на личные отношения? «Ещё раз повторяю, мне ужасно бы хотелось Вас повидать и поговорить об очень многом. Сообщаю Вам свои местопребывания, может быть, Вы найдёте какую-нибудь возможность добраться до меня»[189]. В это время Татищев находится в Мариенбаде, и Комиссаржевская настойчиво зовёт его либо в Старую Руссу, где проходят её летние гастроли, либо на Кавказ в Сухум-Кале, куда она собирается отправиться в августе для встречи с отцом, либо, в конце концов, в Одессу, через которую, видимо, предполагает возвращаться обратно. Весь этот маршрут ей самой представляется неудобным для назначения свидания, и тем не менее в письме упорно повторяется: «Напишите поскорей — а лучше всего приезжайте»; «невозможно писать, а поговорить надо». Приведём полностью одно из её писем С. С. Татищеву, в силу его очевидной двусмысленности не включённое ни в одно эпистолярное собрание Комиссаржевской и до сих пор не опубликованное. Читатель может самостоятельно сделать выводы об игре, которую ведёт со своим адресатом автор этого послания: «Ох, и трудную же Вы на себя обязанность взяли, добрейший Сергей Спиридонович! Видите, начинаю с ослушания: Вы просили написать Вам, если получу какие-нибудь известия из Петербурга, а я, следуя лишь своему желанию, пишу Вам, не дождавшись ниоткуда никаких известий. Вам не понравилось моё “merci”, ну позвольте мне заменить его другим словом, тем, которое я говорю, желая сказать что-нибудь от души, а именно — спасибо. Ничего не сказать я, право, не могу. Не знаю, будут ли когда-либо иметь основание благодарить Вас русское общество и искусство (речь идёт о трудах Татищева по продвижению Комиссаржевской на императорскую сцену. — А. С,-К.), знаю только, что я всегда буду благодарна Вам, хотя бы Вы мне не оказали ни малейшей услуги. Вы так тепло, с такой искренностью, которой я не имею ни малейшего ни основания, ни желания не доверять (это ответ на Ваше “кажется, доверчиво отнеслись ко мне”, простите за скобки, но спешу предупредить, что не умею положительно не злоупотреблять ими), отнеслись ко мне, что я не могла не вынести отрадного впечатления от разговора с Вами, и так как подобными впечатлениями судьба нас не балует, то я и повторяю Вам — спасибо. Вы будете кудесник, если разберётесь скоро в моих иероглифах, но бранить меня всё-таки не посмеете, т. к. много тоже и моего труда стоит разобрать Вашу руку, и я делала это не только без ропота, но с полным удовольствием. Надеюсь, что многошумный-очаровательно-головокружительный Париж не заставил Вас забыть о существовании “любимого птенца”. Я жду Вас на бенефис (26-го окт.), но не рассержусь, если Вы приедете раньше. Исписав четыре страницы, я не сказала в сущности ничего, но это свойственно женщинам — зачем же быть исключением, а в данном случае это не нужно, не правда ли? Значит, до свидания, добрая моя нянюшка. Жму крепко Вашу руку. Мама просит передать Вам свой привет»[190] [191]. Очень любопытна в этой странной истории и роль Марии Николаевны, матери Комиссаржевской, которая активно участвует в перипетиях жизненной драмы, сама переписывается с Татищевым, сообщает о переменах настроения Веры, просит его о помощи, убеждает потерпеть и подождать. Здесь всё кажется двусмысленным. И поведение самой героини: действительно ли она воспринимала своё общение с Татищевым как дружеское или для неё речь тоже идёт о большем? «Зачем Вы спрашиваете, предоставлена ли я Вам, — ведь я вам уже сказала — высказала свои условия, на дальнейшее даю carte blanche»'9'. Вроде бы речь идёт о театре, но выражено это так неоднозначно, что, право, любой бы задумался, тем более человек заинтересованный. Или она намеренно играет с Татищевым, пытаясь добиться от него желаемой помощи, что в общем и целом на Комиссаржевскую совсем непохоже, как читатель ещё не раз убедится в дальнейшем? Да и сам Татищев — о чём, собственно, думал, на что рассчитывал? Может быть, он намеревался развестись с Герминой в случае согласия Веры? Об этих его намерениях нам ничего не известно. В январе 1896 года Татищев приехал в Вильно, видимо, для решительного объяснения. Следы этого объяснения встречаются в одном из последующих писем, которым Комиссаржевская поставила точку в их отношениях: «На предложенный Вами в последний раз, как Вы говорите, вопрос я отвечаю ещё раз — нет; но не могу ограничиться этим ответом, не считая нужным отказать себе в желании сказать Вам ещё несколько слов. Ваше письмо не только огорчило, но и удивило меня; при последнем нашем свидании, казалось, всё было выяснено, и Вы, получив от меня ответ на вопрос, предлагаемый в сегодняшнем письме, решили остаться моим другом, простившись с надеждами, которые питали до сих пор; но Вы проверили себя и решили, что это невозможно. Пусть будет так. Пусть будет так. Мне слишком больно, что я заставляю Вас переживать тяжёлые минуты, награждая хоть и невольно ими за всё то искреннее ко мне сочувствие и желание добра, доказательств которых Вы мне дали так много. Не сердитесь, что я не считаю теперь себя в праве принять от Вас те услуги, которые Вы мне предложили с той добротой, в искренности которой я никогда не сомневалась и не усумнюсь. Вы не можете себе представить, как мне тяжело так огорчить Вас и лишиться в Вас друга, но я никогда не кривила душой и в данном случае особенно не могу не ответить честно, правдиво, рискуя даже потерять Ваше ко мне хорошее отношение»[192]. Этим письмом фактически заканчивается корпус переписки между Комиссаржевской и Татищевым. Она отказалась от его содействия относительно европейских гастролей, не желая более быть обязанной в силу понятных причин. Однако действенная помощь Татищевым ей уже была оказана. Мать Комиссаржевской сообщает: «В ноябре 1895 года приехал в Вильно поверенный от директора Императорских театров, Ивана Александровича Всеволожского, опять с предложением о поступлении на Императорскую сцену. Этот господин ехал, по театральным делам, за границу и обещал заехать к Вере за ответом на возвратном пути. <...> Веру отпустил г. Незлобии на три дня; по отъезде её я всё ещё надеялась, что на её условия не согласятся, так как она решила заключить контракт на один год, а там правило было заключать его натри. Увы. На второй день её приезда я, к вечеру, получила телеграмму, что контракт у неё в кармане, что Ив. Ал. Всеволожский согласился на один год, четыре тысячи жалованья, гардероб весь казённый»[193]. Переписку с Татищевым, который резко оборвал все связи с Верой (ни видеть, ни получать от неё писем он был «не в силах»), некоторое время продолжала её мать, стараясь сохранить с ним добрые дружеские связи. Но это ей, видимо, не удалось. Татищев был больно задет, раздосадован, обижен однозначностью и очевидной жёсткостью Вериного отказа, обвинил её в неделикатности, неблагодарности и корыстности и сообщил Марии Николаевне, что «Бог его спас» от неправильного выбора. Возмущённая мать писала в ответ: «Когда Вы будете в силах беспристрастно разобраться во всём, Вы поймёте, как глубоко несправедливо Ваше незаслуженное обвинение человека, в котором Вы отрицаете главное его достоинство, честное, благородное и бесконечно доброе сердце. Ну, да бог Вам судья»[194]. Судя по всему, больше фигура Татищева никогда не возникала на жизненном горизонте Комиссаржевских. На прощальном спектакле в Вильно Веру Фёдоровну чествовали невероятно. А. Я. Бруштейн вспоминает: «Среди многочисленных подарков, венков и адресов <...> была одна надпись, наивная и трогательная: “Дай Бог, чтобы и Петербург полюбил Вас, как Вильна...”»[195]. Когда Комиссаржевская уверяла Татищева в своей беззаветной преданности искусству и безразличии к личному счастью, она, конечно, немного кривила душой. В Вильно был человек, который в её сердце занимал значительно больше места, чем Татищев. Это был актёр, тоже игравший в театре Незлобина; звали его Казимир Викентьевич Бравич. Он принадлежал к той же плеяде актёров, вступивших на театральные подмостки в середине 1880-х годов, что и Рощин-Инсаров, и тоже обладал исключительным драматическим дарованием, но был лишён необоримой тяги к богемной жизни, был серьёзен, исполнителен и предан своей профессии. Эти качества, конечно, не могли не броситься в глаза Вере Фёдоровне, совсем недавно столкнувшейся с противоположным подходом к делу в блестящем Рощи не-И нсарове. Бравич, вероятно, не был так ярок, но, несомненно, обладал большим талантом. Блок вспоминал: «Который-то из девяностых годов. <...> Представляют “Термидор” Сарду. Одну из главных ролей играет К. В. Бравич. С каким умом, с какой тонкой художественной мерой выходит он из натянутых положений, в которые его ставит бездарный, мелодраматический автор! Помню, что он должен воскликнуть с ужасом: “В Тюльери сажают капусту!” И он произносит эти дурацкие слова так, что я до сих пор слышу его голос! На миг представляется действительно ужасным, что в “Тюльери сажают капусту”»[196]. Другой мемуарист так характеризует игру Бравича: «Прекрасным актёром, создавшим яркие, выпуклые образы, был Бравич. Лёгкий польский акцент, сказывавшийся у него в исполнении всех ролей, нисколько не мешал ему. Свои роли Бравич проводил всегда умно, играя прежде всего “от головы”. Бывало, на репетициях суфлёр подаёт ему реплику, а он останавливается и с раздражением спрашивает: “Где подлежащее? Почему ты не подаёшь мне сказуемого?”»[197]. Свою ставку Бравич делал на психологизм, в чём сходился с Комиссаржевской, всегда вскрывавшей внутренние глубинные пласты каждого характера. По происхождению он был поляк, и это отчасти роднило его с Комиссаржевскими, которые помнили своё западноукраинское происхождение. Бравич был представителен, высок ростом и внешность имел, что называется, сценическую. Роман между ним и Верой Фёдоровной начался ещё в Вильно. Потом, когда она уехала в 1896 году в Петербург, добившись необходимых условий от дирекции Александринки, он вскоре отправился за ней, приняв предложение Малого (Суворинского) театра. Конечно, это не было случайностью — не вызывает сомнений, что таково было их обоюдное решение, и в Петербурге они вместе искали, а потом и снимали квартиру. Преданность и безоговорочная вера в дарование Комиссаржевской, готовность следовать за ней по тому пути, по которому ведёт её судьба, будут ещё не раз проявлены Бравичем на деле. Комиссаржевская не могла не чувствовать поддержки от этого надёжного и прочно стоящего на ногах человека. В Вильно, конечно, о их связи было известно. В дневнике одной из петербургских знакомых Комиссаржевской, С. И. Смирновой-Сазоновой, содержится любопытная запись. Актриса старшего по сравнению с Комиссаржевской поколения П. А. Стрепетова, которая жила в Вильно в 1890-х годах, неодобрительно высказывалась об этом романе: «По поводу Бравича и Комиссаржевской был у нас со Стрепетовой горячий спор. Она называет Комиссаржевскую лицемеркой. “Зачем скрывает, что Бравич её любовник?” Она ничего не скрывает, каждый день принимает его, но любовник ли он ей, мы этого не знаем. “Вся Вильна знает” — “Да чего же Вы хотите, Полина Антипьевна? Чтобы она всем представляла его: “вот позвольте вас познакомить, это мой любовник?”»[198]. Комиссаржевская, конечно, ничего не скрывала. Удивительная свобода, с которой она относилась к своим романам, неумение (или нежелание) делать их тайной для окружающих, иногда даже чрезмерное стремление выставить напоказ своё короткое и непрочное счастье, естественно, вызывали неприятие. Комиссаржевскую многие обвиняли в безнравственности. Однако в этой судорожной смене любовников, за которой мы ещё не раз будем наблюдать, были и неуверенность в себе, и стремление к преодолению комплексов, и отчаянная попытка отобрать у судьбы причитающийся ей объём счастья, и жизнелюбие, доставшееся ей в наследство от отца, и романтический поиск идеала, и вызов обществу — я не такая, какой вы хотите меня видеть, я свободна. Задолго до громового возгласа Маяковского: «Долой вашу мораль!» — Комиссаржевская вполне открыто проживала свою весьма бурную жизнь, от которой после её трагической смерти остался только лёгкий взмах ангельских крыльев.
Глава 7 «Я — ЧАЙКА...»
У меня больная душа, и я жгу жизнь с двух концов, чтобы не чувствовать вечной боли.В. Ф. Комиссаржевская
Эта глава по объёму биографического материала должна перевесить все остальные, поскольку в ней речь пойдёт о наиболее подробно задокументированном периоде жизни В. Ф. Комиссаржевской. Конечно, её появление на сцене Императорского Александрийского театра не оставило равнодушными ни зрителей, ни коллег, ни критиков. Все шесть лет, которые Комиссаржевская посвятила главной драматической сцене России, её имя не сходило со страниц газет и театральных журналов. Ругали ли её, хвалили, отзывались ли скептически о новых ролях, превозносили до небес — она всё время была в центре внимания. Её дебют состоялся 4 апреля 1896 года в пьесе «Бой бабочек», где она исполняла уже знакомую ей роль Рози. Об этом вспоминает Евтихий Павлович Карпов, который выполнял тогда обязанности главного режиссёра русской драматической труппы Императорских театров Санкт-Петербурга. Он занял эту должность фактически одновременно с поступлением на сцену Комиссаржевской и стал её прямым начальником, распоряжался распределением ролей, ведал и другими вопросами, которые непосредственно касаются повседневности актёрской жизни: «Публика встретила её сдержанно. Холодком веяло на неё в первое время и со сцены, от товарищей. Неуютно ей было в казённых стенах Александрийского театра. Помню, стоя на подмостках театра, в одну из первых репетиций, Вера Фёдоровна, тоненькая, хрупкая, с фигурой девочки-подростка, робко оглядывая колоссальную сцену, грустно проговорила: — Какой огромный этот театр... Мне страшно здесь... Я кажусь себе такой маленькой... И голоса у меня не хватит на такую громаду...»[199] Чуть позже свои личные впечатления от Александрийского театра записал молодой артист Мгебров. Наверное, они во многом совпадали с тем, что почувствовала Комиссаржевская, оказавшись на этой прославленной сцене: «...Я очень любил театр, но в Александрийском театре меня почти неизменно сопровождала усталость; утомляли и подавляли меня блеск и пышность, — красный бархат с золотом, духота зала, даже, несмотря на всю несомненную красоту его и изумительную, огромную, переливающуюся блестками, радужными лучами люстру; утомляла и публика, своей странной бесцветной серостью (за исключением первых представлений), но со слишком большой чванливостью, подобною той, какой отличались солидные гостиннодворские приказчики богатых магазинов. <...> Актёры, хорошо знавшие свою публику, не могли, разумеется, не считаться с нею, кое в чём даже подражая ей. Таковы были и камердинеры этого театра: нарочито важные, тоже себе на уме, знавшие что-то про себя, умевшие сразу же оценить каждую птицу по её полёту...»[200] В этой живописной картине хорошо отразились и нарочитая торжественность зала, и его помпезность, и избалованность публики, не всегда отдающей себе отчёт в том, какой спектакль ожидает её сегодня, и амбициозность актёрской среды. Все эти факторы были, несомненно, против актрисы, начинающей свой путь на императорской сцене. Писательница С. И. Смирнова-Сазонова, человек биографически близкий театру (её муж, актёр Николай Сазонов, работал в труппе Александринки), в своём дневнике зафиксировала первое впечатление от игры Комиссаржевской на императорской сцене: «Театр переполнен. Все жаждут нового таланта. Но ожидания так велики, что Комиссаржевская не могла их удовлетворить. Одни говорят — “не молода”, другие — “ничего особенного”. Мы так испорчены штампованными ingenues, что правдивая, простая игра этой девочки, её угловатые манеры, порывы — всё это публику не удовлетворяет, это не то, как бывает у актрис. Эта Рози — сама правда, а нам нужна комедиантка. Вот и пошло! Голос нехорош, ноги велики. Успех она имела, но восторгов не было»[201]. Один из актёров Александрийского театра вспоминал появление в труппе Комиссаржевской: «Вижу стройную, с прекрасно-поставленной головой, фигуру молодой женщины, шапку рассыпающихся пепельных волос, широко “отверстые” — именно, отверстые — тёмные глаза... Лицо было бледно и тогда уже покрыто морщинками... Бросался в глаза непомерно высокий воротник платья — постоянная особенность туалета Комиссаржевской»[202]. Как видим, Вера Фёдоровна в эту пору внешне совсем уж не производила впечатление юной девочки, но держалась с большим достоинством: «Комиссаржевская всем успевает ответить и ответить ясно, не по-русски: без комканья слов, без излишества улыбок и рукопожатий. “Как красиво держит себя” — мелькнуло у меня в голове»[203]. Однако несмотря на «взрослость», она вошла в труппу с тем же амплуа, с которым фактически начинала театральную карьеру —инженю, юные девушки, только вступающие в жизнь. Профессиональный зритель Е. П. Карпов писал о дебюте Комиссаржевской: «Играя в большом театре, в первый раз, перед незнакомой публикой, в чужой труппе, нервная, чуткая Вера Фёдоровна страшно волновалась. И, конечно, это отразилось на её игре. Голос не повиновался ей. Усиливая его, она утратила тонкость интонаций, красоту полутонов. Исполнение Веры Фёдоровны не было согрето вдохновением, её игра производила впечатление обдуманной, но суховатой»[204]. Оговоримся здесь, что голос, возможно, не повиновался Комиссаржевской по другой причине, о которой не знал Карпов, — она была, как обычно в моменты особенного нервного напряжения, нездорова, и сама признавалась в письме своей виленской корреспондентке А. А. Лапидарской за два дня до выхода на сцену: «Ужасно, что у меня всё время горло болит, не перестаёт. Хриплю и кашель. Как буду играть — не знаю положительно...»[205] Были, однако, и другие нарекания. Крупнейший критик того времени А. Р. Кугель находил, что у Комиссаржевской «мало натуры», имея в виду её отрешённость от реализма, быта — того, что в театре тогда ценилось больше всего. Хотя Рози в её исполнении вполне твёрдо была вписана в определённый социально-биографический контекст, но критик почувствовал важное свойство актрисы, которое поначалу воспринял отрицательно. Впоследствии он написал об этом: «Ясно, что мне бросилось тогда в то время в глаза: в Комиссаржевской было что-то надбытовое, что-то отрицавшее быт, была какая-то своя личная песня, которую она постоянно пела и которая так увлекала публику»[206]. Другой, не менее известный критик Ю. Д. Беляев писал почти о том же: «Комиссаржевская никогда не была реалисткой в полном смысле этого слова, ну скажем, в смысле Стрепетовой. В её игре всегда была некоторая отвлечённость, и мистика, и символы. Она всем существом стремилась к новым веяньям, к новым формам. Помните один характерный жест её, когда в момент смятения она нервно проводила рукой по лбу. Словно снимая какую-то паутинку? Потом её словно озаряла счастливая мысль, возвращалось утерянное спокойствие и с торжествующей улыбкой коротким разом она откидывала голову»[207]. Это иное, непривычное качество игры новой актрисы, видимо, интуитивно ощутила публика, привыкшая видеть вполне традиционную, хотя и качественную актёрскую работу на сцене Императорского театра, наиболее консервативного и как любая громоздкая структура медленнее других сдвигающегося от реализма к модерну. Очевидно, этим можно объяснить, что с первых выходов Комиссаржевская не завоевала оглушительного успеха — к ней привыкали. Успех придёт позже, когда зрители угадают в её игре самые свои сокровенные ожидания, когда вдруг станет очевидным, что она говорит о самом наболевшем — и самыми современными средствами, языком своего времени. Сама артистка была, конечно, недовольна дебютом, как она всегда была не удовлетворена тем, что делала на сцене, и вообще — самой собой. Е. П. Карпов вспоминал, как она выглядела во время своего первого спектакля в Александрийском театре: «Все мускулы её лица двигались, трепетали под кожей, образуя непрестанную игру света и теней. Болезненно нервным, трагическим и далеко не детским смотрело оно. И в блестяще нервных глазах лежала глубокая грусть. Контраст с Комиссаржевской Рози, которую я только что видел на сцене, и здесь за кулисами, поразил меня. <...> Комиссаржевская посмотрела на меня рассеянным и, как мне показалось, недружелюбным взглядом и протянула руку, ничего не сказав... Рука её была холодна, как лёд, но пожатие энергичное, крепкое. “Мы в восторге от вашей игры”, — начал Крылов. Комиссаржевская его быстро перебила: “Нет, нет, это не то... Я сегодня играю ужасно... Совсем не узнаю себя... Не чувствую Рози... Правда, я ужасно играю?” — обратилась она ко мне»[208]. Это ощущение, как мы знаем, было свойственно актрисе. Если представить себе, что она всякий раз так интенсивно переживала свой выход на сцену, то становится непонятно, как вообще можно существовать в таком нервном напряжении, в магнитном поле такой огромной силы. «После первого же дебюта своего на Александрийской сцене, — вспоминал Ю. Э. Озаровский, — Комиссаржевская упрочила за собой в труппе репутацию актрисы с выдающимся дарованием, с хорошей школой, тонким вкусом, но темперамент артистки довольно продолжительное время оставался словно “под подозрением”. Актриса “с каким-то интересным холодком”, — говорили про Комиссаржевскую актёры Александрийского театра того времени. “Интересный холодок” очень занимал и меня»[209]. И только через несколько сезонов Озаровский понял, что было источником такого впечатления: Комиссаржевскую невозможно было записать в привычную рубрику, она не была актрисой определённого темперамента, как принято было говорить об актёрах и в соответствии с этим ограничивать их амплуа. Это был новый артистический темперамент. Озаровский называет его «идеалистический» — имея в виду, очевидно, ту же самую черту — отсутствие заземления, работу на другом уровне восприятия, не бытовом, а бытийном. Отсюда, пожалуй, нелюбовь Комиссаржевской к реалистическим пьесам Островского, в которых она не видела глубинного психологизма, а замечала только бытописание. И её неудачи, когда она — по настоянию Е. П. Карпова — всё же соглашалась в этих пьесах играть. Исключение составляет, пожалуй, только «Бесприданница» и ровно потому, что в ней попытка Островского проникнуть во внутренний мир своей героини наиболее очевидна. Комиссаржевской, которой достаточно было и полунамёка, удалось развернуть этот образ и углубить его. Отсюда и такой оглушительный успех пьесы, возобновлённой в Александрийском театре в начале сезона 1896/97 года с Комиссаржевской в главной роли.









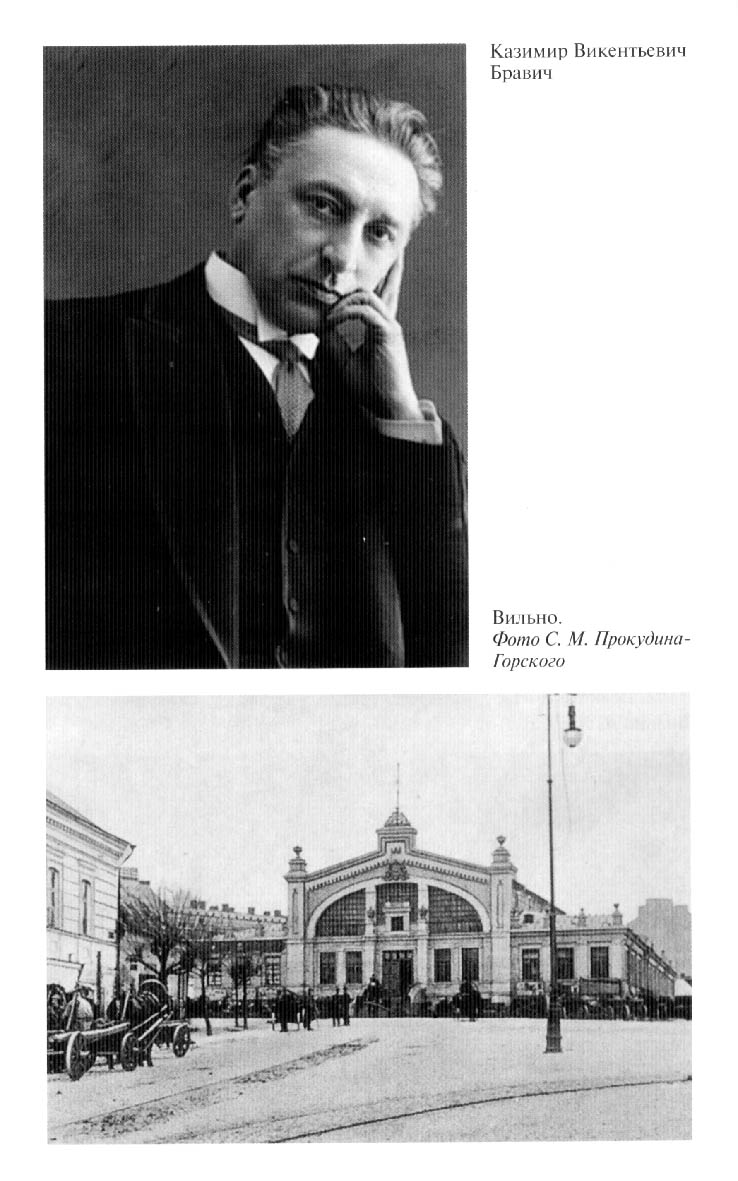

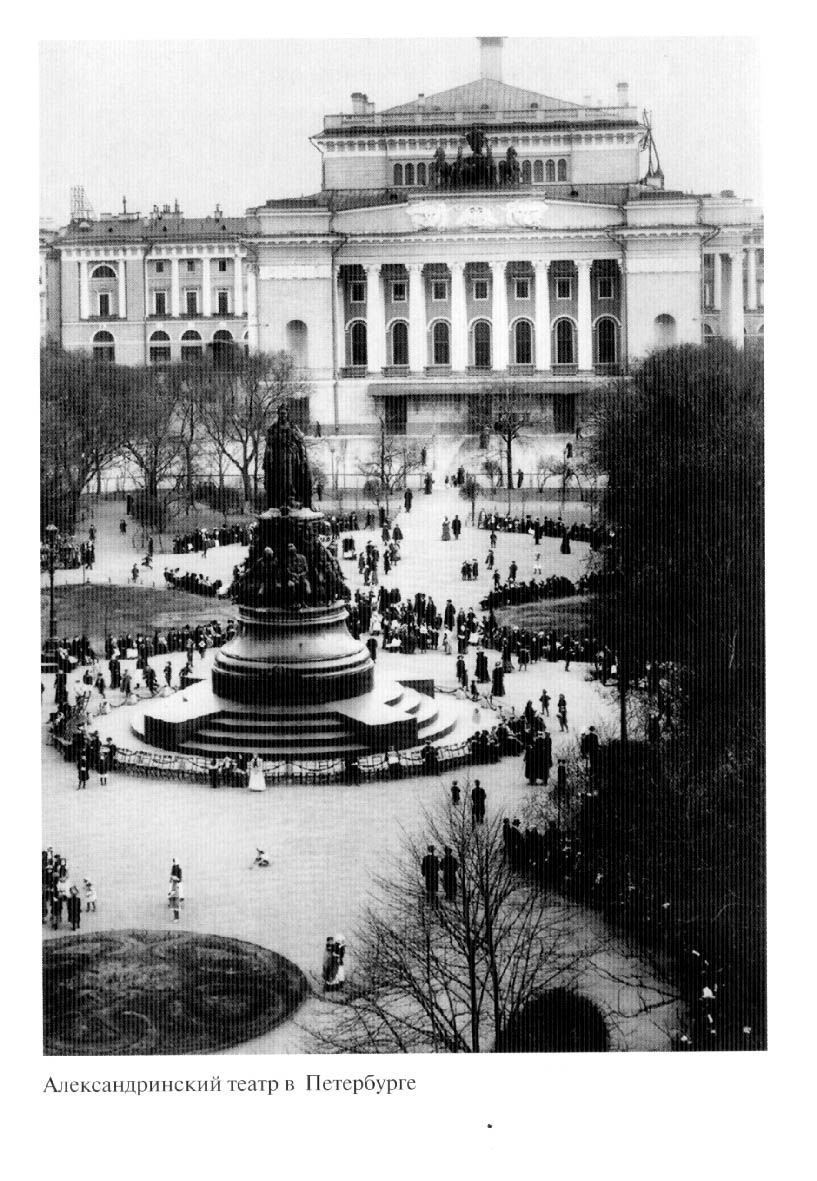



 Однако прежде чем говорить подробно о «Бесприданнице», скажем несколько слов о Е. П. Карпове, с которым жизнь Комиссаржевской тесно переплелась во время её работы на императорской сцене. Евтихий Павлович был всего на семь лет старше Комиссаржевской, но производил впечатление человека, значительно больше пожившего. Он принадлежал совсем к другому разряду людей — не служил самозабвенно искусству, а пытался поставить искусство на службу человечеству. Карпов происходил из семьи почтмейстера маленького провинциального городка Карачева, учился в Брянске, в Орле, потом оказался в Константиновском Межевом училище в Москве. Уже будучи студентом, стал интересоваться революционными идеями, вступил в «Народную волю», был знаком с известными народовольцами, ходил в народ, был арестован по делу о подпольной типографии, сидел в тюрьме, оказался в ссылке в Сибири. Свою творческую деятельность начал с рассказа «Ополченец», который был опубликован в петербургском журнале «Свет», потом пошли драмы: «Тяжкая доля», «На земской ниве», «На развалинах прошлого», «Рабочая слободка» и др. Всего за свою жизнь Карпов написал около двадцати пьес. Уже по их названиям видно, какое направление принимала его драматургическая деятельность. Вернувшись из ссылки в 1885 году, он работал в газете «Орловский вестник» и одну за другой выпускал из-под своего плодовитого пера новые драмы. Через два года он оказался в Ярославле, где впервые занялся театральной деятельностью — сначала как актёр, потом как режиссёр. Оттуда перебрался в столицу, ставил спектакли для крестьянских семей под Петербургом, для рабочих. В 1893 году в Александрийском театре была поставлена его пьеса «Ранняя осень», а в 1896 году его пригласили на должность режиссёра русской труппы не только Александрийского театра, но вообще всех Императорских театров Санкт-Петербурга. Литературные приоритеты Е. П. Карпова соответствовали его народническим идеалам. Он был убеждённым приверженцем реалистической бытовой драмы. Карпов был женат, у него в семье росли сыновья.
Между главным режиссёром и новой актрисой установились сразу вполне доброжелательные, хотя и довольно далёкие отношения. Разница вкусов и характеров, всего жизненного опыта была очень чувствительной. Забавные ситуации взаимного непонимания, когда, казалось, что они говорят на разных языках, записывала в своём дневнике С. И. Смирнова-Сазонова:
«Все сёстры Комиссаржевские и Мария Ильинична Зилоти каждого человека называют каким-нибудь цветом и каким-нибудь днём недели. Один человек у них — зелёный, другой — голубой, один — среда, другой — вторник. И что всего замечательнее — они друг друга понимают. Они удивляются только, как другие их не понимают. “Ну, какого я цвета?” — спрашивает Волынский. Комиссаржевская долго, внимательно на него смотрела: “Вы? Суббота”. Карпов, когда услыхал это, говорит: “Миленькие мои, не долго вам по белу свету гулять!” После этого, когда Комиссаржевская сказала что-то, по его мнению, непонятное, он только махнул рукой: “Ну, это опять голубые вторники пошли!”»[210]. И ещё одна зарисовка, уже больше касающаяся театральной повседневности: «С Карповым они, когда спорят, то кричат до хрипоты. Раз спорили о том, отвечает ли режиссёр за туалеты актрисы. Он говорит “да”, она говорит “нет”. Он что-то в жару спора сказал, что если актриса одета чучелой, то режиссёр не может за это не отвечать. Потом говорит ей: “Что Вы кричите-то? Вы так без голоса останетесь”. — “Ещё бы, Вы называете меня чучелой!”»[211].
Уже по этим бытовым сценкам видно, с каким вниманием и нежностью Карпов относился к Комиссаржевской, с которой не соглашался и которую не всегда понимал. Забегая вперёд скажем, что это отношение со временем только углубилось. Сухость и некоторая ограниченность Карпова, прежде всего в его прикладном взгляде на искусство, не помешали ему сблизиться с Комиссаржевской. Их роман был недолгим, но оставил в его жизни значительный след. После смерти Комиссаржевской Е. П. Карпов стал одним из самых аккуратных и заинтересованных её мемуаристов. Он умер в 1926 году и завещал быть похороненным на кладбище Александро-Невской лавры, неподалёку от могилы Комиссаржевской.
17 сентября Комиссаржевская праздновала свои именины, и в этот же день состоялась премьера «Бесприданницы» с её участием. Она уже играла Ларису в виленском театре, поэтому понимание роли у неё уже было и за прошедшее время могло только углубиться. В спектакль Комиссаржевская ввела новый романс итальянского композитора А. Гуэрчиа (слова Е. Дельпрейте), только недавно переведённый на русский язык М. Медведевым:
Однако прежде чем говорить подробно о «Бесприданнице», скажем несколько слов о Е. П. Карпове, с которым жизнь Комиссаржевской тесно переплелась во время её работы на императорской сцене. Евтихий Павлович был всего на семь лет старше Комиссаржевской, но производил впечатление человека, значительно больше пожившего. Он принадлежал совсем к другому разряду людей — не служил самозабвенно искусству, а пытался поставить искусство на службу человечеству. Карпов происходил из семьи почтмейстера маленького провинциального городка Карачева, учился в Брянске, в Орле, потом оказался в Константиновском Межевом училище в Москве. Уже будучи студентом, стал интересоваться революционными идеями, вступил в «Народную волю», был знаком с известными народовольцами, ходил в народ, был арестован по делу о подпольной типографии, сидел в тюрьме, оказался в ссылке в Сибири. Свою творческую деятельность начал с рассказа «Ополченец», который был опубликован в петербургском журнале «Свет», потом пошли драмы: «Тяжкая доля», «На земской ниве», «На развалинах прошлого», «Рабочая слободка» и др. Всего за свою жизнь Карпов написал около двадцати пьес. Уже по их названиям видно, какое направление принимала его драматургическая деятельность. Вернувшись из ссылки в 1885 году, он работал в газете «Орловский вестник» и одну за другой выпускал из-под своего плодовитого пера новые драмы. Через два года он оказался в Ярославле, где впервые занялся театральной деятельностью — сначала как актёр, потом как режиссёр. Оттуда перебрался в столицу, ставил спектакли для крестьянских семей под Петербургом, для рабочих. В 1893 году в Александрийском театре была поставлена его пьеса «Ранняя осень», а в 1896 году его пригласили на должность режиссёра русской труппы не только Александрийского театра, но вообще всех Императорских театров Санкт-Петербурга. Литературные приоритеты Е. П. Карпова соответствовали его народническим идеалам. Он был убеждённым приверженцем реалистической бытовой драмы. Карпов был женат, у него в семье росли сыновья.
Между главным режиссёром и новой актрисой установились сразу вполне доброжелательные, хотя и довольно далёкие отношения. Разница вкусов и характеров, всего жизненного опыта была очень чувствительной. Забавные ситуации взаимного непонимания, когда, казалось, что они говорят на разных языках, записывала в своём дневнике С. И. Смирнова-Сазонова:
«Все сёстры Комиссаржевские и Мария Ильинична Зилоти каждого человека называют каким-нибудь цветом и каким-нибудь днём недели. Один человек у них — зелёный, другой — голубой, один — среда, другой — вторник. И что всего замечательнее — они друг друга понимают. Они удивляются только, как другие их не понимают. “Ну, какого я цвета?” — спрашивает Волынский. Комиссаржевская долго, внимательно на него смотрела: “Вы? Суббота”. Карпов, когда услыхал это, говорит: “Миленькие мои, не долго вам по белу свету гулять!” После этого, когда Комиссаржевская сказала что-то, по его мнению, непонятное, он только махнул рукой: “Ну, это опять голубые вторники пошли!”»[210]. И ещё одна зарисовка, уже больше касающаяся театральной повседневности: «С Карповым они, когда спорят, то кричат до хрипоты. Раз спорили о том, отвечает ли режиссёр за туалеты актрисы. Он говорит “да”, она говорит “нет”. Он что-то в жару спора сказал, что если актриса одета чучелой, то режиссёр не может за это не отвечать. Потом говорит ей: “Что Вы кричите-то? Вы так без голоса останетесь”. — “Ещё бы, Вы называете меня чучелой!”»[211].
Уже по этим бытовым сценкам видно, с каким вниманием и нежностью Карпов относился к Комиссаржевской, с которой не соглашался и которую не всегда понимал. Забегая вперёд скажем, что это отношение со временем только углубилось. Сухость и некоторая ограниченность Карпова, прежде всего в его прикладном взгляде на искусство, не помешали ему сблизиться с Комиссаржевской. Их роман был недолгим, но оставил в его жизни значительный след. После смерти Комиссаржевской Е. П. Карпов стал одним из самых аккуратных и заинтересованных её мемуаристов. Он умер в 1926 году и завещал быть похороненным на кладбище Александро-Невской лавры, неподалёку от могилы Комиссаржевской.
17 сентября Комиссаржевская праздновала свои именины, и в этот же день состоялась премьера «Бесприданницы» с её участием. Она уже играла Ларису в виленском театре, поэтому понимание роли у неё уже было и за прошедшее время могло только углубиться. В спектакль Комиссаржевская ввела новый романс итальянского композитора А. Гуэрчиа (слова Е. Дельпрейте), только недавно переведённый на русский язык М. Медведевым:
Он говорил мне: «Будь ты моею,
И стану жить я, страстью сгорая;
Прелесть улыбки, нега во взоре
Мне обещают радости рая».
Бедному сердцу так говорил он,
Бедному сердцу так говорил он,—
Но не любил он, нет, не любил он,
Нет, не любил он меня!
Ах нет, не любил он, нет, не любил он,
Нет, не любил он меня!
Он говорил мне: «Яркой звездою
Мрачную душу ты озарила;
Ты мне надежду в сердце вселила,
Сны наполняя сладкой мечтою».
То улыбался, то слёзы лил он,
То улыбался, то слёзы лил он,—
Но не любил он, нет, не любил он,
Нет, не любил он меня!
Ах нет, не любил он, нет, не любил он,
Нет, не любил он меня!
Он обещал мне, бедному сердцу,
Счастье и грёзы, страсти, восторги,
Нежно он клялся жизнь усладить мне
Вечной любовью, вечным блаженством.
Сладкою речью сердце сгубил он,
Сладкою речью сердце сгубил он,—
Но не любил он, нет, не любил он,
Нет, не любил он меня!
Ах нет, не любил он, нет, не любил он,
Нет, не любил он меня!
В пьесе А. Н. Островского романс в исполнении Ларисы тоже звучит в 11-м явлении 3-го действия, когда она поёт перед Паратовым вопреки воле своего жениха. Но это другой, знаменитый и ставший к тому времени классическим романс М. И. Глинки на стихи Е. А. Баратынского «Не искушай меня без нужды»; он назван и процитирован в тексте драмы. Замена была значима не сама по себе — содержательно подходили оба текста, — а применительно к голосу Веры Фёдоровны. Её исполнением зал был буквально зачарован. Одна из актрис труппы Александрийского театра писала в своих мемуарах: «В голосе — главная сила Комиссаржевской: он хватает за сердце, он поражает задушевностью. И в третьем акте “Бесприданницы” под дрогнувшую гитару — её пение, с надрывом, полное муки...»[212] Современники свидетельствовали, что после исполнения романса зрители взрывались аплодисментами. Критики отмечали — и были правы, — что Комиссаржевская совершенно переосмыслила роль Ларисы, опять сыграла себя саму. Ю. Беляев писал впоследствии, отчасти повторяя свою рецензию на «Бесприданницу»: «...Она не перевоплощалась, а преображалась, и роли, обыденные, незаметные в другом исполнении роли, загорались у неё чудесным светом. Вспомните её “Бесприданницу”, где цыганская натура Ларисы преображалась у неё почти в мученический образ. Эта “актриса от жизни” давала на сцене всё, что получала в жизни: свою страсть, свой голос, свои чудесные глаза. Ах, этот голос, эта натянутая струна, эта драгоценная скрипка Страдивариуса!»[213] Кипучая цыганская кровь Ларисы, как отмечал тот же Беляев в своей рецензии, совсем не была показана Комиссаржевской. Она играла страдающую женщину, которая ищет не просто обыкновенного женского счастья, а великой и прекрасной любви, составляющей для неё цель и смысл существования. Обманутая в своих ожиданиях («Я любви искала и не нашла!»), она гибнет, поскольку жизнь её более не имеет никакого смысла. «...В финальной сцене с Карандышевым, — замечает В. Л. Юренева, — слова Комиссаржевской, которые не могут стереть ни годы, ни всё виденное позже в театре: “Вещь... да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек”. Обычно у всех актрис чувствуется просто обида; у Комиссаржевской здесь не личное оскорбление, нет, ужас за человека, за потерю достоинства, свободы — лучшего, что есть на земле»[214]. Лариса Комиссаржевской испытывает экзистенциальный ужас, осознав, наконец, как устроена данная ей в ощущении жизнь, в чём состоит её закон, лишённый любви, искренности и человеческого тепла. Метко и тонко, как всегда, пишет об этой роли Комиссаржевской А. Кугель: «...Лариса Комиссаржевской была несчастна от рожденья, — она уже является с первой минуты перед нами окружённая ореолом страдания. Страдание слилось вместе с жизнью и, наконец, доходит до высшей точки. <...> Комиссаржевская, играя, жалела, т. е. любила человечество. И это чувствовала публика...»[215] Е. П. Карпов свидетельствует: «Успех пьесы и Комиссаржевской был колоссальный. Ролью Ларисы Вера Фёдоровна завоевала себе прочное место в первых рядах труппы Александрийского театра»[216]. Зрители были сражены, покорены, захвачены — их восхищение объяснялось ещё и тем, что игра Комиссаржевской была для них непривычна. Как пишет Юренева, «она пришла со стороны, у неё другое кровообращение, другая глубина». И вот какова была реакция публики: «Меня поразил зрительный зал: какая-то торжественность, особая серьёзность, точно сегодня здесь не играют, а мы стали свидетелями, вернее участниками, подлинной человеческой драмы. В самые напряжённые моменты спектакля зрители переставали быть чужими, они дышали одним дыханьем, их сердца стучали вместе»[217]. Степень эмоциональной исчерпанности актрисы после таких спектаклей трудно передать, её замечали все: бледность, изнеможение, едва держится на ногах, почти в обмороке — такие наблюдения рассыпаны по разным мемуарам. И, как правило, делается один и тот же вывод: Комиссаржевская на сцене сжигала себя. С апреля по сентябрь 1896 года Комиссаржевской удалось переломить и холод прессы, и осторожность зрителей, и настороженность товарищей по труппе. Летом театр, конечно, не работал, в июле и августе Комиссаржевская играла в спектаклях Императорских театров в Красном Селе и других пригородах Петербурга. В межсезонье она пыталась отдыхать и приводить «себя в более приличный вид», как писала в одном из писем Е. П. Карпову. На июнь поехала в дедовское имение Буславля к дяде Николаю Николаевичу Шульгину. Так что количество спектаклей, в которых она сыграла перед своим триумфом в «Бесприданнице», было совсем невелико. Однако с этого момента её самоощущение и отношение к ней публики меняются коренным образом — Комиссаржевскую буквально носят на руках, не дают ей прохода, боготворят. Зачастую приходится прибегать к хитростям, чтобы ускользнуть из театра незамеченной для поклонников. Начинается жизнь настоящей знаменитости, звёзды сцены. С одной стороны, такая жизнь тешит самолюбие, с другой — доставляет немало сложностей. Комиссаржевская не была тщеславна и при органической, природной неуверенности в себе не могла особенно тешиться своей славой. Более того, вечное недовольство собой, о котором она писала когда-то Туркину, не исчезло под лучами славы, но только набирало обороты. Она сама бесконечно повышала планку, которую каждый раз надо было преодолевать заново. Сыграть хуже она уже не могла себе позволить, а если это происходило, то не хотела себе прощать. 8 октября в Александрийском театре происходила читка пьесы А. П. Чехова «Чайка», которую принял к постановке Е. П. Карпов. 17 октября был назначен юбилейный спектакль в честь комической актрисы Е. А. Левкеевой, «Чайка» была выбрана актрисой и режиссёром для этого бенефиса. Пьесу нужно было поставить чрезвычайно быстро — за десять дней. Карпов хотел отдать роль Нины Заречной Комиссаржевской, но Чехов, не зная её, просил, чтобы Нину играла известная и прославленная к тому времени артистка М. Е. Савина. Между ними в труппе Александрийского театра установилось негласное, но всем очевидное соперничество, существовало ощутимое напряжение и в личных отношениях. Так, в одном из своих писем М. Г. Савина упоминает о Комиссаржевской в таком контексте: «Я... буду играть Кэтти, хотя она поставлена чрезвычайно фальшиво и представляет крайне неблагодарный труд. Фальшь заключается в том, что так думать и поступать может ужаснейший ребёнок, а нам с Ермоловой никто не поверит. По-настоящему здесь надо играть Комиссаржевской...»[218] Налицо и высокая оценка собственной профессиональной значимости (сравнение с Ермоловой), и ощущение превосходства над Комиссаржевской, и скрытая характеристика соперницы как актрисы — фальшь, капризность, искусственность. Савина была на десять лет старше Комиссаржевской и сама чувствовала, что на роль Нины уже не очень подходит. Однако отказаться от новой роли означало сдать позиции, добровольно подыграть сопернице. В результате места для Комиссаржевской в «Чайке» не нашлось вовсе. Для Аркадиной она не очень-то подходила, роль Маши была отдана артистке М. М. Читау.
 Дальше началась психологическая война — обычное явление для театрального закулисья. М. Г. Савина на первую репетицию не явилась, вскоре после этого прислав Карпову письмо с отказом от роли. Однако совсем уходить из пьесы Савина не хотела и решила сыграть Машу. Заложник ситуации, Карпов отправился к М.М. Читау уговорить её отдать роль Савиной. Читау страшно обиделась, но делать было нечего, значение Савиной в труппе было таково, что всё вершилось по её слову. Однако история на этом не кончилась: невыразительно прочитав роль Маши по тетради на репетиции, Савина отказалась и от неё. Бедный Карпов снова отправился к Читау, умоляя её взять роль обратно. В конце концов после долгих усилий ему удалось это устроить. «Никогда ещё не было такого ералаша в нашем муравейнике»[219], — писала в своих мемуарах М. М. Читау.
Первые две репетиции прошли без Нины, её слова просто читал один из свободных актёров. И только тогда Карпов решился и отправился к Комиссаржевской — просить её взять роль Нины. «Актрисы народ самолюбивый, — вспоминал об этом Карпов, — и не очень-то любят, когда им передают роли после отказа от них других артисток. В. Ф. Комиссаржевская попросила оставить ей пьесу и обещала в тот же день вечером дать ответ. Требование Веры Фёдоровны было вполне законно, и я не мог не согласиться. Волновался я страшно... Вдруг откажется... Вечером я со страхом поехал за ответом к Комиссаржевской. Она встретила меня радостно взволнованная. И пьеса, и роль ей очень понравились. Она с охотой согласилась играть Нину, но боялась, что в такое короткое время не сможет овладеть ролью. Я уже успел узнать робкий, нерешительный характер Веры Фёдоровны, и хотя сам прекрасно сознавал трудность задачи в шесть репетиций сыграть “Чайку”, насколько мог, ободрял Веру Фёдоровну, говоря, что в провинции она привыкла играть и не такие роли с двух-трёх репетиций»[220].
Третья репетиция состоялась, наконец, при полном составе исполнителей. Но актёры всё ещё плохо знали текст, ходили по сцене с тетрадками в руках, плохо ориентируясь в пространстве пьесы. А времени на работу над характерами и общими сценами почти совсем не оставалось. Положение спасало отчасти то, что всем артистам очень нравилась пьеса, они готовы были работать. «Репетиции продолжались с 11-ти часов утра до 5-6 часов вечера. Мы по несколько раз повторяли одну и ту же сцену, переделывая заново планировку, добивались верных тонов, соответствующих пьесе настроений... Актёры волновались, спорили между собой и со мной, горячились, нервничали. В. Ф. Комиссаржевская, конечно, волновалась больше всех. Чем больше она репетировала, тем сильнее ей нравилась роль Нины. Она очень скоро нашла верный тон и уже с третьей репетиции жила на сцене»22'.
Играть Чехова после Островского трудно, настолько различно их творчество по внутреннему заданию и по стилистике. Понятно, что тонкий психологический рисунок совершенно новаторской чеховской драмы вызывал у актёров Александринки сложности, заставлял размышлять и сомневаться в достигнутом.
На четвёртую репетицию приехал Чехов. И только тут узнал, что Савина отказалась от роли и её отдали неизвестной ему актрисе. «Я совсем не знаю, что за актриса Комиссаржевская, — приводит его слова Е. П. Карпов. — Боюсь. Роль Нины для меня всё в пьесе...» Карпов представил его Комиссаржевской. Дальше происходило следующее: «Чехов весь первый акт простоял в первой кулисе, не сходя с места. Пощипывая бородку, он сосредоточенно смотрел на сцену.
— Что скажете, Антон Павлович? — спросил я его по окончании первого действия.
— Ничего... Только играют они много... Игры бы поменьше... Давыдов и Варламов[221] [222] — хороши...
— А Вера Фёдоровна как?
— Комиссаржевская по фигуре очень подходит... а только... Вы верно заметили ей, что проще надо читать монолог... Она читает его, как хорошая актриса, а ведь Нина Заречная — деревенская барышня... Первый раз говорит со сцены, трусит, дрожит... Но она талантлива. Ничего... Она сыграет, я думаю...»[223]
Первое впечатление Чехова от всех актёров, не исключая Комиссаржевской, можно назвать чрезмерным. Ему казалось, что переигрывают все, — весьма возможно, так и было в действительности. Пьесы Чехова чураются театрализации, театрального жеста, артистической подачи реплик, но для актёра того времени это было непривычно, незнакомо, совсем ново. Вероятно также, что впечатление чрезмерности, связанное с Комиссаржевской, исходило именно из первого акта, где ей нужно было прочитать знаменитый монолог сочинённой Треплевым пьесы, тоже чрезмерной: «Люди, львы, орлы и куропатки...» Но и из этого испытания Комиссаржевская в конце концов вышла победительницей, как вспоминала М. М. Читау: «Она начинала монолог с низкой ноты своего чудесного голоса и, постепенно повышая его и приковывая слух к его чарующим переливам, затем постепенно понижала и как бы гасила звук и завершала последнее слово периода “...все жизни, свершив печальный круг, угасли” — окончательным замиранием голоса. Всё зиждилось на оттенках, на модуляциях её прекрасного органа. Многие знают подобные старые приёмы декламации, многих им учили, но мало кто мог бы так виртуозно применять их»[224]. В принципе она внутренне была очень близка к стилистике чеховской драмы и быстро уловила её отличительные особенности. Кто, как не Комиссаржевская, умел работать с подтекстом, игравшим у Чехова такую значительную роль?
Е. П. Карпов вспоминает далее: «Антон Павлович охотно беседовал с артистами, делал характеристики типов, разъяснял смысл и значение отдельных сцен, как он их понимал. И при этом всегда обыкновенно прибавлял: — “надо всё это просто... Вот как в жизни обыкновенно делают... А как это сделать на сцене, — я не знаю... Это вы лучше меня знаете...” — И Чехов симпатично улыбался»[225]. Актёры старались, Чехов был им мил, пьеса нравилась. На следующих репетициях понемногу был найден общий тон, хотя всё равно времени на постановку явно не хватало, и достигнуть совершенства в исполнении было просто некогда. С каждой репетицией игра Комиссаржевской нравилась Чехову всё больше и больше. Карпов пишет: «Она так играет Нину, — сказал мне как-то Антон Павлович, — словно была в моей душе, подслушала мои интонации... Какая тонкая, чуткая актриса... И какой свежий, жизненный у ней тон... Совсем особенный... Антон Павлович не мог слышать затрёпанных, казённых интонаций. Он весь нервно передёргивался, когда актёр фальшиво произносил фразу»[226].
Генеральная репетиция прошла вяло, артисты устали от напряжения, готовились к выходу на сцену. Чехов волновался не меньше их.
Повторим, что премьера «Чайки» была назначена в день юбилея комической актрисы Е. И. Левкеевой (отмечалось 25-летие её сценической деятельности). Публика хорошо знала её по лёгким водевильным комедиям, составлявшим в любом, в том числе и в Александрийском, театре того времени львиную долю репертуара. Сама Левкеева в спектакле не участвовала, но пришли поклонники Левкеевой. М. М. Читау вспоминала: «Публика, неизменно видевшая её в комических ролях, шла на этот спектакль в надежде весело провести время. В данном случае имя Чехова, как остроумного “Чехонте”, могло тоже обосновать такие надежды»[227].
«Чайка» заранее воспринималась зрителями как весёлая комедия, всё казалось им смешным и вызывало взрывы хохота. «Весь первый акт, — пишет Е. П. Карпов, — в публике стоял жирный, глупый хохот. Пропало настроение артистов. Пропали полутона, пропали тонкие интонации. Пропало творчество. Пропала пьеса»[228]. Читау также свидетельствует, что играли все очень плохо: «Ни одна, кажется, пьеса так мучительно плохо не исполнялась на сцене Александрийского театра». С. И. Смирнова-Сазонова записала в дневнике: «Неслыханный провал “Чайки”. Пьесу ошикали, ни разу не вызвав автора. <...> Публика была какая-то озлобленная, говорят, что это черт знает что такое, скука, декадентство, что этого даром смотреть нельзя, а тут деньги берут. Кто-то в партере объявил: “C’est Meter!ink”. В драматических местах хохотали, всё остальное время кашляли до неприличия. Ума, таланта публика в этой пьесе не разглядела. Акварель ей не годится»[229]. Очень интересно случайное (или не случайное?) совпадение в характеристике этого спектакля у другого автора. С. Н. Дурылин в своём очерке о Комиссаржевской писал много позже: «Комиссаржевская открыла русскому театру тайны акварельной живописи. <...> То, что сделала Комиссаржевская с “Бесприданницей”, “Дикаркой”, “Чайкой”, — очень просто: она переписала эти роли и эти пьесы акварелью, переписала кистью более тонкой, красками умягчёнными, прозрачными, способными передавать еле уловимые переходы и наплывы, тончайшие оттенки, четверть тона, — и роли зажили новой жизнью»[230].
Однако вернёмся в зрительный зал 17 октября 1896 года, к той публике, которая не воспринимала акварельных красок. Артистам, конечно, не очень хотелось выходить на сцену после первого акта, но жёсткая театральная реальность не спасает от подобных ощущений — выйти пришлось. Комиссаржевская была почти в истерике. Карпов пытался успокоить её: «Что же это за ужас... Я провалила роль... Чему же они смеются... Мне страшно выходить на сцену... Я не могу играть... я убегу из театра... — со слезами на глазах, взволнованная, нервно дрожа всем телом, бросилась ко мне Вера Фёдоровна после первого акта. Я успокоил её, насколько мог, уверяя, что она превосходно играла. Не её вина, что публика не понимает пьесы...»[231]
Самый неприятный для Комиссаржевской эпизод произошёл, так сказать, под занавес — в четвёртом акте, в сцене последней встречи Нины с Треплевым. «...Нина — Комиссаржевская — начала эту сцену прекрасно; но в конце сцены незначительная авторская ремарка всё испортила. Декламируя монолог, Нина стаскивает с постели простыню и накидывает на себя, как театральную тогу — и эта мелочь непредвиденно вызвала в публике глупый хохот»[232]. То ли актрисе не удалось сделать этот жест убедительным, и её неловкость была воспринята как фарс, то ли просто одёргивание простыни с постели показалось смешным, но кульминационная сцена пьесы была испорчена безвозвратно. Во втором спектакле Чехов изменил некоторые ремарки, и простыня исчезла. Несмотря на этот неприятный эпизод, современники свидетельствуют, что «в последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала»[233].
Все актёры сходились на том, что провал произошёл отчасти и по их вине, и только игру Комиссаржевской единодушно выделяли как блестящую. После спектакля не вызывали никого, напротив, «шикали» и свистели на каждое «браво», и только когда она выходила раскланиваться перед публикой, её принимали восторженно.
Чехов перенёс провал тяжело. М. М. Читау видела его во время спектакля с Левкеевой, которая тоже ощущала свою вину за неудачный выбор пьесы для бенефиса: «Антон Павлович сидел, чуть склонив голову, прядка волос сползла ему на лоб, пенсне криво держалось на переносье... Они молчали. Я тоже молча стала около них. Так прошло несколько секунд. Вдруг Чехов сорвался с места и быстро вышел. Он уехал не только из театра, но и из Петербурга»[234]. Чехов покинул зрительный зал после второго акта, когда провал пьесы был уже очевиден. Просидев до конца спектакля в уборной Левкеевой, он ушёл из театра и до ночи бродил по городу. Следующим утром он первым поездом уехал в Мелихово. Чехов, безусловно, считал неудачу спектакля своим собственным провалом.
Второе представление «Чайки» состоялось вскоре после первого, 21 октября. Надо думать, что актёры шли на него как на каторгу. Однако — произошло чудо. Публика приняла пьесу прекрасно, несмотря на растиражированные сообщения о провале премьеры. Многократно вызывали актёров, просили автора, которого, конечно, не было ни в театре, ни в столице. «О восторгах по адресу Комиссаржевской и говорить нечего, — свидетельствует М. М. Читау. — Но в общем играли мы “Чайку”, конечно, не лучше и во второй раз» [235].
Оказавшись дома после спектакля, Комиссаржевская сразу написала Чехову об успехе: «Сейчас вернулась из театра, Антон Павлович, голубчик, наша взяла. Успех полный, единодушный, какой должен был быть, не мог не быть! Как мне хочется сейчас Вас видеть, а ещё больше хочется, чтобы Вы были здесь, слышали этот единодушный крик: “автора”. Ваша, нет, наша “Чайка”, потому что я срослась с ней душой навек, жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит. “Думайте же о своём призвании и не бойтесь жизни”»[236]. О том же сообщил Чехову телеграммой его друг драматург И. Н. Потапенко, но с некоторыми дополнениями: «Большой успех. После каждого акта вызовы, после четвёртого много и шумно. Комиссаржевская идеальна, её вызывали отдельно»[237].
К сожалению, дурное начало сыграло свою роковую роль. Постановка «Чайки» в Александрийском театре была признана неудачной, и после пятого представления пьесу сняли с репертуара. Е. П. Карпов описывал, как в 1904 году в Ялте встретился с Чеховым и они вместе вспоминали эту историю: «Он с большим воодушевлением говорил о В. Ф. Комиссаржевской как актрисе и об исполнении ею роли Нины Заречной.
— До сих пор я, как сейчас, вижу перед собой Комиссаржевскую в Нине и никогда не забуду её в этой роли... Никто так верно, так правдиво и так глубоко не понимал меня, как Вера Фёдоровна... Чудесная актриса...»[238]
Дальше началась психологическая война — обычное явление для театрального закулисья. М. Г. Савина на первую репетицию не явилась, вскоре после этого прислав Карпову письмо с отказом от роли. Однако совсем уходить из пьесы Савина не хотела и решила сыграть Машу. Заложник ситуации, Карпов отправился к М.М. Читау уговорить её отдать роль Савиной. Читау страшно обиделась, но делать было нечего, значение Савиной в труппе было таково, что всё вершилось по её слову. Однако история на этом не кончилась: невыразительно прочитав роль Маши по тетради на репетиции, Савина отказалась и от неё. Бедный Карпов снова отправился к Читау, умоляя её взять роль обратно. В конце концов после долгих усилий ему удалось это устроить. «Никогда ещё не было такого ералаша в нашем муравейнике»[219], — писала в своих мемуарах М. М. Читау.
Первые две репетиции прошли без Нины, её слова просто читал один из свободных актёров. И только тогда Карпов решился и отправился к Комиссаржевской — просить её взять роль Нины. «Актрисы народ самолюбивый, — вспоминал об этом Карпов, — и не очень-то любят, когда им передают роли после отказа от них других артисток. В. Ф. Комиссаржевская попросила оставить ей пьесу и обещала в тот же день вечером дать ответ. Требование Веры Фёдоровны было вполне законно, и я не мог не согласиться. Волновался я страшно... Вдруг откажется... Вечером я со страхом поехал за ответом к Комиссаржевской. Она встретила меня радостно взволнованная. И пьеса, и роль ей очень понравились. Она с охотой согласилась играть Нину, но боялась, что в такое короткое время не сможет овладеть ролью. Я уже успел узнать робкий, нерешительный характер Веры Фёдоровны, и хотя сам прекрасно сознавал трудность задачи в шесть репетиций сыграть “Чайку”, насколько мог, ободрял Веру Фёдоровну, говоря, что в провинции она привыкла играть и не такие роли с двух-трёх репетиций»[220].
Третья репетиция состоялась, наконец, при полном составе исполнителей. Но актёры всё ещё плохо знали текст, ходили по сцене с тетрадками в руках, плохо ориентируясь в пространстве пьесы. А времени на работу над характерами и общими сценами почти совсем не оставалось. Положение спасало отчасти то, что всем артистам очень нравилась пьеса, они готовы были работать. «Репетиции продолжались с 11-ти часов утра до 5-6 часов вечера. Мы по несколько раз повторяли одну и ту же сцену, переделывая заново планировку, добивались верных тонов, соответствующих пьесе настроений... Актёры волновались, спорили между собой и со мной, горячились, нервничали. В. Ф. Комиссаржевская, конечно, волновалась больше всех. Чем больше она репетировала, тем сильнее ей нравилась роль Нины. Она очень скоро нашла верный тон и уже с третьей репетиции жила на сцене»22'.
Играть Чехова после Островского трудно, настолько различно их творчество по внутреннему заданию и по стилистике. Понятно, что тонкий психологический рисунок совершенно новаторской чеховской драмы вызывал у актёров Александринки сложности, заставлял размышлять и сомневаться в достигнутом.
На четвёртую репетицию приехал Чехов. И только тут узнал, что Савина отказалась от роли и её отдали неизвестной ему актрисе. «Я совсем не знаю, что за актриса Комиссаржевская, — приводит его слова Е. П. Карпов. — Боюсь. Роль Нины для меня всё в пьесе...» Карпов представил его Комиссаржевской. Дальше происходило следующее: «Чехов весь первый акт простоял в первой кулисе, не сходя с места. Пощипывая бородку, он сосредоточенно смотрел на сцену.
— Что скажете, Антон Павлович? — спросил я его по окончании первого действия.
— Ничего... Только играют они много... Игры бы поменьше... Давыдов и Варламов[221] [222] — хороши...
— А Вера Фёдоровна как?
— Комиссаржевская по фигуре очень подходит... а только... Вы верно заметили ей, что проще надо читать монолог... Она читает его, как хорошая актриса, а ведь Нина Заречная — деревенская барышня... Первый раз говорит со сцены, трусит, дрожит... Но она талантлива. Ничего... Она сыграет, я думаю...»[223]
Первое впечатление Чехова от всех актёров, не исключая Комиссаржевской, можно назвать чрезмерным. Ему казалось, что переигрывают все, — весьма возможно, так и было в действительности. Пьесы Чехова чураются театрализации, театрального жеста, артистической подачи реплик, но для актёра того времени это было непривычно, незнакомо, совсем ново. Вероятно также, что впечатление чрезмерности, связанное с Комиссаржевской, исходило именно из первого акта, где ей нужно было прочитать знаменитый монолог сочинённой Треплевым пьесы, тоже чрезмерной: «Люди, львы, орлы и куропатки...» Но и из этого испытания Комиссаржевская в конце концов вышла победительницей, как вспоминала М. М. Читау: «Она начинала монолог с низкой ноты своего чудесного голоса и, постепенно повышая его и приковывая слух к его чарующим переливам, затем постепенно понижала и как бы гасила звук и завершала последнее слово периода “...все жизни, свершив печальный круг, угасли” — окончательным замиранием голоса. Всё зиждилось на оттенках, на модуляциях её прекрасного органа. Многие знают подобные старые приёмы декламации, многих им учили, но мало кто мог бы так виртуозно применять их»[224]. В принципе она внутренне была очень близка к стилистике чеховской драмы и быстро уловила её отличительные особенности. Кто, как не Комиссаржевская, умел работать с подтекстом, игравшим у Чехова такую значительную роль?
Е. П. Карпов вспоминает далее: «Антон Павлович охотно беседовал с артистами, делал характеристики типов, разъяснял смысл и значение отдельных сцен, как он их понимал. И при этом всегда обыкновенно прибавлял: — “надо всё это просто... Вот как в жизни обыкновенно делают... А как это сделать на сцене, — я не знаю... Это вы лучше меня знаете...” — И Чехов симпатично улыбался»[225]. Актёры старались, Чехов был им мил, пьеса нравилась. На следующих репетициях понемногу был найден общий тон, хотя всё равно времени на постановку явно не хватало, и достигнуть совершенства в исполнении было просто некогда. С каждой репетицией игра Комиссаржевской нравилась Чехову всё больше и больше. Карпов пишет: «Она так играет Нину, — сказал мне как-то Антон Павлович, — словно была в моей душе, подслушала мои интонации... Какая тонкая, чуткая актриса... И какой свежий, жизненный у ней тон... Совсем особенный... Антон Павлович не мог слышать затрёпанных, казённых интонаций. Он весь нервно передёргивался, когда актёр фальшиво произносил фразу»[226].
Генеральная репетиция прошла вяло, артисты устали от напряжения, готовились к выходу на сцену. Чехов волновался не меньше их.
Повторим, что премьера «Чайки» была назначена в день юбилея комической актрисы Е. И. Левкеевой (отмечалось 25-летие её сценической деятельности). Публика хорошо знала её по лёгким водевильным комедиям, составлявшим в любом, в том числе и в Александрийском, театре того времени львиную долю репертуара. Сама Левкеева в спектакле не участвовала, но пришли поклонники Левкеевой. М. М. Читау вспоминала: «Публика, неизменно видевшая её в комических ролях, шла на этот спектакль в надежде весело провести время. В данном случае имя Чехова, как остроумного “Чехонте”, могло тоже обосновать такие надежды»[227].
«Чайка» заранее воспринималась зрителями как весёлая комедия, всё казалось им смешным и вызывало взрывы хохота. «Весь первый акт, — пишет Е. П. Карпов, — в публике стоял жирный, глупый хохот. Пропало настроение артистов. Пропали полутона, пропали тонкие интонации. Пропало творчество. Пропала пьеса»[228]. Читау также свидетельствует, что играли все очень плохо: «Ни одна, кажется, пьеса так мучительно плохо не исполнялась на сцене Александрийского театра». С. И. Смирнова-Сазонова записала в дневнике: «Неслыханный провал “Чайки”. Пьесу ошикали, ни разу не вызвав автора. <...> Публика была какая-то озлобленная, говорят, что это черт знает что такое, скука, декадентство, что этого даром смотреть нельзя, а тут деньги берут. Кто-то в партере объявил: “C’est Meter!ink”. В драматических местах хохотали, всё остальное время кашляли до неприличия. Ума, таланта публика в этой пьесе не разглядела. Акварель ей не годится»[229]. Очень интересно случайное (или не случайное?) совпадение в характеристике этого спектакля у другого автора. С. Н. Дурылин в своём очерке о Комиссаржевской писал много позже: «Комиссаржевская открыла русскому театру тайны акварельной живописи. <...> То, что сделала Комиссаржевская с “Бесприданницей”, “Дикаркой”, “Чайкой”, — очень просто: она переписала эти роли и эти пьесы акварелью, переписала кистью более тонкой, красками умягчёнными, прозрачными, способными передавать еле уловимые переходы и наплывы, тончайшие оттенки, четверть тона, — и роли зажили новой жизнью»[230].
Однако вернёмся в зрительный зал 17 октября 1896 года, к той публике, которая не воспринимала акварельных красок. Артистам, конечно, не очень хотелось выходить на сцену после первого акта, но жёсткая театральная реальность не спасает от подобных ощущений — выйти пришлось. Комиссаржевская была почти в истерике. Карпов пытался успокоить её: «Что же это за ужас... Я провалила роль... Чему же они смеются... Мне страшно выходить на сцену... Я не могу играть... я убегу из театра... — со слезами на глазах, взволнованная, нервно дрожа всем телом, бросилась ко мне Вера Фёдоровна после первого акта. Я успокоил её, насколько мог, уверяя, что она превосходно играла. Не её вина, что публика не понимает пьесы...»[231]
Самый неприятный для Комиссаржевской эпизод произошёл, так сказать, под занавес — в четвёртом акте, в сцене последней встречи Нины с Треплевым. «...Нина — Комиссаржевская — начала эту сцену прекрасно; но в конце сцены незначительная авторская ремарка всё испортила. Декламируя монолог, Нина стаскивает с постели простыню и накидывает на себя, как театральную тогу — и эта мелочь непредвиденно вызвала в публике глупый хохот»[232]. То ли актрисе не удалось сделать этот жест убедительным, и её неловкость была воспринята как фарс, то ли просто одёргивание простыни с постели показалось смешным, но кульминационная сцена пьесы была испорчена безвозвратно. Во втором спектакле Чехов изменил некоторые ремарки, и простыня исчезла. Несмотря на этот неприятный эпизод, современники свидетельствуют, что «в последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала»[233].
Все актёры сходились на том, что провал произошёл отчасти и по их вине, и только игру Комиссаржевской единодушно выделяли как блестящую. После спектакля не вызывали никого, напротив, «шикали» и свистели на каждое «браво», и только когда она выходила раскланиваться перед публикой, её принимали восторженно.
Чехов перенёс провал тяжело. М. М. Читау видела его во время спектакля с Левкеевой, которая тоже ощущала свою вину за неудачный выбор пьесы для бенефиса: «Антон Павлович сидел, чуть склонив голову, прядка волос сползла ему на лоб, пенсне криво держалось на переносье... Они молчали. Я тоже молча стала около них. Так прошло несколько секунд. Вдруг Чехов сорвался с места и быстро вышел. Он уехал не только из театра, но и из Петербурга»[234]. Чехов покинул зрительный зал после второго акта, когда провал пьесы был уже очевиден. Просидев до конца спектакля в уборной Левкеевой, он ушёл из театра и до ночи бродил по городу. Следующим утром он первым поездом уехал в Мелихово. Чехов, безусловно, считал неудачу спектакля своим собственным провалом.
Второе представление «Чайки» состоялось вскоре после первого, 21 октября. Надо думать, что актёры шли на него как на каторгу. Однако — произошло чудо. Публика приняла пьесу прекрасно, несмотря на растиражированные сообщения о провале премьеры. Многократно вызывали актёров, просили автора, которого, конечно, не было ни в театре, ни в столице. «О восторгах по адресу Комиссаржевской и говорить нечего, — свидетельствует М. М. Читау. — Но в общем играли мы “Чайку”, конечно, не лучше и во второй раз» [235].
Оказавшись дома после спектакля, Комиссаржевская сразу написала Чехову об успехе: «Сейчас вернулась из театра, Антон Павлович, голубчик, наша взяла. Успех полный, единодушный, какой должен был быть, не мог не быть! Как мне хочется сейчас Вас видеть, а ещё больше хочется, чтобы Вы были здесь, слышали этот единодушный крик: “автора”. Ваша, нет, наша “Чайка”, потому что я срослась с ней душой навек, жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит. “Думайте же о своём призвании и не бойтесь жизни”»[236]. О том же сообщил Чехову телеграммой его друг драматург И. Н. Потапенко, но с некоторыми дополнениями: «Большой успех. После каждого акта вызовы, после четвёртого много и шумно. Комиссаржевская идеальна, её вызывали отдельно»[237].
К сожалению, дурное начало сыграло свою роковую роль. Постановка «Чайки» в Александрийском театре была признана неудачной, и после пятого представления пьесу сняли с репертуара. Е. П. Карпов описывал, как в 1904 году в Ялте встретился с Чеховым и они вместе вспоминали эту историю: «Он с большим воодушевлением говорил о В. Ф. Комиссаржевской как актрисе и об исполнении ею роли Нины Заречной.
— До сих пор я, как сейчас, вижу перед собой Комиссаржевскую в Нине и никогда не забуду её в этой роли... Никто так верно, так правдиво и так глубоко не понимал меня, как Вера Фёдоровна... Чудесная актриса...»[238]
 Неудивительно, что роль Нины настолько захватила Комиссаржевскую, неудивительно, что ей удалось проникнуть в самую суть образа. Нина была, конечно, её героиней, поскольку многое в её характере и судьбе казалось Комиссаржевской родственным. Об этом неоднократно упоминали и театроведы. Выскажем одно соображение, которое может оказаться новым. Пьеса Чехова посвящена судьбам людей искусства, творческим личностям, несомненно, одарённым, талантливым и, главное, нашедшим свой путь в жизни. Путь этот верен и не нуждается в корректировке. Он верен и в случае Аркадиной, и в случае Тригорина; он правильно найден Треплевым и Ниной. В этом, пожалуй, и заключается трагизм пьесы: ведь никого из них невозможно назвать счастливым человеком. Особенно очевидным это становится после монолога Нины в четвёртом действии, когда она исповедуется перед Треплевым. Да, личная жизнь не складывается, но ведь счастье может быть иным — так во всяком случае пишет и хочет думать сама Комиссаржевская, реальный человек, а не выдуманный персонаж, решившая компенсировать недостаток личного счастья счастьем служения искусству. Учитывая такое полновесное вживание в образ Нины, не нашедшей того, чего она искала на сцене, в том числе и утешения в собственном несомненном таланте, стоит задуматься — действительно ли Комиссаржевская так крепко была убеждена в правильности своего пути? Не посещали ли её уже тогда сомнения относительно её сценического призвания? Была ли она счастлива тем, что нашла свой особенный путь, как пыталась убедить всех и каждого? Если предположить, что она ощутила близость с Ниной отчасти в связи со своими сомнениями, то не вызовут острого непонимания её дальнейшие выборы, которые могут показаться лишёнными всякой логики, если судить о них по тому, что говорилось Комиссаржевской вслух. Но, очевидно, нужно пытаться понять и то, о чём умалчивалось.
Неудивительно, что роль Нины настолько захватила Комиссаржевскую, неудивительно, что ей удалось проникнуть в самую суть образа. Нина была, конечно, её героиней, поскольку многое в её характере и судьбе казалось Комиссаржевской родственным. Об этом неоднократно упоминали и театроведы. Выскажем одно соображение, которое может оказаться новым. Пьеса Чехова посвящена судьбам людей искусства, творческим личностям, несомненно, одарённым, талантливым и, главное, нашедшим свой путь в жизни. Путь этот верен и не нуждается в корректировке. Он верен и в случае Аркадиной, и в случае Тригорина; он правильно найден Треплевым и Ниной. В этом, пожалуй, и заключается трагизм пьесы: ведь никого из них невозможно назвать счастливым человеком. Особенно очевидным это становится после монолога Нины в четвёртом действии, когда она исповедуется перед Треплевым. Да, личная жизнь не складывается, но ведь счастье может быть иным — так во всяком случае пишет и хочет думать сама Комиссаржевская, реальный человек, а не выдуманный персонаж, решившая компенсировать недостаток личного счастья счастьем служения искусству. Учитывая такое полновесное вживание в образ Нины, не нашедшей того, чего она искала на сцене, в том числе и утешения в собственном несомненном таланте, стоит задуматься — действительно ли Комиссаржевская так крепко была убеждена в правильности своего пути? Не посещали ли её уже тогда сомнения относительно её сценического призвания? Была ли она счастлива тем, что нашла свой особенный путь, как пыталась убедить всех и каждого? Если предположить, что она ощутила близость с Ниной отчасти в связи со своими сомнениями, то не вызовут острого непонимания её дальнейшие выборы, которые могут показаться лишёнными всякой логики, если судить о них по тому, что говорилось Комиссаржевской вслух. Но, очевидно, нужно пытаться понять и то, о чём умалчивалось.
Глава 8 БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ
В наших талантах много фосфора, но нет железа.А. П. Чехов
Зимой 1897 года Комиссаржевская, как всегда, много болела. Её болезни поражают не только своей частотой, но и разнообразием. Так, А. А. Люцидарской она сообщает: «Я сейчас тоже нездорова — сделалось воспаление барабанной перепонки левого уха — ужасная боль»[239]. В 1961 году подруга Комиссаржевской М. И. Гучкова (Зилоти) писала своей молодой ленинградской корреспондентке: «О моём здоровье беспокоиться не приходится, оно неиссякаемо. Всегда удивлялась такой несправедливости. Вера, которая столько могла дать людям, всегда болела, а я <...> заболела теперь в первый раз в жизни. Через полгода мне будет 90 лет, а Вера уже 50 лет не существует. Можно ли объяснить такую несправедливость!»[240] Комиссаржевская пыталась отдыхать и восстанавливать силы. Во время Великого поста она уехала в Знаменку к Зилоти, продлив свой контракт с театром на новый сезон с выгодным повышением жалованья. Теперь оно составляло шесть тысяч рублей. Поздней весной и летом работала чрезвычайно интенсивно, гастрольные поездки отнимали гораздо больше сил, чем игра на постоянной сцене. Это естественно: переезды, походные условия, иногда необходимость играть, едва сойдя с поезда, без отдыха и сна, незнакомая публика, к которой приходится подстраиваться, каждый раз новый зал и новая сцена — всё это дополнительная нагрузка, и даром она не проходила. С 16 мая по 15 июня актёры Императорских театров гастролировали в Астрахани. Комиссаржевская сыграла за этот месяц 14 спектаклей. Это значит — через день на сцене. В середине лета она почувствовала сильное недомогание и в августе — впервые в сознательной жизни — оказалась за границей, заняв у театральной дирекции тысячу рублей. Однако путешествие было довольно печальным, она отправилась в Богемию и Швейцарию лечиться. В августе сообщала Е. П. Карпову: «Раньше 1-го (сентября. — А. С.-К.) я никак не могу быть в Петербурге. Франценсбадские ванны принесли мне несомненную пользу, но я ужасно от них ослабела, так что должна хоть немного набраться сил, которые в данную минуту вполне отсутствуют и лишают меня возможности двинуться в путь. Грустно попасть в первый раз за границу при таких условиях, когда физическое состояние мешает воспринимать полностью впечатления, хотя не скажу, чтобы последними было богато моё пребывание во Франценсбаде, скучнейшем месте земного шара. Здесь, в Люцерне, природа чудная, но так как я ходить не могу, то вижу только то, что можно увидеть с балкона»[241]. С таким началом сезона трудно было ожидать его плодотворного продолжения. Видимо, Вера Фёдоровна так исчерпала свои эмоциональные и нервные запасы за прошедший год, что здоровье её серьёзно пошатнулось. И хотя эта ситуация была уже привычной и ей самой абсолютно понятной, но оттого — не менее тревожной. Сезон 1897/98 года прошёл для неё крайне неудачно. Она начала его тоже в чеховской драме — дважды сыграла Сашеньку в «Иванове». Как свидетельствуют современники, сыграла очень хорошо. И один раз — в «Бое бабочек». В октябре 1897 года, несмотря на летние месяцы, отданные поправлению здоровья, сильно заболела и находилась буквально между жизнью и смертью. С. И. Смирнова-Сазонова записывает в дневнике 19 октября: «Была у Комиссаржевской. Мрачная, неустроенная квартира с наваленными на полу книгами и газетами, и на постели больная, истощённая женщина, которая без посторонней помощи не может повернуться на другой бок. Она лежит, не вставая, несколько недель. Глядя на этот маленький, высохший комочек, трудно себе представить, что это большой талант, украшение нашей сцены. Она несколько минут со мной говорила, потом начались жестокие мучения. <...> Есть она ничего не может, ей дают только бульон и молоко. Лечит её ассистент Лебедева Попов. Ей всё хуже, доктор ей не помогает, а переменить доктора она из деликатности не решается»[242]. Больная страдала не только физически — она чувствовала себя выброшенной из жизни. И хотя дирекция театра отнеслась с пониманием к происходящему, в спектаклях она участвовать не могла, хорошие роли уходили одна за другой, настроение у неё было совсем отчаянным. Наконец к декабрю она всё же решилась поменять лечащего врача и пригласила доктора Вастена; в дело включился также давний друг семьи Комиссаржевских доктор А. К. Хрщонович. Улучшение, однако, наступило далеко не сразу. Врачи никак не могли сойтись ни в диагнозе, ни в методах лечения[243]. Только к весне Комиссаржевская начала потихоньку поправляться. Но сезон для неё был фактически потерян. Играя в первый раз после болезни 10 апреля в «Бесприданнице», Комиссаржевская была встречена такими бурными овациями, что от радостного возбуждения едва могла окончить спектакль. Как кажется, именно в конце 1897-го, а ещё вернее, в 1898 году начался её роман с Е. П. Карповым. Судим об этом по одной психологической детали: в письме, написанном в августе 1897 года, Комиссаржевская передаёт «искренний привет» жене Карпова — Марии Степановне. Вряд ли она стала бы делать это, если бы статус их отношений уже изменился (подразумеваем скорее не ревность, а неизбежный оттенок цинизма в такой приписке, который был ей совершенно чужд). Кроме того, её письма Е. П. Карпову 1898 года по интонации резко отличаются от предшествующих. Совсем исчезают следы официального стиля, очевидно, что переписка затрагивает чувства двух близких людей. Из Знаменки, куда Комиссаржевская уехала в начале мая набираться сил после своей многомесячной болезни, она пишет, например: «Всю ночь видела Вас во сне, Евтихий Павлович. Как есть всю ночь, и такой Вы были славный, такой измученный, что я, как только встала, сажусь Вам писать. <...> Что Вы делаете? Пишете ли? Стряхнулось ли с Вас это настроение, которое так крепко вцепилось в Вас за последнее время? Справились ли с тем или теми, кто Вас мучил? Не могу ли я что-нибудь Вам помочь?»[244] И потом летом из Железноводска, где после гастролей в Кисловодске лечилась грязевыми ваннами под наблюдением доктора А. К. Хрщоновича, знавшего её с детства: «Я к Вам привыкла в этих нескольких письмах больше, чем за многое множествосвиданий — не отпугните меня теперь от себя, это так хорошо такая привычка!»[245]; «Ужасно глупо, что я не взяла с Вас обещания приехать сюда на те четыре недели, что я здесь, и на будущий год, если мы с Вами не станем “чужие”, я во что бы то ни стало Вас сюда затащу»[246]. И ещё через год из Вильно, из гастрольной поездки: «Приезжайте на один день вечером. Выедете, утром здесь и вечером назад. Ну, приезжайте, сделайте ненормальную вещь за эти несколько часов. Вы многое потом простите судьбе и будете добрее и мягче. Господи, “ты должен, ты должен, или я не буду любить тебя” (“Не умею высказать, как тебя люблю, ни в душе, ни в голове — других мыслей нет”)»[247]. Письма Карпову содержат также характерные для Комиссаржевской в периоды её влюблённостей пункты. Прежде всего она предельно искренна, раскрывает свою душу, пишет с исповедальной интонацией. Вот один из фрагментов, посвящённых её восприятию жизни: «Всё счастливое пролетало так быстро и было так просто, что не подыщешь слов, какими бы можно дать об этом представление, а всё тяжёлое хоть и оставило след навсегда, но, отодвинутое временем, не кажется уже таким сложным и единственным, как в то время, когда барахтался в нём и не видел выхода»[248]. В другом письме из Знаменки Комиссаржевская описывает круг тревожащих её мыслей, видимо, чрезвычайно созвучных Карпову с его народническим прошлым: «Смотрю я на нужду, которая вокруг меня, нужду вопиющую, тихую, потому что кричать сил у неё нет, да и бесполезно, и вспоминается мне жизнь, которую ведём мы, “избранные”, или, вернее, сами себя избравшие, и такие тоска и грусть охватывают меня, что ни залить, ни запить их душа не может. В чём оправдание, или, вернее, где искать права на подобное существование? Ум подсказывает целый ряд слов, фраз, готовых во всякую минуту к услугам фарисейству нашего Я. Тут и служение искусству, и назначение высшее артиста, облагораживание душ, но сердце не колыхнётся на всё это. <...> Как ясно я понимаю иногда людей, кончавших жизнь самоубийством. Не под влиянием какого-то там аффекта, а сознательно прибегали к этому нелепому, беспочвенному акту, за которым та привилегия, что он к концу приводит»[249]. Таких признаний и размышлений в письмах Комиссаржевской Карпову этой поры множество. Фактически они читаются как дневник. Значит, она уверена, что будет услышана и понята, значит, между ними установилась уже та стадия понимания, на которой действует уже не сознание, а «рентгеновский луч (сиречь чутьё)», как его называет сама Комиссаржевская. Второй обязательный пункт её программы — это, как мы помним, попытка жертвенного служения художнику, убеждённость, что только тонкая вдохновенная женщина может дать силы артисту творить и жить не на потребу дня, а для вечности. Карпову, который жалуется на застой в работе (надо понимать, драматургической), отсутствие духовной энергии и оскудение жизненного материала, она пишет: «А вот я знаю одно, что если бы я была с Вами сейчас и сохранила то настроение или, вернее, ту смену настроений, какая овладела мной всё это время, то я помогла бы Вам овладеть природой работы, а уж за темой тогда остановки бы не было...»[250] Третьим пунктом был непременный дидактический элемент. Карпов, конечно, меньше других походил на человека, которого нужно было воспитывать. Он был значительно старше Комиссаржевской и гораздо больше её испытал на своём веку, в том числе преследования, осуждение, ссылку. Он был человеком глубоко положительным. Но — он очень любил пьесы А. Н. Островского, он смотрел на искусство как на средство для облегчения жизни народа, он не понимал и не чувствовал того нового, что зарождалось не только в театре, но и во всей окружающей жизни и провозвестницей чего уже ощущала себя Комиссаржевская. И он твёрдо стоял на своих позициях, не желая прислушиваться и меняться вместе с веком. Вот почему Комиссаржевская считала возможным наставлять Карпова. Менторские интонации то и дело звучат в её письмах. «Почему Вы тоскуете? Ведь по репертуару сегодня “Волки и овцы”... Вы же так любите Островского...»[251] — ехидничает она. В другом письме, рассказывая о своих впечатлениях от оперы Римского-Корсакова «Садко», неожиданное поучение: «А поэзии сколько, всё, всё на фоне поэзии неисчерпаемой! Вы ведь ей не очень большое значение придаёте в жизни. Да. Она не спасает нас от ошибок, в которые неминуемо впадаешь в борьбе с жизнью и с собой, но она всегда раздует в пламя искру, дарованную нам Богом, а пламя это очищает душу и убережёт её от омута, в который тянут всю жизнь...»[252] И уже после разрыва Комиссаржевская посылает Карпову в упрёк знаменательные слова: «Несмотря на всё, было много и благотворного в воздействии на Вас не меня, а личности моей, и мне кажется, что теперь, больше, чем когда-нибудь, Вам нужен человек такой, как я могла бы быть»[253]. Что это — неоправданное самомнение или искренняя убеждённость в собственной силе? В любом случае роман с Карповым был полноценным и, несомненно, искренним переживанием, которое длилось без малого два года, до лета 1900-го. Родные Веры Фёдоровны только-только начали смиряться с её уже устоявшимися отношениями с К. В. Бравичем, которые никак не оформлялись официально (что в то время, конечно, вызывало недоумение), но казались стабильными и надёжными. И вот — очередной переворот, роман с женатым человеком... Размышляя об этом странном союзе двух очень разных людей, находящихся в постоянном споре по самым важным для них эстетическим, философским и жизненным вопросам, Ю. П. Рыбакова справедливо замечает: «Какой банальностью может показаться роман актрисы с главным режиссёром! Какой пошлый и в глазах многих верный ход для выбора ролей и карьеры! Однако их отношения не подчинялись закономерностям привычного стереотипа. Он предлагал ей ведущие роли — она не брала их»[254]. «Роль эта вне моих средств», роль «вне характера моих способностей», «ни в каком случае играть не буду» — такие формулы сплошь и рядом встречаются в её ответах Карпову-режиссёру. Особенно остро вопрос встал о роли Марьи Андреевны в пьесе А. Н. Островского «Бедная невеста». Карпов настаивал и требовал, чтобы Комиссаржевская роль взяла. Он точно знал, что перед ним большая актриса, и ему хотелось связать её с самым крупным, по его мнению, драматургом. Она сопротивлялась: «Вы, безусловно, правы, говоря о душевной красоте Марии Андреевны, но откуда следует, что я стремилась изображать типы, “исковерканные нарочными эффектами”, это для меня тайна. Но Вы считаете, что, играя только такие роли и больше никакие, — значит исполнить своё назначение на сцене, а я этого не считаю. Жизнь идёт своим чередом, и душа русской женщины нашего времени сложнее и интереснее по той работе, которая в ней идёт»[255]. По настоянию Карпова роль Марьи Андреевны была сыграна Комиссаржевской — по общему признанию неудачно, как неудачна была и вся постановка пьесы. Так случалось, что со своим трезвым взглядом и реалистическими принципами Карпов оказывался недальновиден, а она, по видимости, парящая над землёй в области фантазий, — прозорливой и точной в своих прогнозах. Не случайна подпись, которой пользовалась Комиссаржевская в некоторых письмах Карпову, — Гамаюн. Мы мельком упомянули гастроли Комиссаржевской в Вильно — городе, в котором она впервые ощутила свою артистическую силу и который покинула три года назад, чтобы покорить петербургскую сцену. Она приехала туда в марте 1899 года, чтобы дать несколько спектаклей с актёрами виленского театра. «Какой я успех имею — прямо что-то необычайное»[256], — признавалась Комиссаржевская в письме Карпову. Билеты на все спектакли были распроданы, а на бенефис актрисы их продавали даже в оркестр — обычных мест на всех желающих не хватило. О том, какой была, как выглядела, о чём думала Комиссаржевская в этот приезд, оставила богатые воспоминания А. Я. Бруштейн (Выгодская), с семейством которой Вера Фёдоровна приятельствовала. Вот этот мемуарный фрагмент: «В жизни она была совсем не похожа ни на одну из виденных мною до того “настоящих актрис”. Не было в ней никакой театральной броскости, не было позирования перед воображаемыми или действительными зрителями. Одета она была очень просто, с благородным вкусом, держалась даже несколько застенчиво. Всех почему-то удивило, что Вера Фёдоровна была в жизни очень весёлая. Когда слышала что-нибудь смешное, смеялась с замечательной непосредственностью, очень искренно, от всей души, как смеются дети, даже с ребячьими ямочками на щеках. И смех этот в сочетании с печальными глазами был особенно мил. О себе она говорила только тогда, когда приходилось отвечать на прямой вопрос, и говорила тоже очень просто. Да, она очень довольна своими гастролями, и в особенности тем, как её приняли Виленские зрители. Да, немножко устала. В свой бенефис будет играть “Дикарку”[257], немного беспокоится, не покажется ли зрителям странным её костюм, не стилизованный, а подлинный, народный, Тверской губернии, где происходит действие “Дикарки”»[258]. А. Я. Бруштейн, с детства покорённая талантом Комиссаржевской, вместе со своими подругами-гимназистками отважилась прийти в гостиницу, где та остановилась. Девушки были приняты чрезвычайно приветливо: «Вера Фёдоровна стала сама расспрашивать нас о том, где мы учимся, — она тоже в детстве училась в одной из виленских гимназий, — какие у нас учителя и учительницы. Мы подбодрились, потом совсем расхрабрились и разговорились. Вера Фёдоровна весело смеялась»[259]. Эта ребячливость, умение внезапно стать маленькой, мгновенно отрешиться от серьёзных вопросов жизни, которые её занимали, — отличительные черты Комиссаржевской. Она была переменчивой, часто смена настроений не зависела от внешних условий, подчинялась скрытым процессам, протекавшим в её душе. Это одно из самых частых совпадений в воспоминаниях разных мемуаристов. Сцена в виленской гостинице заканчивается забавно: «Очень строгая на вид особа, похожая на классную даму, вероятно, компаньонка Веры Фёдоровны, принесла лекарство и заставила Веру Фёдоровну выпить. Напомнила Вере Фёдоровне, что ей надо отдохнуть перед спектаклем. На нас эта почтенная дама смотрела так, как смотрят сторожа на ребят, подозреваемых ими в злокозненном намерении сорвать ветку сирени в городском сквере. Если бы не эта “опекунша”, мы бы ещё не скоро вспомнили, что надо уходить»[260]. Строгой особой, выпроводившей надоедливых школьниц, была, по всей вероятности, необычайно преданная Комиссаржевской женщина по имени Ядвига. О ней интересно вспоминает М. И. Гучкова: «Она её видела на сцене в Вильне и поехала за ней в Петербург и была много лет. Ядвига прямо молилась на Веру. <...> Когда Вера возвращалась после спектакля, всегда еле живая, то надо было видеть, как Ядвига её укладывала и раздевала, действительно, в две минуты. Пока я снимала пальто и шла за Верой — она уже лежала, готовая для полного отдыха. И когда Вера бывала больна (а это случалось очень часто), то Ядвига была незаменима. Она была очень тонкая и занятная. Один из самых счастливых дней её жизни (как она сама находила) был тогда, когда на бенефис Веры ей, т. е. Ядвиге, поднесли медальон с Вериной фотографией»[261]. Яростная забота Ядвиги, её попытки уберечь от переутомления, от лишних волнений, оградить от назойливых поклонников были в конце концов спасительными для Комиссаржевской, принимались ею беспрекословно, давали ей возможность оставаться для всех доброжелательно-сердечной, избавляли от необходимости проявлять жёсткость. Бенефис Комиссаржевской в Вильно имел оглушительный успех. А вот на императорской сцене она получила свой бенефис только в конце третьего сезона с начала службы. В этом не было злого умысла театральной дирекции — её долгая болезнь лишила её возможности сыграть свой бенефисный спектакль во втором сезоне. По совету Е. П. Карпова она тоже взяла пьесу А. Н. Островского — Н. Я. Соловьёва «Дикарка». Роль главной героини Вари была хорошо знакома Комиссаржевской, она продолжала отчасти тот ряд молодых девушек-подростков, которые находятся между детством и юностью, раздумывают над своим будущим, ждут счастья, полны необычайных душевных сил, глубоки и поэтичны. Спектакль состоялся 18 февраля 1899 года. С. И. Смирнова-Сазонова записала в этот день в своём дневнике: «Первый бенефис Комиссаржевской. Почти 25 лет я вижу Александрийскую сцену, такого приёма я ещё не видала не по шумности своей, а по единодушию. Петербург доказал, что он умеет чествовать своих любимцев. Сначала я думала, что не начнут пьесу, потом я думала, что её не кончат; публика пришла не для пьесы, а для вызовов, специально для того, чтобы выразить свои восторги. Когда-то в “Дикарке” производила фурор Савина, теперь она забыта, взошла другая звезда. Цветов на сцену не бросали, потому что в театре вывешено объявление, что это отныне запрещено, но ими забросали Комиссаржевскую в карете. Целая толпа поклонников провожала её до квартиры, кричала ей ура и шла за каретой. Подарками её засыпали, было даже подношение от 5-го яруса — серебряный письменный прибор. Были брошки, адрес, серебро и бесчисленное множество цветов. Но подарки и Некрасовой подносят, не в этом сила, а в той власти таланта над толпой, когда и старый и малый — все одинаково безумствуют. И Комиссаржевская — Дикарка была действительно яркой звездой, которая светила всё время, пока была на сцене»[262]. Даже на лестнице в доме Комиссаржевской на Владимирском проспекте её ждала после спектакля молодёжь, студенты обращали к ней восторженные речи. Это был не просто успех, Вера Фёдоровна не могла не почувствовать, что она приобрела для публики значение большее, чем обычно имеет актёр, даже очень крупный, прославленный, мастер своего дела. Она, конечно, знала, что популярна, она видела неистовство зала во время своих выходов в любых спектаклях, но всё же такого восторга, вероятно, не предвидела. В воспоминаниях подчёркивается возраст её самых горячих почитателей — это были молодые люди, студенты, что свидетельствует о способности Комиссаржевской — вероятнее всего, природной — говорить на самом современном языке, и говорить о том, что тревожило и волновало новое поколение россиян. «Вы — наша!» — откликались они. Об этом качестве Комиссаржевской-актрисы крайне нелицеприятно писал А. Р. Кугель: «В г-же Комиссаржевской есть что-то, я сказал бы, демократическое, полуплебейское, какое-то далёкое, но тем не менее совершенно очевидное родство с фельдшерицей, гимназисткой, курсисткой, со всеми разновидностями учащейся молодёжи. В ней больше “добра”, нежели “искусства”, больше “жалости”, нежели “красоты”. Это артистка утилитарного искусства, которую очень любил бы Писарев. <...> Г-жа Комиссаржевская должна много говорить сердцам тех, кто считает красивые манеры, красивую фигуру, красивое платье — признаками, враждебными “прогрессу”. И оттого что она угловата, больна, надломлена, она вызывает “жаление” и потому любовь»[263]. Сколько яда в предположении, что Комиссаржевскую, эту Пери русского театра, любил бы материалист Писарев! И какое принижение её таланта в низведении его до физической болезненности! Да и зрительские восторги — всего лишь жалость к надломленной больной женщине. Думается, однако, что Кугель, славившийся своим острым пером, был в этот момент слишком пристрастен. В своей поминальной речи Блок тоже упомянул о том непреложном факте, что Комиссаржевская привлекала преимущественно молодые сердца: «Вдохновение... <...> позволяло ей быть только с юными...»[264] Может быть, эта особенность говорит скорее об острой актуальности её дарования, об удачно найденной интонации её удивительного голоса. По словам того же Блока, «ей точно было пятнадцать лет. Она была моложе, о, насколько моложе многих из нас»[265]. Совершенно понятно, что при таком признании зрителей отношения Комиссаржевской с коллегами по труппе не могли быть простыми и лёгкими. Так оно, в сущности, и происходило. Нам уже доводилось упоминать о творческом противостоянии с М. Г. Савиной, которая ревновала новую актрису к её славе. Подчеркнём слово «творческом», потому что во время болезни Комиссаржевской, когда ей нужна была помощь и поддержка, Савина вела себя более чем по-человечески. Но совместное пребывание на сцене всякий раз оказывалось невозможным[266]. Смирнова-Сазонова в своём дневнике описывает, как актёры второго ряда собирали подписку о том, что не желают участия Комиссаржевской в своих бенефисных спектаклях и просят Савину играть в них роли первого плана. «Наша премьерша, — пишет Сазонова, — дошла до геркулесовых столбов. Она не хочет играть не только в одной пьесе, но даже в один вечер с Комиссаржевской»[267]. Некоторая отстранённость, вынужденное одиночество, невозможность доверительных отношений с коллегами были, конечно, теми нотами, которые звучали постоянно во время пребывания Комиссаржевской в труппе Александринки. Впрочем, с закулисными интригами она сталкивалась и раньше, когда работала ещё в провинциальных антрепризах. Сезон 1899/1900 года стал переломным и знаковым для дальнейшей судьбы Комиссаржевской. Во-первых, она ощутила необыкновенную усталость, исчерпанность, отсутствие прогресса. Её эксплуатировали нещадно. В уже цитированном выше письме Карпову она умоляет: «Я очень прошу Вас подумать над тем, чтобы мне не играть так много новых ролей. Дело не в здоровье, потому что, во-первых, я здорова пока совсем, во-вторых, никогда я здоровья не берегла и вряд ли теперь сумела бы это сделать. А дело в том, что те немногие годы, что я могу послужить делу, мне хочется что-нибудь сделать для него. <...> Я считаю себя в полном праве, служа на императорской сцене, просить давать мне больше времени на изучение и подготовку ролей. Вы можете мне сказать, что на это у меня есть лето и пост, но Вы будете неправы, так как Вы сами говорили, что только на репетициях можно сделать роль. У меня впереди Бедная невеста, Верочка (Месяц в деревне), Снегурочка, Офелия, Джульетта, и, конечно, ещё что-нибудь в бенефис Горева или кого-нибудь другого, и такие 6 ролей на 4—5 месяцев больше чем достаточно, если не готовить их по-провинциальному»[268]. Этот вопль души был следствием прошедшего сезона, когда Комиссаржевской приходилось играть практически ежедневно. Критики стали писать о всеядности актрисы, в рецензиях на её спектакли впервые появились слова о падении её таланта, о бледности ролей. Всё это было следствием крайней усталости и — как это ни странно — отсутствия в репертуаре тех пьес, которые соответствовали бы качеству дарования Комиссаржевской. Любимый Карповым Островский, несмотря на успех в «Бесприданнице» и «Дикарке», был всё же не её автором. В январе 1900 года Комиссаржевская жаловалась А. П. Чехову: «Я играю без конца, играю вещи, очень мало говорящие уму и почти ничего душе, — последняя сжимается, сохнет, и если и был там какой-нибудь родничок, то он скоро иссякнет. Успех имею при этом огромный и силюсь тщетно понять, в чём же дело»[269]. Уже в начале сезона С. И. Смирнова-Сазонова, которая часто видится с Комиссаржевской вне сцены, записывает в дневнике: «Комиссаржевская — краше в гроб кладут. Её совсем затрепали, заставляя каждый день играть». К декабрю состояние актрисы становится критическим: «Генеральная репетиция “Накипи” прошла без главного действующего лица. Комиссаржевскую увезли домой, так ей было дурно. Вчера она села писать письмо и упала в обморок. Её нашли на полу. Доктор говорит, что это переутомление, нельзя играть 6 дней в неделю»[270]. Слабое здоровье не выдерживало. И как печально читаются собственные рассуждения актрисы по этому поводу: «...я здорова пока совсем» — даже порядок слов в этой фразе говорит о многом. Прежде всего, о привычке в ожидании болезней, о постоянной готовности свалиться с ног, всё время на грани, всё время между небом и землёй в самом прямом смысле этих слов. И уверенность Комиссаржевской, что «служить делу» она сможет только «немногие годы», — из того же ряда. Вера Фёдоровна признавалась Чехову, что она ломала себе голову, каким способом изменить происходящее. Речь преимущественно шла о репертуаре, о новом поиске себя, о попытке вернуть то, что ускользало из её рук. 4 февраля 1900 года она дебютировала в совершенно новой для себя роли — играла Дездемону в «Отелло». Классическая трагедия ещё не была всерьёз опробована Комиссаржевской, но для актрисы такого амплуа, которое уготовили ей судьба и её собственный дар, это было фактически неизбежно. 11 февраля 1900 года повторное исполнение роли Дездемоны в шекспировской трагедии совпало для неё с дополнительным испытанием. На сцене Александрийского театра по приглашению А. С. Суворина давал несколько спектаклей знаменитый итальянский трагик Томмазо Сальвини, приехавший с гастролями в Россию. Он играл Отелло и оказался партнёром Комиссаржевской. М. А. Кшесинская, присутствовавшая на одном из спектаклей, писала: «Несмотря на то, что Сальвини говорил по-итальянски, а реплики ему подавали по-русски, он своей поразительной игрой так увлёк всю залу, что никто не обращал внимания на разницу двух языков»[271]. Рядом с гениальным трагиком Комиссаржевская потерялась. П. П. Гнедич, присутствовавший на этом спектакле, в своих воспоминаниях писал о полном провале актрисы: «...Ей совершенно не удалась Дездемона, которую она играла с Сальвини во время его гастролей в феврале месяце. Только враг её мог дать ей эту роль, совершенно не подходящую к её данным, да ещё заставил её играть с величайшим актёром мира»[272]. Если платье Нины Заречной пришлось Комиссаржевской как раз впору, то одежды Дездемоны оказались ей не по размеру. Обречённая современности, она не могла соответствовать тому высокому пафосу, без которого нет настоящей трагедии. Дело было, конечно, в простоте и естественности — собственно, главных достоинствах Комиссаржевской-актрисы, о которых с первых её шагов писали все критики. Её Дездемона, насколько можно судить по сценическим фотографиям, полна преданности и любви, наивна до простодушия, она в отчаянии от происходящего с ней — всё это передаётся самыми обычными, не броскими, естественными позами и мимикой. С точки зрения трагика Сальвини, всё это посторонние средства для трагедии. Как пишет об этом итальянская исследовательница, «герои Сальвини не показывали слабости, потому что были движимы могучей волей и сильными страстями»[273]. С. И. Смирнова-Сазонова верно ощутила это расхождение: «Смотрела Сальвини в “Отелло”. <...> Это действительно гениальная игра. После третьего действия театр безумствовал. <...> Комиссаржевская по-своему была хороша, но всё время играла ему не в тон. Это была современная барышня, а не итальянка тех времён»[274]. Тяжёлое ощущение неудачи, несомненно, пережитое актрисой непосредственно во время спектакля, усиливалось недовольством самого Сальвини, который произнёс фразу, казалось, уничтожавшую все претензии Комиссаржевской на трагический репертуар: «Она не чувствует трагедии». Вскоре после спектакля с участием Сальвини Комиссаржевская покинула Петербург. На Великий пост ей удалось вырваться в Италию, где в то время жил её отец, в курортный городок Сан-Ремо, в те времена ещё ничем особенно не знаменитый. Но отдых получился неудачным: холодная погода, стоявшая ранней весной на Средиземноморье, утомление и расстроенные нервы (нервы, конечно, прежде всего) стали причиной очередной болезни. Две недели в Италии Комиссаржевская пролежала с бронхитом, а в середине марта выехала в Варшаву, чтобы участвовать в гастрольной поездке своего театра. Из Италии она просила Карпова достать и доставить ей все известные в России переводы «Ромео и Джульетты». Мысль о необходимости вписаться в трагический репертуар не покидала её. По дороге в Варшаву Вера Фёдоровна пишет Смирновой-Сазоновой из поезда: «...Помните, как сын царя Салтана, которого пустили в море в засмолённой бочке, в один прекрасный день потянулся в бочке, встал, вышиб дно и вышел прочь. Мне кажется, в жизни каждого человека бывают такие моменты,.когда надо “потянуться, встать и выбить дно”. <...> А если дно окажется крепче головы? Но секрет, вероятно, в том, чтобы не бояться, пока боишься за свою голову — ничего не пробьёшь...»[275] Намерение одержать победу над чуждым текстом, подчинить себе неподатливую почву шекспировской трагедии не оставляет Комиссаржевскую, заставляет её снова и снова возвращаться к этой мысли. Обратим внимание на образы её письма: ощущение безысходности, от которого она не может отделаться, гнетёт её, стремление вырваться из этого тягостного плена связывается с изменением репертуара. 30 ноября 1900 года Комиссаржевская предпримет ещё одну попытку одолеть Шекспира, сыграет Офелию в бенефисном спектакле актёра Р. Б. Аполлонского — и снова неудачно. Хвалить её будут только за сцену безумия. И потом сама уже откажется от постановки в собственный бенефис «Ромео и Джульетты». Дно, вероятно, оказалось крепче её головы. Ко всему прочему прибавились и другие сложные обстоятельства: в октябре 1900 года Е. П. Карпову пришлось покинуть свою должность и уйти из Александрийского театра. Это случилось через несколько месяцев после разрыва их отношений. Место Карпова занял П. П. Гнедич, который относился к ней настороженно. «Комиссаржевскую я почти не знал, — вспоминал он с некоторой неприязнью, от которой даже в мемуарах не мог отделаться. — Она загорелась ярким метеором на Александрийской сцене. Превосходное исполнение нескольких ролей поставило её рядом с Савиной. Тот “надрыв”, что чувствовался в её таланте, как раз шёл в тон общему настроению общества. <...> К сожалению, положение её на Александрийской сцене было в 1900 году катастрофическим: ей совершенно не удалась Дездемона. <...> Затем осенью ей не удалась Мария Андреевна в “Бедной невесте”: она не могла найти перспективу для этой роли. Впереди ей предстояла Офелия и Снегурочка, — опять-таки роли, совершенно не подходившие к её дарованию. А в бенефис она хотела поставить “Ромео и Джульетту”, — это было бы её конченым провалом»[276]. 1900 год стал чрезвычайно тяжёлым для актрисы, её время на императорской сцене подходило к концу. Однако поздней весной 1900 года в жизни Комиссаржевской наступил новый этап, связанный не со сценическими, а с личными обстоятельствами, который дал и неожиданный, и счастливый импульс её творческим силам. В мае она отправилась в гастрольную поездку со сборной труппой драматических артистов по маршруту Харьков—Курск—Киев—Одесса—Николаев—Вильно. Среди актёров, составивших труппу, оказался недавно принятый в Александринский театр молодой и талантливый актёр Николай Ходотов. С этим человеком жизнь соединила Комиссаржевскую почти на три года.
Глава 9 ПЬЕСА ИЗ АРТИСТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Я ничего не хочу думать. Я только знаю, чувствую, что раньше я не любила... а теперь... люблю.Н. Ходотов
Николай Николаевич Ходотов был совсем молодым человеком, когда в 1898 году впервые вышел на сцену Александрийского театра. Ему шёл двадцатый год. Он был хорош собой, обладал интересным голосом, впоследствии позволившим ему заниматься мелодекламацией; выдающиеся актёрские способности дали ему возможность рано начать сценическую карьеру, он был ещё не уверен в себе и искал поддержки в актёрской среде. Надо признать, что способы, которыми он продвигался в театре, были вполне традиционными. Он рано начал вести богемную жизнь, стараясь завязать дружеские отношения с теми, кто мог быть ему полезен в дальнейшем, и легко проживал романы с ведущими актрисами. В этом не было ничего предосудительного и выбивающегося за рамки обычного поведения молодого актёра, желающего утвердиться в труппе и на сцене. Ходотов был очень привлекателен не только наружно, но и своими душевными качествами. Судя по всему, он был (или умел казаться) искренним, действительно хотел стать большим актёром, серьёзно относился к своему искусству, быстро и рьяно учился. Очень скоро молодой актёр стал любимцем петербургской публики. Сначала Ходотов обратил свой взгляд на приму Александрийского театра М. Г. Савину и принял участие в её гастрольной поездке. Впоследствии он бесхитростно вспоминал: «Мария Гавриловна везде и всюду с увлечением рассказывала о моих удачах, о моём успехе и признавалась, что делила свой триумф со мной. Этого было достаточно, чтобы я быстро зашагал в гору»[277]. Утверждать, что между Ходотовым и Савиной вспыхнул роман, мы не можем, но определённый интерес, несомненно, был, поскольку Мария Гавриловна с плохо скрываемой ревностью предостерегала его от сближения с Комиссаржевской, в чью гастрольную поездку Ходотов был приглашён К. В. Бравичем весной 1900 года. Комиссаржевской было 36 лет, Ходотову — 22. Она была не только состоявшейся актрисой со сложной сценической судьбой и большими запросами, но и зрелым человеком, много страдавшим, много думавшим и сознательно идущим по тому пути, который для себя выбрала. Ходотов ещё не был никем, ничего не пережил, ничего не испытал, но обладал хорошими задатками, которые Комиссаржевская в нём разглядела. Их отношения начались с характерных для неё попыток «спасти» талантливого молодого человека. Ходотов вспоминал: «Прежний актёр не мыслился без вина и песни. Конечно, были исключения, но редко, потому-то Вера Фёдоровна из чувства дружбы и сердечной отзывчивости ко мне как к молодому, неустановившемуся человеку и актёру, могущему легко свихнуться с жизненного пути и подпасть под дурное влияние, — решила меня идейно перевоспитать и отвлечь иными духовными путями от ежедневных “праздничных кутежей”, превращающих жизнь в бессодержательные “будни”, как она называла моё тогдашнее времяпровождение в поездке»[278]. Роман их завязался в Киеве 22 мая 1900 года. Это были длительные отношения, но очень странные — неравные. Ноту, которую Вера Фёдоровна взяла в самом начале, она не только не отпускала, но усиливала её звучание, что в конце концов не могло не вызвать у Ходотова раздражения и отталкивания. Удивительно, как не чувствовала сама Комиссаржевская гибельности предпринимаемых ею усилий для любви, которой она, несомненно, была глубоко захвачена и дорожила. Пафос исполнения своего предназначения, как оно ей представлялось, был, вероятно, для неё более значим. Вернёмся к самому началу их романа. Ходотов вспоминает их совместную прогулку за город поздним вечером, почти ночью, когда они вдвоём забрались на одну из многочисленных «гор» в окрестностях Киева и оттуда любовались звёздами и прислушивались к плеску Днепра у подножия. «В этой тишине мне совершенно ясно представилось, что В. Ф. — свет, излучаемый от сердца, от самой сущности окружающего мира. И я назвал её “светом”; она меня назвала “Азрой”»[279]. Эта игра в имена была характерна для Комиссаржевской. Она любила подписывать свои письма (в основном близким ей мужчинам) иносказательными прозвищами, как правило, прямо подчёркивающими ту роль, которую она предполагала играть в той или иной мужской судьбе. Так, письма Е. П. Карпову она подписывала именем Гамаюн («Предвечным ужасом объят, / Прекрасный лик горит любовью, / Но вещей правдою звучат / Уста, запёкшиеся кровью!»[280]); письма Ходотову — просто Свет. Так и писала: «Ваш Свет». В этом было, конечно, что-то детское, незрелое. Было и стремление убедить себя в собственной значимости для жизни тех людей, которые были значимы для неё. Но было и сознание своей роли, миссии, которую нельзя умалить, зная, как дальше выстраивалась кривая их взаимоотношений. Имя Азры было заимствовано Комиссаржевской из стихотворения Г. Гейне «Азр» («Каждый день зари прекрасней...») в переводе П. И. Чайковского, известного ей, скорее всего, по популярному романсу А. Г. Рубинштейна. Герой этого стихотворения, полюбив прекрасную дочь султана, произносит следующие слова:
Зовусь я
Магометом. Йемен край мой.
Я свой род веду от азров,
Полюбив, мы умираем.
Второе имя, которым Комиссаржевская окликала своего возлюбленного, было — Магомет. Конечно, та роль, которую она навязывала Ходотову, была слишком велика для него, совершенно не соответствовала складу и жизненным устремлениям этого в сущности очень просто устроенного человека. Комиссаржевская выдумала его заново. Несомненно также и то, что он был серьёзно и искренне ею увлечён. А ещё — гордился своей новой ролью и победно посматривал на соперников. В частности, на К. В. Бравича, который, видимо, ревновал его к Комиссаржевской, прекрасно понимая, что происходит. Ходотов вспоминал: «Как-то раз он не выдержал и довольно резко заявил мне: — Ходотов, Вы бы потише стучали каблуками. И зачем Вы так высоко задираете голову, словно весь мир победили?! — Ну, не всем же ползать, как Вы!.. — весело ответил я ему»[281]. Ночное романтическое свидание было окрашено в мрачные тона неожиданной историей, получившей крайне неприятный оборот. Пятеро пьяных солдат из близлежащего лагеря неожиданно появились в этом пустынном месте, где неоткуда было ожидать помощи, и вели себя по отношению к влюблённой паре крайне вызывающе. Вера Фёдоровна была до смерти испугана. Ходотов повёл себя решительно и отважно. Это был тот случай, когда актёрский дар сыграл поистине спасительную роль. К счастью для наших героев, шёл ещё только 1900 год, вегетарианское время русской истории. Произойди этот эпизод через 17 лет, на этом месте повествование о жизни Комиссаржевской пришлось бы закончить. В памяти актрисы страшное переживание на берегу Днепра связалось с героизмом возлюбленного и благодарностью за избавление. Думается, что тот фантом, который она усердно создавала из личности Ходотова, отчасти был укоренён в описанном эпизоде. Ужас и отчаяние, инстинктивно толкнувшие молодого человека на спасительные действия, она объяснила себе силой его духа. В соединении с несомненным талантом и любовью к театру, которые действительно у Ходотова были, это качество открывало перспективу бескомпромиссного служения искусству, столь важную для Комиссаржевской. И она усердно принялась за перевоспитание. Оно двигалось сразу по нескольким направлениям. Прежде всего она занималась усовершенствованием Ходотова как актёра. «К моей работе Вера Фёдоровна относилась с большим вниманием, — вспоминал он. — Шла у нас комедия Шекспира “Сон в летнюю ночь”. После генеральной репетиции “Сна в летнюю ночь” Вера Фёдоровна взяла к себе на дом мою роль Деметрия и в тот же вечер вернула её мне со своими ремарками, характеризующими вдумчивость и художественную логику большого художника сцены»[282]. По собственному признанию актёра, благодаря участию Комиссаржевской в его игре появился так называемый «психологический пунктир». Вероятнее всего, речь идёт о чеховской струнке: об умении выявить подтекст, показать нервное напряжение, незаметные для глаза движения души. Не случайно Ходотов в 1902 году прекрасно сыграл Треплева в «Чайке», а чуть позже Петю Трофимова и Астрова в «Дяде Ване». Но дело было, конечно, не столько в чеховских ролях, сколько в общем подходе к роли, в попытке передать непередаваемое. В этом Комиссаржевская была специалистом, и она щедро делилась со своим учеником. Вторым пунктом педагогической программы Комиссаржевской было воспитание личности, которое шло рука об руку с актёрской работой. Ходотов справедливо пишет: «Искусство для Комиссаржевской было ценностью вне пространства и времени, и для подлинного творчества она требовала отречения от отвлекающих будничных мелких интересов. По её мнению, художник должен был быть возвышенно настроенным, иначе он будет карликом на ходулях»[283]. Это требование Ходотов, может быть, и желал выполнить, но его природа была совершенно иной, чем представлялось Комиссаржевской, и всячески противилась её воздействию. Недавно изданный Ю. П. Рыбаковой корпус их переписки даёт обширный материал для размышлений о том, чем жила Вера Фёдоровна в этот период, сколько надежд связывала с будущим своего воспитанника, сколько душевных сил вкладывала в это странное общение, основанное на явном, осознаваемом ею превосходстве, сколько разочарований пережила. Приведём несколько фрагментов из её писем, как кажется, очень отчётливо представляющих специфику этих переживаний и склад её личности: «А я Вас так и не видала “уже таким светлым”, каким Вы были до рокового 22-го числа. Совсем, совсем другие глаза были и благодаря им и всё лицо, конечно, Вашей души коснулось тогда небо, и Вы глядели на мир сквозь него, когда я с Вами познакомилась, у Вас не было такого лица и теперь опять нет. Вот первое, что Вы должны сделать из того, что Вы хотите делать для меня или ради меня: это, чтобы я по приезде нашла в Вас того, каким Вы были в Киеве, Одессе, Николаеве и в самом начале в Вильне, а не того, с которым я прощалась» (29—30 июня 1900 года)[284]. «Остерегайтесь всего ненужного, мелкого, не вливайте чуть заметный яд сомнений в тот светлый уголок Вашей души, светом которого Вы должны научиться осветить всю свою душу и много других, как художник и человек. Прежде чем совершить подвиг, для того, чтобы быть в состоянии совершить его, — надо научиться ломать себя, приносить жертвы трудные, но тихие, тем более трудные, что за них нельзя ждать награды, они даже могут быть не оценены. А я хочу, жду от Вас подвига и не хочу отказаться так скоро от веры в Вас» (14—15 июля 1900 года)[285]. «Думали ли Вы когда-нибудь о том, Азра, как мало я от Вас требую, то есть не для себя, а от Вас, как от человека, которого я должна, хочу уважать, я требую только того, что Вам самому даёт бесконечно много! <...> Вспомните, Азра, свою первую вину передо мной. Вспомните, как Вы казнили себя, как страдали — и сравните с тем, что Вы чувствуете сейчас, после этой последней вины. А Вы знаете, что единственная вещь, способная спасти душу от всего, уберечь и от сора, — это покаяние. <...> Положите руку на сердце, Азра, и скажите, не значительно ли меньше Вы казнили себя эти дни за сделанное Вами, а так ли уж мала вина Ваша, чтобы можно было легко её себе простить?!» (январь 1901 года)[286]. «Для того, чтобы дать себе право быть с Вами и ждать Вас, я должна стоять в Ваших глазах на недосягаемой высоте. Вы спустили меня с неё — правда, по моей вине: я не рассчитала Ваших сил и дала столько Вашей душе, сколько она не могла ещё вместить — и эти дары, эти звуки, цветы, звёзды и слёзы души моей — упали на землю, и Вы топтали их ногами с толпой, принимая их за булыжники, каких много. Я подошла к Вам так близко, как не надо было подходить, пока Вы не выросли и не сумели оценить эту близость. И вот Вы расшатали моё уважение к Вам, и я не знаю, каким подвигом любви можно воскресить их» (до 10 февраля 1901 года)[287]. «Мой Азра, как я хочу, чтобы Вы стали добрым, добрым той добротой, которая теперь, сейчас должна родиться в Вашей душе и уж не умирать никогда. Той добротой, которая необъятно широко, тепло охватывает всё, что болеет, страждет, жаждет тепла, бьётся в неволе и тьме. Хочу, чтобы Вы были добрый до дна, добрый до забвения себя, добрый во всякие минуты своей жизни, добрый проникновенно» (8—9 июля 1901 года)[288]. «Я не верю ни во что сейчас — ни в будущее, ни в себя. Я говорю это без отчаяния: во мне всё сжато железной рукой. Я могу только жалеть сейчас Вас — жалеть без нежности, а со слезами, которые не дают облегчения, а жгут глаза. Ведь не надо фактов, чтобы “умерло” что-то в человеке. Вероятно, бывает так со всем тем, что сидит в нас и даёт красоту и смысл жизни. Оно ждёт откровения, чтобы начать жить полной жизнью, ждёт долго, терпеливо, и вдруг, как молния, его пронзает сознание, что откровения не будет, и тогда он, этот зачаток обещавшего стать столь великим духовного начала или перерабатывается в одно из тех “качеств” души, которое свойственно тысячам душ: и хорошим, и плохим, или умирает» (начало августа 1902 года)[289]. «Работайте, работайте, возьмите роль и чувствуйте, чувствуйте, чувствуйте, будто всё это случилось с Вами, совсем забыв, что там другой, не такой изображён. И когда совсем уйдёте в эти страдания, радости, в хаос или покой, тогда только можете вспомнить, что это не Вы, что он был другой, и делайте, что хотите, и психологией, и философией — они уже будут на верной, настоящей, единственной дороге. Я не умею, я никогда не сумею объяснить это ясно — если бы я сумела это сделать, Вы бы не поняли, а весь прониклись что только так надо...» (2 октября 1902 года)[290]. «Я уставала, я тосковала, но верила и ждала. Так верила, так поверила, — что теперь мы начнём жить настоящей жизнью, что всё то, что сеяла я в душе моего Азры, в этой душе, так без границ мной любимой — взошло наконец для нас и для всего, чему и кому мы нужны. Это было такое счастье верить в это, что легко переносилось всё. А Вы в это время хоронили эту веру. В это время Вы оскорбляли наш мир, внося туда нелепые до жестокости, мелкие до ужаса подозрения; в это время Вы были слабы той слабостью, которая давно уже должна была умереть, на то, чтобы убить которую я слишком много отдала сил. <...> И когда я всё-таки приехала и всё-таки вошла в наш алтарь — я увидала, что там нет ничего — всё затянуто паутиной — значит, значит, — зачем же тогда он создавался и зачем ему существовать» (после 7 марта 1903 года)title="">[291]. В этих фрагментах содержится по сути вся кривая отношений между Комиссаржевской и Ходотовым, столь отчётливо прорисованная её собственной рукой. Если попытаться выразить её двумя словами, то можно сказать, что проект перевоспитания Ходотова претерпел крах. Ей не удалось ни своим профессиональным мастерством, ни силой чувства сделать из него нового прекрасного человека, сознательно удаляющегося от всего мнимого, лживого и порочного, бережно хранящего в своей душе ростки высшей духовности. Отметим в этом непреклонном желании Комиссаржевской, которое она пыталась реализовать на протяжении почти трёх лет, черту её личности, впоследствии заставившую её круто изменить свою судьбу, — она была прирождённым педагогом. Во всяком случае, ощущала в себе мощный источник вдохновения, когда речь шла о воспитании и воздействии на душу другого человека. Конечно, помимо не вполне удавшегося педагогического опыта, в истории с Ходотовым было много всего прочего: были страстная привязанность, ревность, забота, было короткое счастье, был период разочарования — всё то, что всегда сопровождает романы, в конце концов обречённые оборваться. Сила чувства, которое испытывала Комиссаржевская, как кажется, хорошо заметна в стиле её писем Ходотову. Бесконечные предложения, состоящие из множества придаточных, запутанных и закольцованных, продвигающиеся вперёд какими-то рывками, судорожно бьющаяся в них мысль, многочисленные тавтологии — всё это признак внутреннего беспокойства, непрерывно идущего сильного душевного переживания. Возможно, — выскажем это предположение крайне осторожно, — на стилистику писем Комиссаржевской этой поры мог повлиять круг её театрального чтения. Как раз в начале 1900 года она впервые выходит на сцену в трагических ролях. Классическая трагедия — тот жанр, который наиболее интересовал её во время романа с Ходотовым и независимо от него. Собственно, в письмах возлюбленному она зачастую перевоплощается в трагическую героиню, демонстрирует соответствующее поведение и образ мышления. Она никогда не бывает спокойной и умиротворённой, она ощущает несовершенство мира и скрытую угрозу, направленную против неё. Её чувства безмерно глубоки, её страдания разрывают душу. Она испытывает постоянное душевное терзание, которое выражается во внешних атрибутах, в том числе в бессвязной, тавтологичной речи, полной экспрессии и скорее намекающей на суть, чем прямо её отражающей. Что делать? Актриса никогда не может перестать быть актрисой, даже когда она уходит за занавес в сферу личного бытия, как это было замечательно показано Чеховым в образе Аркадиной в той пьесе, которая стала для Комиссаржевской и Ходотова, игравших в ней две главные роли, важным общим воспоминанием. После разрыва, последовавшего в 1903 году, Комиссаржевская сделала всё, чтобы сохранить с Ходотовым дружеские отношения. Даже последние письма к нему, проникнутые горечью и болью, содержали эту интенцию. Ценность того, что было обоими пережито, она не хотела и не собиралась отрицать. В этом, конечно, сказывались сила её личности и приобретённое с годами умение властвовать над собой, не изменявшее ей в самые драматические минуты. Ходотов принял эти новые отношения с покорностью, хотя в своих мемуарах свидетельствовал, что пережил разрыв крайне тяжело. Вскоре после финального объяснения они начали совместные гастроли в Минеральных Водах. И впоследствии ещё не раз играли вместе. Комиссаржевская просила Ходотова уничтожить её письма, он эту просьбу не исполнил, вместо этого аккуратно скопировал их — переписал в тетрадь, нумеруя и датируя в тех случаях, когда даты в оригинале отсутствовали. В 1909 году Ходотов, ещё за год до этого попробовавший себя в роли драматурга, написал пьесу «Госпожа пошлость», довольно быстро поставленную на сцене Александрийского театра. Пьеса была посвящена теме духовного становления молодого писателя, в образе которого угадываются черты самого Ходотова. Его любит взрослая сорокалетняя женщина, издательница Зимина; она изо всех сил старается помочь своему юному возлюбленному обрести себя. Но он не прислушивается к советам опытной и мудрой женщины, беспричинно ревнует, устраивает ей безобразные сцены, погружается в богемную жизнь, теряет дарование, становится причиной смерти своей возлюбленной, ставит себя на грань самоубийства. Не узнать в этой пьесе жизненной канвы собственной биографии автора невозможно. Значит, завершившийся шесть лет назад роман с Комиссаржевской всё ещё не отпускал его, давал пищу для размышлений, заставлял переживать снова самые тяжёлые эпизоды. Судя по сюжету пьесы «Госпожа пошлость», Ходотов ощущал свою вину перед Комиссаржевской, а отчасти, возможно, и перед самим собой, так и не сумевшим подняться на должную высоту. Однако и этим не закончились сложные отношения Ходотова с воспоминаниями о Комиссаржевской. Уже после её смерти, в 1911 году он написал ещё одну пьесу «Красная нить», фактически на ту же тему, но решалась она теперь противоположным образом. В пьесе изображалась драма талантливого, но слабого актёра, влюблённого в эгоистичную, сосредоточенную только на себе и своём таланте актрису с говорящей фамилией Облакова, отмеченную несомненным сходством с Комиссаржевской. Её попытка переделать «под себя» молодого актёра завершается трагически. В реплики героини Ходотов вставил цитаты и реминисценции из писем Комиссаржевской к нему. Очевидно, что в пьесе отразилась давняя обида автора на женщину, которая так и не смогла найти в нём равного партнёра. То, что пьеса была написана и поставлена фактически сразу после гибели актрисы, свидетельствует и о двойственности пережитых Ходотовым чувств, и о том, что он таил свои обиды, пока Комиссаржевская была жива, но многого так и не смог ей простить, попытавшись свести с ней счёты после её смерти. Как тонко заметила Ю. ГГ. Рыбакова: «Если для Комиссаржевской это был самый “большой роман”, то для Ходотова самое значительное событие в его биографии, на всей его жизни сказались это влияние и невозможность воспринять его до конца»[292]. Во всяком случае, задетый её крыльями, он всегда ощущал их прикосновение, иногда умиротворяющее, иногда ранящее и обжигающее. В их отношениях никогда не было и не могло быть равенства. А ранняя смерть Комиссаржевской сделала её образ настолько недосягаемым, что обиду Ходотова вполне можно понять. Впоследствии другой возлюбленный Комиссаржевской, А. А. Мгебров, рассуждал в своих мемуарах о специфике её личности, о вечном поиске необыкновенного человека, в котором она находилась, кажется, всю жизнь, до самых последних лет. «Отсюда, — писал Мгебров, — цепляние её за художников, поэтов, и вообще за всех, кто был хоть сколько-нибудь необычен, своеобразен и интересен. Её нервные пальцы тогда словно впивались в грудь человека и готовы были разорвать её, чтобы дать возможность детским, жадным глазам, любопытным до исступления, заглянуть внутрь и увидеть, как бьётся и трепещет живое человеческое сердце, потрогать это сердце руками, если возможно, подержать его, и, когда бы оно билось горячо и сильно, тогда, быть может, коснуться его нежно губами своими, чтобы на одно мгновение запечатлеть поцелуй женщины, как некий дар, как благодать, которая для неё самой была священна. Но это на мгновение... Нужны были новые люди... ещё более сложные, ещё более интересные, необычные и любопытные... Её неутолимый дух, безумно вопросивший жизнь о чём-то самом главном для него, не мог и не смел останавливаться... Раз отдав достойному свой знак, свой поцелуй, как запечатлённую мгновением награду, она — рыцарь ей одной известного ордена, шла дальше... дальше, чтобы снова найти достойного, и наградить его, и идти к другому. Таким образом, она как бы создавала огромную, но незримую армию, с которой она хотела утверждать любовь...»[293] Размышляя об этих странностях натуры Веры Фёдоровны, Мгебров, сам пострадавший от её сложности и непредсказуемости, делает мучительный для самого себя вывод: «Любила ли кого-нибудь Комиссаржевская? Я думаю — нет. Она знала только жажду любви, сжигающую её, как самум в пустыне»[294].
Глава 10 НА СВОБОДЕ
...У большого таланта есть сильные крылья...В. Ф. Комиссаржевская
Год 1902-й стал для Комиссаржевской своеобразным Рубиконом. Е. П. Карпов в биографическом очерке, посвящённом памяти актрисы, лаконично обозначил дату, когда она разорвала связь с казённой сценой: «1-го августа 1902 г. В. Ф. Комиссаржевская оставила службу в Александрийском театре»[295]. Понятно, что за шесть лет, которые актриса посвятила этой службе, она значительно выросла, приобрела профессиональный опыт и — устала постоянно зависеть от воли многочисленного начальства, желаниям которого вынуждена была подчинять свою творческую энергию. «Ей стало тесно» — так Е. П. Карпов определил то душевное состояние, которое испытывала Вера Фёдоровна. Была ещё одна причина, вполне практическая: ей не хватало репертуара. Старые роли не удовлетворяли больше, естественно, хотелось двигаться вперёд. То, что предлагалось, было обречено на неудачу. Новый управляющий труппой Александрийского театра П. П. Гнедич, сменивший ещё в 1900 году Карпова, с самого начала своей деятельности понимал, что положение Комиссаржевской близко к катастрофическому: её сценические неудачи, связанные, прежде всего, с попыткой освоить новый, трагедийный репертуар, множились. Юрий Беляев писал о постановке «Гамлета»: «Она играла Офелию. Первое впечатление было прямо озадачивающее. Офелия заговорила каким-то приподнятым тоном, совершенно сбивающим с толку зрителя, который ожидал увидеть перед собой кроткое, пассивное существо, а не пророчицу, вещающую гласом велиим самые незначительные вещи»[296]. Над ролью Офелии Комиссаржевской помогал работать А. Л. Волынский, обладавший и опытом, и знаниями, и собственным взглядом, и, что, может быть, важнее всего, — хорошо знавший актрису и её стиль. Однако результатами работы сам он остался крайне недоволен. Ещё более резко критики высказывались об исполнении роли Снегурочки: «Г-жа Комиссаржевская, которая имела успех у части публики, должна, по-моему, забыть, что она когда-либо выступала в роли Снегурочки. <...> Наивничающая, поджимающаяся, подбирающаяся, делающая поминутно “большие глаза”, г-жа Комиссаржевская не Снегурочка уже потому, что нисколько не поэтична»[297]. Таких отзывов о себе она ещё никогда не читала. Казалось, что положение актрисы со временем стало выправляться, она нащупала новый путь, начавшийся ролью Марикки в пьесе Г. Зудермана «Огни Ивановой ночи», которую сыграла на своём бенефисном спектакле 30 января 1901 года. Теперь в её игре чувствовалась энергия протеста, раньше скрытая за психологическим лиризмом. В феврале 1902 года в Александрийском театре был поставлен «Фауст», и Комиссаржевской предложили роль Гретхен. «Активный драматизм» — так определил новую стилистику актрисы А. Р. Кугель. Особенно сильно была сыграна сцена безумия, в которой Гретхен представала не как несчастная жертва, а как гневная обличительница. Всё это было замечено и публикой, и критиками, и коллегами. А. А. Мгебров, присутствовавший на этом спектакле в качестве зрителя, писал: «...С восторгом следил я за игрою Григория Григорьевича Гё в роли Мефистофеля. Ещё с большим восторгом я следил за игрою Маргариты... Тогда я ещё не знал имя актрисы, игравшей эту роль; но потом-то я узнал и на всю жизнь полюбил это имя... Маргариту играла Вера Фёдоровна Комиссаржевская. Я плакал горячими юношескими слезами над сценой сумасшествия Маргариты»[298]. После одного из спектаклей взволнованная М. Н. Ермолова нашла за кулисами Комиссаржевскую и, повторяя: «Ну разве можно так играть?» — подарила ей цветы. Комиссаржевская, по-видимости, удовлетворена происходящим, роль Гретхен ей самой нравится, она просит П. П. Гнедича «не трепать» «Фауста» в весеннем сезоне, а отложить до осени. Значит, планирует оставаться в театре — играть. Но летом вдруг резко меняет решение. Она неожиданно заявляет П. П. Гнедичу о своём уходе, срывая ему тем самым готовый репертуар. А директору Императорских театров В. А. Теляковскому в письме категорично заявляет: «...Поступить иначе не могу, так как исполнить требование своей артистической личности я считаю первым и главным долгом своей жизни»[299]. П. П. Гнедич с обидой вспоминает: «...Я предложил ей возобновление “Чайки”, причём она — как единственная исполнительница — оставалась на прежнем месте, — все же остальные были заменены новыми персонажами: Савиной, Давыдовым, Ходотовым и пр. Она по-видимому с радостью пошла на это возобновление. Вдруг совершенно неожиданно переворот: она летом подала в отставку, не предупредив меня об этом ни словом. Я узнал, что это было втайне решено ею ещё в апреле, когда она сдала свою квартиру»[300]. Думается, что Гнедич демонизирует актрису, недвусмысленно намекая не только на её взбалмошность, но и на коварство. Скорее всего, Комиссаржевская если и обманывала своего режиссёра, то невольно. Она колебалась: ей хотелось выбраться из-под кабалы, которой теперь стала для неё императорская сцена, но было страшно. И она то склонялась к этому решению, то снова отшатывалась от него. Поступок Комиссаржевской вызвал противоречивые отклики современников, да и сейчас представляется странным. Как актриса она, конечно, ещё не достигла предела своего развития. Однако вошла в пору зрелости таланта, когда само её присутствие на сцене могло многое значить для спектакля, да и для театра вообще. Дирекция Александринки прекрасно понимала, с кем имеет дело, — талант Комиссаржевской не вызывал никаких сомнений. Ей шли навстречу и в большом, и в малом. Конечно, случались промахи с обеих сторон, но всё же оставлять такое значительное место, как сцена Александрийского Императорского театра, из-за случайных недоразумений было по меньшей мере неблагоразумно. Отсутствие репертуара, невозможность самореализации, несоответствие масштабам — все эти причины, как кажется, были Комиссаржевской сильно преувеличены. Сказывалось одно из определяющих качеств её характера. «Вера Фёдоровна была в полном значении слова дочь своего отца, — пишет Карпов. — Она унаследовала от него не только художественный талант, но и “святое беспокойство”, которое не давало ей возможности “почить на лаврах”. Она не удовлетворялась тем, что давала ей жизнь, она хотела всё большего и большего»[301]. «Большее» давалось, конечно, дорогой ценой потери твёрдой почвы под ногами. А. Р. Кугель справедливо писал: «Это было практически до очевидности рискованно, ненужно, неосновательно <...> прежде всего потому, что создание нового театра в Петербурге не вяжется с превалирующей ролью сильной артистической индивидуальности и что гораздо легче превалировать или бороться за преобладание в Александрийском театре, за счёт дирекции, нежели созидать “положение” за свой личный счёт»[302]. Будущее теперь должно было пугать её, оно больше не обеспечивалось казённым жалованьем и в других отношениях тоже представлялось крайне туманным. В письмах этой поры, адресованных самым близким, доверенным людям, нет-нет да и встречаются такие жалобы: «Какая-то, будто железная рука сдавила жизнь души, и она даже не пробует бороться. Я заставляю себя думать, что это те муки, в которых душа должна закалить веру в себя и в будущее, но сейчас так трудно, так невыносимо хочется лечь на землю и чувствовать, что уходишь в неё. И там темно, темно, никого не слышно, не видно ничего, и тоска эта ужасная останется наверху»[303]. Но по-настоящему волновали и тревожили Комиссаржевскую совсем другие проблемы, они не были материальными и не касались её собственного благополучия. Как верно заметил в своих воспоминаниях о ней всё тот же А. Р. Кугель, «сидеть “близ печурки, у огня”, в тёпленьком местечке и греться, и терпеливо ждать, и выгадывать, и соображать, и думать о будущем, о том, что жизнь уходит и лучшие дни уже позади, и придёт старость — сухая и безжалостная, — этого она не могла. Пусть этим живут другие, но не она. Пусть думают о пайках и бенефисах, учитывают твёрдое, прочное положение, пенсии и права по службе — она об этом думать не в состоянии»[304]. Мысли Комиссаржевской были заняты новой идеей — созданием собственного театра. И можно только удивляться, сколько недюжинного терпения, изобретательности, трудолюбия, практицизма проявила эта, казалось бы, живущая в ином, неземном, не совсем реальном мире женщина. Гораздо чаще и гораздо громче, чем жалобы на собственную слабость и страх, звучат в её письмах иные ноты. Так, Е. П. Карпову, настойчиво приглашая его работать вместе, она пишет: «Даже дни и ночи я думала, передумала, обсуждала и не могу отказаться от этого. Не могу не в смысле невозможности отказаться от желания почти осуществляющегося, а потому, что вся я верю в это. Вы знаете, ведь правда, что в жизни каждого человека бывает момент, когда ему кажется, что надо сделать именно всё это, и если это кажется стало верой, вошло в плоть и кровь — нельзя не идти. Деньги у меня будут (не меньше 45 тысяч). Я не могу не пойти, поймите, я верю в это, и потому оно зовёт меня всю и будет звать, где бы я ни была, и помешает отдаться другому, доведёт до апатии, тоски и бог знает ещё чего. Вы должны понять, почувствовать это. Вы мне нужны, помогите мне»[305]. Она точно знает, чего хочет и к чему стремится. Её мольба о помощи только на первый взгляд кажется слабостью неуверенной в себе женщины, призывающей опытного профессионального режиссёра поддержать её начинание. Впоследствии, постепенно привыкая к новой роли Комиссаржевской, мы увидим, как хорошо она справилась с отказами Карпова, Ходотова, Незлобина участвовать в её проекте, как ловко вербовала других людей, в которых верила и которых заставляла верить в себя. В этом вообще заключалось одно из многих противоречий её натуры: сомнения в своих силах, неуверенность в себе (чего стоит её традиционное «да?» в конце многих писем, завершающее просьбу, в исполнении которой она не была убеждена) и при этом — сознание внутренней правоты, всепобеждающая энергия для исполнения своего назначения, как она сама его понимала. Символом этого не вполне женского качества может служить ставшее предметом многих воспоминаний неожиданно крепкое, почти мужское рукопожатие Комиссаржевской. Она вела обширную переписку с авторами, режиссёрами, артистами, владельцами театров, антрепренёрами, входила в материальные вопросы, проявляла недюжинную твёрдость и знание дела. Однако открытие театра требовало средств, которых не было. Надеждой на ускорение дела объясняется и неожиданное увольнение Комиссаржевской из Александрийского театра, вызвавшее изумление и раздражение П. П. Гнедича: взяла жалованье за лето и уволилась в августе, за несколько недель до начала сезона! Именно поэтому и не говорила о своих планах заранее — ей было необходимо летнее жалованье, которое должно было составить своего рода первоначальный взнос в будущий театр. За Александринку не очень волновалась, понимала, что не пропадут. Теперь же предстоял долгий и трудный период заработков. Комиссаржевская решилась на длительные гастроли по стране, чтобы таким способом собрать деньги на свою новую жизнь. Способ, прямо скажем, сомнительный и во всяком случае крайне нелёгкий. Гастрольные поездки, как уже отмечалось выше, требовали энергии и сил. Деньги (в любом случае не слишком большие) давались дорогой ценой. Эти гастроли продолжались почти непрерывно в течение двух лет. Маршруты Комиссаржевской в точности выстраивает Ю. П. Рыбакова: «Начав 15 сентября 1902 года в Харькове, она посещает Полтаву, Екатеринослав, крымские города, Николаев, Одессу, Кишинёв; делает перерыв, выступает в Петербурге, Москве и едет на Кавказ — в Баку и Тифлис. После Новочеркасска, Ростова, Воронежа она по Волге отправляется в Саратов, Симбирск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, где 15 мая 1903 года заканчивает труднейший путь. Около 2000 рублей за спектакль собрала она в Одессе, вместо обычных для неё ранее 500-700 рублей. В целом же за все гастроли выходило на круг более 1000 рублей. В мае Комиссаржевская располагала суммой в 20 000 рублей. А начинать дело можно было, имея не менее 50 000»[306]. Можно только догадываться, каким тяжёлым в физическом и эмоциональном отношении был для Комиссаржевской этот период. Однако страстное желание обрести себя, встать на новый путь давало силы. Начавшимся в сентябре 1902 года гастролям предшествовал любопытный эпизод, произошедший за два месяца до них, о котором нельзя не упомянуть. Как актриса Александрийского театра Комиссаржевская выступала с летними гастролями труппы в разных городах, в том числе и в Москве. На её спектаклях бывал К. С. Станиславский: впервые после совместной работы с Комиссаржевской в Обществе искусства и литературы в начале 1890-х годов он видел её на сцене. «Сейчас я был на спектакле Комиссаржевской и пришёл в телячий восторг. Это русская Режан[307] по женственности и изяществу»[308], — пишет он М. П. Лилиной. Комиссаржевская проявила к нему большой интерес и пригласила для важного разговора. Она интересовалась возможностью перейти на работу в МХТ. Станиславский был рад такой перспективе («Думаю, что она заведёт разговор о переходе в наш театр. Это было бы недурно!»). Однако переговоры не увенчались успехом. Комиссаржевская явно выбирала, у неё были другие варианты, её уже поглотила мысль о собственном театре, она скорее думала о том, как лучше и быстрее заработать нужную сумму, чем всерьёз собиралась отдаваться потребностям Художественного театра. Станиславскому в конце июня она написала требовательное письмо, в котором главными пунктами, помимо интересных и значительных ролей, выставляла денежные соображения, просила принять решение незамедлительно. Станиславский телеграфировал, что ранее конца августа ответить не может, и Комиссаржевская отказалась от мысли связать свою жизнь с МХТ. Видимо, без особенных сожалений. Ходотов вспоминает, что она «пугалась Московского Художественного театра, где, по её словам, чарующие натуралистические подробности собраны в букет искусственных цветов, изумительно похожих на настоящие. — Они меня удивляют своим мастерством, но аромата живого я в них не чувствую. Стиль не мой, это тот же быт, но более рафинированный, а я не умею в нём жить...»[309]. Этот отказ от ещё одного, потенциально весьма успешного варианта актёрской карьеры, который сама судьба услужливо предложила Комиссаржевской как раз в тот момент, когда она внутренне была готова разорвать с Александрийским театром, — удивительный факт. Она как будто заранее предчувствовала в МХТ такую же стеснённость в развитии, как это было на императорской сцене. Станиславскому она писала: «...я должна знать, могу ли я рассчитывать на то, что сейчас представляется необходимым моему артистическому я. С протестом всего моего существа против своей деятельности я жить не могу, оттого я и ухожу из императорского театра. Поймите же, как важно мне знать, чем я утолю свой нравственный голод»[310]. Впоследствии Н. Н. Тамарину Комиссаржевская признавалась: «Вот и у Станиславского — деспотизм. Я высоко ставлю его подвиг в театре и чуть-чуть не согласилась служить у него, но потом, подумав, решила, что мы оба не уступим друг другу, и ничего хорошего не выйдет...»[311] В августе 1902 года предложение о переходе в свой театр делает Комиссаржевской А. С. Суворин[312], но тоже получает отказ, очень отчётливо мотивированный: «Вы пишете, думали, что императорский театр меня не отпустит. Меня нельзя не отпустить. Нельзя ничем удержать, раз я перестану верить, а я не верю больше в “дело” Александрийского театра. Вы просите ответить Вам откровенно, пошла ли бы я к вам. Нет, Алексей Сергеевич, к Вам я не пойду потому, что у вас слишком много хозяев, благодаря чему дело не может стать таким, чтобы удовлетворить с эстетической стороны...»[313] Получалось так, что «нравственный голод» и «артистическое я» Комиссаржевской вообще не могли найти удовлетворения на существующих сценах. Она стремилась к созданию «театра нового типа». Только там, в ситуации полной свободы и независимости от чужой воли, ей виделась полная реализация своего таланта и зрелых творческих сил. Узнав о её замысле, А. П. Чехов пытается уговорить и образумить Комиссаржевскую: «Вы ведь артистка, а это то же самое, что хороший моряк: на каком бы пароходе, на казённом или частном, он ни плавал, он всюду — при всех обстоятельствах остаётся хорошим моряком»[314]. Но это ещё очень большой вопрос — артистка ли она? И только ли артистка? В одном из своих писем Комиссаржевская писала о своём профессиональном выборе: «... Я могу “служить” в театре, делать “что могу” из “поручаемых” мне ролей и думать, что я делаю дело. Но ведь наступает отдых от дела — я читаю, отдаю себе отчёт, разбираюсь в услышанном раньше и не пропущенном сквозь фильтр моего восприятия, и я просыпаюсь: моё “дело” не кажется мне уже делом, моя “жизнь” теряет для меня смысл жизни, а кажется пирушкой (даже не вакханалией), которую устроили моё тщеславие и себялюбие. Ну и чего, кажется, проще, дойдя до такого сознания, изменить, что возможно?! Но как? На что переменить? Кто мне докажет, что иначе будет лучше?»[315] Забегая вперёд отметим, что этот поиск своего истинного предназначения не прекратился до смертного часа Комиссаржевской. Она, конечно, испытывала уверенность в своём необычайном таланте, но это была общая одарённость, которая вывела её на сцену проторённым путём — всё же не стоит забывать, из какой семьи она происходила и кто был её отцом. Но артистическая стезя вовсе не была единственной, по которой она могла бы двигаться, она это чувствовала и пыталась объять необъятное. Если воспользоваться терминологией самой Комиссаржевской, почерпнутой ею в манифестах символизма, то она представляла собой тот специфический тип личности, который селекционировала эпоха рубежа веков и которому присвоила имя «нового человека». Это сочетание слов было частым в её лексиконе. Желания Веры Фёдоровны зачастую противоречили одно другому. Она мечтала о хорошем режиссёре для своего театра. Неудача или потенциальная неудача многих постановок на сцене Александринки виделась ей в отсутствии талантливой направляющей воли. Комиссаржевская отказалась играть, например, роль Эллиды в ибсеновской пьесе «Женщина с моря», заранее предполагая, что режиссура казённой сцены её испортит. Однако никакого насилия со стороны режиссёра она не признавала и хотела играть так, как ей самой представлялось хорошо и правильно. Отчасти она отдавала себе отчёт в сложности своей позиции: «Очень трудно мне будет для “своего” будущего театра найти режиссёра, который давал бы артистам свободно разобраться в пьесе и ролях, а затем умело синтезировал бы в художественное целое их откровения и анализ»[316]. Сделав несколько неудачных попыток и получив отказы от тех людей, на которых она особенно рассчитывала, Комиссаржевская добилась согласия работать вместе с ней режиссёров Н. А. Попова и И. А. Тихомирова, а впоследствии — А. П. Петровского и Н. Н. Арбатова. Советами ей помогает театральный критик Н. Е. Эфрос. Она засыпает письмами Н. А. Попова, который в Петербурге принимает активное участие в поисках будущего помещения для театра. Пишет А. П. Чехову, рассчитывая на его новую пьесу. Тон её писем чрезвычайно убеждённый, она не просит, а требует помощи: «Вы мне должны помочь, Антон Павлович. Именно Вы и именно должны»[317]. Е. П. Карпову, отклонившему её предложение работать вместе, она заявляет: «Но помочь мне Вы должны, подумайте — я одна совсем начинаю такое дело. Прежде всего Вы должны мне помочь в составлении труппы, затем, так как я решила во всяком случае, что будут два режиссёра, то Вы должны подумать, кого бы мне пригласить кроме Попова...»[318] В этом настойчивом «должны помочь» — с одной стороны, высокое самомнение: ведь речь идёт об организации нового театра, а в нём нельзя не видеть будущее, он просто призван реализовать самые смелые замыслы, порвать с привычной рутиной, вывести театральное искусство на тот уровень, на котором оно в России ещё не бывало. Но с другой стороны, это, конечно, крик о помощи, поскольку так неуверенно Комиссаржевская себя не чувствовала ещё никогда в жизни. Когда А. Р. Кугель — уже после её смерти — писал, что Комиссаржевская не умела думать о пайках и бенефисах и готовить для себя уютный уголок ввиду приближающейся старости, он был отчасти прав. Но думать о том, чем прожить и как содержать семью, единственной кормилицей которой она оставалась, ей приходилось повседневно. Во время своих бесконечных гастролей 1902—1903 годов Вера Фёдоровна писала матери: «Я могу только сказать одно — больше 125 р. я давать не могу. При этом прибавлю, что я знаю оч[ень] хорошо полтавскую жизнь и прямо тебе говорю, что ты на 50 р. можешь там жить прекрасно, но я бы тебе советовала сделать так — брать себе 60, а остальные отдать Ольге. Не могу я давать больше потому, что я, работая так, как я теперь работаю, то есть завися всецело в материальном отношении от случайностей, должна думать о том, чтобы не поставить вас вдруг в безвыходное положение»[319]. Весной 1903 года возобновились её переговоры с МХТ. Теперь она получила приглашение от В. И. Немировича-Данченко, который с большим тактом и надеждой на взаимопонимание звал её в Москву. Но Комиссаржевская отвечает нервно и жёстко. После такого письма всякие переговоры кажутся уже бесполезными: «Нет оснований предполагать, чтобы Ваш театр и я не нашли тех общих точек, о которых Вы пишете, но мне кажется, я сейчас уже знаю главное препятствие к тому, чтобы мы могли слить наши художественные стремления воедино. Как бы ясно Вы ни разъяснили мне задачи Вашего театра, как бы ярко ни осветили пути, по которым Вы к ним идёте, я — пока не окунусь сама в дело этого театра — не сумею решить, может ли оно стать близким и дорогим моей душе. Что же касается Вас, то я для Вас совершенно ясна, Вы теперь же можете решить, чего от меня ждать, и Вас вряд ли устроит (что мне, между прочим, говорил и Константин] Сергеевич]), если я пойду к Вам без уверенности, что иду навсегда»[320]. А такой уверенности быть никак не могло. Вернее, была уверенность в обратном. Все усилия ума и таланта Комиссаржевской в этот период направлялись только в одну сторону. Историки театра пишут о внутренней неудовлетворённости актрисы творческой стороной гастролей. Всего несколько новых ролей, несколько премьерных спектаклей. В основном приходилось играть старый репертуар. Публика в провинции редко могла в полной мере оценить её дарование, труппа, собранная антрепренёром для гастролей, не устраивала её своим уровнем, равных партнёров не было. Но, осознав, что после сезона гастролей денег на театр всё равно не хватает, Комиссаржевская решает продолжать свой путь. «Этот сезон я еду опять гастролировать»[321], — сообщает она Н. А. Попову в июле 1903 года. И снова начинается круговерть: Петербург, Баку, Ростов-на-Дону, Тифлис, Кутаис, Батум, Москва, Варшава, Харьков, Одесса, Кишинёв, Полтава, Пенза, Саратов, Казань, Пермь, Екатеринбург... И всё это в холодное время, зимой, в условиях российской неустроенности, преодолевая гигантские расстояния. Учитывая слабое здоровье Веры Фёдоровны, можно только удивляться таким маршрутам и такой выносливости. Ею двигала, её поддерживала, одухотворяла и давала силы мысль о своём театре. Комиссаржевская была человеком идеи. Между гастрольными поездками Вера Фёдоровна пытается отдыхать. В августе каждый год освобождает время для того, чтобы съездить к отцу в Италию, одна или с кем-то из близких. Так, в 1901 году она ездила к нему вместе с Машей Зилоти. Эти поездки дают ей всякий раз новое сильное переживание. С одной стороны, отец вдохновляет и поддерживает её. С другой — она не может не замечать, как он стареет и слабеет. Сообщая матери о его переезде в Сан-Ремо, она проговаривается: «Папа здоров, здесь ему очень хорошо, но при его нервности очень дорого достаётся разлука наша, с каждым разом труднее и больнее»[322]. За год до этого, весной 1901 года, из Лигурии она писала Ходотову: «Как бы я хотела показать вам моего отца, Азра! Он так хорошо говорит, потому что чувствует всё, что говорит, и не переставая горит любовью к прекрасному во всех его проявлениях. Этим он сразу берёт себе души тех, кто сумеет это увидеть в нём, а не увидеть этого нельзя»[323]. И через две недели, сообщая о болезни отца: «А я ничего не делаю, потому что холодно у нас невозможно, и папа всё за мной следит глазами, куда я пошла, что делаю. Ему лучше, но всё-таки сердце у меня сжато, когда я гляжу, как он постарел за этот год. Увижу ли я его ещё»[324]. Привязанность к отцу, восхищение перед ним теперь осложняются ощущением собственной взрослости и ответственности. Сильный, красивый, своенравный, решительный Фёдор Петрович Комиссаржевский теперь неожиданно предстаёт перед старшей дочерью немощным стариком, который нуждается в ней, может быть, больше, чем она в нём. Такая перемена не добавляла радости и уверенности в завтрашнем дне. Иногда Вере Фёдоровне удаётся среди всех своих дел ненадолго удрать в Знаменку, в семью Зилоти, где её по-прежнему принимают как родную. Есть фотография, сделанная в марте 1902 года, на которой Комиссаржевская, закутанная в широкий плащ с капюшоном, сидит прямо на земле на берегу речки на фоне голых кустарников. И в её позе, и в окружающей бедной природе ощущается усталость длинного пути. Отношения Веры Фёдоровны с Марией Ильиничной Зилоти к этому времени приобретают характер совсем сестринских. Подруга хотя и моложе на пять лет, но и ей уже тридцать, и Комиссаржевская беспокоится за её будущее — до сих пор не замужем, — и строит планы, и подыскивает жениха. Сначала такой план касался А. П. Чехова, в ту пору ещё холостого. В 1902 году мысль о возможности брака М. И. Зилоти с А. И. Гучковым захватила Комиссаржевскую. Забавно и трогательно то, что в женихи любимой подруге она прочит тех мужчин, к которым сама была неравнодушна. О «романе» Комиссаржевской с Чеховым известно немного. С очевидностью можно говорить о том, что она была неравнодушна к Чехову; впрочем, факт его уникальной привлекательности для многих современниц не подвергается сомнению, и в этом смысле Вера Фёдоровна исключения не составляет. Вполне очевидно также, что при всей симпатии к ней, а также несомненном признании её артистического таланта Чехов не отвечал ей взаимностью. Как женщина она его не привлекала, поэтому говорить здесь можно только о несостоявшемся романе. Знаменателен один из мемуаров самой Комиссаржевской: «Тогда я играла Чайку. Стояла я в тёмной кулисе — это была Я, а сейчас пойду туда и буду — Чайка. А он подошёл и сказал: “У моей Нины были такие же глаза, как у вас”. И ушёл. Я мало встречалась с ним. Помню, в Крыму... Он должен был на другой день уехать, а я просила не уезжать. Был вечер. Молчали. Он попросил: “Прочтите что-нибудь”. Я читала до ночи. Он поцеловал мою руку и сказал: “Я не уеду завтра”. Но на другой день Чехов уехал...»[325] Летом 1900 года, только что вступив в горячие воды нового романа с Н. Н. Ходотовым, Комиссаржевская вместе с М. И. Зилоти отправляется отдыхать на юг России и намеренно заезжает в Ялту. Теперь у Веры Фёдоровны созрел план знакомства Чехова со своей любимой подругой. Он холост, она до сих пор не замужем — как можно было бы легко устроить свадьбу! Учитывая возраст самой Веры Фёдоровны, которой было к тому времени 35 лет, стоит удивиться её простодушию и юношескому задору. Естественно, что из этой затеи ничего не вышло. М. И. Зилоти впоследствии вспоминала: «Свидание с Чеховым в Ялте было недолгое (3—4 дня), мы ездили к нему на дачу, а потом он приходил к нам. В это время были разговоры о его женитьбе на Книппер, и он был немного не в своей тарелке...»[326] Особенно забавно звучит упоминание о предполагаемой женитьбе на Книппер: очевидно, Чехов пытался выйти из неловкого положения, в которое его поставила Комиссаржевская, намекнув, что уже решил свою судьбу. Она, однако, не сдавалась. 4 августа обе подруги отправились на пароходе в небольшое путешествие из Ялты в Севастополь. Оттуда Вера Фёдоровна телеграфировала Чехову: «Ждала два дня. Едем завтра пароходом в Ялту. Огорчена Вашей недогадливостью»[327]. В Ялте они встречаются снова и вместе отправляются в Гурзуф, однако особенного удовольствия от этой совместной поездки не получают. Уезжая в Петербург, Комиссаржевская довольно тепло прощается с Чеховым, однако не может отказать себе в удовольствии кольнуть его: «Всё-таки я рада, что видела Вас, Антон Павлович. <...> “Всё-таки” я говорю потому, что мне жаль и непонятно, почему мы с Вами так мало говорили. Я не таким ждала Вас встретить. Мне казалось, что когда я Вас увижу, то закидаю вопросами и сама скажу Вам хоть что-нибудь. Это не вышло. Вы были всё время какой-то “спелёнатый”»[328]. Чехов ответил ей односложно: «Вы сердитесь, Вера Фёдоровна? Но что делать!» Делать, действительно, было нечего. Ни к самой Вере Фёдоровне, ни к её подруге Маше Зилоти он не испытывал романтических чувств.
 Совсем иная история связала Комиссаржевскую с А. И. Гучковым, знаменитым историческим деятелем, лидером партии октябристов, сначала активным членом Государственной думы, потом её председателем, бретёром, дуэлянтом, заговорщиком, оппозиционером. Младший брат А. И. Гучкова Константин был мужем Варвары Зилоти, родной сестры Маши. Знакомство Веры Фёдоровны Комиссаржевской с Александром Ивановичем Гучковым, таким образом, можно объяснить совсем по-домашнему: она была своим человеком в семье Зилоти и, конечно, братьев Гучковых знала хорошо. Во время своих частых визитов в старую столицу всегда останавливалась в квартире Гучковых в Леонтьевском переулке[329]. Вероятно, роман Комиссаржевской с А. И. Гучковым был взаимным и вполне осуществившимся, хотя никакими документальными подтверждениями этого факта мы не располагаем, если не считать рассыпанных по разным архивным собраниям единичных писем Комиссаржевской Гучкову (его письма если и существовали, то были, вероятнее всего, уничтожены по просьбе Комиссаржевской после её смерти вместе со всем её личным эпистолярием). Собственно, не содержание, а скорее интонация, форма обращения и прощания свидетельствуют о близких отношениях между корреспондентами — так друзьям обычно не пишут. В одной из записок, к примеру, никак не датированной, Вера Фёдоровна перечисляет поручения, которыми буквально засыпает отправляющегося в Берлин Гучкова. Среди них — покупка накидки из «материи Loden» в совершенно определённом магазине (адрес его приводится) для Юлии Аркадьевны Зилоти (матери Маши). Комиссаржевская пишет: «Родной мой <...> а мне купите одну книжку Бебеля “Женщина настоящего, прошлого и будущего”. Не ворчите на меня за всё это. Улыбнитесь мне ласково, а я Вас обниму крепко-крепко»[330].
Увлекательно рассказал о романе Комиссаржевской с Гучковым А. И. Солженицын. Его голос звучит настолько правдиво, что не стоит вступать с ним в исторический спор. Силой гения он угадал многое в этом любовном треугольнике и настолько психологически достоверно описал события, что читатель, увлечённый магией его слова, просто вынужден ему верить. Приведём обширную цитату из романа «Красное колесо»:
«В те самые годы, когда на арену политики тяжелоступно вышел крепчающий Гучков, — на сцену театра, поздно для женщины, вышла воздушным шагом Комиссаржевская. Так совпадало: почти ровесники; он создал свою партию — она свой театр; он бесстрашно шёл против газетного воя — и она; он был деловой человек — однако чудом каким так точна в делах артистка? Он произносил свои лучшие речи — она играла свои лучшие роли. Только ему как мужчине ещё предстояло много возраста, зрелости и силы, а она в сомнениях шла к надлому. И была у неё смелость — оборвать, когда путь её театра показался неверен. (Тогда ещё не ведал Гучков, что скоро и ему к своей партии октябристов понадобится эта смелость.)
Был Гучков не просто поклонником, собирающим её программки, фотографии, посылающим по-купцовски неохватные букеты, но барьером ложи замыкающим свой восторг — от этих слёз, слишком искренних для игры, когда душа урывает вверх из тела невесомого, а ещё слишком весомого для себя; от этого голоса ворожебного, уводящего за самое сердце. Он — и живые руки её нередко брал в свои, и её глаза — слишком синие, слишком провидческие, видел так близко, как только можно сдвинуться двум головам. Но велеть — “иди за мной!” — никогда не мог. Не смел.
Потому что она не могла пойти за. Как редкий из мужчин знала она свой жребий: до конца изойти собственный путь.
Александр Гучков, всю жизнь занятый движеньями материальных масс — партийных сторонников, армейских колонн, госпиталей, станков, капиталов, — удостоился сокоснуться ненадолго — с этим ангелом напряжённым, никогда не весёлым, вот забредшим к нам, а вот и уходящим.
Нет, не ангелом никаким, она — женщина была и ещё как терзалась самым плотским, но то, что простым женщинам доставляет цельную радость, её приводило в угнетённость и в новый толчок — очиститься и взлететь. Она — женщина была, но в ролях играла не женщин, а души их. Своим волнующим голосом, своим утлым станом — выводила их, выпевала, — необычно сложных, с такою внутренней тоской, на вечную нам загадку.
Она прошла через жизнь Александра Гучкова как будто простой собеседницей, шутницей, посредницей (то букет, тозаписка от Маши, поручения, что купить в Берлине для Машиной мамы), телеграфные поцелуи ему, как и, равно, Гучкову-отцу, — но только потом, после смерти её понялось: она прошла неотмирной тенью, как чтоб навсегда оставить ему одинокость, показать другую ступень бытия, не того тщетного, каким занимался он, другую ступень обладания — ни того, что забывается воином через час, но цветком засохшим, а пахучим бессмертно, носится под кольчугой — или под костями грудными? — столько лет и столько битв, сколько ему осталось до последней.
Прошла — и растаяла. Уже решив поворот своего дела — бросить театр, на этом непосильном изломе ушла из жизни, запихнутая псевдонимным плащом подвернувшейся чёрной оспы. Умерла так далеко от Петербурга, как только достала, — в Ташкенте. Умерла в те самые недели, когда его борьба требовала все силы собрать: когда он стал председателем своей Третьей Думы.
И в чём-то же был смысл, рок (или насмешка), что именно Вера постоянно передавала что-то от Маши, напоминала о Маше, склоняла к Маше: в Маше вы найдёте человека, который вам больше всех нужен. Кто бы мог жить с таким шалым, как вы? Она — всё сделает для вашего счастья. Маша — исключительная натура!.. Там шарабан-не шарабан, разделённый покров плаща, но это зерно забытое никакого роста бы не дало, когда б не постоянное внушение Веры: Маша — избранная натура, приглядитесь!»
В 1903 году М. И. Зилоти и А. И. Гучков обвенчались. В 1906 году в этой семье родилась девочка, которую назвали Верой — в честь Комиссаржевской, её крёстной матери. Вера Гучкова, в первом браке Сувчинская, во втором Трейл — яркая фигура на политическом горизонте XX века. Выросшая в эмиграции, рано примкнувшая к евразийству, затем завербованная ОГПУ, необычайная красавица, прожившая фантастичную и крайне неоднозначную жизнь, Вера ничего не знала о своей крёстной. С одной стороны, была ещё слишком маленькой, когда Веры Фёдоровны не стало. С другой — никогда не интересовалась ею и о ней не расспрашивала. Да и отношения Веры с родной матерью складывались весьма непросто.
Брак М. И. Зилоти и А. И. Гучкова счастливым не был. Они довольно рано осознали эту печальную истину, несколько раз были на грани развода, но в конце концов так и остались вместе до самой смерти Гучкова в 1936 году. Мария Ильинична пережила своего мужа на 35 лет и погибла в 1971 году в автокатастрофе. Ей было 90 лет.
Совсем иная история связала Комиссаржевскую с А. И. Гучковым, знаменитым историческим деятелем, лидером партии октябристов, сначала активным членом Государственной думы, потом её председателем, бретёром, дуэлянтом, заговорщиком, оппозиционером. Младший брат А. И. Гучкова Константин был мужем Варвары Зилоти, родной сестры Маши. Знакомство Веры Фёдоровны Комиссаржевской с Александром Ивановичем Гучковым, таким образом, можно объяснить совсем по-домашнему: она была своим человеком в семье Зилоти и, конечно, братьев Гучковых знала хорошо. Во время своих частых визитов в старую столицу всегда останавливалась в квартире Гучковых в Леонтьевском переулке[329]. Вероятно, роман Комиссаржевской с А. И. Гучковым был взаимным и вполне осуществившимся, хотя никакими документальными подтверждениями этого факта мы не располагаем, если не считать рассыпанных по разным архивным собраниям единичных писем Комиссаржевской Гучкову (его письма если и существовали, то были, вероятнее всего, уничтожены по просьбе Комиссаржевской после её смерти вместе со всем её личным эпистолярием). Собственно, не содержание, а скорее интонация, форма обращения и прощания свидетельствуют о близких отношениях между корреспондентами — так друзьям обычно не пишут. В одной из записок, к примеру, никак не датированной, Вера Фёдоровна перечисляет поручения, которыми буквально засыпает отправляющегося в Берлин Гучкова. Среди них — покупка накидки из «материи Loden» в совершенно определённом магазине (адрес его приводится) для Юлии Аркадьевны Зилоти (матери Маши). Комиссаржевская пишет: «Родной мой <...> а мне купите одну книжку Бебеля “Женщина настоящего, прошлого и будущего”. Не ворчите на меня за всё это. Улыбнитесь мне ласково, а я Вас обниму крепко-крепко»[330].
Увлекательно рассказал о романе Комиссаржевской с Гучковым А. И. Солженицын. Его голос звучит настолько правдиво, что не стоит вступать с ним в исторический спор. Силой гения он угадал многое в этом любовном треугольнике и настолько психологически достоверно описал события, что читатель, увлечённый магией его слова, просто вынужден ему верить. Приведём обширную цитату из романа «Красное колесо»:
«В те самые годы, когда на арену политики тяжелоступно вышел крепчающий Гучков, — на сцену театра, поздно для женщины, вышла воздушным шагом Комиссаржевская. Так совпадало: почти ровесники; он создал свою партию — она свой театр; он бесстрашно шёл против газетного воя — и она; он был деловой человек — однако чудом каким так точна в делах артистка? Он произносил свои лучшие речи — она играла свои лучшие роли. Только ему как мужчине ещё предстояло много возраста, зрелости и силы, а она в сомнениях шла к надлому. И была у неё смелость — оборвать, когда путь её театра показался неверен. (Тогда ещё не ведал Гучков, что скоро и ему к своей партии октябристов понадобится эта смелость.)
Был Гучков не просто поклонником, собирающим её программки, фотографии, посылающим по-купцовски неохватные букеты, но барьером ложи замыкающим свой восторг — от этих слёз, слишком искренних для игры, когда душа урывает вверх из тела невесомого, а ещё слишком весомого для себя; от этого голоса ворожебного, уводящего за самое сердце. Он — и живые руки её нередко брал в свои, и её глаза — слишком синие, слишком провидческие, видел так близко, как только можно сдвинуться двум головам. Но велеть — “иди за мной!” — никогда не мог. Не смел.
Потому что она не могла пойти за. Как редкий из мужчин знала она свой жребий: до конца изойти собственный путь.
Александр Гучков, всю жизнь занятый движеньями материальных масс — партийных сторонников, армейских колонн, госпиталей, станков, капиталов, — удостоился сокоснуться ненадолго — с этим ангелом напряжённым, никогда не весёлым, вот забредшим к нам, а вот и уходящим.
Нет, не ангелом никаким, она — женщина была и ещё как терзалась самым плотским, но то, что простым женщинам доставляет цельную радость, её приводило в угнетённость и в новый толчок — очиститься и взлететь. Она — женщина была, но в ролях играла не женщин, а души их. Своим волнующим голосом, своим утлым станом — выводила их, выпевала, — необычно сложных, с такою внутренней тоской, на вечную нам загадку.
Она прошла через жизнь Александра Гучкова как будто простой собеседницей, шутницей, посредницей (то букет, тозаписка от Маши, поручения, что купить в Берлине для Машиной мамы), телеграфные поцелуи ему, как и, равно, Гучкову-отцу, — но только потом, после смерти её понялось: она прошла неотмирной тенью, как чтоб навсегда оставить ему одинокость, показать другую ступень бытия, не того тщетного, каким занимался он, другую ступень обладания — ни того, что забывается воином через час, но цветком засохшим, а пахучим бессмертно, носится под кольчугой — или под костями грудными? — столько лет и столько битв, сколько ему осталось до последней.
Прошла — и растаяла. Уже решив поворот своего дела — бросить театр, на этом непосильном изломе ушла из жизни, запихнутая псевдонимным плащом подвернувшейся чёрной оспы. Умерла так далеко от Петербурга, как только достала, — в Ташкенте. Умерла в те самые недели, когда его борьба требовала все силы собрать: когда он стал председателем своей Третьей Думы.
И в чём-то же был смысл, рок (или насмешка), что именно Вера постоянно передавала что-то от Маши, напоминала о Маше, склоняла к Маше: в Маше вы найдёте человека, который вам больше всех нужен. Кто бы мог жить с таким шалым, как вы? Она — всё сделает для вашего счастья. Маша — исключительная натура!.. Там шарабан-не шарабан, разделённый покров плаща, но это зерно забытое никакого роста бы не дало, когда б не постоянное внушение Веры: Маша — избранная натура, приглядитесь!»
В 1903 году М. И. Зилоти и А. И. Гучков обвенчались. В 1906 году в этой семье родилась девочка, которую назвали Верой — в честь Комиссаржевской, её крёстной матери. Вера Гучкова, в первом браке Сувчинская, во втором Трейл — яркая фигура на политическом горизонте XX века. Выросшая в эмиграции, рано примкнувшая к евразийству, затем завербованная ОГПУ, необычайная красавица, прожившая фантастичную и крайне неоднозначную жизнь, Вера ничего не знала о своей крёстной. С одной стороны, была ещё слишком маленькой, когда Веры Фёдоровны не стало. С другой — никогда не интересовалась ею и о ней не расспрашивала. Да и отношения Веры с родной матерью складывались весьма непросто.
Брак М. И. Зилоти и А. И. Гучкова счастливым не был. Они довольно рано осознали эту печальную истину, несколько раз были на грани развода, но в конце концов так и остались вместе до самой смерти Гучкова в 1936 году. Мария Ильинична пережила своего мужа на 35 лет и погибла в 1971 году в автокатастрофе. Ей было 90 лет.
Глава 11 ДИРЕКЦИЯ В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
Для большой публики это было, что называется, не в коня корм.У. Шекспир
1904 год Комиссаржевская встречает в Тифлисе, куда забросили её продолжительные гастроли. Но в конце осени 1903 года она уже с уверенностью говорит о скором открытии театра. 1 января телеграфирует Н. А. Попову: «Новым годом. Театр решён в этом году»[331]. С сентября 1904 года за 37 тысяч рублей Комиссаржевской был снят в Петербурге театр «Пассаж». Вернее сказать, это был не совсем театр, а концертный зал, располагавшийся с обратной стороны внушительного здания Пассажа, главным фасадом выходившего на Невский проспект. В концертном зале устраивались музыкальные вечера, вход в него был как со стороны Итальянской улицы[332], так и из торговых рядов Пассажа. В 1901 году, после пожара, здание было частично перестроено. Эти перестройки коснулись и театра, прежде всего его вестибюля и входа, который стал теперь отдельным. Был расширен и заново оформлен зрительный зал. Недавно отремонтированный Пассаж был местом в Петербурге того времени широко известным. Выбор здания, расположенного в самом центре города, вероятнее всего, казался будущей дирекции театра коммерчески удачным. В принципе так оно и было, если не считать некоторых, весьма существенных, впрочем, неудобств, связанных с устройством сцены и зала. Сцена, предназначенная для концертных выступлений, по своему размеру не подходила для драматических постановок. Однако все трудности воспринимались как преодолимые и несущественные. Комиссаржевская летела вперёд навстречу исполнению своей мечты. С конца 1903 года она активно занимается формированием труппы нового театра, определением репертуара, ищет пьесу для открытия, справедливо полагая, что первое впечатление для публики будет значить многое. Для этого списывается с Чеховым: «Антон Павлович, дорогой, я открываю театр в Петербурге. Я хочу, чтобы открытие его было связано с Вашим именем, и потому прошу Вас, дайте мне Ваш “Вишнёвый сад”, я им открою. Я знаю, что Вам хочется отдать его в Александринский, чтобы играла Савина. Судя по тем немногим сведениям, какие я имею о Вашей этой пьесе, и роль очень ей подходит, и сыграет она её хорошо, но Вы, именно Вы не сможете же не помочь мне в этом безумно трудном деле»[333]. В письме звучат уже знакомые нам ноты — Комиссаржевская не просто просит, она настаивает на моральном долге Чехова помочь ей, поддержать в главном начинании её жизни. Казалось бы, именно такой напор и должен приносить результат. Однако договориться с Чеховым не удалось, хотя не оправдались и ревнивые предположения Комиссаржевской, что он предпочитает ей Савину. Чехов подписал контракт с Художественным театром, и «Вишнёвый сад» должен был пойти на московской сцене. О пьесе Чехов вполне справедливо писал, утешая Комиссаржевскую и оправдывая себя: «...Мой “Вишнёвый сад” для Вас совсем не подходит. Центральная роль в этой пьесе женская, старая женщина, вся в прошлом, ничего в настоящем, остальные роли, по крайней мере женские, мелковаты, грубоваты, для Вас не интересны»[334]. Это была правда, Комиссаржевскую в роли Раневской можно представить себе с большим трудом. Кого ещё она могла бы сыграть в «Вишнёвом саде»? Разве Аню? Но для неё в Ане было слишком мало психологизма и слишком много ходульности. Впрочем, кто знает, как бы она решила этот образ. Вспоминается история, связанная с постановкой пьесы И. Н. Потапенко «Искупление», которая шла осенью 1903 года во время гастролей Комиссаржевской в Петербурге в театре Литературно-художественного общества. Критики спорили — умирает или только падает в обморок в конце пьесы её героиня Марьяна. За разрешением этого вопроса Юрий Беляев обратился к автору. Потапенко ответил ему: «...Я не знаю. <...> Может быть, более определённый ответ на интересующий Вас вопрос Вы получите от В. Ф. Комиссаржевской. В душе этой артистки такое богатство живых, оригинальных своих красок, что автор, видя своё создание в её — нет, нельзя назвать это изображением, — в её преображении, уже не может сказать: это моё! Он должен говорить: это наше создание!»[335] И, однако, как бы высоко ни ценили драматурги актёрский талант Комиссаржевской (а в этом Чехов был вполне согласен с Потапенко), но «Вишнёвого сада» для открытия своего театра она не получила. После долгих поисков и сомнений она выбрала для первого спектакля трагедию немецкого автора Карла Гуцкова «Уриэль Акоста» из средневековой истории. Сама Комиссаржевская в этом спектакле не участвовала. Состав дирекции нового театра был определён задолго до его открытия. В неё вошли пайщики — сама В. Ф. Комиссаржевская, неразлучный с ней К. В. Бравич, брат от второго брака её отца Ф. Ф. Комиссаржевский, режиссёр Н. А. Попов, который был привлечён к проекту с самого его зарождения, администратор труппы Н. Д. Красов (на роль администратора Вера Фёдоровна прочила В. Э. Мейерхольда, но пока эти намерения ни к чему не привели). Членом дирекции стал и неожиданный меценат, земский деятель М. С. Завойко из Каменец-Подольского, внёсший в фонд театра девять тысяч рублей, впоследствии просто подаривший свой вклад театру и устранившийся отдел. Пока в первой половине года продолжались гастроли, выстроенные по географически прихотливому маршруту через всю страну, Комиссаржевская, играя почти ежедневно, продолжает дистанционно вести переговоры с разными лицами, при необходимости срывается с места и едет в столицу. К. В. Бравич сообщает о такой ситуации А. Н. Маслову, автору пьесы «Ольгин день»: «К моему глубокому сожалению, многоуважаемый Алексей Николаевич, пришлось отказаться от мысли поставить “Ольгин день” в Одессе. Дело в том, что Вера Фёдоровна, закончив свои гастроли на 6-й неделе поста в Киеве, уехала в Москву по делам и приехала только к первому спектаклю. Это лишило нас возможности поставить пьесу с её участием». Помимо прочего, Бравич свидетельствует о несомненном успехе гастролей Комиссаржевской, как материальном, так и зрительском: «Спектакли В. Ф. Комиссаржевской за пост — в Москве, Харькове и Киеве — дали валового сбора 38.405 руб. за 24 спектакля, что Вере Фёдоровне дало чистой прибыли 23.380 руб. Здесь спектакли идут всё время с аншлагами, несмотря на то, что три пьесы повторяются»[336]. Гастроли завершились в Екатеринбурге. Они длились с 16 февраля по 28 мая, за это время Комиссаржевской было сыграно более 70 спектаклей. Сборы были значительными (в общей сложности, за вычетом неминуемых расходов на поездки, — около 40 тысяч рублей), хотя, по устойчивому мнению, такой заработок даётся артисту чрезвычайно трудно. Гастрольная поездка для того, чтобы быть коммерчески выгодной, должна строиться по изматывающему принципу непрерывности, насыщенности и интенсивности. Насколько тяжёлыми были такие поездки для слабой здоровьем и не очень устойчивой в нервно-психическом смысле Комиссаржевской, легко угадать. В этот раз, однако, её согревало близкое ощущение победы над стойко сопротивляющейся реальностью. В начале июня 1904 года, отыграв свой последний гастрольный спектакль «Бесприданница» в Екатеринбурге, побывав по делам театра в обеих столицах, Комиссаржевская выехала в Италию к отцу, где в это время находился и её младший брат Ф. Ф. Комиссаржевский. Он вспоминал: «Встретясь летом с Верой Фёдоровной в Италии, я узнал, что её театр открывается трагедией Гуцкова. Вера Фёдоровна говорила об этом событии с сияющими глазами, говорила о П. В. Самойлове в роли Акосты, о замысле Н. А. Попова; говорила так заразительно радостно, что и я, забыв все “почему” и “зачем”, радовался вместе с ней»[337]. Внимание останавливает свидетельство мемуариста об общем настроении Комиссаржевской: несмотря на страшную усталость после трёхмесячных интенсивнейших гастролей, осложнённых в этот раз ещё и необходимостью вместо отдыха заниматься административными и организационными делами, она была полна сил и энергии. Время, которое Вера Фёдоровна жила с отцом, было для неё всегда целительным. У нас нет никаких свидетельств о том, что они обсуждали и как проводили дни, но очевидно, что этот кратковременный отдых был полон разговорами и размышлениями о новом театре. Впрочем, приходилось попутно решать и деловые вопросы. Комиссаржевская пишет массу писем: администратору театра Н. Д. Красову поручает закупку театральной бутафории в Париже, ведёт переговоры с драматургом С. А. Найдёновым о постановке его пьес, сообщает Н. А. Попову о решении отказаться от постановки в первом сезоне драмы Н. П. Анненковой-Бернар «Дочь народа», в которой она собиралась играть Жанну д’Арк. На недовольство режиссёра Комиссаржевская отвечает оправданиями: «Я не могу приготовить такой роли в первый же сезон»[338]; и далее: «Даже кончая поездку, я не могла отдать себе ясного отчёта в том, насколько я устала. И только тут, начав отдыхать, почувствовала, что мои нервы и мозг так страшно утомлены, что не дай я им полного, абсолютного отдыха — они мне не смогут служить зимой»[339]. Однако Н. Д. Красову она признается: «Я уже волнуюсь безумно, когда думаю о зиме, но не отдала бы этого волнения ни за какие блага мира»[340]. Все мысли её — о будущей зиме. И собственным здоровьем она вынужденно занимается не потому, что очень заботится о себе, а, так сказать, чисто утилитарно. Необходимо набраться сил, чтобы зимой, в первом, самом ответственном сезоне своей новой жизни «играть на века». В Италии Комиссаржевская узнаёт о смерти А. П. Чехова. Весть эта, видимо, совершенно её сразила. Чехов был почти её ровесником, всего на четыре года старше. Она, конечно, была осведомлена о его болезни, но такого скорого конца не предполагала. Не попала даже на похороны к тому, кого считала совсем своим драматургом и по стилистике, и по мироощущению, и по личной симпатии. «Я в отчаянии от того, что я сейчас не в Москве»[341], — телеграфировала О. Л. Книппер-Чеховой. В памяти потомков за Комиссаржевской закрепилось наименование «чеховской актрисы». И в планируемом репертуаре её нового театра была пьеса Чехова «Дядя Ваня». 6 августа 1904 года она вернулась в Петербург. В помещении театра проходят последние приготовления. Вскоре на квартире друзей Комиссаржевской Прибытковых, на Большой Конюшенной улице, где она временно обитала[342], состоялось заседание дирекции, на котором, в частности, выбиралось название для будущего театра. Вера Фёдоровна категорически отказывалась называть театр своим именем, хотя в переписке этого времени оборот «Театр Комиссаржевской» употребляется то и дело как уже вошедший в обиход. Решено было писать на афише так: «Драматический театр. Дирекция В. Ф. Комиссаржевской». 15 сентября состоялось открытие. Через два дня, 17 сентября, в день своих именин, Комиссаржевская впервые вышла на сцену собственного театра в спектакле «Кукольный дом» по пьесе Г. Ибсена. Роль Норы стала её визитной карточкой. Об этом спектакле подробно и выразительно писала Е. А. Колтоновская. Приведём её воспоминания как живое свидетельство того впечатления, которое производила Комиссаржевская в этой роли, чрезвычайно близкой её собственной натуре и судьбе: «Лучшей ролью Комиссаржевской, бесспорно, была ибсеновская Нора, которую она передавала с такой удивительной полнотой и яркостью. Артистка удачно сосредоточивала свои творческие силы на первых двух актах, на создании первоначального образа Норы,— до переворота. Чтобы понять возможность такого перерождения и редкого, чуждого компромиссов разрыва с прошлым, нужно хорошенько знать прежнюю, маленькую Нору, с её беличьей головкой и золотым сердцем. У Комиссаржевской получался очень обаятельный и красноречивый образ Норы-белочки. На сцене была полуженщина, полуребёнок, беззаботное и наивное существо, не тронутое никакими впечатлениями жизни, но при этом жизнерадостное и глубокое, захватывающее своей непосредственностью и оригинальностью. Мысль ещё не проникала в её хорошенькую головку. Куколкой она была в доме отца, куколкой стала и для мужа, на которого она молилась, считая героем, “самым лучшим человеком”... В её понятиях и представлениях о жизни — сумбур, но натура у неё незаурядная и не бесцветная, а неподкупно правдивая, целомудренно-чистая и смелая. От каждого слова и движения этой маленькой цельной женщины веет теплотой и непринуждённостью, от каждого самого бессмысленного в практическом отношении поступка — неотразимой логикой чувств. Нора-жаворонок, Нора-белочка, как её называл муж, не могла поступать разумно и осмотрительно, но она всегда поступала по-своему справедливо и хорошо, под непосредственным чувством любви к отцу, к мужу. У неё свои собственные понятия, свой мир, в Котором всё своеобразно и очень твёрдо. Поколебать что-нибудь в этом мире очень трудно — даже обожаемому Торвальду. С каким видом она его слушает, когда он неодобрительно говорит об её покойном отце! Головка с полуопущенными глазами упрямо склонена набок, на губах снисходительная улыбка... Говори, мол, говори, но я-то знаю, каким был папа!.. А сколько у этой упрямой белочки темперамента и здорового “эгоистического” вкуса к жизни! Достаточно взглянуть, с каким аппетитом она, исподтишка, грызёт любимое пирожное или как она затевает возню с детьми. Нора отдаётся игре с едва ли не большим увлеченьем, чем сами дети. Эта почти мальчишеская резвость странно сочетается в Норе-Комиссаржевской с глубокою, органическою женственностью. <...> Превосходно очерчены были артисткой отношения Норы к мужу — её пылкая любовь к нему и очарование его любовью, при полной душевной отчуждённости, несознаваемой ею, но всё-таки тягостной. Это та ненавистная Ибсену любовь, которая неизбежно, по его мнению, ведёт к катастрофе... В сущности, Нора совсем не знает Торвальда и живёт одинокою, отчуждённою жизнью. Но она верит, что он самый хороший, такой, каким бы ей хотелось, чтобы он был, — сильный и смелый, способный защитить её, доказать ей свою любовь, такую же большую, как у неё к нему. <...> Очень сильное впечатление оставлял финал 2-го действия, когда тучи уже донельзя сгустились над бедной Норой. Вся она полна безумного страха перед предстоящей развязкой, полна мучительной тревоги и, вместе, радостного ожидания, что вот-вот свершится чудо — доказательство безмерной любви к ней Торвальда... Эти разнородные чувства разрывают измученную душу Норы на части, она чувствует, что способна сойти с ума. А её бешеная тарантелла, в которой всё: ужас перед смертью, прощанье с жизнью, с любимым Торвальдом, трепетная надежда и борьба! — Ты танцуешь так, как будто дело идёт о жизни и смерти, — добродушно замечает ей влюблённый муж. — Так и есть, Торвальд! От этого глухого, нетерпеливого восклицания веяло настоящим, большим трагизмом — той страшной бездной, в которую несчастная Нора уже готова была упасть со своим непрочным счастьем. Такая именно Нора, какую показывала Комиссаржевская в первых двух актах, должна была стать личностью, могла решиться на разрыв с прошлым без компромиссов и колебаний»[343]. Кажется очевидным, что и образ юной женщины, страстно увлечённой мужем и домом, выстраивающей воздушный замок своей семьи, не позаботившись о фундаменте, был чрезвычайно понятен и близок Комиссаржевской, которая именно так начинала свою собственную семейную жизнь. Нора, прозревшая, преданная мужем, внезапно ставшая взрослой, готовая уйти из дома, оставить всё то, что недавно было ей так дорого, — это тоже вполне биографическая черта Комиссаржевской. Нам уже доводилось писать о том, что она превосходно играла роли, с которыми внутренне сливалась, в которых узнавала саму себя. Думается, что ошеломительный успех Комиссаржевской в «Кукольном доме» был того же рода. Особенно запомнилась зрителям потрясающая душу тарантелла, в которой отразилась вся гамма переживаний Норы, от страстной любви к Хельмеру до страха неминуемой гибели этой любви. В. П. Веригина вспоминала: «Тарантелла Комиссаржевской <...> производила впечатление совершенно особенное. Это не был танец, после которого зрителям хочется аплодировать. Кто бы посмел аплодировать артистке после такой тарантеллы? Все замирали в изумлении перед этой пляской жизни и смерти, перед танцем духа. Тела Комиссаржевской как бы не существовало. Зрители не видели никаких изгибов, поворотов. Движение вперёд и назад мелкими па тарантеллы, левая рука держала над головой тамбурин, который звучал, содрогаясь от редких нервных ударов правой кисти. Голова была слегка наклонена вперёд. Как будто Нора во что-то вглядывалась. Положение головы оставалось одинаковым при движении вперёд и назад. Пожалуй, тому, кто не видел эту тарантеллу, покажется сомнительным, чтобы таким простым рисунком танца можно было передать гамму бурных переживаний Норы. Между тем Комиссаржевская достигала этого. Ступни быстро прочерчивали движение по площадке, и казалось, что из-под них непрерывно вспыхивали искры, а в широко открытых глазах был ужас и какой-то мрачный восторг»[344]. Ближайшие два месяца спектакль играли регулярно через день, в редких случаях — через два дня. Сама пьеса Ибсена с вопросами, которые она поднимала, с проблемой эмансипации женщины, крайне актуальной для начала века, была, конечно, чрезвычайно современна. И в этом тоже заключалась причина её популярности. Но пьесу эту ставили и раньше, в том числе на сцене Александрийского театра, где Нору играла антагонистка Комиссаржевской М. Г. Савина, и такого успеха не было. Он коренился в уникальном психологическом совпадении между актрисой и ролью. Второе место после «Кукольного дома» в репертуаре заняла пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня», в которой Комиссаржевская играла Соню — по общему мнению критиков, чрезвычайно успешно. С одной стороны, отмечали «впечатление подкупающей реальности», благодаря естественной простоте, с которой она подходила к роли; с другой — в образе Сони отчётливо проступили обобщающие черты. Как говорилось в одной из рецензий, «в исполнении г-жи Комиссаржевской маленькая, серенькая, “великодушная” и безгранично терпеливая Соня поднялась до воплощения в себе общечеловеческого страдания»[345]. Эти обобщения, до которых «поднимались» героини Комиссаржевской, были не случайны. Стремление оторваться от почвы, показывать не конкретные характеры, а вечные сущности составляло теперь тайный замысел актрисы, выходившей на новый уровень осмысления сценического материала. Шквал отзывов на первые спектакли нового театра поражает общей почти восторженной интонацией. Внимание петербургских газет, не только специальных изданий, связанных с театром, было исключительным. Всю осень сообщения о спектаклях Драматического театра и рецензии на них не сходят со страниц прессы. О них пишут «Новости и Биржевая газета», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Петербургская газета», «Русь», «Санкт-Петербургские ведомости» и т. д. Если попытаться лаконично передать содержание этих публикаций, то оно в самом общем виде может быть выражено фразой: «Драматический театр Комиссаржевской сейчас в Петербурге — самый интересный театр»[346]. Необычайно живой была и атмосфера внутри театра — сообщество режиссёров, актёров, даже театральных рабочих было сплочено общим стремлением, одухотворено общей идеей. Е. П. Корчагина-Александровская, только что приглашённая Бравичем из провинции для работы в труппе, вспоминала: «Меня поразила общая атмосфера, царившая в театре Комиссаржевской. Входя в театр, даже в рабочие часы репетиций, я чувствовала, как светло и радостно становится у меня на душе. И прежде всего сама Вера Фёдоровна создавала такую обстановку, показывая всем актёрам пример благородного, самоотверженного служения сцене. Я работала у Комиссаржевской до 1907 года, и за три года я не помню случая, чтобы она опоздала на репетицию, небрежно отнеслась к делу или грубо обошлась с кем-нибудь из служащих. Совсем не чувствовалось, что она была хозяйкой театра»[347]. Даже плотник, проработавший в Драматическом театре долгое время, вспоминал о нём: «Нам всем театр был не безразличен. Уходили из него, только когда уже не могли больше работать»[348]. Понятно, что такое воодушевление за кулисами рождало совершенно особую атмосферу на сцене. 10 ноября 1904 года состоялась премьера пьесы М. Горького «Дачники», которую поставил режиссёр И. А. Тихомиров. Комиссаржевская играла Варвару Михайловну — как утверждает М. Ф. Андреева, «совершенно изумительно». Об этой премьере осталось несколько мемуарных свидетельств. Сам автор писал о ней: «Первый спектакль — лучший день в моей жизни... Никогда я не испытывал и едва ли испытаю когда-нибудь в такой мере и с такой глубиной свою силу, своё значение в жизни, как в тот момент, когда после третьего акта стоял у самой рампы, весь охваченный буйной радостью, не наклоняя головы перед “публикой”, готовый на все безумия — если бы только кто-нибудь шикнул мне. Поняли — и не шикнули. Только одни аплодисменты и уходящий из зала “Мир искусства”»[349]. Пьеса Горького действительно расколола публику, подобно тому, как расколотой изображена в пьесе русская интеллигенция. Собственно, задачей автора было критически показать тот её слой, который своим происхождением связан с самой демократической народной массой. Но, выйдя из народа, эти люди оторвались от него, забыли о его нуждах и бедах, ведут тихую мещанскую жизнь, заняты доморощенными проблемами. Свою пьесу драматург осмысливал как обвинительный акт интеллигентским пассивности и равнодушию. Часть зрителей пьесу активно не приняла. Уходящий из зала «Мир искусства» — так одним словом Горький определяет тех, кому она категорически не понравилась. В том же письме он называет своих оппонентов поимённо: «...Скандал, я говорю, начала ложа “Мира искусства” и именно — Мережковский, как самый откровенный, горячий и смелый из компании. <...> Затем — Философов, Дягилев, Даманская, Венгерова, Сергеев-Ценский, Крандиевская, Юрий Беляев и т. д.»[350]. Негативную позицию по отношению к постановке выразила и близкая приятельница Комиссаржевской С. И. Смирнова-Сазонова: «Первое действие вызвало недоумение. Народу на сцене толчётся много, все входят, уходят, что-то говорят, но в чём дело, понять нельзя. Второе действие понравилось. Вызвали автора. Он вышел в блузе и улыбнулся публике. После третьего, когда дочь благословляет мать взять себе любовника, партер зашикал, а верхи стали вызывать автора пуще прежнего. Он долго не шёл, наконец вышел, стал у рампы и в упор, не кланяясь, глядел на публику, глядел с презрением. Я ждала, что он высунет нам язык. Но публика обрадовалась, хлопала с неистовством. Хлопали и актёры с Комиссаржевской во главе. Роль у неё была преподлая — какой-то неслыханно честной и благородной женщины, которая страдает от пошлости жизни. Муж у неё обыкновенный, и все люди кругом обыкновенные, она с ними задыхается и хочет куда-то бежать, но куда, сама не знает, потому что ничего не умеет делать. Её юноша брат устами Горького всех нас обругал, все вы, говорит, не люди, а людишки. За это ему с верхов хлопали. Успех Горького был колоссальный»[351]. Интересно вспоминает о спектакле лицо, очевидно нейтральное, — театральный плотник, переживающий только за «своих»: «Первые два акта шли с нарастающим успехом, а к третьему произошёл настоящий скандал. Публика стала вызывать автора. Горький вышел на сцену, и в зале поднялся осуждающий шум, свист и в то же время крики “браво”. Занавес закрыли. Зрители успокоились только на минуту, а затем опять стали кричать: “Автора!” Вышел Горький, стал в смелую, даже вызывающую позу, и опять раздались шум, свист и аплодисменты. Потом полетели на сцену яблоки, веера, а одна барынька ухитрилась бросить серебряное портмоне с деньгами. Было опасение, что публика ворвётся на сцену, и во избежание этого поставили всех плотников в кулисах, а актёры вышли к дверям фойе и стали у проходов. Бушевала публика долго, но всё же аплодисменты победили. На впечатлительную натуру Веры Фёдоровны всё это очень влияло, и каждый выпад против Горького она очень переживала»[352]. Комиссаржевская очевидным образом была на стороне демократической общественности, которая пьесу бурно приветствовала. С одной стороны, это было связано с её взглядами и идеологическими предпочтениями, склонявшимися в 1904 году в ту сторону, в которую клонилась и передовая общественная мысль. С другой стороны, Комиссаржевская была кровно заинтересована в это время в сотрудничестве с Горьким и обсуждала с ним ещё один амбициозный проект, замысел которого возник после разрыва Горького с МХТ. Участниками этого проекта должны были стать, помимо Горького и Комиссаржевской, Савва Морозов и Константин Незлобии. Предполагалось, что новый театр будет открыт в арендованном на средства Морозова здании на Литейном проспекте. Его труппа должна была объединить актёров Незлобина и Комиссаржевской. М. Ф. Андреева приглашала участвовать в новом проекте и некоторых артистов МХТ, в их числе В. И. Качалова. Конечно, такому объединённому театру, да ещё существующему на ощутимую поддержку надёжного мецената, выживать было бы гораздо легче. Но дальнейшее развитие событий пошло по иному пути. После январских событий 1905 года Горький был арестован. И хотя заключение его в Петропавловской крепости не продлилось долго, но санкции последовали незамедлительно. Спектакль «Дачники» был запрещён и снят с репертуара. С. А. Найдёнову Вера Фёдоровна жалуется: «Слишком тяжело дышать, прямо нечем. <...> Вчера у нас сняли “Дачников”, и я не знаю, что мне ставить»[353]. В этих словах нет никакой гиперболы. От пьес, совсем недавно составлявших основу театральной повседневности, приходилось отказываться, поскольку они больше не отвечали внутренним запросам ни тех, кто находился на сцене, ни тех, кто наблюдал за происходящим из зрительного зала. В планы Комиссаржевской входило создание театра с самым современным репертуаром. Но где было его взять? Пьесы-однодневки, написанные для заполнения естественно возникающих пустот, по соображениям конъюнктуры, для неё не подходили. Она с восторгом ставила Чехова, кое-что — очень избирательно — из Островского, с радостью бралась за переводные произведения западных драматургов, которые считала значительными и подходящими для своих задач: Г. Ибсена, А. Стриндберга, Г. Гауптмана. Но и их не хватало. Кроме того, русский автор, отражающий совсем специфические русские проблемы, говорящий со зрителем на его родном языке, — это, конечно, находка. Тем более такой автор, как Горький, драматург ультрасовременный, спорный, потрясающий основы, будоражащий умы. Комиссаржевская приложила все усилия, чтобы сохранить в репертуаре пьесы Горького, вплоть до судебных разбирательств, зачастую не приносящих ничего, кроме очередных издержек. И тем не менее в начале следующего сезона на сцену снова были выпущены «Дачники»; тогда же театр получил цензурное разрешение на постановку другой пьесы Горького «Дети солнца». Премьера состоялась 12 октября 1905 года и прошла с большим подъёмом. Первый сезон Драматического театра закрылся в середине апреля 1905 года постановкой пьесы Г. Ибсена «Строитель Сольнес», в которой Комиссаржевская сыграла юную героиню — Тильду. В этом была своеобразная логика: начать сезон с Норы, закончить Тильдой. Как пишет об этой роли Комиссаржевской Ю. П. Рыбакова, «земные черты Норы обернулись в Гильде аскетическим профилем девушки-символа с жёсткой логикой речей»[354]. Спектакль вообще был совершенно «надбытовым», тяготеющим к философским обобщениям. Он показывал то направление, к которому всё более и более склонялась Комиссаржевская, — она постепенно уходила от натурализма, искала не только новое содержание, но и новые формы. «Строитель Сольнес» вызвал много нареканий, критика да и публика с напряжением вслушивались в непривычный язык. Комиссаржевская понимала, насколько он сложен, но всё же сдаваться не собиралась. В Москве, во время гастролей Драматического театра, на которые выехали в середине апреля, публика требовала «Бесприданницу» и «Дикарку». Оба спектакля были готовы — их собирались играть в провинции, но московскому зрителю Комиссаржевская показала только «Самум» Стриндберга и две пьесы Ибсена — «Кукольный дом» и «Строитель Сольнес». Такова была теперь концепция её театра. С. И. Смирнова-Сазонова, побывав на премьере «Строителя Сольнеса», записывает в своём дневнике крайне ироничный отзыв. Надо думать, не она одна так воспринимала происходящее на сцене: «Актёры с самым трагическим видом говорили шутовские вещи. “Мы не будем строить семейные очаги, мы будем строить воздушные замки”. При этом Комиссаржевская делает восторженные безумные глаза. Она с просветлённым лицом смотрит на небо, то есть в колосники. <...> Вообще это было не представление, а священнодействие»[355]. Хотя формально режиссёром спектакля был И. А. Тихомиров, руководил постановкой давний знакомый Комиссаржевской, имевший на неё сильное влияние, а теперь приглашённый ею заведовать литературной частью театра талантливый критик А. Л. Волынский, последовательный борец с позитивистским подходом к искусству. Как сообщает в своих воспоминаниях Ф. Ф. Комиссаржевский, 13 марта 1905 года, когда Волынский проводил с труппой беседу о пьесе Ибсена «Строитель Сольнес», «в стенах театра Веры Фёдоровны впервые раздалось слово “духовность”, впервые была осуждена “театральная рутина”, рутина натурализма»[356].
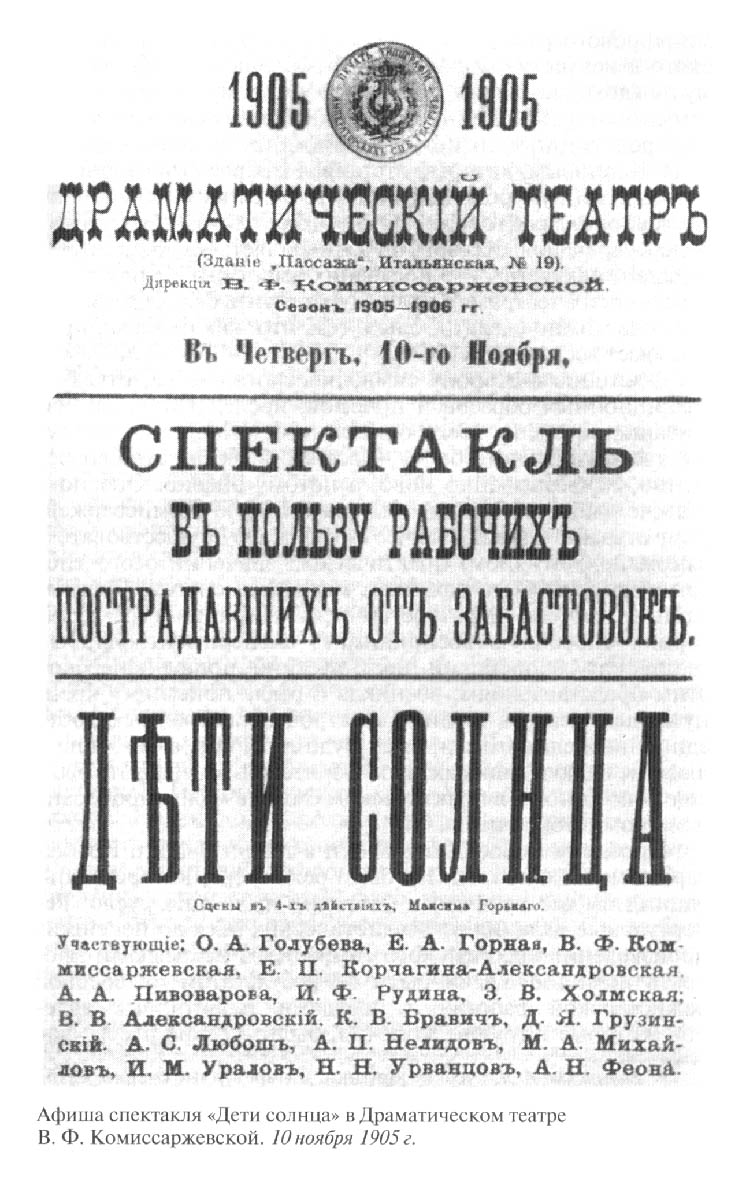 А. Л. Волынский был человеком, хорошо образованным, умеющим взглянуть на литературу взглядом философа (его первая опубликованная статья была посвящена Канту), без такого взгляда проникновение в суть произведения считал невозможным. В частности, он писал: «Искусство может выдать свои тайны только пытливой мысли философа, который в созерцательном экстазе соединяет всё конечное с бесконечным, связывает психологические настроения, выливающиеся в поэтических образах, с вечными законами мирового развития»[357]. Собственно, в подходе Волынского к искусству как явлению самоценному, основанному на вдохновении художника и служащему самому себе, а тем самым и современности, Комиссаржевская почувствовала родственные ей мотивы. Вспомним её долгий спор с Е. П. Карповым, который отстаивал как раз утилитарность и общественную роль искусства. А Волынский думает так же, как она, даже говорит почти что её словами. Подбирая репертуар на новый сезон, он размышляет: «...Лучей иного, высшего искусства — с последних высот его — ищу я для теперешнего театра: его надо одухотворить сверху донизу, а это ведь можно сделать только тем, что, как религия, пронизывает всего человека»[358].
Движение в сторону символического театра, отказ от традиционных образов и приёмов, последовательное изживание со сцены всего привычного, что составляло существо театрального быта, — всё это было и остро современно, и чрезвычайно ново, а потому опасно. Опасно в смысле зыбкости той почвы, на которую Комиссаржевская отважно ставила ногу. Чтобы театру существовать в самом примитивном, практическом значении этого слова, он должен быть явлением массового спроса. Чрезвычайное, сугубое новаторство резко ограничивает аудиторию, способную воспринимать эксперимент. «Новый театр», как европейский, так и русский, пошёл наперекор этим представлениям, возникла и стала понемногу крепнуть идея «театров-студий», «театров для избранных», объединённых единомыслием сотрудников, собрания «новых людей», включающих актёров и зрителей. Но идея эта была ещё совсем нова, в практическом смысле мало опробована и экономически опасна.
Проблема заключалась ещё и в том, что театр Комиссаржевской колебался. Не было режиссёра, который объединил бы все искания и направил их в одно русло. Репертуарные качания от реалистических пьес до новейших произведений европейского символизма показывали зыбкость позиции. Удачи были не результатом интересной режиссёрской работы, а победами талантливых актёров, которые в труппе, конечно, были. «Такие пьесы, как “Строитель Сольнес”, “Росмерсхольм” или “Привидения”, — констатировал Ф. Комиссаржевский, — втискивались в совершенно неподходящую для них обстановку, и не было найдено для них ни стиля, ни ритма, ни тона. Комиссаржевская сама нашла свою Нору, свою Тильду, Бравич сам нашёл своего Ранка, Мандерса, а остальные играли Ибсена, как Чирикова или Найдёнова»[359]. Всё это привело к печальному результату: «За первый сезон в театре Веры Фёдоровны было убытка около 15 тысяч»[360]. Лучшие сборы делали «Нора» и пьесы публицистического характера.
Вообще первый сезон Комиссаржевская завершала далеко не в радостном настроении. Ощущение общественного неблагополучия, достигшее предельной концентрации к 1905 году, поднятая радикальными элементами революционная волна, которая только нарастала после трагических событий 9 января, — всё это оказывало на неё своё воздействие. Приведённые выше слова Комиссаржевской: «Слишком тяжело дышать, прямо нечем» — относились прежде всего к атмосфере, сгустившейся в русском обществе, и очень хорошо её характеризовали. К этому времени относятся свидетельства разных людей о помощи, которую Вера Фёдоровна оказывала движению, оппозиционному власти. Об этом ещё будет сказано несколько слов.
В труппе театра наметились разногласия, в конце апреля 1905 года уволился режиссёр И. А. Тихомиров. Направление, избранное Комиссаржевской, устраивало далеко не всех. Но главным событием, буквально сбившим её с ног, была внезапная смерть отца 1 марта 1905 года. Вера Фёдоровна в отчаянии сообщает Е. П. Карпову, который был знаком с Ф. П. Комиссаржевским: «Ужасно, отца моего не стало»[361]. Очевидно, несколько позже, уже свыкшись с этой утратой, она написала о поэтических подробностях смерти, свидетельницей которой ей быть не довелось, отсюда, вероятно, и романтический флёр, наброшенный на реальность: «Знаете, как папа умер? Замечательно! Он любил очень цветы и ухаживал в садике за своими розами, и вот, сорвав одну, слегка увядающую розу, он с ней сел на скамеечку, да так тихо и поник. Нашли его мёртвым с этой розой в руках. И я бы желала так умереть»[362]. Желание Веры Фёдоровны не исполнилось — ей, как мы знаем, была уготована совсем иная смерть...
Смерть отца не могла не подкосить Комиссаржевскую. Отец был для неё источником вдохновения, образцом неиссякаемой творческой энергии, другом, единомышленником, советчиком. Она глубоко и преданно его любила, он отвечал ей взаимностью — эта искренняя привязанность к отцу заменяла ей неустроенную семейную жизнь, отдалённость от матери и сестёр. Братья, его сыновья от второго брака, были для неё куда ближе! Теперь эта живая нить обрывалась, любви и поддержки ждать было неоткуда.
Начало следующего сезона было ознаменовано всеобщей забастовкой, которая к середине октября достигла общероссийских масштабов. В Петербурге бастовали рабочие и служащие большинства предприятий, служащие банков, министерств, телеграфа и телефонной станции. Сама Комиссаржевская и труппа её театра очень живо реагировали на происходящее и фактически присоединились к стачке. С 15 по 25 октября все спектакли были отменены. Вместо этого в театре происходили заседания, на которых обсуждалось, как артисты могут содействовать общественному движению, актёрские митинги, посвящённые насущным вопросам: свободе сценического слова, уничтожению административного гнёта. Комиссаржевская чрезвычайно активно участвует в них, председательствует, вносит предложения о пожертвованиях «на борьбу освободительному движению исключительно мирными средствами».
Впрочем, из других источников известно, что сама она единолично жертвовала деньги на нужды революционного движения и раньше, отдавая сборы со своих концертов или бенефисных спектаклей. Свидетельствует об этом, например, Л. Б. Красин, сумевший убедить Комиссаржевскую в необходимости таких пожертвований: «Наша кавказская техническая организация довольно успешно использовала приезды на Кавказ В. Ф. Комиссаржевской, дававшей часть сборов на нужды партии. Один из вечеров с участием В. Ф. Комиссаржевской, прошедший с громадным успехом, был устроен в Баку по случайности как раз в том самом доме, в котором жил начальник местного губернского жандармского управления»[363]. Л. Б. Красин вообще отличался тем, что крайне эффективно добывал деньги для нужд партии.
Существуют воспоминания самой В. Ф. Комиссаржевской в записи А. Сереброва (А. Н. Тихонова), одного из соратников Красина и в то же время литератора, знакомого с Толстым, Чеховым, Горьким. Речь в них идёт об организации подпольной типографии в Баку, для которой требовались немалые средства. В 1903 году во время гастролей по Кавказу в Баку дважды оказалась и Вера Фёдоровна, которая познакомилась с Красиным и согласилась ему помочь. Приведём фрагмент этих воспоминаний, которые психологически кажутся нам вполне достоверными, хотя необходимо учитывать, что в советское время тема сотрудничества Комиссаржевской с большевиками искусственно раздувалась. Она просто обязана была им симпатизировать и даже участвовать в подпольной деятельности партии, чтобы занимать достойное место в синклите корифеев русского театра. Впрочем, уйдя из жизни за семь лет до победы революции, сама Комиссаржевская не может быть заподозрена в намеренном искажении фактов:
«Леонид Борисович был там инженером, а я гастролировала. Пришёл ко мне — никогда я его прежде и не видела — и с первого слова: “Вы — революционерка?” Я растерялась, ничего не могла ответить, только головой кивнула... “В таком случае сделайте вот что...” И таким тоном, словно я ему подчинённая...
В Баку меня любят. Начальник жандармов — мой поклонник. У него в квартире мы и устроили концерт. Закрытый, только для богатых. Билеты не дешевле пятидесяти рублей... Я пела, читала, даже танцевала тарантеллу... Успех полный... В антракте мне поднесли букет... из сторублёвок. Леонид Борисович, красивый, во фраке, понюхал букет, смеётся: “Хорошо пахнет”... И — мне на ухо: “Типографской краской пахнет!”... Дело-то в том, что сбор с концерта шёл на подпольную типографию. После концерта у меня в уборной — вся местная знать... Благодарят, целуют мне руки. Леонид Борисович стоит в сторонке, ухмыляется. Распорядитель вечера подносит мне на блюде выручку с концерта... Что-то несколько тысяч. Деньги перевязаны розовой ленточкой с бантом... Через несколько дней Леонид Борисович уехал с ними за границу — покупать типографию. Я ему говорю: “Вы бы мне хоть розовую ленточку оставили — на память!” Смеётся: “И так не забудете!” Сумасшедший!»[364]
Психологически достоверно в этом мемуаре выглядит порыв Комиссаржевской, вызванный, судя по всему, личной привлекательностью Красина, человека, несомненно, не только одарённого талантом подпольщика и террориста, но и чрезвычайно интересного в общении, умеющего произвести впечатление, очаровать слушателя. Не одна Комиссаржевская пала жертвой его обаяния. С Красиным готовы были иметь дело куда более стойкие и состоятельные люди. Сам Савва Морозов именно через Красина ссуживал огромные суммы на нужды революционного дела. Однако кажется маловероятным, чтобы Комиссаржевская понимала, на что конкретно онажертвует деньги. Разнообразные благотворительные вечера были не так уж редки в её артистической биографии. Вот как она рассказывала о Красине Горькому: «Очень хорошо помню странное впечатление: щеголеватый мужчина, ловкий, весёлый, сразу видно, что привык ухаживать за дамами и даже несколько слишком развязен в этом отношении. Но и развязен как-то особенно, не шокируя, не раздражая. Ничего таинственного в нём нет, громких слов не говорит, но заставил меня вспомнить героев всех революционных романов, прочитанных мною в юности»[365]. Интересно, что речь идёт о 1903 годе — то есть времени, когда Комиссаржевская собирала деньги на открытие собственного театра, жила этой мечтой, зарабатывала непосильным гастрольным трудом. И вдруг — с такой лёгкостью жертвует тысячи... неизвестно на что. Думается, что веской причиной для такого поведения могло стать только личное увлечение.
Во время гастролей в Киеве в 1905 году Комиссаржевская снова жертвовала какие-то суммы, по просьбе Красина, на дела, чрезвычайно далёкие от её собственной жизни, но отказать этому человеку она, видимо, была неспособна. Связь с Красиным Комиссаржевская поддерживала до конца жизни. Сохранилась её записная книжка за 1908 год, где имеется берлинский адрес Красина на немецком языке для писем и телеграмм[366].
20 октября 1905 года на митинге в Панаевском театре, где вырабатывалась платформа Всероссийского сценического союза, Комиссаржевская выступала и, спускаясь с эстрады, вывихнула ногу. Из-за этой травмы пришлось изменять декорации нескольких спектаклей, в которых она не могла теперь свободно ходить. 5 ноября Вера Фёдоровна снова посещает собрание союза и снова выступает на нём... С 9 декабря 1905 года, когда в Москве началось вооружённое восстание, и по 18 декабря, когда оно закончилось, в Драматическом театре не было ни одного спектакля. По свидетельству актёра театра В. Р. Гардина, «Вера Фёдоровна была всё время в каком-то тревожном ожидании. Это сказывалось на работе нашего театра, на каждом из нас, актёров, находившихся под её духовным влиянием»[367].
Тревога за собственное будущее, за судьбу театра, в конце концов за судьбу страны — вполне естественные чувства, который переживал в то неспокойное время каждый мыслящий человек, связывающий с Россией не только свою профессиональную деятельность, но и жизнь. Утверждать, основываясь на этом, что Комиссаржевская была особым образом политически настроена, разделяла революционные идеалы или, наоборот, стояла на позициях охранительных и консервативных, совершенно невозможно. Её брат, Ф. Ф. Комиссаржевский, писал о ней: «Вера Фёдоровна никогда не была ни “красной”, ни “чёрной”. Она была вполне независимым в своих убеждениях человеком. Политики никогда не “делала”. Люди всяких убеждений, если они страдали, были для неё равно близкими. Она была в душе своей настоящей христианкой. И поэтому, не считаясь ни с какими убеждениями, шла к тем людям, которым, как ей казалось, её помощь была нужна»[368].
Деятельность Комиссаржевской, которую в советское время старались представить как революционную, скорее всего следует отнести в графу «благотворительность», как её понимала сама актриса. О её внимании к чужому страданию и христианском умении прийти на помощь свидетельствует её ближайшая подруга — М. И. Зилоти: «В. Ф. глубочайше и тончайше понимала страдание. Страдание и ценность жизни она чувствовала остро, не только в отношении людей, но и всех других живых существ. Помню, как я однажды испугалась ящерицы, В. Ф. хотела её от меня удалить и схватила ящерицу за хвост, который тут же оторвался. В. Ф. несколько дней не могла прийти в себя, и сокрушение доводило её до слёз. Это не было пустой сентиментальностью, а глубоким чувством страдания.
Помню, как мы с ней зимой в санях ездили навещать больных по деревням. Так было всё обыденно просто кругом, и она в санях подле меня, такая простая, тихая. Но и в эти моменты я чувствовала, что сознательно или бессознательно чувствовали все в её присутствии: ценность сокрытой в ней жизни и силу заключённых в ней даров»[369].
Вне зависимости от отношения самой Веры Фёдоровны к происходящему в стране, второй сезон собственного её театра был смят политическими событиями, без конца прерывался да и закончился чрезвычайно рано — эпоха властно вторгалась в её планы. Как писал Ф. Ф. Комиссаржевский, «сезон 1905—1906 г. окончился с убытком благодаря революционным дням, отсутствию репертуара и благодаря неуверенности в ведении дел»[370]. Откуда же было взяться уверенности? Убыток размером в 25 тысяч рублей и чрезвычайно высокая арендная плата — 48 тысяч в сезон были неподъёмным грузом, лежащим на плечах Комиссаржевской. Единственным способом хоть как-то поправить положение опять были гастроли, начавшиеся в этом сезоне чрезвычайно рано, уже в марте.
Пожалуй, главными событиями второго сезона стали разрыв с режиссёром Н. А. Поповым, с которым Комиссаржевская начинала свой театр, и приглашение в труппу на должности актёра и режиссёра В. Э. Мейерхольда, во многом предопределившего его будущее.
А. Л. Волынский был человеком, хорошо образованным, умеющим взглянуть на литературу взглядом философа (его первая опубликованная статья была посвящена Канту), без такого взгляда проникновение в суть произведения считал невозможным. В частности, он писал: «Искусство может выдать свои тайны только пытливой мысли философа, который в созерцательном экстазе соединяет всё конечное с бесконечным, связывает психологические настроения, выливающиеся в поэтических образах, с вечными законами мирового развития»[357]. Собственно, в подходе Волынского к искусству как явлению самоценному, основанному на вдохновении художника и служащему самому себе, а тем самым и современности, Комиссаржевская почувствовала родственные ей мотивы. Вспомним её долгий спор с Е. П. Карповым, который отстаивал как раз утилитарность и общественную роль искусства. А Волынский думает так же, как она, даже говорит почти что её словами. Подбирая репертуар на новый сезон, он размышляет: «...Лучей иного, высшего искусства — с последних высот его — ищу я для теперешнего театра: его надо одухотворить сверху донизу, а это ведь можно сделать только тем, что, как религия, пронизывает всего человека»[358].
Движение в сторону символического театра, отказ от традиционных образов и приёмов, последовательное изживание со сцены всего привычного, что составляло существо театрального быта, — всё это было и остро современно, и чрезвычайно ново, а потому опасно. Опасно в смысле зыбкости той почвы, на которую Комиссаржевская отважно ставила ногу. Чтобы театру существовать в самом примитивном, практическом значении этого слова, он должен быть явлением массового спроса. Чрезвычайное, сугубое новаторство резко ограничивает аудиторию, способную воспринимать эксперимент. «Новый театр», как европейский, так и русский, пошёл наперекор этим представлениям, возникла и стала понемногу крепнуть идея «театров-студий», «театров для избранных», объединённых единомыслием сотрудников, собрания «новых людей», включающих актёров и зрителей. Но идея эта была ещё совсем нова, в практическом смысле мало опробована и экономически опасна.
Проблема заключалась ещё и в том, что театр Комиссаржевской колебался. Не было режиссёра, который объединил бы все искания и направил их в одно русло. Репертуарные качания от реалистических пьес до новейших произведений европейского символизма показывали зыбкость позиции. Удачи были не результатом интересной режиссёрской работы, а победами талантливых актёров, которые в труппе, конечно, были. «Такие пьесы, как “Строитель Сольнес”, “Росмерсхольм” или “Привидения”, — констатировал Ф. Комиссаржевский, — втискивались в совершенно неподходящую для них обстановку, и не было найдено для них ни стиля, ни ритма, ни тона. Комиссаржевская сама нашла свою Нору, свою Тильду, Бравич сам нашёл своего Ранка, Мандерса, а остальные играли Ибсена, как Чирикова или Найдёнова»[359]. Всё это привело к печальному результату: «За первый сезон в театре Веры Фёдоровны было убытка около 15 тысяч»[360]. Лучшие сборы делали «Нора» и пьесы публицистического характера.
Вообще первый сезон Комиссаржевская завершала далеко не в радостном настроении. Ощущение общественного неблагополучия, достигшее предельной концентрации к 1905 году, поднятая радикальными элементами революционная волна, которая только нарастала после трагических событий 9 января, — всё это оказывало на неё своё воздействие. Приведённые выше слова Комиссаржевской: «Слишком тяжело дышать, прямо нечем» — относились прежде всего к атмосфере, сгустившейся в русском обществе, и очень хорошо её характеризовали. К этому времени относятся свидетельства разных людей о помощи, которую Вера Фёдоровна оказывала движению, оппозиционному власти. Об этом ещё будет сказано несколько слов.
В труппе театра наметились разногласия, в конце апреля 1905 года уволился режиссёр И. А. Тихомиров. Направление, избранное Комиссаржевской, устраивало далеко не всех. Но главным событием, буквально сбившим её с ног, была внезапная смерть отца 1 марта 1905 года. Вера Фёдоровна в отчаянии сообщает Е. П. Карпову, который был знаком с Ф. П. Комиссаржевским: «Ужасно, отца моего не стало»[361]. Очевидно, несколько позже, уже свыкшись с этой утратой, она написала о поэтических подробностях смерти, свидетельницей которой ей быть не довелось, отсюда, вероятно, и романтический флёр, наброшенный на реальность: «Знаете, как папа умер? Замечательно! Он любил очень цветы и ухаживал в садике за своими розами, и вот, сорвав одну, слегка увядающую розу, он с ней сел на скамеечку, да так тихо и поник. Нашли его мёртвым с этой розой в руках. И я бы желала так умереть»[362]. Желание Веры Фёдоровны не исполнилось — ей, как мы знаем, была уготована совсем иная смерть...
Смерть отца не могла не подкосить Комиссаржевскую. Отец был для неё источником вдохновения, образцом неиссякаемой творческой энергии, другом, единомышленником, советчиком. Она глубоко и преданно его любила, он отвечал ей взаимностью — эта искренняя привязанность к отцу заменяла ей неустроенную семейную жизнь, отдалённость от матери и сестёр. Братья, его сыновья от второго брака, были для неё куда ближе! Теперь эта живая нить обрывалась, любви и поддержки ждать было неоткуда.
Начало следующего сезона было ознаменовано всеобщей забастовкой, которая к середине октября достигла общероссийских масштабов. В Петербурге бастовали рабочие и служащие большинства предприятий, служащие банков, министерств, телеграфа и телефонной станции. Сама Комиссаржевская и труппа её театра очень живо реагировали на происходящее и фактически присоединились к стачке. С 15 по 25 октября все спектакли были отменены. Вместо этого в театре происходили заседания, на которых обсуждалось, как артисты могут содействовать общественному движению, актёрские митинги, посвящённые насущным вопросам: свободе сценического слова, уничтожению административного гнёта. Комиссаржевская чрезвычайно активно участвует в них, председательствует, вносит предложения о пожертвованиях «на борьбу освободительному движению исключительно мирными средствами».
Впрочем, из других источников известно, что сама она единолично жертвовала деньги на нужды революционного движения и раньше, отдавая сборы со своих концертов или бенефисных спектаклей. Свидетельствует об этом, например, Л. Б. Красин, сумевший убедить Комиссаржевскую в необходимости таких пожертвований: «Наша кавказская техническая организация довольно успешно использовала приезды на Кавказ В. Ф. Комиссаржевской, дававшей часть сборов на нужды партии. Один из вечеров с участием В. Ф. Комиссаржевской, прошедший с громадным успехом, был устроен в Баку по случайности как раз в том самом доме, в котором жил начальник местного губернского жандармского управления»[363]. Л. Б. Красин вообще отличался тем, что крайне эффективно добывал деньги для нужд партии.
Существуют воспоминания самой В. Ф. Комиссаржевской в записи А. Сереброва (А. Н. Тихонова), одного из соратников Красина и в то же время литератора, знакомого с Толстым, Чеховым, Горьким. Речь в них идёт об организации подпольной типографии в Баку, для которой требовались немалые средства. В 1903 году во время гастролей по Кавказу в Баку дважды оказалась и Вера Фёдоровна, которая познакомилась с Красиным и согласилась ему помочь. Приведём фрагмент этих воспоминаний, которые психологически кажутся нам вполне достоверными, хотя необходимо учитывать, что в советское время тема сотрудничества Комиссаржевской с большевиками искусственно раздувалась. Она просто обязана была им симпатизировать и даже участвовать в подпольной деятельности партии, чтобы занимать достойное место в синклите корифеев русского театра. Впрочем, уйдя из жизни за семь лет до победы революции, сама Комиссаржевская не может быть заподозрена в намеренном искажении фактов:
«Леонид Борисович был там инженером, а я гастролировала. Пришёл ко мне — никогда я его прежде и не видела — и с первого слова: “Вы — революционерка?” Я растерялась, ничего не могла ответить, только головой кивнула... “В таком случае сделайте вот что...” И таким тоном, словно я ему подчинённая...
В Баку меня любят. Начальник жандармов — мой поклонник. У него в квартире мы и устроили концерт. Закрытый, только для богатых. Билеты не дешевле пятидесяти рублей... Я пела, читала, даже танцевала тарантеллу... Успех полный... В антракте мне поднесли букет... из сторублёвок. Леонид Борисович, красивый, во фраке, понюхал букет, смеётся: “Хорошо пахнет”... И — мне на ухо: “Типографской краской пахнет!”... Дело-то в том, что сбор с концерта шёл на подпольную типографию. После концерта у меня в уборной — вся местная знать... Благодарят, целуют мне руки. Леонид Борисович стоит в сторонке, ухмыляется. Распорядитель вечера подносит мне на блюде выручку с концерта... Что-то несколько тысяч. Деньги перевязаны розовой ленточкой с бантом... Через несколько дней Леонид Борисович уехал с ними за границу — покупать типографию. Я ему говорю: “Вы бы мне хоть розовую ленточку оставили — на память!” Смеётся: “И так не забудете!” Сумасшедший!»[364]
Психологически достоверно в этом мемуаре выглядит порыв Комиссаржевской, вызванный, судя по всему, личной привлекательностью Красина, человека, несомненно, не только одарённого талантом подпольщика и террориста, но и чрезвычайно интересного в общении, умеющего произвести впечатление, очаровать слушателя. Не одна Комиссаржевская пала жертвой его обаяния. С Красиным готовы были иметь дело куда более стойкие и состоятельные люди. Сам Савва Морозов именно через Красина ссуживал огромные суммы на нужды революционного дела. Однако кажется маловероятным, чтобы Комиссаржевская понимала, на что конкретно онажертвует деньги. Разнообразные благотворительные вечера были не так уж редки в её артистической биографии. Вот как она рассказывала о Красине Горькому: «Очень хорошо помню странное впечатление: щеголеватый мужчина, ловкий, весёлый, сразу видно, что привык ухаживать за дамами и даже несколько слишком развязен в этом отношении. Но и развязен как-то особенно, не шокируя, не раздражая. Ничего таинственного в нём нет, громких слов не говорит, но заставил меня вспомнить героев всех революционных романов, прочитанных мною в юности»[365]. Интересно, что речь идёт о 1903 годе — то есть времени, когда Комиссаржевская собирала деньги на открытие собственного театра, жила этой мечтой, зарабатывала непосильным гастрольным трудом. И вдруг — с такой лёгкостью жертвует тысячи... неизвестно на что. Думается, что веской причиной для такого поведения могло стать только личное увлечение.
Во время гастролей в Киеве в 1905 году Комиссаржевская снова жертвовала какие-то суммы, по просьбе Красина, на дела, чрезвычайно далёкие от её собственной жизни, но отказать этому человеку она, видимо, была неспособна. Связь с Красиным Комиссаржевская поддерживала до конца жизни. Сохранилась её записная книжка за 1908 год, где имеется берлинский адрес Красина на немецком языке для писем и телеграмм[366].
20 октября 1905 года на митинге в Панаевском театре, где вырабатывалась платформа Всероссийского сценического союза, Комиссаржевская выступала и, спускаясь с эстрады, вывихнула ногу. Из-за этой травмы пришлось изменять декорации нескольких спектаклей, в которых она не могла теперь свободно ходить. 5 ноября Вера Фёдоровна снова посещает собрание союза и снова выступает на нём... С 9 декабря 1905 года, когда в Москве началось вооружённое восстание, и по 18 декабря, когда оно закончилось, в Драматическом театре не было ни одного спектакля. По свидетельству актёра театра В. Р. Гардина, «Вера Фёдоровна была всё время в каком-то тревожном ожидании. Это сказывалось на работе нашего театра, на каждом из нас, актёров, находившихся под её духовным влиянием»[367].
Тревога за собственное будущее, за судьбу театра, в конце концов за судьбу страны — вполне естественные чувства, который переживал в то неспокойное время каждый мыслящий человек, связывающий с Россией не только свою профессиональную деятельность, но и жизнь. Утверждать, основываясь на этом, что Комиссаржевская была особым образом политически настроена, разделяла революционные идеалы или, наоборот, стояла на позициях охранительных и консервативных, совершенно невозможно. Её брат, Ф. Ф. Комиссаржевский, писал о ней: «Вера Фёдоровна никогда не была ни “красной”, ни “чёрной”. Она была вполне независимым в своих убеждениях человеком. Политики никогда не “делала”. Люди всяких убеждений, если они страдали, были для неё равно близкими. Она была в душе своей настоящей христианкой. И поэтому, не считаясь ни с какими убеждениями, шла к тем людям, которым, как ей казалось, её помощь была нужна»[368].
Деятельность Комиссаржевской, которую в советское время старались представить как революционную, скорее всего следует отнести в графу «благотворительность», как её понимала сама актриса. О её внимании к чужому страданию и христианском умении прийти на помощь свидетельствует её ближайшая подруга — М. И. Зилоти: «В. Ф. глубочайше и тончайше понимала страдание. Страдание и ценность жизни она чувствовала остро, не только в отношении людей, но и всех других живых существ. Помню, как я однажды испугалась ящерицы, В. Ф. хотела её от меня удалить и схватила ящерицу за хвост, который тут же оторвался. В. Ф. несколько дней не могла прийти в себя, и сокрушение доводило её до слёз. Это не было пустой сентиментальностью, а глубоким чувством страдания.
Помню, как мы с ней зимой в санях ездили навещать больных по деревням. Так было всё обыденно просто кругом, и она в санях подле меня, такая простая, тихая. Но и в эти моменты я чувствовала, что сознательно или бессознательно чувствовали все в её присутствии: ценность сокрытой в ней жизни и силу заключённых в ней даров»[369].
Вне зависимости от отношения самой Веры Фёдоровны к происходящему в стране, второй сезон собственного её театра был смят политическими событиями, без конца прерывался да и закончился чрезвычайно рано — эпоха властно вторгалась в её планы. Как писал Ф. Ф. Комиссаржевский, «сезон 1905—1906 г. окончился с убытком благодаря революционным дням, отсутствию репертуара и благодаря неуверенности в ведении дел»[370]. Откуда же было взяться уверенности? Убыток размером в 25 тысяч рублей и чрезвычайно высокая арендная плата — 48 тысяч в сезон были неподъёмным грузом, лежащим на плечах Комиссаржевской. Единственным способом хоть как-то поправить положение опять были гастроли, начавшиеся в этом сезоне чрезвычайно рано, уже в марте.
Пожалуй, главными событиями второго сезона стали разрыв с режиссёром Н. А. Поповым, с которым Комиссаржевская начинала свой театр, и приглашение в труппу на должности актёра и режиссёра В. Э. Мейерхольда, во многом предопределившего его будущее.
Глава 12 МЕЙЕРХОЛЬД
Лучшие в мире актёры на любой вкус, для исполнения трагедий, комедий, хроник, пасторалей, вещей пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагикомико- и историкопасторальных, для сцен вне разряда и непредвиденных сочинений.У. Шекспир
Всеволод Эмильевич Мейерхольд к этому времени в театральной среде был человеком известным. Ученик В. И. Немировича-Данченко, любимый актёр К. С. Станиславского, он начинал на сцене МХТ, где особенно удачно играл в пьесах Чехова, впрочем, не только в них. В его репертуаре были и Шекспир, и Гауптман, и А. К. Толстой. В 1902 году он покинул МХТ и возглавил Труппу русских драматических актёров под управлением А. С. Кошеверова и В. Э. Мейерхольда в Херсоне, куда вместе с ним ушли и некоторые актёры Станиславского. Впоследствии театр получил название Товарищества новой драмы. За три года Мейерхольд поставил около двухсот спектаклей. В 1905 году Станиславский предложил ему работу в студии, которую он намеревался открыть в Москве на Поварской улице. Среди пьес, предназначенных для студийной сцены, были произведения Метерлинка, Ибсена, Гауптмана. В это время Мейерхольд разрабатывает технику «условного театра»: создаёт новые пространственные решения, экспериментирует с декорациями и светом, работает с речевой манерой и пластикой актёров — и добивается совершенно неожиданных результатов, которые самому ему кажутся весьма значительными и захватывают многих работавших с ним актёров. Однако все постановки, подготовленные Мейерхольдом, Станиславского не удовлетворили. Впоследствии он вспоминал об этой истории так: «Талантливый режиссёр пытался закрыть собою артистов, которые в его руках являлись простой глиной для лепки красивых групп, мизансцен, с помощью которых он осуществлял свои интересные идеи»[371]. Отзыв очень симптоматичный. Как и выбор пьес для театра-студии. Как и сама неудача при попытке сотрудничества. После неудачи со Студией на Поварской Мейерхольд снова отправился в провинцию, а в конце 1905 года оказывается в Петербурге на знаменитой «Башне» Вяч. Иванова и вместе с Г. И. Чулковым вынашивает замысел нового театра «Факелы», который представлял собой неожиданный и перспективный союз символистов с Горьким, тоже заинтересованным в этом проекте. Идея театра «Факелы» не реализовалась, но у Мейерхольда возникло желание остаться в столице, в центре культурной жизни страны, где эксперимент был более востребован и легче осуществим, чем в провинции. И тут как раз, очень кстати, пришло письмо от Комиссаржевской. В феврале 1905 года Мейерхольд послал ей (в ответ на приглашение и деловое сопроводительное письмо К. В. Бравича) следующую телеграмму: «К услугам Вашим с 1 августа по 4 марта. За всё это время 4500 рублей. При пополнении труппы прошу себе совещательного голоса. При разделе работы между режиссёрами прошу освобождать меня от режиссуры бытовых пьес старого театра»[372]. Все условия Мейерхольда были приняты. Окончательно договор был подписан в Москве 25 мая 1906 года. Однако, соглашаясь на предложение Комиссаржевской и подписывая договор, Мейерхольд принимал паллиативное решение, не отвечающее его собственным надеждам и намерениям. В то самое время, когда велись переговоры с театром о поступлении на службу, он писал жене: «В прошлом письме мне хотелось сказать несколько соображений по поводу театра Комиссаржевской. Я с тобой согласен совершенно, что театр этот не то, не то, и что мне придётся тратить много сил, волноваться, и результатов всё-таки достичь нельзя. Всё это так, но повторяю: поступаю туда только ради того, чтобы докончить начатое в Питере, чтобы то, что сделано уже, не пропало даром. <...> Вижу, что пробуду у Комиссаржевской до поста и только. Не могу же я отказаться от возможности жить в Петербурге и закончить начатое и предпочесть провинцию, которая неподвижна?»[373] Любопытно, что бы сделала Комиссаржевская, доведись ей прочитать это письмо. Но она, конечно, о тайных соображениях Мейерхольда ничего не знала и была убеждена, что он горит её театром не меньше, чем она сама. Почти сразу Комиссаржевской довелось испытать на себе необычайную энергию и настойчивость приглашённого ею режиссёра, который буквально засыпал её рекомендациями относительно новых сотрудников для театра. Вероятно, она сама просила его совета. Обратим внимание на эпистолярную интонацию Мейерхольда — ясную, чёткую, категоричную, интонацию абсолютно уверенного в себе человека: «Волохова может оказаться лишней при Шиловской. Если согласится играть молодых грандам, можно взять, хотя, в общем, провинциальная. Харламов истеричен, не советую. Очень рекомендую молодую яркую артистку нового тона Веригину. Ученица Художественного [театра], была в Студии, теперь здесь блестяще сыграла Регину в “Привидениях”, Стешу в “Фимке”. Прошу взять для меня помощником режиссёра Пронина. Был в Студии, в Художественном, в режиссёрском классе, там сценировал. Образован, энергичен, с инициативой»[374]. Надо ли говорить, что все рекомендации Мейерхольда были приняты, названные им актёры приглашены, а Борис Пронин стал одним из режиссёров Драматического театра? Стоит отметить, что в труппе появление Мейерхольда было встречено неоднозначно. Несомненно, огромное воздействие на внутреннюю атмосферу оказывали сама Комиссаржевская и её страстная надежда, что именно теперь, с приходом единомышленника, осуществится то, ради чего, собственно, и создавался театр. В этот период у неё не было никаких сомнений, что они с Мейерхольдом сходно смотрят на творческий процесс, начиная с выбора репертуара и заканчивая способами его воплощения на сцене. Поддерживал сестру и Ф. Ф. Комиссаржевский, который всё более активно участвовал в постановочном процессе и перед Мейерхольдом в это время благоговел. В своих воспоминаниях он писал о первой встрече Комиссаржевской и Мейерхольда, которая состоялась в Екатеринославе в апреле 1906 года: «Вот почему она была такой радостной после разговора с В. Э. Мейерхольдом, как будто в его проектах нашла себя. А он, по словам Веры Фёдоровны, говорил тогда о главенстве актёрской души на сцене и о подчинении ей всего остального...»[375] Удивительно, как противоречат эти слова характеристике, данной Станиславским! Комиссаржевской предстояло на собственном опыте понять, что из этого было мечтой, а что — реальностью. Мейерхольд либо чего-то недоговаривал, либо Комиссаржевская слышала только то, что ей хотелось услышать. Исследователь творчества Мейерхольда очень точно писал об этой ситуации: «Идеи символистского театра, которые выдвигал Мейерхольд, были соблазнительны для Комиссаржевской, ибо тут-то как раз и мерещился ей давно желанный “театр души”, театр философских обобщений, в формы которого, казалось, легко и естественно должна вписаться её собственная артистическая индивидуальность, её лирическая тема. Она не убоялась “режиссёрского деспотизма”. Между тем Мейерхольд уже тогда не скрывал своего твёрдого убеждения, что постановщик должен быть единственным и всевластным хозяином спектакля. Надо сказать, что, хотя природа таланта Комиссаржевской и условия, в которых талант её сформировался, всегда до сих пор выводили её в положение “солирующей” актрисы, она, тем не менее, вопреки велениям собственной творческой натуры, искренне и горячо стремилась подчиниться требованиям ансамбля. Теперь же, когда к ней явился режиссёр, в котором она почувствовала единомышленника, режиссёр, способный реализовать её мечту о “театре свободного актёра, театре духа”, она искренне готова была (хотя и не могла!) отдать ему своё искусство — как глину в руки скульптора. Многие предостерегали Комиссаржевскую от альянса с Мейерхольдом. Всё в этом союзе было заранее чревато конфликтом. Актриса, в принципе вообще неспособная полностью подчинить себя воле режиссёра, поступала в распоряжение режиссёра, меньше всего склонного в этот момент давать актёрам хотя бы относительную свободу. Актриса, по преимуществу лирическая, соединяла свою творческую судьбу с режиссёром, которому лиризм — как показало будущее — был в принципе противопоказан. Актриса нервная, трепетная, порывистая выражала готовность работать с режиссёром, который требовал тогда жесточайшей рассчитанное™, точнейшей выверенное™ всего мизансценического рисунка»[376]. Несмотря на все восторги дирекции, были в труппе силы, планомерно сопротивлявшиеся новому влиянию, да, собственно, и тому выбору, который делала Комиссаржевская в пользу условной эстетики, отрекаясь от театра реалистического. Эти силы представлял режиссёр Н. Н. Арбатов. Николай Николаевич Арбатов был приглашён в театр В. Ф. Комиссаржевской к началу второго сезона (1905/06 года). Он был известен в театральных кругах как режиссёр, близкий к МХТ. И хотя Арбатов никогда в МХТ не работал, но с самого его возникновения был тесно связан с ним. Известно, что репетиции первых спектаклей театра проходили на даче Арбатова, в Пушкине под Москвой. В течение многих лет Арбатов состоял членом Московского общества искусства и литературы, где его товарищами по работе и учителями были А. Ф. Федотов и Ф. П. Комиссаржевский. Начинал он вместе со Станиславским. Собственно, и знакомство Арбатова с Верой Фёдоровной тоже состоялось именно тогда. С 1903 года Арбатов самостоятельно работал в профессиональном театре. Он сотрудничал в Московской частной опере, затем в Одессе. А летом 1905 года готовил свои первые спектакли в Драматическом театре в Пассаже. В сезоне 1905/06 года большинство новых спектаклей в театре Комиссаржевской было поставлено им. Арбатов ставил Чехова, Горького, Островского, Шолома Аша, Чирикова, Ибсена, Шиллера. За год работы Арбатова в театре обнаружились его противоречия с Комиссаржевской. Это происходило потому, что Арбатов настаивал на реалистической приземлённое™ спектакля, в то время как Комиссаржевская двигалась всё дальше в противоположном направлении, стремилась оторвать от земли своих героев и свою сценографию. Естественно, что эти противоречия не могли не обостриться с приходом в театр Мейерхольда. За весну и лето 1906 года труппу Драматического театра пополнили такие легендарные актёры, как Н. Н. Волохова, В. П. Веригина, А. Я. Таиров, Е. М. Мунт, В. В. Максимов. Но труппа была неоднородной. Актёры, уже работавшие в театре, резко отличались от вновь приглашённых, «старые» режиссёры — от бурлившего энергией новатора. 17 августа состоялось первое собрание труппы в помещении Латышского клуба. Драматический театр переезжал. И пока в новом здании шёл ремонт, труппа собиралась в другом месте. Эту встречу описывает В. П. Веригина, вернее, описывает не происходившее в клубе, а саму Комиссаржевскую, которая приехала знакомиться с актёрами. Многих из них она видела впервые. «Вошла Вера Фёдоровна. На ней была шляпа с небольшими полями, светлое платье. Сразу чувствовалось, что у неё приподнятое настроение. Я назвала её мысленно — звенящей. Несмотря на претенциозность, это выражение, пожалуй, удачно определяло её в тот момент. Мне понравилось, что, здороваясь, Комиссаржевская смотрела прямо в глаза. Она стояла с слегка опущенной головой и бросала взгляд из-под ресниц. При пожатии руки как бы ставила точку. Глаза её, излучавшие тёплый свет, притягивали не только на сцене, но и в жизни»[377]. Второе собрание труппы было более длительным и бурным. Все противоречия, которые намечались с приходом в театр Мейерхольда, резко обозначились. Веригина вспоминает: «Молодой режиссёр объявлял войну быту, театральной рутине и почему-то очень рассердил некоторых представителей тогдашнего театра, хотя они ещё не видели его режиссёрских работ. Между прочим, Мейерхольд сказал, что, может быть, нам не суждено осуществить новый театр и мы все падём, лишь послужив мостом для других, которые пройдут по нашим телам к театру будущего. Нас, молодых артистов, это не испугало, а даже вдохновило. “Ну что же, и падём, в конце концов, но и это чудесно ради обновления театра”. Всего удивительнее, однако, показалось мне тогда, что глаза Комиссаржевской тоже сияли при этом. Ведь она-то уже стояла на вершине славы! Всё же она увлеклась новым течением в искусстве и бесстрашно вступила на путь исканий. Красов выступил с защитой бытового театра. Он заглядывал в лежащие перед ним книги. Арбатов изо всех сил старался уговорить Веру Фёдоровну не пускаться в опасный путь к неведомому, новому искусству, причём сказал фразу, вызвавшую невольную улыбку у присутствующих: “Вера Фёдоровна, держитесь за старую верёвочку, она надёжнее”. Во время речей Арбатова ц Красова Комиссаржевская сидела опустив глаза»[378]. Внутреннее решение было Комиссаржевской, конечно, уже принято, она сейчас делилась им со своей труппой. Вероятнее всего, противодействие, которое она встретила со стороны своих режиссёров, было ей неприятно. Каждое слово, произнесённое Мейерхольдом, находило отклик в её душе. Как впоследствии язвительно сформулировал К. В. Бравич, «она должна кого-нибудь слушаться». Н. Н. Арбатов завершил свою речь следующим психологическим ходом: «Зная отношение Веры Фёдоровны к театру вообще, в частности к своему, а к своим служащим и сослуживцам в особенности, я уверен, что Вера Фёдоровна не захочет сказать: я так хочу...»[379] «Вдруг, — вспоминает Веригина, — Комиссаржевская встала, прямая, как струна, и своим чудесным глубоким голосом сказала негромко, но твёрдо: “Я так хочу”»[380]. В этой фразе Комиссаржевской выразилось не только упрямое своеволие, она, конечно, искренне надеялась на успех, а задача обновления театра казалась ей (и была в действительности) более чем насущной. Наступила эпоха, которой было суждено изменить всю театральную парадигму. Возникали новые драматургические ходы, новый стиль сценографии, изменялось соотношение между работой режиссёра, художника и актёра, сама актёрская техника реформировалась. Тенденции модерна и символизма выступали на первый план и требовали новаторских решений. Но главным и определяющим для всего остального было изменение роли режиссёра, который из организатора и координатора спектакля стал его единоличным автором. Комиссаржевская была искренне убеждена, что в лице Мейерхольда нашла надёжного союзника, который не только чувствует необходимость перемен, но и знает чудодейственный рецепт их реализации. До этого момента она не задумывалась всерьёз о тех формальных вопросах искусства, которые на самом деле напрямую связаны с его содержанием, с его духовным наполнением, потому что без эстетики в искусстве этика немыслима. Вернее, в период сближения с А. Л. Волынским Комиссаржевская уже повернулась в эту сторону, она стала интересоваться живописью — не как пассивный наблюдатель, а как человек театра, пытаясь соотнести происходящее в изобразительном искусстве со сценическими потребностями. Теперь, через Мейерхольда или благодаря ему, она явственно ощутила, что одно без другого не существует, что рядом с ней, одновременно с её собственными поисками в том же направлении развиваются и живопись, и поэзия, и музыка — и всё это не просто параллельно театру, но теснейшим образом может и должно быть с ним связано. Теперь перед Комиссаржевской открылась возможность достижения нового художественного единства, синкретически нераздельного целого. Сама она не знала, как это сделать. Мейерхольд знал. «“Плоская”, т. е. неглубокая сцена, упрощение бутафории, скульптурная выразительность актёрских поз и жестов, доведённая до полного разрыва с реализмом, до условности, плавная, единообразная ритмичность движений, по указаниям режиссёра, “напевность” речи — всё это было в её глазах ново, оригинально, увлекательно своей смелостью. И она отдалась этому плану со всей своей пылкостью, с готовностью на всякие жертвы»[381]. Добавим к этому только, что судьба столкнула Комиссаржевскую лицом к лицу с гением театра, он шёл непроторёнными путями к той цели, которую смутно сознавал, но не видел пока ясно. Мейерхольд в это время уже точно знал, в каком направлении нужно двигаться, но готовых рецептов у него ещё не было. Ощущение, что с приходом в театр Мейерхольда открывается возможность совершенно новой деятельности, толкнуло Комиссаржевскую и к поиску нового помещения, тем более что театр в Пассаже связывался в её сознании с неудачей — полтора сезона, проведённые там, не принесли ни творческого удовлетворения, ни дохода. Теперь она арендовала на пять лет театр В. А. Неметти на Офицерской улице, рассчитанный на 700 мест. И намеревалась придать ему современный облик. В конце января 1906 года Комиссаржевская должна была дать ответ владельцам театра «Пассаж», будет ли она продлевать договор с ними на тех же невыносимых условиях. И она решается на смелый шаг — отказывается от продления контракта. Здание театра Неметти было в самом удручающем состоянии, его предстояло не просто отремонтировать, но фактически перестроить, возродить. В феврале 1906 года театр Неметти был арендован за 38 тысяч в сезон с включением платы за реконструкцию. Тогда же «администрация “Драматического театра” утвердила смету архитектора (А. О. Бернардацци. — А. С.-К.), согласно которой ремонт должен был стоить пятьдесят тысяч; платёж этих денег, по условию с подрядчиками, раскладывался на пять лет, т. е. на срок аренды театра...»[382]. Работы должны были завершиться в августе 1906 года, однако к назначенному сроку зрительный зал и актёрские гримёрные лежали в руинах. Реконструкцию здания приостановили из-за отсутствия средств. В результате, когда театр всё-таки открылся, первоначальная смета была многократно превышена подрядчиками, перестройка помещения и его ремонт стоили уже 70 тысяч рублей. Несмотря на полное отсутствие средств, Комиссаржевская старается оформить театр в соответствии со своим вкусом и тем направлением, которое она избирает. Для этого она приглашает крупнейших художников того времени — Л. С. Бакста и К. А. Сомова. Собственно, они и определили облик театра. Зрительный зал был перестроен в строгом неоклассическом стиле. Его украсил портальный занавес «Элизиум» работы Бакста: в его центре была расположена обрамленная геометрическим орнаментом, отдалённо напоминавшим ионические колонны, живописная композиция, изображающая райские кущи, среди которых бродят блаженные души в светлых одеждах. Занавес был холщовый, расписанный в серебристо-зеленоватых тонах. Когда поднимали первый, портальный, занавес, за ним оказывался второй, раздвижной, который был выполнен из однотонного плюша пастельного оттенка — ткани, хорошо поглощающей свет. Всё было сделано для того, чтобы свести к минимуму цветовое воздействие на зрителя. Видимо, Бакст подобрал и ткань для обивки кресел в зрительном зале. О работе Бакста над занавесом вспоминает театральный плотник: «Он писал его с лесов, как картину. Помню, какое впечатление страха и благоговения внушал мне Бакст. С виду он казался барином: блестящий цилиндр, пальто перекинуто на руку, в другой руке — палка с серебряной ручкой. Но он раздевался, лез на леса и, имея помощников, подолгу сам трудился над своим занавесом. Этот занавес стал настоящим художественным произведением»[383]. К. А. Сомов по заказу Комиссаржевской создаёт для театра графическую виньетку, которая отныне будет украшать его афиши и программы. О. Э. Мандельштам описал своё впечатление от театра на Офицерской, метко используя слово «протестантизм» и объявляя Комиссаржевскую провозвестником реформации пышного театрального культа: «Для начала она выкинула всю театральную мишуру: и жар свечей, и красные грядки кресел, и атласные гнёзда лож. Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна — чисто, как на яхте, и голо, как в лютеранской кирке»[384]. Менее метафорично и более детально описывает интерьер вновь открытого театра «Петербургская газета»: «Зал театра представляет собой как бы античный храм, весь белый, с мраморными колоннами, совершенно круглый. Белые античные скамьи. <...> Куполообразный потолок обрамлен по кругу электрическими лампочками, потухающими во время действия, когда появляется из купола какой-то “ледяной” свет»[385]. 29 сентября Комиссаржевская с труппой возвращается с внеочередных гастролей, которые были предприняты вынужденно для того, чтобы не терять времени и денег, пока здание театра ещё не приняло надлежащего вида. В течение октября репетиции проходили в Латышском клубе на Английском бульваре; готовились одновременно две премьеры — «Гедда Габлер» Г. Ибсена и «Сестра Беатриса» М. Метерлинка. Оба спектакля репетировал и ставил Мейерхольд. К концу репетиционного цикла окончательно определяются приоритеты Комиссаржевской. 9 ноября она пишет Н. Н. Арбатову о разрыве их сотрудничества. Обратим внимание, как холодно непоколебим её стиль: «...При нашем последнем разговоре я Вам сказала о том затруднительном положении, в которое ставит меня и Вас то, что художественные взгляды наши оказались в конце концов диаметрально противоположными, и просила Вас отыскать вместе со мной выход из этого положения; на что Вы мне ответили, что любите моё дело и уходить из него не хотите, а будете следить за ним, посещать репетиции, беседы и посмотрите, не убедит ли Вас на практике то, что недостаточно убедительно для Вас в теории. После этого мне оставалось только сказать Вам спасибо и ждать результатов, что я и сделала... По приезде из поездки я узнала, что Вы не были ни на одной репетиции, ни на одной беседе, познакомилась с содержанием писем Ваших к брату и писем брата моего к Вам и увидела, что тот разговор, который я вела с Вами, был совершенно бесполезен, и считать Вас в числе сотрудников того дела, в которое я вложила свою душу, — я не могу»[386]. Через год, в марте 1907 года она разорвёт сотрудничество с Н. Д. Красовым — столь же бескомпромиссно и решительно. Комиссаржевская, верная своим устремлениям, идёт ва-банк. Она устраняет все преграды на пути Мейерхольда, совершенно развязывает ему руки. 10 ноября 1906 года состоялась премьера первого поставленного им спектакля. Это была пьеса Г. Ибсена «Гедда Габлер». Однако перед тем, как рассказывать об этой премьере, изменившей ход истории театра, вернёмся на месяц назад, когда труппа Комиссаржевской только приехала в Петербург и готовилась к новому в самых разнообразных смыслах сезону. Как пишет в своей книге о Блоке Аврил Пайман, «Комиссаржевская, со своей стороны, верила в актёрское освоение современной культуры по первоисточникам и взялась соответственно воспитывать восприимчивость своих артистов. С этой целью до открытия сезона Комиссаржевская устроила приёмы, на которых артисты имели возможность познакомиться с постановщиками сценической магии: композиторами, художниками, драматургами и поэтами»[387]. Встречи эти, устраиваемые всё в том же Латышском клубе, где пока шли репетиции, Комиссаржевская затеяла по многим причинам. Не последней была и чисто практическая — ей хотелось лично познакомиться и сблизиться с самыми значительными, самыми передовыми представителями русской культуры, чтобы так или иначе, прямо или косвенно привлечь их к своему делу, заставить их служить театру — даже тех, кто, казалось бы, в своих творческих исканиях был от него далёк. Собрания проходили по субботам. Гости приглашались на них особыми записками, которые рассылала лично Комиссаржевская. Среди приглашённых — А. А. Блок, Вяч. И. Иванов, С. М. Городецкий, Ф. К. Сологуб, В. Я. Брюсов, М. А. Кузмин, М. А. Волошин, С. А. Ауслендер, К. А. Сомов, Л. С. Бакст, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин и др. Вот пример пригласительной записки, посланной К. А. Сомову; из неё, как кажется, понятно, чего хотела устроительница вечеров и как думала поставить своё дело: «В. Ф. Комиссаржевская просит Вас почтить своим присутствием первую Субботу “Драматического театра”, имеющую быть 14 октября во временном помещении театра — Английский пр., 30, кв. 34. А. А. Блок прочтёт свою пьесу “Король на площади”»[388]. Авторское чтение было обязательным элементом программы. В программу входили также музыкальные номера, обсуждение услышанного, разговоры, угощение; завязывались знакомства, начинались романы. Все участники этих вечеров относились к ним более чем серьёзно, обсуждали впечатления, делились планами. Так, А. М. Ремизов писал А. П. Зонову: «Был прошлую субботу на вечере Комиссаржевской (на первый вечер не попал, не получил приглашения). Читал там несколько вещей из моей новой книги “Посолонь”, кот[орая] выйдет в издательстве] “Золотое Руно” к Рождеству и будет у Вас. <...> В эту субботу Сологуб читает свою драму. На следующей, кажется, будет Брюсов. Там жизнь закипает. <...> Поклонитесь В. Ф. от нас и моё благословение передайте...»[389] Об этих субботах сохранилось множество мемуаров — такое впечатление производили они на всех участников. Чтобы избежать описания театральных журфиксов своими словами, попытаемся передать живые воспоминания о них: «Мейерхольд и Пронин попросили художника Н. Н. Сапунова как-нибудь украсить нескладную комнату с узкой эстрадой. Все были удивлены его изобретательностью. Голубое ажурное полотно, напоминавшее причудливо сплетённую сеть, окутало стены. Это была часть декорации из “Гедды Габлер”. Убогая кушетка закрылась ковром. На покрытом тёмным сукном столе стояли две красные свечи, которые были зажжены, когда Ф. Сологуб начал читать свою пьесу “Дар мудрых пчёл”. Труппа собралась заранее. Настроение было праздничное, приподнятое. Я наблюдала за Верой Фёдоровной издали: торжественная и трепещущая, как перед первым представлением, ждала она гостей. Она была парадно одета: в белом вечернем платье с собольей пелериной на плечах. Я совершенно упустила из поля зрения Веру Фёдоровну и во время чтения и после. Было так много людей, а главное внимание привлёк Блок. Все мы были пленены его стихами, его внешностью. Только потом, когда другие поэты читали стихи, а Комиссаржевская декламировала и пела, я стала наблюдать за ней. Меня изумила застенчивость Веры Фёдоровны, как она была скромна! Ни малейшего стремления доминировать. С ней почтительно говорили, но было видно, что проявление особенного внимания и подчёркнутого интереса просто смущало артистку. Когда начался сезон, театральные субботы прекратились. Некогда было заниматься журфиксами, а поэты и художники стали посещать наши генеральные репетиции, и контакт с ними уже не прекращался»[390]. «По субботам, по окончании дневных репетиций, новые силы театра, объединившись в “кружок молодых”, приготовляли зал для гостей. Его украшали декоративными полотнами, написанными Н. Сапуновым и С. Судейкиным для “Гедды Габлер” и “Сёстры Беатрисы”, убирали сцену цветами, развешивали по залу разноцветные фонарики, увеличивали в зале свет. Вечером встречали гостей — поэтов, писателей, художников, драматургов, критиков, журналистов. Войдя в зал, эти почётные гости спешили на поклон к Вере Фёдоровне, хозяйке вечера. После взаимных приветствий гости занимали места в первых рядах перед сценой. Шла оживлённая беседа. Друзья театра, молодые поэты и художники М. Кузмин, С. Городецкий, Д. Цензор, С. Ауслендер, С. Судейкин, Н. Сапунов оказывали всяческое внимание молодым артисткам театра — Е. Мунт, Н. Волоховой, Э. Шиловской, В. Веригиной, В. Ивановой, О. Глебовой. Тем временем зал до отказа наполнялся любопытной, радостно-возбуждённой публикой, имевшей входные билеты (достать их было очень трудно). Когда все были в сборе, объявляли программу вечера. 14 октября А. Блок читал “Короля на площади”. 21 октября “кружок молодых” на маленькой импровизированной сцене при свете факелов читал “Дифирамб” Вячеслава Иванова. В третью “субботу”, 28 октября, Фёдор Сологуб читал “Дар мудрых пчёл”. После Сологуба читали свои новые стихи Вячеслав Иванов и приехавший из Москвы Валерий Брюсов. Литературные “субботы” проходили очень оживлённо. Непосредственное знакомство с писателями и их творчеством будило мысль у театральной молодёжи и эстетически её воспитывало. С открытием сезона “субботы” прекратились»[391]. «Помню: пальмы, цветы, эстрада, уютно и торжественно, в зале то настороженно-приподнятое настроение, в котором так хорошо звучат стихи. Молодой Мейерхольд суетится, встречая гостей. Каменно улыбающийся Блок, покачивающийся на носках и рассыпающий замысловатые комплименты и афоризмы Вяч. Иванов, дендирующий Кузмин, нахохлившийся Ремизов, неразлучная в том году пара — художники Сапунов и Судейкин, томный Сомов и остроумный Бакст, “маленькие актрисы” (сказанное позже слово Кузмина), т. е. Волохова, Мунт, Веригина, спокойными умными глазами наблюдающий всё Бравич и бледная, напряжённая, с летящими навстречу глазами Вера Фёдоровна. Она — вся слух и сочувствие, когда читает Блок, она испуганно недоумевает, когда нараспев скандирует Вяч. Иванов, она принуждённо улыбается “милым фривольностям”, которые поёт Кузмин. Она ждёт, ищет, спрашивает. Для неё решается что-то важное. Она позвала в свой театр поэтов и художников, тоже взволнованных идеей нового театра»[392]. Вера Фёдоровна деятельно участвовала не только в организации суббот, но и в программе: пела романсы или читала, как правило, завершая вечер. Так получилось, что 21 и 28 октября она приезжала на журфиксы в своём театре после выступлений — по приглашению А. И. Зилоти она давала концерты мелодекламации. Комиссаржевская уже не первый раз выступала в этом странном жанре, вдруг завоевавшем чрезвычайную популярность. В 1902 году в Московском филармоническом обществе она читала под музыку Шумана поэму Байрона «Манфред». Её партнёром был Ф. И. Шаляпин, тоже выступивший по этому случаю в роли чтеца. Успех превзошёл всякие ожидания. Как писали московские газеты, слушатели были очарованы мелодекламацией «двух великих талантов». Впоследствии Вера Фёдоровна часто читала под музыку те произведения, которые находили особенный отклик в её собственной душе: «Зелёный шум» Н. А. Некрасова, «Аннабель Ли» Эдгара По. К Пушкину относилась с трепетом («Пушкин для меня самое большое»[393]), и поэтому известно только о двух произведениях, прочитанных ею со сцены в 1899 и 1900 годах, — поэме «Бахчисарайский фонтан» и письме Татьяны Онегину. Своим чтением была недовольна («Никогда я не буду больше читать Пушкина»[394]). Охотнее и чаще всего читала А. Н. Апухтина «Ночь в Монплезире» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева, в их числе — «Как хороши, как свежи были розы» под музыку А. С. Аренского. Приведём воспоминания о мелодекламациях Комиссаржевской её восторженной почитательницы 3. А. Прибытковой, слышавшей её десятилетней девочкой и у себя дома, в квартире на Большой Конюшенной, где Вера Фёдоровна часто останавливалась у своих близких друзей и подолгу жила в Петербурге, и на концертах: «Однажды Владимир Николаевич Давыдов попросил Веру Фёдоровну прочесть мелодекламацию Аренского на слова Тургенева “Как хороши, как свежи были розы”. Она, конечно, согласилась. Аккомпанировал ей Александр Ильич Зилоти. Незадолго перед нашим вечером Комиссаржевская декламировала с оркестром в концерте Зилоти. Это очень трудно, особенно “Нимфы” и “Лазурное царство”[395], их она тоже читала в том концерте. Музыка в этих двух мелодекламациях местами очень сильная, поэтому покрыть оркестр женским голосом нелегко. Но голос Комиссаржевской был настолько “тембровым”, настолько певучим и звучным, что ей выступать с мелодекламацией не только не составляло никакого труда, но, больше того, голос её абсолютно сливался с оркестром, как будто был доминирующей нотой оркестрового звучания. Вера Фёдоровна замечательно читала, а ведь мелодекламация — искусство трудное. Авторы музыки не всегда умеют соблюдать логику слова, что приводит к ненужным паузам в неожиданных местах фразы и к слиянию слов, долженствующих быть разделёнными. И надо обладать большой музыкальностью, чтобы уметь обойти эти камни преткновения. Комиссаржевская была абсолютно музыкальна, как в музыке, так и в слове — само её слово было музыкой. Она умела всё, к чему бы ни прикасался её изумительный талант, — углублять, облагораживать, окрашивать богатой гаммой самых тонких ощущений. Мелодекламируя, она говорила, просто говорила замечательные слова Тургенева, но казалось, что её удивительный голос поёт проникновенную музыку Аренского. Как я помню этот концерт! Она была такая поэтичная на эстраде, такая светлая! В скромном белом платье, с высоким воротом, с длинными рукавами. Никаких драгоценностей. А в руках две ветки светло-лиловых орхидей, таких же хрупких, как она сама. После концерта, на настойчивые требования публики, Вера Фёдоровна прочла стихотворение Апухтина “Ночь в Монплезире”»[396]. Речь в этих воспоминаниях идёт о другом концерте, состоявшемся в зале Дворянского собрания 1 ноября 1903 года, но декламационный репертуар Комиссаржевской практически не менялся, и любимые произведения оставались теми же. Менялся аккомпанемент. Иногда она выступала с оркестром, иногда читала под сопровождение фортепиано или арфы. М. И. Гучкова писала: «Меня лично больше всего потрясала её декламация под арфу. Это было что-то непередаваемое словами. Порой голос её так сливался с арфой, что последние аккорды казались продолжением её голоса»[397]. Скорее всего, на субботах в своём театре Комиссаржевская тоже исполняла и романсы (о чём свидетельствует М. А. Кузмин), и мелодекламации. Вероятно, не только привлечённая громкими именами, но и ради того, чтобы услышать её необыкновенный голос, собиралась на журфиксы публика. Литературные субботы проходили в Латышском клубе всего четыре раза, однако оставили по себе память. Когда же здание театра было, в конце концов, отремонтировано и начались спектакли, то, как вспоминают многие мемуаристы, заниматься устройством журфиксов стало некогда. Это и понятно: в первый же месяц работы в новом здании было выпущено три премьеры: помимо названных («Гедда Габлер», 11 ноября, и «Сестра Беатриса», 22 ноября), «В городе» С. Юшкевича (13 ноября), чуть позже — четвёртая, «Вечная сказка» С. Пшибышевского (4 декабря). Кроме этого, постоянно репетируется «Кукольный дом» — Мейерхольд возобновляет постановку в новом ключе; пьеса «Трагедия любви» норвежского драматурга Г. Гейберга; параллельно ставятся «Балаганчик» Блока и «Чудо святого Антония» Метерлинка. Комиссаржевская не была задействована во всех спектаклях, но активно участвовала в процессе, присутствовала на репетициях, давала советы актёрам. Поскольку Блок был приглашён присутствовать на репетициях «Балаганчика», а вместе с ним приходили и другие — Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, М. Волошин, — то Комиссаржевская, конечно, не могла отойти в сторону от подготовки спектакля, в котором сама не участвовала, но которому суждено было стать важнейшим событием, фактически декларацией её нового театра. 10 ноября 1906 года Драматический театр на Офицерской открыл свой новый (фактически первый) сезон. Самой Комиссаржевской и её труппой он не воспринимался как продолжение театра в Пассаже, это было второе рождение, или перерождение театра, позволявшее всё начать сначала, с чистого листа. На чистом листе стояло: «Гедда Габлер», драма в 4-х действиях Г. Ибсена, перевод А. и П. Ганзен. Режиссёр В. Э. Мейерхольд, художник Н. Н. Сапунов. «Я не узнал её, — писал Юрий Беляев. — Я знал, что ради искусства она способна на большие жертвы, но передо мной было истинное самопожертвование. Эта Гедда Габлер, увидав которую рецензенты закричали: “зелёная! зелёная!” — была загадочна, как глубина оникса. <...> В рыжих волосах её, в путаннотяжелом великолепии зелёного платья, в узких удлинённых носках туфель и в подкрашенных пальцах угадывалась волшебница, которая сейчас может обернуться в ящерицу, в змею, в русалку. Это не была Гедда Габлер, но как бы дух её, символ её. И всё вокруг было также символично. Сцена куталась в кружева, которые лились широкими потоками по обе стороны; ползучие растения украшали веранду; сказочный гобелен, странные столы и стулья, край белого рояля, диван, покрытый целым сугробом белого меха, в который Гедда погружала свои розовые пальчики, как в снег, — всё это было обстановкой не самой ибсеновской героини пьесы, но жилищем её духа, реализацией её привычек, вкусов, настроений. “Стилизация” касалась не только внешности артистки, но распространялась и на самый талант её. В партере не узнавали больше “прежней” Комиссаржевской, и потому иные ушли из театра неудовлетворёнными. Помилуйте, ни одной умилительно-наивной сценки, ни одного романса с “надрывом”, ни однойщемящей нотки или испуганно-кроткого взгляда, словом — ничего, чему обыкновенно аплодировала публика, не было в этой холодной и зелёной женщине. Она леденила своими строгими и недобрыми глазами, своим до крайности натянутым и ровным голосом. Хотя бы одна улыбка или одна оборвавшаяся интонация — и я уверен, что публика превознесла бы свою прежнюю любимицу. Но именно этого и не случилось. Комиссаржевская принесла себя всю и пожертвовала успехом. И то, что представила она, было, на мой взгляд, глубоко интересно»[398]. В этом отзыве на спектакль содержится практически всё, что необходимо сказать о нём. Спектакль был оформлен Н. Сапуновым. Мейерхольд подсказал ему общий принцип: узкая, неглубокая сцена с большим декоративным панно, выступающим как фон для игры актёров. Услышав общую концепцию из уст режиссёра, Сапунов понял, что возможности перед ним открываются небывалые, и решил спектакль преимущественно в белых и изумрудно-зелёных цветах. Гедда становилась в прочтении Мейерхольда — Сапунова не просто положительной, но высокой романтической героиней. Она всем своим существом стремилась к красоте. И пьеса становилась трагедией сильной и незаурядной личности, окружённой обыденным буржуазным миром, с истинной красотой несовместимым. Такую высокую натуру и играла Комиссаржевская. Мир, показанный на сцене, представлял собой не то, что окружало Гедду в действительности, но то, что рождало её воображение; он был чрезвычайно далёк от реальности быта. «Красота, о которой она мечтала и за которую погибала, буквально затопила сцену»[399]. Богатство красок, живописность постановки, яркость представленных на сцене образов сами собой заставили померкнуть то, что раньше сияло ровным светом на подмостках Драматического театра, — игра актёров потерялась. В особенности потерялось обаяние Комиссаржевской, сила которой была в психологизме, в передаче мелких деталей человеческого характера, изменений сознания и ощущений. Ничего этого образ Гедды, как его задумывал Мейерхольд, не требовал. Комиссаржевская была теперь снежной королевой, она и двигалась, и говорила иначе. С. Городецкий писал об этом: «Мейерхольд первый понял, что между трёхмерным человеческим телом актёра и двухмерной живописной декорацией существует непримиримое противоречие. Теоретически могло быть только два выхода из этого противоречия: или сделать декорацию трёхмерной или сделать актёра двухмерным. Если б Мейерхольд тогда додумался до первого, он был бы гениален. Конструктивизм был бы рождён тогда же. Но он с исступлённостью вивисектора пошёл по второму пути и в “Гедде Габлер” распластал актёров и декорацию в двух планах. Большое окно, ветка пальмы сбоку — не театр, а картина в раме. Живые актёры распяты в двух измерениях». И далее — очень точно о Комиссаржевской: «Ведь она переламывала себя всю, подчиняясь опыту Мейерхольда, она шла против своего опыта, против своих навыков»[400]. Комиссаржевская шла против всего того, что она умела и чувствовала на сцене, что дали ей опыт и индивидуальность, что казалось раньше важным и незыблемым. Причиной такого крестового похода была слепая вера в то, что Мейерхольд знает, как надо, что он ведёт правильным путём и её саму, и весь театр. Но трагедия заключалась в том, что Мейерхольд, хоть и уверенный в своём даре, всё же был ещё очень молодым режиссёром и не знал точно, куда приведёт его этот эксперимент. Он совершал ошибки. Одной из ошибок критики сразу назвали прочтение и осмысление образа ибсеновской Гедды Габлер. Это отметил А. Кугель. Если трагедия Гедды воспринимается как трагедия недостижимой красоты, то, писал он, «фон, на котором происходит драма, должен быть мещански-душный. Мейерхольд же... стилизовал не ту обстановку, в которой Габлер живёт, а ту, которой она в мечтах своих уже якобы достигла. Пьеса стала поэтому совершенно непонятной, перевёрнутой; идеал стал действительностью. Вышло броско и крикливо, а смысл-то улетучился»[401]. Надо сказать, что и красота оформления, и манера, в которой режиссёр вынудил двигаться по сцене и говорить своих актёров, вызывали у публики скорее неприятное впечатление. Пожалуй, самыми распространёнными словами, которыми характеризовались спектакль и весь метод Мейерхольда, были — манерность и претенциозность. Даже Блок, безусловно, сочувствовавший Драматическому театру и искренне желавший Комиссаржевской успеха, с грустью писал: «“Гедда Габлер”, поставленная для открытия, заставила пережить только печальные волнения: Ибсен не был понят или по крайней мере не был воплощён — ни художником, написавшим декорацию удивительно красивую, но не имеющую ничего общего с Ибсеном, ни режиссёром, затруднившим движения актёров деревянной пластикой и узкой сценой, ни самими актёрами, которые не поняли, что единственная трагедия Гедды — отсутствие трагедии и пустота мучительно прекрасной души, что гибель её законна»[402]. Спектакль, который долго готовили, на который возлагали особые надежды как на первое слово условного театра, который должен был стать декларацией нового стиля, фактически провалился. Неудачу вынужден был признать и сам режиссёр. Видела это, конечно, и Комиссаржевская. Что она чувствовала? Вероятнее всего, оправдывала сложностью и новизной того дела, которому теперь служила. Надеялась на будущее. В запасе у неё была козырная карта, которая должна была отыграть весь банк. Так, собственно, и произошло.
 22 ноября в Драматическом театре была представлена пьеса Метерлинка «Сестра Беатриса». После фактического провала «Гедды Габлер» можно было ждать чего угодно. Однако, как и в сюжете пьесы, произошло чудо, впрочем, вполне объяснимое. В той же статье Блок писал: «С готовым уже предубеждением мы пошли на “Беатрису” Метерлинка, наперёд зная, что цензура исковеркала нежнейшую пьесу, запретив её название “чудо” на афише, вычеркнув много важных ремарок и самое имя Мадонны, а главное, запретив Мадонне петь и оживать на сцене. Мы знали, что перевод М. Сомова неудовлетворителен, что музыка Лядова не идёт к Метерлинку. И, при всём этом, при вопиющих несовершенствах в частностях (из рук вон плохой Беллидор, отсутствие отчётливости в хорах, бедность костюмов и обстановки), — мы пережили на этом спектакле то волнение, которое пробуждает ветер искусства, веющий со сцены. Это было так несомненно, просто, так естественно»[403].
Спектакль и исполнение главной роли Комиссаржевской подробно описывает в своих воспоминаниях В. П. Веригина. Приведём это описание полностью:
«Я, как сейчас, вижу этот спектакль. Навсегда запомнилась сцена обращения Беатрисы к статуе Мадонны и затем сцена с принцем Белидором. Беспокойство, страх, мольба о помощи, о спасении, счастье любви и затаённое желание бежать из монастыря с Белидором — всё это передавалось ритмичным сочетанием слов, едва уловимыми оттенками звука гибкого голоса Комиссаржевской — голоса, насыщенного эмоцией. Сжимая ладони, порой протягивая руки к Мадонне, она вся трепетала внутренне, нисколько не нарушая внешне строгого рисунка движений. Самым удивительным в исполнении Комиссаржевской был второй акт, когда Мадонна заменяет бежавшую из монастыря Беатрису. Статую Мадонны по цензурным соображениям не позволили показывать. Беатриса обращалась к ней в первом акте, стоя на коленях перед задрапированной нишей. Самой статуи не было видно. Комиссаржевская выходила во втором акте из-за драпировки в ослепительном серебряном облачении, с золотыми локонами. Она надевала оставленные Беатрисой синюю мантию и головной убор, закрыв таким образом струящиеся по плечам и спине волосы. Выходила игуменья в сопровождении монахинь, и они обнаруживали исчезновение статуи, а затем игуменья замечала мерцание серебряного облачения из-под плаща.
Сёстры ритмично все вместе произносили слова, порождённые ужасом: “Она... сняла!., одежду... со статуи?” Следовало бормотание молитв, сопровождавшееся перебиранием чёток, затем грозное обращение к мнимой Беатрисе: “Сестра Беатриса!” Друг другу: “Не-отве-чает”, и опять бормотание молитв. По приказанию священника мнимую Беатрису уводят в храм, чтобы предать бичеванию. Слышались звуки органа (музыка была написана А. К. Лядовым), и сёстры появлялись одна за другой с возгласами: “Чудо! чудо! чудо!.. Сестра Беатриса святая! Святая!” Каждая рассказывала в коротких словах о происходившем, рассказывала, охваченная восторгом перед чудом. Сестра Беатриса больше не возбуждала негодования. Бичевание не могло причинить ей страданий — ангелы защитили её. Вслед за монахинями выходила Мадонна — Комиссаржевская в мантии и уборе Беатрисы. Следовал выход с золотым кувшином, когда она, опустив глаза, проходила мимо нас, “монахинь”, склонившихся с чувством благоговения перед чудесным преображением изумительной актрисы. Мадонна — Комиссаржевская приближалась к прорези открытого окна — низкого, на уровне пола. В этом окне появлялись головы и протянутые руки нищих. “Сестра-а-а, сестра-а-а!” — тянули они нараспев, а Комиссаржевская раздавала им милостыню — пелёнки и другие принадлежности детской одежды. Теперь голос её звучал по-иному. “Придите все... берите всё”, — говорила она на каком-то светлом, прозрачном звуке.
До постановки, прочитав пьесу, я подумала, что необходимо было бы вычеркнуть слова Алетты, обращённые к мнимой Беатрисе: “Отчего у Вас в руках лучи света?” и т. п. Кто в это поверит? Не вызовут ли подобные фразы смех? Но когда Алетта — Мунт говорила эти слова Мадонне — Комиссаржевской, у меня самой появлялась уверенность, что так оно и есть. Внушала нам всё это сама же Комиссаржевская, исполненная великой артистической веры в своё изменение.
Большое впечатление производила сцена нищих, детально разработанная Мейерхольдом.
В последней картине Беатриса возвращается в монастырь, измученная грехами и страданиями. Комиссаржевская едва держалась на ногах. Она бросалась на ступеньки, простирая руки к Мадонне, как в первом действии, но как постарели эти исхудалые руки! Мирские грехи и муки изменили их. Трепет этих измученных пальцев мы сразу заметили и ощутили. Одежда Беатрисы — её мантия лежала на том же месте, где была оставлена, и Беатриса, накинув её на плечи, закрывала таким образом поседевшие растрёпанные волосы, как закрывала Мадонна свои золотые локоны во втором акте.
Игуменья и сёстры вошли, увидев растрёпанную Беатрису, поспешили к ней и тотчас же заметили, что Мадонна опять стоит на своём месте. “Мадонна вернулась! Мадонна вернулась!” — радовались они, повторяя эти слова. Сёстры переносили на белых пеленах измученную Беатрису и, опустив её на пол, вставали на колени, склоняясь над ней. Теперь мы ощущали на близком расстоянии творческий трепет артистки. Мелодика речи в основном была та же, но внутренний огонь вырывался порой с неимоверной силой из слабой груди. По лицу струились слёзы, когда Беатриса рассказывала о своих страданиях и грехах сёстрам, которые не понимали её, считая это бредом, предсмертным искушением злого духа. Они напоминали ей об ангелах небесных. При этом у Комиссаржевской вдруг вырывался музыкальный вопль: “Ах! Ангелы небесные!” Выше по звуку: “Где они?” Ещё выше: “Что они делают?!” Её голос то замирал, то усиливался. Перед концом она говорила всё тише и тише — с короткими остановками. “Я жила в мире... где мне нельзя было понять... зачем существуют... ненависть и злоба... теперь я умираю в другом мире... и не понимаю... куда ведут доброта... и любовь”.
Затем Комиссаржевская вдруг приподнималась с протянутыми вперёд руками, с широко открытыми глазами и со вздохом, в котором выражалось удивление, падала на руки сестёр»[404].
Из этого восторженного рассказа не просто зрительницы, но участницы сценического действа, то есть человека, посвящённого в тайные механизмы актёрской профессии, очевидно, что Комиссаржевская достигла в этой роли вершины своего дарования. Этим легко объясняется общее, практически единодушное восхищение спектаклем. Мейерхольд дал Комиссаржевской главную роль, вокруг которой было сосредоточено всё действие, эстетически подчинил ей спектакль. Она играла не просто главную роль, но главную роль в кубе — юную чистую Беатрису, покидающую монастырь со своим возлюбленным, Мадонну, добровольно заменяющую её в монастыре, старую грешную Беатрису, вернувшуюся в монастырь умирать. Всё остальное действие выстраивалось только как фон, выгодно оттеняющий героиню, ту же функцию исполнял и ансамбль артистов. Пожалуй, этот спектакль был единственным случаем, когда Комиссаржевской удалось органично вписаться в сложный режиссёрский замысел, ничего не потеряв, а, наоборот, обретя новые возможности для проявления своего таланта.
Спектакль был изумительно оформлен. Бледное серебро и золото гобеленов, стилизованных С. Ю. Судейкиным под Джотто и Боттичелли, фигуры монахинь в серо-голубых платьях — всё это как нельзя лучше оттеняло фигуру главной героини с золотыми волосами, рассыпанными по плечам, создавало вокруг неё тот фантастический ореол, который мощно воздействовал на зрителей, заставлял их горячо верить происходящему. Холодной грусти художественного оформления спектакля противостояло психологическое напряжение игры Комиссаржевской.
Зададимся вопросом: почему роль Беатрисы была проведена Комиссаржевской настолько убедительно, что, по свидетельству многих современников, вызывала у зрителей слёзы? Ответ кажется вполне предсказуемым. Она снова играла себя. Об этом точно и аргументированно пишет в своей книге о Мейерхольде К. Л. Рудницкий: «Для Комиссаржевской, актрисы лирической, всегда и во всех ролях открывавшей миру себя, роль Беатрисы, одновременно и грешной, и святой, и мученицы, и победительницы, была в какой-то мере ролью-исповедью. Раздвоение Беатрисы совпадало с мучительной раздвоенностью её собственной жизни. Роль открывалась как её собственная судьба. Свои письма Брюсову в те годы Комиссаржевская подписывала “Беатриса”»[405]. Об этом, конечно, не мог знать Блок, который в своей поминальной речи употребил образ, генетически связанный с Беатрисой: «Её могли хоронить не люди, не мы, а небесное воинство. Её могли хоронить высокие и бледные монахини на крутом речном обрыве у подножия монастыря, в благоухании полевых цветов и в озарении длинных восковых свеч»[406].
Это не было случайностью — с Беатрисой, и именно с ней, метафорически связывали Комиссаржевскую после её смерти многие, писавшие о ней. Этот образ слился с ней до неразличимости и стал основанием той высокой легенды, о которой нам ещё предстоит говорить. Беатриса, грешная, но много страдающая и своим страданием искупающая свои грехи, много любившая и за это заслужившая прощение, смиренная сердцем и потому услышанная Богоматерью и удостоившаяся небесной славы, искажённо понятой окружающими её людьми, стала мифологическим двойником Комиссаржевской. Как Мадонна в пьесе Метерлинка фактически стала Беатрисой, так в жизни Беатриса подменила собой реальную Комиссаржевскую. В этой подмене не был виноват никто, кроме уникального таланта перевоплощения, которым в совершенстве владела актриса.
Подруга Комиссаржевской М. И. Гучкова, конечно, присутствовавшая на премьере, вспоминала: «Когда, уже в разгаре её славы, я шла в театр смотреть В. Ф. в “Сестре Беатрисе” Метерлинка, я была охвачена сомнением — может ли она осуществить образ Божией Матери; мне казалось [это] недостижимым. Но когда В. Ф. появилась, вся просветлённая, и раздался удивительный её голос, словно преображённый в этой роли, мне показалось, что голос Богородицы и весь её облик не могли быть иными»[407]. Очевидно, что в самой игре Комиссаржевской уже заключался ключ к успеху этого удивительного спектакля.
Другой причиной было полное соответствие режиссёрского решения Мейерхольда замыслу Метерлинка. На этот раз он не только не переосмысливал содержание пьесы, но чрезвычайно бережно подошёл к каждому эпизоду и сделал всё возможное, чтобы сценически наиболее полно реализовать авторскую мысль. Мейерхольд шёл как будто против себя самого. Только что в «Гедде Габлер» он титанически и тщетно работал над деконструкцией пьесы, решительно изменяя замысел автора; только что он специально рассредоточивал действие, вписывая его в плоскость, подобно картине. Теперь же спектакль строится по центростремительному принципу, концентрируясь вокруг главного образа, а вместо живописности используется скульптурность. Каждая мизансцена строится как монументальная многофигурная композиция. К. Л. Рудницкий в своей книге приводит записи Мейерхольда, сделанные в режиссёрском экземпляре «Сестры Беатрисы»: «Ритмы пластики, ритмы диалога. Напевная речь и медлительные движения. Музыкальное действо. Музыкальное начало в диалогах и движениях актёров... Барельефы, скульптурные группы... Мистерия...»[408] Особенно внимательно Мейерхольд подходил к группе монахинь, постоянно сопутствующих Беатрисе в спектакле. «Все их движения выстраивались единообразно: они вместе “сплетались, расплетались, простирались на плитах часовни”, вместе “опускались на колени, поднимая руки над головой”. Мейерхольд всё время группировал монахинь в плащах с капюшонами так, чтобы они сообща, слитными движениями создавали как бы пластический аккомпанемент позам героини»[409]. Этот скульптурный балет хорошо просматривается даже на фотографиях, запечатлевших разные эпизоды спектакля.
Одним словом, совместными усилиями режиссёра и первой актрисы был достигнут необычайный успех. Казалось, и в первую очередь, конечно, самой Комиссаржевской, что мечта о новом театре начинает реализовываться, провал «Гедды Габлер» полностью искупился триумфом «Сестры Беатрисы».
22 ноября в Драматическом театре была представлена пьеса Метерлинка «Сестра Беатриса». После фактического провала «Гедды Габлер» можно было ждать чего угодно. Однако, как и в сюжете пьесы, произошло чудо, впрочем, вполне объяснимое. В той же статье Блок писал: «С готовым уже предубеждением мы пошли на “Беатрису” Метерлинка, наперёд зная, что цензура исковеркала нежнейшую пьесу, запретив её название “чудо” на афише, вычеркнув много важных ремарок и самое имя Мадонны, а главное, запретив Мадонне петь и оживать на сцене. Мы знали, что перевод М. Сомова неудовлетворителен, что музыка Лядова не идёт к Метерлинку. И, при всём этом, при вопиющих несовершенствах в частностях (из рук вон плохой Беллидор, отсутствие отчётливости в хорах, бедность костюмов и обстановки), — мы пережили на этом спектакле то волнение, которое пробуждает ветер искусства, веющий со сцены. Это было так несомненно, просто, так естественно»[403].
Спектакль и исполнение главной роли Комиссаржевской подробно описывает в своих воспоминаниях В. П. Веригина. Приведём это описание полностью:
«Я, как сейчас, вижу этот спектакль. Навсегда запомнилась сцена обращения Беатрисы к статуе Мадонны и затем сцена с принцем Белидором. Беспокойство, страх, мольба о помощи, о спасении, счастье любви и затаённое желание бежать из монастыря с Белидором — всё это передавалось ритмичным сочетанием слов, едва уловимыми оттенками звука гибкого голоса Комиссаржевской — голоса, насыщенного эмоцией. Сжимая ладони, порой протягивая руки к Мадонне, она вся трепетала внутренне, нисколько не нарушая внешне строгого рисунка движений. Самым удивительным в исполнении Комиссаржевской был второй акт, когда Мадонна заменяет бежавшую из монастыря Беатрису. Статую Мадонны по цензурным соображениям не позволили показывать. Беатриса обращалась к ней в первом акте, стоя на коленях перед задрапированной нишей. Самой статуи не было видно. Комиссаржевская выходила во втором акте из-за драпировки в ослепительном серебряном облачении, с золотыми локонами. Она надевала оставленные Беатрисой синюю мантию и головной убор, закрыв таким образом струящиеся по плечам и спине волосы. Выходила игуменья в сопровождении монахинь, и они обнаруживали исчезновение статуи, а затем игуменья замечала мерцание серебряного облачения из-под плаща.
Сёстры ритмично все вместе произносили слова, порождённые ужасом: “Она... сняла!., одежду... со статуи?” Следовало бормотание молитв, сопровождавшееся перебиранием чёток, затем грозное обращение к мнимой Беатрисе: “Сестра Беатриса!” Друг другу: “Не-отве-чает”, и опять бормотание молитв. По приказанию священника мнимую Беатрису уводят в храм, чтобы предать бичеванию. Слышались звуки органа (музыка была написана А. К. Лядовым), и сёстры появлялись одна за другой с возгласами: “Чудо! чудо! чудо!.. Сестра Беатриса святая! Святая!” Каждая рассказывала в коротких словах о происходившем, рассказывала, охваченная восторгом перед чудом. Сестра Беатриса больше не возбуждала негодования. Бичевание не могло причинить ей страданий — ангелы защитили её. Вслед за монахинями выходила Мадонна — Комиссаржевская в мантии и уборе Беатрисы. Следовал выход с золотым кувшином, когда она, опустив глаза, проходила мимо нас, “монахинь”, склонившихся с чувством благоговения перед чудесным преображением изумительной актрисы. Мадонна — Комиссаржевская приближалась к прорези открытого окна — низкого, на уровне пола. В этом окне появлялись головы и протянутые руки нищих. “Сестра-а-а, сестра-а-а!” — тянули они нараспев, а Комиссаржевская раздавала им милостыню — пелёнки и другие принадлежности детской одежды. Теперь голос её звучал по-иному. “Придите все... берите всё”, — говорила она на каком-то светлом, прозрачном звуке.
До постановки, прочитав пьесу, я подумала, что необходимо было бы вычеркнуть слова Алетты, обращённые к мнимой Беатрисе: “Отчего у Вас в руках лучи света?” и т. п. Кто в это поверит? Не вызовут ли подобные фразы смех? Но когда Алетта — Мунт говорила эти слова Мадонне — Комиссаржевской, у меня самой появлялась уверенность, что так оно и есть. Внушала нам всё это сама же Комиссаржевская, исполненная великой артистической веры в своё изменение.
Большое впечатление производила сцена нищих, детально разработанная Мейерхольдом.
В последней картине Беатриса возвращается в монастырь, измученная грехами и страданиями. Комиссаржевская едва держалась на ногах. Она бросалась на ступеньки, простирая руки к Мадонне, как в первом действии, но как постарели эти исхудалые руки! Мирские грехи и муки изменили их. Трепет этих измученных пальцев мы сразу заметили и ощутили. Одежда Беатрисы — её мантия лежала на том же месте, где была оставлена, и Беатриса, накинув её на плечи, закрывала таким образом поседевшие растрёпанные волосы, как закрывала Мадонна свои золотые локоны во втором акте.
Игуменья и сёстры вошли, увидев растрёпанную Беатрису, поспешили к ней и тотчас же заметили, что Мадонна опять стоит на своём месте. “Мадонна вернулась! Мадонна вернулась!” — радовались они, повторяя эти слова. Сёстры переносили на белых пеленах измученную Беатрису и, опустив её на пол, вставали на колени, склоняясь над ней. Теперь мы ощущали на близком расстоянии творческий трепет артистки. Мелодика речи в основном была та же, но внутренний огонь вырывался порой с неимоверной силой из слабой груди. По лицу струились слёзы, когда Беатриса рассказывала о своих страданиях и грехах сёстрам, которые не понимали её, считая это бредом, предсмертным искушением злого духа. Они напоминали ей об ангелах небесных. При этом у Комиссаржевской вдруг вырывался музыкальный вопль: “Ах! Ангелы небесные!” Выше по звуку: “Где они?” Ещё выше: “Что они делают?!” Её голос то замирал, то усиливался. Перед концом она говорила всё тише и тише — с короткими остановками. “Я жила в мире... где мне нельзя было понять... зачем существуют... ненависть и злоба... теперь я умираю в другом мире... и не понимаю... куда ведут доброта... и любовь”.
Затем Комиссаржевская вдруг приподнималась с протянутыми вперёд руками, с широко открытыми глазами и со вздохом, в котором выражалось удивление, падала на руки сестёр»[404].
Из этого восторженного рассказа не просто зрительницы, но участницы сценического действа, то есть человека, посвящённого в тайные механизмы актёрской профессии, очевидно, что Комиссаржевская достигла в этой роли вершины своего дарования. Этим легко объясняется общее, практически единодушное восхищение спектаклем. Мейерхольд дал Комиссаржевской главную роль, вокруг которой было сосредоточено всё действие, эстетически подчинил ей спектакль. Она играла не просто главную роль, но главную роль в кубе — юную чистую Беатрису, покидающую монастырь со своим возлюбленным, Мадонну, добровольно заменяющую её в монастыре, старую грешную Беатрису, вернувшуюся в монастырь умирать. Всё остальное действие выстраивалось только как фон, выгодно оттеняющий героиню, ту же функцию исполнял и ансамбль артистов. Пожалуй, этот спектакль был единственным случаем, когда Комиссаржевской удалось органично вписаться в сложный режиссёрский замысел, ничего не потеряв, а, наоборот, обретя новые возможности для проявления своего таланта.
Спектакль был изумительно оформлен. Бледное серебро и золото гобеленов, стилизованных С. Ю. Судейкиным под Джотто и Боттичелли, фигуры монахинь в серо-голубых платьях — всё это как нельзя лучше оттеняло фигуру главной героини с золотыми волосами, рассыпанными по плечам, создавало вокруг неё тот фантастический ореол, который мощно воздействовал на зрителей, заставлял их горячо верить происходящему. Холодной грусти художественного оформления спектакля противостояло психологическое напряжение игры Комиссаржевской.
Зададимся вопросом: почему роль Беатрисы была проведена Комиссаржевской настолько убедительно, что, по свидетельству многих современников, вызывала у зрителей слёзы? Ответ кажется вполне предсказуемым. Она снова играла себя. Об этом точно и аргументированно пишет в своей книге о Мейерхольде К. Л. Рудницкий: «Для Комиссаржевской, актрисы лирической, всегда и во всех ролях открывавшей миру себя, роль Беатрисы, одновременно и грешной, и святой, и мученицы, и победительницы, была в какой-то мере ролью-исповедью. Раздвоение Беатрисы совпадало с мучительной раздвоенностью её собственной жизни. Роль открывалась как её собственная судьба. Свои письма Брюсову в те годы Комиссаржевская подписывала “Беатриса”»[405]. Об этом, конечно, не мог знать Блок, который в своей поминальной речи употребил образ, генетически связанный с Беатрисой: «Её могли хоронить не люди, не мы, а небесное воинство. Её могли хоронить высокие и бледные монахини на крутом речном обрыве у подножия монастыря, в благоухании полевых цветов и в озарении длинных восковых свеч»[406].
Это не было случайностью — с Беатрисой, и именно с ней, метафорически связывали Комиссаржевскую после её смерти многие, писавшие о ней. Этот образ слился с ней до неразличимости и стал основанием той высокой легенды, о которой нам ещё предстоит говорить. Беатриса, грешная, но много страдающая и своим страданием искупающая свои грехи, много любившая и за это заслужившая прощение, смиренная сердцем и потому услышанная Богоматерью и удостоившаяся небесной славы, искажённо понятой окружающими её людьми, стала мифологическим двойником Комиссаржевской. Как Мадонна в пьесе Метерлинка фактически стала Беатрисой, так в жизни Беатриса подменила собой реальную Комиссаржевскую. В этой подмене не был виноват никто, кроме уникального таланта перевоплощения, которым в совершенстве владела актриса.
Подруга Комиссаржевской М. И. Гучкова, конечно, присутствовавшая на премьере, вспоминала: «Когда, уже в разгаре её славы, я шла в театр смотреть В. Ф. в “Сестре Беатрисе” Метерлинка, я была охвачена сомнением — может ли она осуществить образ Божией Матери; мне казалось [это] недостижимым. Но когда В. Ф. появилась, вся просветлённая, и раздался удивительный её голос, словно преображённый в этой роли, мне показалось, что голос Богородицы и весь её облик не могли быть иными»[407]. Очевидно, что в самой игре Комиссаржевской уже заключался ключ к успеху этого удивительного спектакля.
Другой причиной было полное соответствие режиссёрского решения Мейерхольда замыслу Метерлинка. На этот раз он не только не переосмысливал содержание пьесы, но чрезвычайно бережно подошёл к каждому эпизоду и сделал всё возможное, чтобы сценически наиболее полно реализовать авторскую мысль. Мейерхольд шёл как будто против себя самого. Только что в «Гедде Габлер» он титанически и тщетно работал над деконструкцией пьесы, решительно изменяя замысел автора; только что он специально рассредоточивал действие, вписывая его в плоскость, подобно картине. Теперь же спектакль строится по центростремительному принципу, концентрируясь вокруг главного образа, а вместо живописности используется скульптурность. Каждая мизансцена строится как монументальная многофигурная композиция. К. Л. Рудницкий в своей книге приводит записи Мейерхольда, сделанные в режиссёрском экземпляре «Сестры Беатрисы»: «Ритмы пластики, ритмы диалога. Напевная речь и медлительные движения. Музыкальное действо. Музыкальное начало в диалогах и движениях актёров... Барельефы, скульптурные группы... Мистерия...»[408] Особенно внимательно Мейерхольд подходил к группе монахинь, постоянно сопутствующих Беатрисе в спектакле. «Все их движения выстраивались единообразно: они вместе “сплетались, расплетались, простирались на плитах часовни”, вместе “опускались на колени, поднимая руки над головой”. Мейерхольд всё время группировал монахинь в плащах с капюшонами так, чтобы они сообща, слитными движениями создавали как бы пластический аккомпанемент позам героини»[409]. Этот скульптурный балет хорошо просматривается даже на фотографиях, запечатлевших разные эпизоды спектакля.
Одним словом, совместными усилиями режиссёра и первой актрисы был достигнут необычайный успех. Казалось, и в первую очередь, конечно, самой Комиссаржевской, что мечта о новом театре начинает реализовываться, провал «Гедды Габлер» полностью искупился триумфом «Сестры Беатрисы».
Глава 13 БРЮСОВ И МЕЛИЗАНДА
Не нами наша близость решена, И взоры уклонить у нас нет воли.В. Я. Брюсов
Новый, 1907 год начался на подъёме. В предпоследний день уходящего года, 30 декабря, играли сразу две короткие пьесы — «Балаганчик» Блока и «Чудо святого Антония» Метерлинка. Ни в той, ни в другой Комиссаржевская не участвовала, но знала, что обе они не просто удачны, а полностью отвечают той концепции театра, которая теперь воспринималась ею как своя. В январе и феврале 1907 года состоялось ещё несколько премьер, но успеха «Сестры Беатрисы» больше не было. Отзывы критики, как всегда многочисленные, были амбивалентны. Единодушного признания не ощущалось, хотя переполненный зрительный зал, особенно на последних спектаклях сезона, говорил о том, какой популярностью пользуется Драматический театр и какой острый интерес вызывают эксперименты режиссёра и труппы. Сезон тем не менее закончился с убытком — слишком много было затрачено на обустройство театра. Да и каждая новая постановка, а их в сезоне было немало, требовала вложения больших средств. Старые же спектакли, за исключением «Кукольного дома», да и то в новом оформлении, почти не игрались. С материальной точки зрения в таких условиях театру существовать невероятно трудно. Надежды возлагались опять же на удачные гастроли, на которые театр и отправился 12 марта 1907 года. За месяц до этого Комиссаржевская дала интервью журналисту Н. Тамарину, которое было напечатано в журнале «Обозрение театров». Она ещё раз декларирует свой отказ от «реального воспроизведения быта» и утверждает необходимость направить театр по новым путям. Пути эти, однако, она описывает крайне туманно, метафорически. Например, так: «Быт должен теперь исчезнуть со сцены, уступив место такому творчеству, которое должно затронуть ещё неизведанные глубины человеческого в божественном и божественного в человеческом»[410]. Возникает ощущение, что сама Комиссаржевская не очень точно представляет себе, каковы, собственно, те новые пути, по которым непременно должен двигаться театр, и как они связаны с тем, что составляет теперь труды и дни самой актрисы и её ближайших сотрудников: «Я сама замечаю, что только постепенно вырабатываю в себе чувство стиля, ритма, настроения данной пьесы и роли. Я иногда мучительно подхожу к тому, что чувствую, понимаю, но не могу ещё достаточно ярко выразить»[411]. Отдавая себе в этом отчёт (Комиссаржевская всё время говорит о своей бессознательной потребности вырваться из традиционных рамок), она полностью полагается на режиссёрский дар Мейерхольда. В её словах звучат безграничная вера в его талант и полное доверие его поискам: «Когда я узнала о начинаниях в Москве г. Мейерхольда, которому только неблагоприятные случайные обстоятельства помешали создать своеобразный театр “Студию”, я начала с ним ещё прошлой весной переговоры и убедилась, что это чуткий, образованный и страстно ищущий новых форм в искусстве человек. Несправедливы упрёки ему в том, что он деспотически насилует артистические индивидуальности. Наоборот, он поощряет всякую самостоятельную инициативу в артистах»[412]. Интересно, однако, что при такой восторженной оценке деятельности Мейерхольда и его личности Комиссаржевская отправилась в гастрольное турне преимущественно со своим старым репертуаром. Она объясняла это трудностью в перевозке декораций, но это, очевидно, была отговорка, потому что некоторые новые вещи всё же участвовали в гастролях, например «Гедда Габлер». Г. И. Чулков, друг Мейерхольда, представлявший «левое» крыло театральной критики, один из идеологов и творцов символизма, писал: «Мы теперь все знаем, как трагически кончилась эта встреча двух даровитейших, но столь непохожих друг на друга людей, Мейерхольда и Комиссаржевской. Моё положение как театрального критика стало весьма затруднительным. Все почему-то ждали, в том числе и сам Мейерхольд, что я буду трубадуром нового театра. Но при первых же сценических опытах Мейерхольда душа моя раскололась. С одной стороны, я не мог не чувствовать, что здесь, на Офицерской, театр нашёл, наконец, свою настоящую театральную форму. Все эти “Александринки” и “Суворинские театры” сразу стали чем-то жалким и провинциальным по сравнению с нарядными и смелыми спектаклями Мейерхольда. Но, с другой стороны, я не менее реально почувствовал, что этот новый путь в искусстве не тот мне желанный путь, о котором я мечтал. Я почувствовал в театре Мейерхольда привкус безответственного декадентства и экспериментализма, которые были так характерны для московских эстетских кружков и журнала “Весы”. Но Мейерхольд “закусил удила”. Упоенный возможностью распоряжаться покорною ему труппою и всем аппаратом доставшегося ему театра, он не терпел уже никакой критики. Мои рецензии, которые всем казались весьма лестными для Мейерхольда, ему, напротив, казались недостаточно хвалебными. И он, и его поклонники обижались на меня. А между тем я сознавал, что доля ответственности за этот опасный опыт с новым театром лежит и на мне. Я видел, как личность актёра приносится в жертву эффекту зрелища, и согласиться с этим декадансом никак не мог. Особенно меня пугала судьба такой дивной актрисы, как В. Ф. Комиссаржевская, которая, как птица в сетях, билась в сценических условиях, созданных Мейерхольдом. Правда, иногда Мейерхольд отступал несколько от излюбленных им приёмов и освобождал от своих пут актрису. Так это было в возобновлённой им постановке “Кукольного дома”, и я, обрадованный, в своей рецензии старался доказать, что В. Ф. Комиссаржевская в новых сценических условиях чувствует себя “свободнее и окрылённее”, но эта постановка была вовсе не характерной для тогдашней художественной программы Мейерхольда»[413]. В переписке между Мейерхольдом и Комиссаржевскими весны и лета 1907 года чувствуется нарастающее взаимное недовольство, пока ещё не принимающее резких форм. Ф. Ф. Комиссаржевскому Мейерхольд пишет: «Какую ужасную ошибку сделала В. Ф., что она поехала по России со старым репертуаром. Это её компрометирует как вставшую во главе Нового Театра»[414]. Мейерхольд настойчиво рекомендует взять в труппу театра новую актрису В. А. Петрову, работавшую с ним в «Студии» и после её развала оставшуюся не у дел, — Комиссаржевская от этого предложения отказывается и выбирает другую актрису. Как это не похоже на то, что происходило ровно год назад, когда каждое слово Мейерхольда принималось Комиссаржевской с благоговейным послушанием! «В. Ф., по-видимому, с каких-то пор перестала считаться с моими советами»[415], — с горечью замечает Мейерхольд. В его письме Комиссаржевской звучит прямой упрёк в недостаточном внимании с её стороны: «У меня накопилось много-много поговорить с Вами о будущем нашего театра, много планов, интересных, легко осуществимых. Напишу Вам, если напишется, но скажу при свидании непременно. Впрочем, Вы мало со мной говорите. Пожалуй, скажу: не без некоторой охоты слушаете меня, но кажется мне, что всё, что говорю, не глубоко ложится в душу, а главное — больно, что Вы мне мало говорите. Вы только рассеянно слушаете меня»[416].
 Комиссаржевская ответила на мартовское письмо Мейерхольда только в июле. «О будущем нашего театра» в её письме почти ничего нет, хотя она обещает продолжить этот разговор при личной встрече. Зато много сказано о недавнем прошлом. В частности, среди абстрактных соображений о творчестве Ибсена и Метерлинка Комиссаржевская замечает: «Помните, при постановке “Гедды Габлер” я говорила, что её ремарки должны точно выполняться. Теперь я совершенно определённо говорю, что правды в моих словах было тогда больше, чем я сама это предполагала. Каждое слово ремарки Ибсена есть яркий свет на пути понимания его вещи»[417]. Это, конечно, камень в огород режиссёра, чьё прочтение пьесы теперь, по прошествии времени, кажется ей неверным, не соответствующим авторскому замыслу. Дело заключается не в том, конечно, что Комиссаржевская свято чтит авторский замысел. Она сама как актриса не раз уклонялась в сторону от того, что хотел сказать в своей пьесе автор. Но вот права режиссёра на интерпретацию, собственный взгляд и прочтение, возможно, очень далёкое от авторского, она пока ещё не может признать. И — явно становится на сторону Ибсена, а значит, и на сторону тех критиков, которые возлагали всю ответственность за неудачу «Гедды Габлер» на Мейерхольда.
Заканчивается письмо Комиссаржевской характерным замечанием относительно «Кукольного дома»: «О “Норе” хочу сказать следующее: необходимо изменить колорит комнаты и сделать её тёплой и больше ничего. Я думаю, что добиться этого совсем легко: изменить цвет и свойство материи, положить мягкий ковёр (чтобы не было слышно шагов), заменить стулья чем-нибудь мягким и низким, и сбоку надо дать в последнем акте красный цвет (от камина), чтобы Линда и Крогст вели сцену не при холоде лунного света. Впечатление должно получиться очень тёплого, уютного мягкого гнёздышка, изолированного от настоящего мира»[418]. Это означало фактически вернуться к первоначальному оформлению спектакля в «Пассаже», которое как раз и преследовало такие цели. Замечательно простодушно пишет об этом в своих воспоминаниях плотник Драматического театра В. Хвостов: «Для того времени оформление нашего театра было очень реалистическим. Когда в “Кукольном доме” Нора приходила с ёлкой, то казалось, что она действительно пришла к себе домой»[419].
К концу лета переписка, которая преимущественно идёт стороной, через Ф. Ф. Комиссаржевского, и порой достигает самых острых эмоциональных вершин, становится уже откровенно неприязненной. Каждая сторона высказывает свои претензии. Конфликт очевидным образом нарастает.
Через месяц после начала гастрольной поездки Комиссаржевская серьёзно заболела. Последний спектакль был дан 7 апреля в Орле. 10 апреля она вместе с братом возвращается в Петербург, где переносит операцию. И уже 22 апреля выезжает в Харьков для продолжения гастролей. Зная о слабости здоровья Комиссаржевской, можно только удивляться её решению присоединиться к труппе через две недели после операции. Успев сыграть только два спектакля, она снова заболевает, на этот раз воспалением брюшины, и едва остаётся жива. Но 10 мая Комиссаржевская снова на сцене. Гастроли продолжаются до 15 июня.
Вероятнее всего, ощущение ответственности перед театром, необходимость любой ценой продолжать поездку по провинции, чтобы хоть как-то поправить бедственное материальное положение, заставляли Комиссаржевскую срываться с места, не дав себе возможности выздороветь до конца, отдохнуть, набраться необходимых сил. В начале сентября её ждали гастроли в Москве, где она намеревалась показать только спектакли нового репертуара. В своём интервью она говорила: «Быть может, там я встречу меньше недоброжелательства. Москва любит театр больше Петербурга и поощряет, а не осмеивает всякое серьёзное начинание в искусстве»[420].
Однако надежды на благосклонность москвичей к новому искусству не оправдались. Критика была безжалостна: «Спектакль... заставил горячо пожалеть о том времени, когда г-жа Комиссаржевская жила на сцене, не мудрствуя лукаво, давая живого человека, а не пластические фигуры»; «Теперь г-жа Комиссаржевская не ходит по сцене, а движется, не стоит, а принимает пластические позы, не говорит, а мелодекламирует»[421]. Самая убийственная и, несомненно, небезразличная для Комиссаржевской оценка была дана её спектаклям К. С. Станиславским: «Я заплатил бы 40 000 за то, чтобы это не показывали публике»[422]. И всё же московская гастроль Комиссаржевской была для неё скорее радостным событием, чем печальным, и позволила ей с новой энергией броситься в кипучую деятельность очередного сезона. Осенью 1907 года у неё начался роман с В. Я. Брюсовым.
В сентябре 1907 года Брюсов записал в дневнике: «1907 осень, 1908 весна. Встреча и сближение с В. Ф. Комиссаржевской. Острые дни и часы. Её приезды в Москву. Перевод “Пелеаса и Мелисанды”»[423].
Комиссаржевская была знакома с Брюсовым и раньше. Когда и при каких обстоятельствах это знакомство произошло, сказать трудно. Вполне возможно, что увиделись они впервые, когда Брюсов выступил по её приглашению на четвёртой, последней, субботе Драматического театра перед открытием сезона 1906/07 года. Вероятнее всего, он говорил о современной драматургии; известно, что он сказал несколько слов о Ф. Ведекинде. С этих пор Комиссаржевская всё время держала Брюсова в поле своего зрения, пыталась так или иначе привлечь к работе в Драматическом театре. А может быть, это были только предлоги, которые она использовала для сближения?
Летом 1907 года она настойчиво зазывала Брюсова в Петербург прочитать в театре лекцию о Ведекинде и его пьесе «Пробуждение весны», которой собиралась открыть сезон. Брюсов ответил вежливым и осторожным отказом, сославшись на неотложную работу в Москве. Он в это время находился действительно не только на пике своей поэтической славы, но и был фактическим руководителем и редактором ежемесячного символистского журнала «Весы», однако из Москвы, конечно, отлучался. Плотное сотрудничество с театром Комиссаржевской просто не входило в его планы.
Во время московских гастролей Драматического театра ситуация резко изменилась. Брюсов даёт согласие на постановку в его переводе пьесы М. Метерлинка «Пелеас и Мелизанда»[424]. После возвращения в Петербург Комиссаржевская пишет ему письма, тон которых уже не оставляет сомнений: между ними установились близкие, доверительные отношения. С одной стороны, в них звучат требовательная, почти капризная настойчивость, уверенность в том, что теперь отказа не будет, сознание своей силы. Стоит многозначительная подпись «Беатриса», выдающая обстоятельства, при которых, вероятнее всего, начался роман; обстоятельства эти связаны с московским спектаклем «Сестра Беатриса», на котором присутствовал Брюсов. «Я не пииту потому, что я очень далеко сейчас, но я слышу, я беру Ваши слова, я хочу их так, как не могла бы хотеть, если бы они не шли издалека. А Вы слышите, как я говорю всё это? Беатриса»[425]; «Вы сказали, что приедете, когда я скажу — приезжайте. Я говорю. Мне необходимо, чтобы в эту субботу Вы были у меня в 11 часов утра. Если в субботу в беседе о “Пелеасе” я не услышу Вашего слова, Вы убьёте трепет, с каким я иду искать Мелизанду, и погасите желание видеть её в этом театре. Так случилось. Вот откуда моё — “необходимо”. Я жду Вас. Беатриса»[426]. В день получения этого письма Комиссаржевской Брюсов пишет стихотворение «Осенью»[427], в котором звучит почти экстатический восторг узнавания нового чувства, мистической встречи с таинственной жрицей. Сравнение с реющей в вышине белой птицей указывает прежде всего на чайку. Однако весь условно-осенний пейзаж, написанный золотом по голубому, в соединении с пламенной ризой, неземным голосом и наклонённым ликом, позволяет предположить, что это вещая птица Гамаюн окликает поэта. Неудивительно, что он отзывается на её пение с мгновенной готовностью:
Комиссаржевская ответила на мартовское письмо Мейерхольда только в июле. «О будущем нашего театра» в её письме почти ничего нет, хотя она обещает продолжить этот разговор при личной встрече. Зато много сказано о недавнем прошлом. В частности, среди абстрактных соображений о творчестве Ибсена и Метерлинка Комиссаржевская замечает: «Помните, при постановке “Гедды Габлер” я говорила, что её ремарки должны точно выполняться. Теперь я совершенно определённо говорю, что правды в моих словах было тогда больше, чем я сама это предполагала. Каждое слово ремарки Ибсена есть яркий свет на пути понимания его вещи»[417]. Это, конечно, камень в огород режиссёра, чьё прочтение пьесы теперь, по прошествии времени, кажется ей неверным, не соответствующим авторскому замыслу. Дело заключается не в том, конечно, что Комиссаржевская свято чтит авторский замысел. Она сама как актриса не раз уклонялась в сторону от того, что хотел сказать в своей пьесе автор. Но вот права режиссёра на интерпретацию, собственный взгляд и прочтение, возможно, очень далёкое от авторского, она пока ещё не может признать. И — явно становится на сторону Ибсена, а значит, и на сторону тех критиков, которые возлагали всю ответственность за неудачу «Гедды Габлер» на Мейерхольда.
Заканчивается письмо Комиссаржевской характерным замечанием относительно «Кукольного дома»: «О “Норе” хочу сказать следующее: необходимо изменить колорит комнаты и сделать её тёплой и больше ничего. Я думаю, что добиться этого совсем легко: изменить цвет и свойство материи, положить мягкий ковёр (чтобы не было слышно шагов), заменить стулья чем-нибудь мягким и низким, и сбоку надо дать в последнем акте красный цвет (от камина), чтобы Линда и Крогст вели сцену не при холоде лунного света. Впечатление должно получиться очень тёплого, уютного мягкого гнёздышка, изолированного от настоящего мира»[418]. Это означало фактически вернуться к первоначальному оформлению спектакля в «Пассаже», которое как раз и преследовало такие цели. Замечательно простодушно пишет об этом в своих воспоминаниях плотник Драматического театра В. Хвостов: «Для того времени оформление нашего театра было очень реалистическим. Когда в “Кукольном доме” Нора приходила с ёлкой, то казалось, что она действительно пришла к себе домой»[419].
К концу лета переписка, которая преимущественно идёт стороной, через Ф. Ф. Комиссаржевского, и порой достигает самых острых эмоциональных вершин, становится уже откровенно неприязненной. Каждая сторона высказывает свои претензии. Конфликт очевидным образом нарастает.
Через месяц после начала гастрольной поездки Комиссаржевская серьёзно заболела. Последний спектакль был дан 7 апреля в Орле. 10 апреля она вместе с братом возвращается в Петербург, где переносит операцию. И уже 22 апреля выезжает в Харьков для продолжения гастролей. Зная о слабости здоровья Комиссаржевской, можно только удивляться её решению присоединиться к труппе через две недели после операции. Успев сыграть только два спектакля, она снова заболевает, на этот раз воспалением брюшины, и едва остаётся жива. Но 10 мая Комиссаржевская снова на сцене. Гастроли продолжаются до 15 июня.
Вероятнее всего, ощущение ответственности перед театром, необходимость любой ценой продолжать поездку по провинции, чтобы хоть как-то поправить бедственное материальное положение, заставляли Комиссаржевскую срываться с места, не дав себе возможности выздороветь до конца, отдохнуть, набраться необходимых сил. В начале сентября её ждали гастроли в Москве, где она намеревалась показать только спектакли нового репертуара. В своём интервью она говорила: «Быть может, там я встречу меньше недоброжелательства. Москва любит театр больше Петербурга и поощряет, а не осмеивает всякое серьёзное начинание в искусстве»[420].
Однако надежды на благосклонность москвичей к новому искусству не оправдались. Критика была безжалостна: «Спектакль... заставил горячо пожалеть о том времени, когда г-жа Комиссаржевская жила на сцене, не мудрствуя лукаво, давая живого человека, а не пластические фигуры»; «Теперь г-жа Комиссаржевская не ходит по сцене, а движется, не стоит, а принимает пластические позы, не говорит, а мелодекламирует»[421]. Самая убийственная и, несомненно, небезразличная для Комиссаржевской оценка была дана её спектаклям К. С. Станиславским: «Я заплатил бы 40 000 за то, чтобы это не показывали публике»[422]. И всё же московская гастроль Комиссаржевской была для неё скорее радостным событием, чем печальным, и позволила ей с новой энергией броситься в кипучую деятельность очередного сезона. Осенью 1907 года у неё начался роман с В. Я. Брюсовым.
В сентябре 1907 года Брюсов записал в дневнике: «1907 осень, 1908 весна. Встреча и сближение с В. Ф. Комиссаржевской. Острые дни и часы. Её приезды в Москву. Перевод “Пелеаса и Мелисанды”»[423].
Комиссаржевская была знакома с Брюсовым и раньше. Когда и при каких обстоятельствах это знакомство произошло, сказать трудно. Вполне возможно, что увиделись они впервые, когда Брюсов выступил по её приглашению на четвёртой, последней, субботе Драматического театра перед открытием сезона 1906/07 года. Вероятнее всего, он говорил о современной драматургии; известно, что он сказал несколько слов о Ф. Ведекинде. С этих пор Комиссаржевская всё время держала Брюсова в поле своего зрения, пыталась так или иначе привлечь к работе в Драматическом театре. А может быть, это были только предлоги, которые она использовала для сближения?
Летом 1907 года она настойчиво зазывала Брюсова в Петербург прочитать в театре лекцию о Ведекинде и его пьесе «Пробуждение весны», которой собиралась открыть сезон. Брюсов ответил вежливым и осторожным отказом, сославшись на неотложную работу в Москве. Он в это время находился действительно не только на пике своей поэтической славы, но и был фактическим руководителем и редактором ежемесячного символистского журнала «Весы», однако из Москвы, конечно, отлучался. Плотное сотрудничество с театром Комиссаржевской просто не входило в его планы.
Во время московских гастролей Драматического театра ситуация резко изменилась. Брюсов даёт согласие на постановку в его переводе пьесы М. Метерлинка «Пелеас и Мелизанда»[424]. После возвращения в Петербург Комиссаржевская пишет ему письма, тон которых уже не оставляет сомнений: между ними установились близкие, доверительные отношения. С одной стороны, в них звучат требовательная, почти капризная настойчивость, уверенность в том, что теперь отказа не будет, сознание своей силы. Стоит многозначительная подпись «Беатриса», выдающая обстоятельства, при которых, вероятнее всего, начался роман; обстоятельства эти связаны с московским спектаклем «Сестра Беатриса», на котором присутствовал Брюсов. «Я не пииту потому, что я очень далеко сейчас, но я слышу, я беру Ваши слова, я хочу их так, как не могла бы хотеть, если бы они не шли издалека. А Вы слышите, как я говорю всё это? Беатриса»[425]; «Вы сказали, что приедете, когда я скажу — приезжайте. Я говорю. Мне необходимо, чтобы в эту субботу Вы были у меня в 11 часов утра. Если в субботу в беседе о “Пелеасе” я не услышу Вашего слова, Вы убьёте трепет, с каким я иду искать Мелизанду, и погасите желание видеть её в этом театре. Так случилось. Вот откуда моё — “необходимо”. Я жду Вас. Беатриса»[426]. В день получения этого письма Комиссаржевской Брюсов пишет стихотворение «Осенью»[427], в котором звучит почти экстатический восторг узнавания нового чувства, мистической встречи с таинственной жрицей. Сравнение с реющей в вышине белой птицей указывает прежде всего на чайку. Однако весь условно-осенний пейзаж, написанный золотом по голубому, в соединении с пламенной ризой, неземным голосом и наклонённым ликом, позволяет предположить, что это вещая птица Гамаюн окликает поэта. Неудивительно, что он отзывается на её пение с мгновенной готовностью:
Небо ярко, небо сине
В чистом золоте ветвей,
Но струится тень в долине,
И звенит вокруг чуть слышно
Нежный зов — не знаю чей.
Это призрак или птица
Бело реет в вышине?
Это осень или жрица,
В ризе пламенной и пышной,
Наклоняет лик ко мне?
Слышу, слышу: ты пророчишь!
Тихий путь не уклони,
Я исполню всё, что хочешь!
Эти яркие одежды
Понял, понял — для меня!
Понимание, казалось бы, достигнуто. Комиссаржевская одержала ещё одну победу. Но уверенности в своих силах ей всегда не хватало, и очень быстро её начинают одолевать страх за свою любовь, вечное опасение быть забытой, покинутой тем человеком, с которым теперь она ощутила таинственную близость, страх боли и страдания, не раз уже испытанные. Отсюда и обращённое к нему требование предельной искренности: «Думали ли Вы эти дни о Мелизанде? Думали ли Вы эти дни о Беатрисе? Если да, что Вы думали? Если нет, почему Вы не думали? Я хочу Вашего ответа таким, каким Вы редко его даёте: совсем таким, как он звучит в Вас, пока Вы читаете эти строки»[428]. В ответ Брюсов обращается к Комиссаржевской стихами, в которых довольно верно выстраивается её психологический облик — с теми коррективами, какие следует ожидать от романтического мировосприятия.
Встречной
Они не созданы для мира.М. Лермонтов
Во вселенной, страшной и огромной,
Ты была — как листик в водопаде,
И блуждала странницей бездомной,
С изумленьем горестным во взгляде,
Ты дышать могла одной любовью,
Но любовь таила скорбь и муки.
О, как быстро обагрялись кровью
С нежностью протянутые руки!
Ты от всех ждала участья — жадно.
Все обиды, как дитя, прощала,
Но в тебя вонзались беспощадно
Острые, бесчисленные жала.
И теперь ты брошена на камни,
Как цветок, измолотый потоком.
Бедная былинка, ты близка мне, —
Мимо увлекаемому Роком!
Сентябрь—ноябрь 1907г.
Безысходные мотивы последней строфы станут понятны совсем скоро. Брюсов не смог приехать в тот день, который указывала ему в письме Комиссаржевская. Он выбрался в Петербург только на премьеру спектакля «Пелеас и Мелизанда», 10 октября 1907 года, и присутствовал при его полном провале. Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы пояснить, в какое сложное положение попал Брюсов, увидев на сцене воплощение переведённой им метерлинковской драмы. 26 марта 1907 года в Москве Брюсов прочитал лекцию «Театр будущего», в которой изложил свою концепцию нового театра, во многом смыкавшуюся с направлением исканий Мейерхольда. В частности, в этой лекции он говорил о необходимости полного подчинения актёра драматургу и режиссёру. Если раньше актёр был полноправным хозяином сцены, то теперь он становится материалом, как гипс в руках скульптора или краски в руках художника: «Творчество актёра вторично, и оно может и должно развиваться только в тех пределах, какие поставлены ему автором, — не более. И всё внимание зрителей должно быть приковано к исполняемой драме, не к исполнению»[429]. Комиссаржевская, подчиняясь брюсовской концепции театра, полностью уступила свои права Метерлинку и Мейерхольду, увидевшему в «Пелеасе и Мелизанде» драму судьбы, почти античного рока, властвующего над персонажами. Она стилизовала переживания Мелизанды, нисколько не отдаваясь им, двигалась и жестикулировала, как кукла, отказываясь от своей природной пластики, говорила не своим прекрасным и музыкальным голосом. А ведь кто, как не она, могла бы прекрасно сыграть Мелизанду, воссоздать трагедию её любви, её страдания — дать живой образ? Увидев спектакль, Брюсов был сражён неудачей, но, наверное, предчувствовал её, внутренне был к ней подготовлен своим предшествующим общением с Комиссаржевской. «На сей раз “музой” Брюсова — теоретика театра стала Комиссаржевская, которую постигла отведённая ей в лекции участь “живого материала”»[430]. Брюсов не мог не понимать, в чём заключается талант актрисы; он видел неприменимость этого таланта в новых условиях, полностью, однако, соответствующих его концепции, знал, почему она страдает, переживая происходящее как творческую трагедию. Благодаря встрече с Комиссаржевской после «Пелеаса и Мелизанды» Брюсов пересмотрел свою эстетику театра будущего, в котором должны органически соединиться условное оформление и реалистическая, личная игра актёра: «Нельзя, сохранив артистов, заставить их действовать, как механизм: на это, в такой мере, неспособно существо живое»[431]. Рецензии, появившиеся после спектакля, были настолько единодушными, что вызывают странное чувство. Критики, казалось, сговорились, подобрав одни и те же слова для выражения одних и тех же претензий: «Вы смотрите В. Ф. Комиссаржевскую в роли Мелизанды и по отдельным нотам и жестам чувствуете, что дарование не иссякло, а сковано, что дай она волю себе, откажись она от этой нарочитой условности — она увековечила бы в памяти каждого зрителя трогательнейший образ. Но, к несчастью для нашей сцены, прекрасная артистка предпочитает быть марионеткой, в лучшем случае — живой картиной»[432]. «Вся нежная гамма жестов, мимики, модуляций голоса, которыми так счастливо одарена артистка, сузилась до одной-двух нот <...>»[433]. «Г-жа Комиссаржевская (Мелизанда) в стремлении дать примитивный обобщённый образ намеренно, как и другие исполнители, двигалась и жестикулировала, как кукла, свой дивный, редкий по богатству тонов, по музыкальному тембру голос заменив не то птичьим щебетаньем, не то ребячьими пискливыми нотами...»[434] «Он — фанатик, г. Мейерхольд Комиссаржевскую, дополняющую декорацию, Комиссаржевскую, застывавшую в пластических позах, Комиссаржевскую, мелодекламирующую, — он предпочитает Комиссаржевской, совершающей таинство драмы»[435]. «Актёры двигались как марионетки и напоминали и игрой, и скульптурностью своей “комариную мощу”. Г-жа Комиссаржевская <...> говорила всё время не своим голосом, подражая воробушку или малиновке, вообще птичке, и заглатывала окончания слов. Выутюжив себя, если можно так выразиться, и выгладив, она достигла (отдаю справедливость) некоторой весьма своеобразной стильности, но стильность игрушечки — прескучная вещь»[436]. Как видим, упрёки во всех рецензиях одни и те же: кукольность, марионеточность, сужение диапазона возможностей — от пения до драматической игры, скованность, не дающая возможности полностью проявить свой талант. В отзывах критики отразился конфликт интересов актёра и режиссёра, который постепенно разводил Мейерхольда и Комиссаржевскую в разные стороны. Комиссаржевская-актриса честно выполнила задание Мейерхольда-режиссёра, прямо основанное на «теории марионетки» Метерлинка, но публика и критика остались консервативны, ждали прежней Комиссаржевской и сложный режиссёрский замысел принимать не трудились. Это не могло не рождать разочарования. 12 октября на квартире Комиссаржевской состоялось заседание художественного совета театра, на котором назревший конфликт вспыхнул. Подробную запись заседания приводит в своих записках один из режиссёров Драматического театра Р. А. Унгерн. Это живое свидетельство участника прений обнажает всю напряжённость момента: «Открыв заседание в 3 часа 15 минут дня, Комиссаржевская сказала, “что театр, продолжая идти тем путём, которым он шёл до настоящей минуты, должен прийти к неминуемой гибели”, и предложила “всем совершенно откровенно высказать свой взгляд на существующее положение, не считаясь с тем, что высказанное мнение может обидеть или задеть кого-либо из присутствующих”. <...> В противоположность Комиссаржевской Мейерхольд сказал, что для тревоги за дальнейшую судьбу театра нет оснований. “Пелеас и Мелисанда” не есть начало новой стадии театра, но завершение определённого цикла исторически необходимой стадии театра, которая взяла своё самостоятельное начало в московской студии (“Смерть Тентажиля”) и теперь в “Пелеасе и Мелисанде” получила своё последнее звено. Этот пройденный этап следует назвать“условный декоративный театр”. “Дальнейшая работа театра узко в этом направлении, — соглашается Мейерхольд, — действительно привела бы его к смерти”. Но, говорит дальше Мейерхольд, он и не собирается больше заставлять актёра играть в условиях декоративного панно и тем привести театр к театру марионеток, что можно рассматривать лишь как художественный курьёз. Трёхмерное тело актёра требует, чтобы оно было окружено трёхмерным же пространством. Это ведёт к замене метода панно методом скульптурной постановки. Сравнивая театр Комиссаржевской с театром Художественным, Мейерхольд находил, что Художественный театр через три-четыре года после своего зарождения “стал на точку”. Погоня за воплощением на сцене натурализма привела его к “естественной смерти”. Если он de facto функционирует, то это объясняется той огромной побеждённой аудиторией, которая продолжает наслаждаться бывшей могучей жизнью и, очарованная, не желает видеть его смерти и питает собой уже мёртвое тело. <...> В противоположность Художественному театру, театр Комиссаржевской, утверждает Мейерхольд, — театр исканий. У него, правда, нет побеждённой аудитории, но в этом отчасти его спасение. Ему приходится поэтому непрестанно бороться, отыскивать новые и новые пути, вовремя “одумываться” и, завершив одну стадию своей исторической эволюции, переходить к следующей, непосредственно вытекающей из первой не через смерть, а жизненным путём. Свою речь Мейерхольд закончил указанием на те пьесы, которые он намечает в репертуар и, в первую очередь, “Дух земли” Ведекинда. С декларативным же заявлением выступил и Ф. Ф. Комиссаржевский. Он говорил, что опасения превращения театра в театр марионеток он испытывал ещё в прошлом сезоне, но постановки “Балаганчика” и “Жизни человека” эти опасения рассеяли. Будущий театр ему видится на путях мистического реализма, а не на путях символизма. Задача театра в том, чтобы показать жизнь, отрешённую от повседневного быта и освещённую и очищенную божественной силой — своеобразным единением земли и неба»[437]. Сам Р. А. Унгерн тоже сказал своё слово на этом заседании и, видимо, подлил масла в огонь. Он приветствовал намерение Мейерхольда отказаться от метода «декоративного панно» и произнёс формулу, которая взбесила Мейерхольда. «Мы вовремя одумались», — сказал он и, переходя к методу скульптурной постановки, спросил: какую художественную неправду может внести этот метод? В ответ на выступление Унгерна Мейерхольд разразился негодующей речью, в которой выразилось всё его накопившееся недовольство. «Мейерхольд высказал подозрение, что Унгерн своим истолкованием его слов “мы вовремя одумались” тянет в старый театр и что он не понимает, как можно требовать объяснения метода постановки. Бравич как бы в подтверждение сомнения Унгерна говорит о том, что поза иногда связывала актёра. Комиссаржевская задаёт вопрос, не будет ли режиссёр и теперь давить на актёра, как при методе панно. Вопрос Комиссаржевской окончательно сводит течение заседания с рельс. В ответ на слова Бравича и Комиссаржевской Мейерхольд категорически заявляет, что каков бы ни был метод постановки в будущем, он будет продолжать оказывать давление на актёров, не понимающих его замысла, в целях проведения в жизнь этого замысла. А от всего, что он слышит, ему становится страшно, и он желает уйти из театра и уехать за границу. Последнее заявление Мейерхольда в тот день не имело последствий. Кое-как Бравичу удалось довести собрание, продолжавшееся 2 '/2 часа, до мирного конца, но мирный конец заседания не свидетельствовал о действительном мире. Наоборот, заседание художественного совета ясно показало, что солидарности у руководителей театра не было и ещё резче выступили разнородные интересы людей, стоящих во главе дела»[438]. По другим воспоминаниям, конфликт обозначился ещё более резко. На критические замечания в адрес своего метода, высказанные Комиссаржевской, Мейерхольд ответил: «Может быть, мне уйти из театра?» «Дальнейшее заседание, — вспоминает Ф. Ф. Комиссаржевский, — было очень бурным. Помню, что К. В. Бравич старался всех примирить, а Вера Фёдоровна молчала. Кончилось всё тем, что решено было изменить репертуар, и в Дневнике театра было записано: “Декоративное панно и примитивный метод постановок, которые довели нас до марионеточного театра, — всё это должно быть остановлено”»[439]. Решение отказаться от декоративного метода, как все понимали, ещё не означало обретения нового продуктивного пути. Разногласия остались нерешёнными. Вероятно, на прямой вопрос Мейерхольда Комиссаржевской уже тогда очень хотелось ответить утвердительно. Вероятно даже, внутреннее решение было уже ею принято. Определённая недоброжелательность вопросов, заданных ею Мейерхольду, и острота их постановки, несомненно, чувствуются в приведённых мемуарах. В письме Брюсову 15 октября Комиссаржевская пишет: «Меня, вот эту меня, которую я так люблю, как будто сковали всю и оставили только сознание, что она живая и полная сокровищ. Я хочу, чтоб в эту, какую-то, я знаю, большую минуту Вы пришли ко мне на помощь весь со всей полнотой желания. Я так хочу»[440]. Очевидно, что в своём глубоко личном, даже интимном письме Комиссаржевская повторяет о себе то же заключение, которое делают почти все критики. Значит, внутренне соглашается с ними. С этого момента начался мучительный и долгий процесс возвращения на ту почву, которая была органической для Комиссаржевской, но которая ушла теперь из-под её ног. Забегая вперёд скажем, что полного и окончательного возвращения так и не произошло. Однако после провала «Пелеаса и Мелизанды» Комиссаржевская словно проснулась — и решила порвать с Мейерхольдом. Почему этого не случилось раньше? Ведь дерзость мейерхольдовских экспериментов будоражила критику на протяжении всего года, пока режиссёр осуществлял в Драматическом театре свои смелые замыслы. Среди причин разрыва обычно называют напряжённую обстановку, которую создавала недоброжелательная критика вокруг театра, откровенные неудачи ряда спектаклей, поставленных Мейерхольдом, усталость К. В. Бравича и некоторых других актёров труппы, наконец, горячее желание Ф. Ф. Комиссаржевского самому заменить Мейерхольда. А. А. Мгебров свидетельствует: «Комиссаржевский и Мейерхольд — два противоположных полюса: если первый эстет чистой воды, то второй, конечно, не меньший эстет, но его эстетизм наполовину рационалистичен, и он был таким, даже когда искал своего воплощения в фантастике. Комиссаржевский же был чужд рационализму. Его влекла любовь к далёкому, нездешнему, едва уловимому и незримому миру. Мейерхольд, напротив, ничего не хотел знать о нём. Даже Метерлинк был для него канвою, по которой он расцвечивал бунтарскими узорами свою безумную, клокочущую и дерзкую фантастику. Последняя служила Мейерхольду лишь средством для утверждения своего вечно бунтующего “я”, всегда по существу глубоко реалистического. Комиссаржевский жаждал лишь коленопреклонённого, трепетного духа, и этим он был, конечно, ближе Вере Фёдоровне, и не без его влияния Мейерхольд вынужден был покинуть стены её театра»[441]. Вероятнее всего, комплекс этих причин так или иначе оказал своё действие на решение Веры Фёдоровны. Но думается, что поворотной точкой стал всё-таки провал «Пелеаса и Мелизанды» — спектакля, который был важен лично для неё. Пьеса, переведённая Брюсовым, тесно с ним связанная, насыщенная символическими смыслами, в которой Комиссаржевская играла для него и ради него, вместо того чтобы озарить их отношения новым светом, оставила болезненное воспоминание — Брюсов был глубоко ранен её провалом[442]. И хотя после спектакля у них была «замечательная ночь», о которой Брюсов упомянул в своём дневнике, но, как кажется, первые тревожные симптомы Комиссаржевская почувствовала именно тогда. Чтобы поддержать её, Брюсов (под псевдонимом Латник) написал на спектакль рецензию. Но даже в этой рецензии при полной её комплиментарности в адрес Комиссаржевской содержались резкие выпады против самой постановки: «И однако же все эти печальные промахи режиссёра и чудовищные ошибки декоратора, вся эта оскорбительная и нелепая внешность не могла отнять возможности у В. Ф. Комиссаржевской создать верный, тонкий, пленительный образ Мелизанды. С той минуты, как Мелизанда появляется на сцене, исчезает всё: и декорации, и другие артисты, — и видишь только эти детские невинные, прекрасные глаза, слышишь только этот детский певучий, так много самим звуком своим выражающий голос...»[443] Личной обидой на Мейерхольда словно продиктовано последнее решение Комиссаржевской, о котором она незамедлительно сообщила Брюсову, — жертвенный бык был заколот. Два года спустя она скажет об этом с ощутимой даже по прошествии времени обидой: «Я лично свою трепетную влюблённость в Метерлинка, всё своё душевное горение отдала Мелисанде. Но с каждой репетицией я замечала бесплодность своей и товарищей моих работы. Мейерхольд упорно стремился привести всё к “плоскости” и “неподвижности”, и мы провалились, заслуженно провалились»[444]. Она не могла гласно упомянуть о своей влюблённости в переводчика и о страстном желании сыграть эту роль так, чтобы навсегда оставить след в его душе. Но это желание прочитывается между строк. Окончательный разрыв с Мейерхольдом состоялся только через месяц. Ему дали возможность поставить ещё один спектакль по пьесе Ф. К. Сологуба «Победа смерти». Но, судя по всему, результат был заранее предрешён. Вера Фёдоровна пришла на генеральную репетицию и только констатировала очевидное — ей не понравилась готовая уже постановка. На премьере она не присутствовала. Как язвительно писал один из биографов Мейерхольда, «быть может, от того, что не участвовала, и приурочила так опрометчиво разрыв к дням этой постановки»[445]. Быть может... Действительно, случилось именно так, что несомненно удачными, вошедшими в историю театра, покорившими публику были преимущественно (за исключением «Сестры Беатрисы») те постановки Мейерхольда, в которых Комиссаржевская не играла — «Балаганчик» А. Блока, «Жизнь человека» Л. Андреева, «Победа смерти» Ф. Сологуба. Трудно сказать, была ли здесь закономерность, подчёркивающая несовместимость её дарования с задачами, которые ставил перед собой Мейерхольд. Вероятно, была, и она не могла не чувствовать этого. Дальнейшие события изложим по возможности кратко. 8 ноября 1907 года Комиссаржевская направляет Мейерхольду письмо, в котором прямо обозначает своё намерение расстаться с ним: «За последние дни, Всеволод Эмильевич, я много думала и пришла к глубокому убеждению, что мы с Вами разно смотрим на театр и того, что ищете Вы, не ищу я. Путь, ведущий к театру кукол, это путь, к которому Вы шли всё время, не считая таких постановок, в которых Вы соединили принципы театра “старого” с принципами театра марионеток, например, “Комедия любви” и “Победа смерти”. К моему глубокому сожалению, мне это открылось вполне только за последние дни, после долгих дум. Я смотрю будущему прямо в глаза и говорю, что по этому пути мы вместе идти не можем, — путь этот Ваш, но не мой, и на Вашу фразу, сказанную в последнем заседании нашего художественного совета: может быть, мне уйти из театра — я говорю теперь, да, уйти Вам необходимо. Поэтому я более не могу считать Вас своим сотрудником, о чём просила К. В. Бравича сообщить труппе и выяснить ей всё положение дела, потому что не хочу, чтобы люди, работающие со мной, работали с закрытыми глазами»[446]. 9 ноября в театре состоялось собрание труппы, на котором Комиссаржевская прочитала это письмо всем собравшимся и подтвердила, что материальные обязательства перед Мейерхольдом будут выполнены полностью. К. В. Бравич сделал доклад о работе Драматического театра за все четыре года. Особое место в докладе занимала часть о постановках Мейерхольда с разбором их недостатков. В частности, он сказал: «Театр пришёл в своих исканиях к постановке “Пелеаса и Мелизанды”. Постановка эта для нашего театра оказалась бесспорно ошибочной и показала, что путь, выбранный г. Мейерхольдом, в дальнейшем своём развитии, безусловно, приведёт наш театр к театру марионеток. Не отрицая права на существование и такого театра, мы всё же должны отказаться от него, так как наши стремления далеки от желания создать такой театр. Мы считаем, что эта постановка и все те постановки, которые вели к ней, как ведущие к театру кукол, не могли иметь места в том театре, театре свободного проявления человеческого духа, о котором мечтали мы. В своём докладе г. Мейерхольд предложил отказаться от “живописного” метода постановок и перейти к методу, как его назвал г. Мейерхольд, “скульптурному”, применённому им отчасти при постановке “Гедды Габлер”. Но этот метод, ставящий актёров в зависимость от скульптуры, как метод “живописный” от живописи, признается нами одинаково неверным, одинаково связывает творчество актёра и ведёт театр к тому же театру кукол, но только по другому пути...»[447] 11 ноября состоялся спектакль «Кукольный дом», в котором Комиссаржевская, как всегда, играла Нору. По сообщениям прессы, публика уже знала о разрыве театра с Мейерхольдом и устроила Комиссаржевской овацию с криками «браво, Вера Фёдоровна» и «долой Мейерхольда». В этот же день в газете «Русь», в которой работал А. Р. Кугель, появилось открытое письмо Мейерхольда следующего содержания: «То, что В. Ф. Комиссаржевская пригласила меня выйти из состава труппы среди сезона, и форму, которую она для этого избрала, считаю несогласными с правилами театральной этики. Удаление из состава труппы среди сезона кого-либо из её членов может быть вызвано лишь неблаговидными поступками его»[448]. 13 ноября Комиссаржевская поместила ответ в газете «Товарищ»: «Открытым письмом в газете “Русь” Вс. Э. Мейерхольд, чувствуя себя оскорблённым, пригласил меня к суду чести. Спешу заявить, что я принимаю его приглашение и что судьями с моей стороны будут Ариадна Владимировна Тыркова (Вергежский) и присяжный поверенный Александр Карлович Вольфсон. Отвечать же ныне на возводимые на меня Вс. Э. Мейерхольдом обвинения, о которых он говорит в открытом письме, я не считаю возможным и предоставляю рассмотрение всего инцидента избранному нами суду чести»[449].


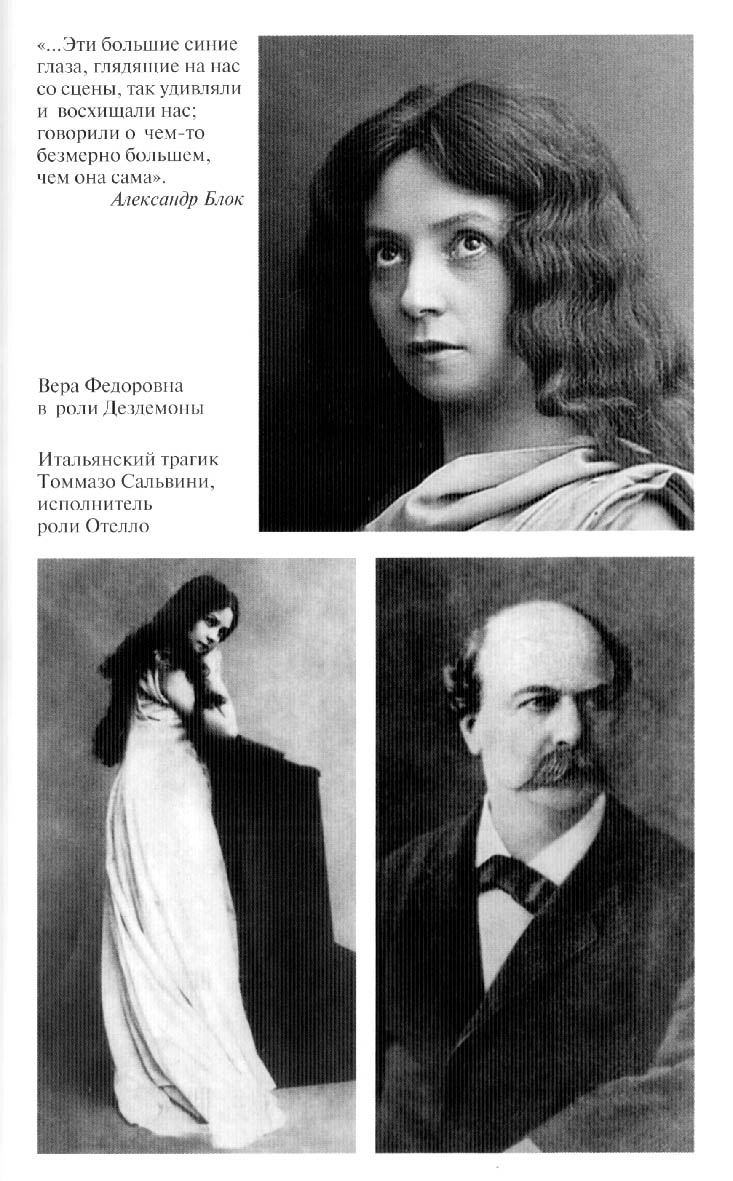











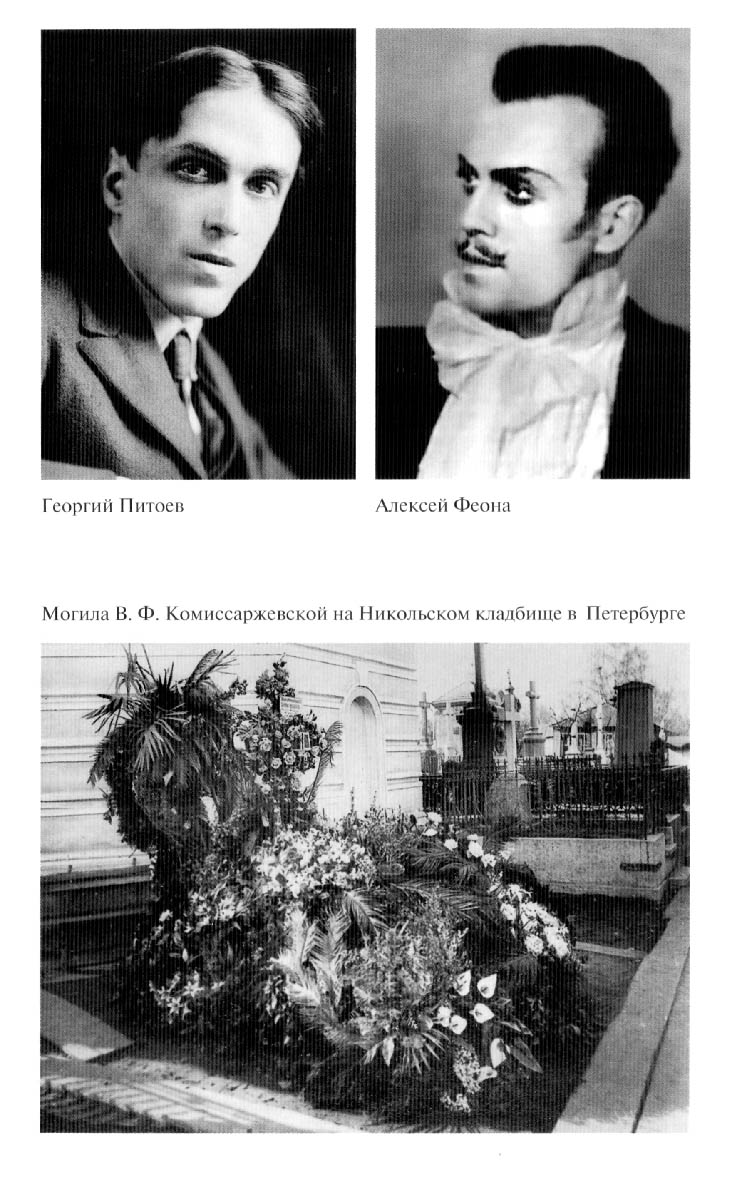

Комиссаржевская, конечно, держит удар — собственно, ничего другого ей не остаётся. Но в душе она неспокойна и ждёт третейского суда в большой тревоге. Это и понятно: притом что рядом с ней бесконечно преданный К. В. Бравич и давно принявший её сторону Ф. Ф. Комиссаржевский, отвечать перед обществом за случившееся должна именно она как первое лицо Драматического театра. Кроме того, обиженный Мейерхольд чрезвычайно активен, он борется за свою репутацию, он создаёт себе рекламу — в любом случае понятно, что он не сдастся без решительного боя. Комиссаржевская боится исхода этого сражения. Брюсову она пишет со свойственной ей неуверенностью в себе: «Я права вся, кругом, и именно потому, что я права, я окажусь неправа»[450]. К счастью для неё, всё сложилось совершенно противоположным образом. 20 декабря 1907 года состоялся третейский суд, который, выслушав дело по обвинению В. Э. Мейерхольдом артистки В. Ф. Комиссаржевской в нарушении театральной этики, постановил: «1. Признать обвинение, возбуждённое В. Мейерхольдом, неосновательным. 2. Признать, что поведение В. Ф. Комиссаржевской основывалось на соображениях принципиального свойства в области искусства. 3. Признать, что форма, в которую было облечено прекращение совместной работы, не является оскорбительной для Мейерхольда. 4. Что Комиссаржевская должна быть ответственна за содержание доклада К. Бравича от 9 ноября. 5. Признать, что означенный доклад не является оскорбительным, ни некорректным, ни даже тенденциозным»[451]. При разбирательстве дела третейский суд запрашивал мнение К. С. Станиславского: может ли антрепренёр освобождать среди сезона режиссёра, оставляя, впрочем, за ним жалованье, установленное контрактом? Станиславский встал на сторону Комиссаржевской. Он сказал, что ничего оскорбительного в её действиях не было, а разрыв с Мейерхольдом основывался не на её прихоти, а на принципиальных творческих разногласиях, делавших невозможной совместную дальнейшую работу. Конфликт с Мейерхольдом был исчерпан. Комиссаржевская вышла из него полной победительницей. Этого нельзя сказать о её театре. Первые пьесы, поставленные и сыгранные после изгнания Мейерхольда, показали, что театр находится в промежуточном, межеумочном положении. Принципы условных постановок отвергнуты, от них резко отшатнулись, хотя некоторые элементы, совсем уже теряющие смысл вне системы, всё же проникли в новые спектакли. Снова встать на накатанные рельсы реализма театр тоже уже не мог. Эта двойственность сказывалась во всём, прежде всего, как ни странно, в игре самой Комиссаржевской, вынужденной опять нащупывать свой стиль, отличный от того, что было прежде. Завершая разговор о Мейерхольде и его роли в творческой судьбе Комиссаржевской, приведём слова С. Городецкого, которые, как кажется, во многом справедливы: «Нужно раз навсегда отмести пошлейшие тогдашние разговоры, что Мейерхольд “погубил” Комиссаржевскую. Озираясь вокруг себя в поисках режиссёра, она никого другого не могла найти, потому что никого, кроме Мейерхольда, и не было. Этот алгебраический схоласт, никогда не знающий, что он делает, в салонах символистов был фигурой постоянной, но внешней. Всегда холодный, он, как ракета, только вспыхивал и не таил в себе даже того слабого, но упорного горения, которое было в театральных мечтах символистов.<...> Но, всегда схематичная, всегда формальная, мысль Мейерхольда решала тогда важнейшую театральную проблему, разрешённую только в наши дни в конструктивизме, и он безжалостно бросил единственный на протяжении всей истории русского театра рефлекторный талант Комиссаржевской на потребу своим опытам формы, которые могли быть проверены на любом, самом провинциальном театре»[452]. Как бы то ни было, после расставания с Мейерхольдом Комиссаржевская вынужденно или добровольно снова встала на путь исканий. Понятно, что искала она теперь совпадения с самой собой. И опасалась, что этого может и не произойти, что утраты, которые она пережила, фатальны. «Если бы Вы знали, каким ужасом объята сейчас моя душа, если б Вы сумели на расстоянии почувствовать это...»[453] — писала она Брюсову в начале января 1908 года. В этом тревожном состоянии страха за своё будущее Комиссаржевская принимает два важных решения. Накануне Нового года она приглашает в свой театр Н. Н. Евреинова, а также молодого режиссёра А. П. Зонова, одно время работавшего с Мейерхольдом. Оба незамедлительно откликаются радостным согласием. Заметим к слову, что режиссёром стал и Ф. Ф. Комиссаржевский, в это время ещё не имевший никакого опыта режиссёрской работы, но очень стремившийся его приобрести. Уже в ноябре 1907 года дирекция театра приняла решение завершить сезон намного раньше обычного и отдать его вторую половину для гастрольной поездки. Убыточный и малопродуктивный сезон (Комиссаржевская сыграла в нём только одну новую роль — Мелизанды) был закончен сразу же после рождественских праздников, 6 января. Чтобы поправить расшатанные материальные обстоятельства, было решено ехать за границу. Совсем недавно, в 1906 году, прошли первые европейские гастроли МХТ (Германия, Чехия, Польша, Австрия), поездка была очень успешной. Гастролировали в Европе и некоторые небольшие труппы. Но в целом дело это было ещё совсем новым. Драматический театр проявил неслыханную смелость, выбрав для гастролей другой континент. «Это была большая ошибка, — писал в своих воспоминаниях Н. В. Туркин. — В Америке <...> театр пока на первых стадиях своего развития; там ютится изгнанная с европейских сцен мелодрама; там ценится больше всего эффектная внешность. Такая артистка, как Комиссаржевская, вся красота и сила таланта которой заключалась в выразительной передаче тонких душевных движений и глубоких переживаний, — не могла сразу покорить американскую публику. Посредственность, облечённая в эффектные внешне краски, гораздо больше доступна вкусу этой публики»[454]. Эта несомненная истина ни Комиссаржевской, ни её ближайшему окружению не была в то время очевидна. Надежда на успешные гастроли, которые к тому же ещё должны принести большую материальную выгоду, придавала ей силы. Надо отметить, что все события, которые произошли в театре после разрыва с Мейерхольдом, сменяли друг друга лихорадочно быстро. 6 января закончили сезон, а 10-го труппа уже выезжает из Петербурга на гастроли. После ухода Мейерхольда Ф. Ф. Комиссаржевский поставил «представление для публики» А. М. Ремизова «Бесовское действо», премьера которого состоялась 4 декабря, и возобновил спектакль по пьесе Ибсена «Строитель Сольнес». Ни то ни другое нельзя было назвать удачей Драматического театра, но во время гастролей необходимо было что-то показывать. В помощь призываются пьесы из старого репертуара, Комиссаржевская берёт с собой также «Гедду Габлер» Ибсена, «Вечную сказку» Пшибышевского, «Сестру Беатрису» Метерлинка; конечно, и прежде всего — «Кукольный дом». Перед отъездом она успевает побывать в Москве — для того чтобы повидаться и проститься с Брюсовым. 10 января в день отъезда труппы из Петербурга Комиссаржевская напишет Брюсову такую записку: «Милый, милый, бедный, я зову, я жду, я жду, я верна. Я»[455]. Как ответ на это письмо прочитывается стихотворение Брюсова «Неизбежность», написанное через год, 22 января 1909 года, если не прямо адресованное Комиссаржевской, то во всяком случае отражающее внутреннюю подоплёку их отношений:
Не всё ль равно, была ль ты мне верна?
И был ли верен я, не всё равно ли?
Не нами наша близость решена,
И взоры уклонить у нас нет воли.
Я вновь дрожу, и снова ты бледна,
В предчувствии неотвратимой боли.
Мгновенья с шумом льются, как поток,
И страсть над нами взносит свой клинок.
Кто б нас ни создал, жаждущих друг друга,
Бог или Рок, не всё ли нам равно!
Но мы — в черте магического круга,
Заклятие над нами свершено!
Мы клонимся от счастья и испуга,
Мы падаем — два якоря — на дно!
Нет, не случайность, не любовь, не нежность,
Над нами торжествует — Неизбежность.
Комиссаржевская пишет Брюсову нежные и грустные письма с дороги, из Европы, где гастролировала перед отъездом в Америку; порой её письма достигают самой высокой ноты откровенности. Это происходит в основном тогда, когда она нуждается в поддержке и просит о помощи. Так, из Варшавы Комиссаржевская сообщает Брюсову об одном тяжёлом для неё впечатлении: «Я играла Беатрису. На сцену бросали цветы. Кто-то бросил письмо. Когда я увидела на цветах белое-белое пятно, стало почему-то страшно. Я открыла конверт: белый лист бумаги, на нём написано: “А я бросаю жизнь мою к Вашим ногам, возьмите её, Беатриса”. Сегодня я получила письмо. Открыла конверт: белый лист бумаги, и на нём большой чёрный крест. Скорей — скорей скажи мне что-нибудь»[456]. Удивительным образом, несмотря на разницу в возрасте (Брюсов был на десять лет моложе Комиссаржевской), в этом романе она даже не пыталась играть роль старшей наставницы. Наоборот, жалуясь и ища у Брюсова поддержки во время конфликта с Мейерхольдом, обращаясь к нему за помощью в своей театральной работе, наконец, изливая ему тревоги и скорби своей души, она играла в их отношениях несвойственную ей роль слабой, зависимой, нуждающейся в его уме, рассудительности и силе женщины. Вернее — неопытной девочки, нетвёрдо стоящей на ногах, не очень земной, во всяком случае — не от мира сего. Чего стоит, например, посланное Брюсову письмо из Америки: «Пусть будет, что было, пусть будет, что будет. Пусть не будет то, что есть. Зачем тебе, зачем мне и что значит, схожу с ума. Быть может, начинаю, подхожу, касаюсь и завидую»[457]. Ю. П. Рыбакова заметила, что «по сравнению с другими письмами В. Ф. Комиссаржевской письма её к Брюсову отличаются литературными заимствованиями»[458]. Исследовательница намекает на то, что актриса в общении с Брюсовым играет новую для себя роль. И в этом есть доля правды: она даже не играет, а чувствует себя с Брюсовым Мелизандой, зачастую говорит как Мелизанда, воспринимает мир как Мелизанда, да и возрастом оказывается внезапно ничуть не старше. Естественно, что она ни секунды не думала поучать Брюсова, как делала всегда со своими возлюбленными, наоборот — обращалась за советами. Она чтила в нём творческий дар, она склонялась не столько перед мужчиной, сколько перед поэтом, который посвятил всего себя своему делу. В этом они были похожи. Ей нечему было его учить — он и сам умел многое. Чего она на самом деле ждала от него? Очевидно, что ждала стихов, которые будут соразмерны её представлению о себе. Получив по дороге в Америку одно из его стихотворений, Комиссаржевская отвечает: «Я благодарна за стихи, но я не хочу благодарить за них. И всё-таки это ещё не Мои стихи. Правда? Мы знаем это, да?»[459] С какой настойчивостью она убеждает его согласиться, как высоко ценит себя (чего стоит одно местоимение «мои», написанное с прописной буквы!). Ю. П. Рыбакова остроумно замечает: «Видимо, ничто из написанного Брюсовым не отразило до конца её сущности»[460]. Собственно, чего ещё могла она желать? Связь их не прервалась до конца её жизни, они переписывались и встречались, с Брюсовым были связаны её последние планы, которые так и не осуществились. Но уже в Америке стало понятно, что отношения их вряд ли будут продолжаться. Первым ударом для Комиссаржевской стало решение Брюсова издать перевод пьесы Д’Аннунцио «Франческа да Римини»[461], которую он передал для постановки Драматическому театру. Мало того, Брюсов, по сути скрыв это обстоятельство, параллельно предложил пьесу московскому Малому театру. Понятно, как обидно и неприятно было Комиссаржевской, узнавшей об этом со стороны, как будто случайно. Вероятнее всего, происшедшее было уже результатом охлаждения к ней Брюсова[462]. Осенью 1908 года Брюсов упомянет эту историю в письме Н. И. Петровской, отношения с которой не прерывались и во время его романа с Комиссаржевской: «...Встреча с Комиссаржевской, — волны безумия, плеснувшие было в берег души, почти мгновенно откатились вспять»[463]. В. Ф. Ходасевич, Брюсова сильно недолюбливавший, писал о той жизненной проекции, которую видел в его любовной лирике: «В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось думать самому автору, а психологический: не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему “припадать на ложе”. Женщины брюсовских стихов похожи одна на другую как две капли воды: это потому, что он ни одной не любил, не отличил, не узнал. Возможно, что он действительно чтил любовь. Но любовниц своих он не замечал.
Мы, как священнослужители,
Творим обряд, —
слова страшные, потому что если “обряд”, то решительно безразлично с кем. “Жрица любви” — излюбленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, человеческого лица у неё и нет. Одну жрицу можно заменить другой — “обряд” останется тот же»[464]. При всей холодности и жёсткости оценок Ходасевича, далёких от объективности, следует отметить, что в поэзии Брюсова Комиссаржевская тоже играла роль такой жрицы. Может быть, именно поэтому тот обобщённый образ, который она находила в посвящённых ей стихах Брюсова, не удовлетворял её? Остаётся сказать, что, несмотря на охлаждение и отдаление, Комиссаржевская сохранила к поэту глубокое искреннее чувство, а не обиду и боль. За год до своей смерти, в январе 1909 года, она приехала в Москву и инициировала свидание. 17 января в записке, посланной Брюсову, пыталась остановить мгновение: «Сегодня. Нежно прошу твою память не отнимать у тебя ничего»[465]. Были, очевидно, и другие свидания, от которых она не только не отказывалась, но прикладывала усилия для их осуществления. Доподлинно известно, что Брюсов тоже не оставался холоден к её призывам. Он подробно отчитывался об этом Нине Петровской: «Сейчас неожиданно получаю записку от В. Ф. Комиссаржевской. Конечно, я не думал, что она в Москве, да вообще не полагал с нею встречаться более. Зовёт прийти, говоря, что очень нужно меня видеть. Иду не без волнения»[466]. О состоявшейся встрече Брюсов пишет совсем в ином тоне, чувствуется его смятение: «Никогда не думал я, что есть у неё столько надо мной власти. <...> Но единственная, кто может повлечь меня в хаос и безумие, — это она. Тебе я говорю это, Нина, потому что хочу Тебе говорить всё. Повтори со мной мою молитву: “Да не будет!” Хочу не хаоса, не безумия; хочу гармонии и стройности с Тобой. Хочу любить Тебя, хочу, чтобы Ты меня любила, хочу, чтобы мы были вместе!»[467] В этом отчаянном вопле Брюсова слышится не равнодушие, не холодность, но страстная увлечённость, с которой он хотел бы, но не в силах совладать. Не случайно Нина Петровская всегда, даже после смерти соперницы, ревновала Брюсова к Комиссаржевской гораздо сильнее, чем к другим женщинам. Внезапная трагическая гибель Комиссаржевской была для Брюсова ударом. Его стихотворение, которым логично было бы закончить эту главу, называется «Памяти В. Ф. Комиссаржевской». За его литературными, почти мифологическими образами встают уже известные нам биографические обстоятельства их встречи, творческого союза и личных отношений:
Как Мелизанда, и ты уронила корону в глубокий родник, Плакала долго, напрасно клонила над влагой прозрачной свой лик. Встретил в лесу тебя рыцарь суровый, пути потерявший ловец. Странницей грустной нежданно пленился, другой тебе подал венец. В замок угрюмый, старинный, старинный он ввёл, как царицу, тебя, Чтил он твой взор и твой голос певучий, тебе поклонялся, любя. Но ты бежала от всех поклонений, с тоской о чудесном, ином... Кто же сразил тебя ночью, жестокий, тяжёлым и острым мечом? Рыцарь суровый, над телом погибшей и руки ломай, и рыдай! Верим мы всё, что открыт Мелизанде желанный и радостный рай.
Глава 14 ПОСЛЕДНИЕ НЕУДАЧИ
Долго ль мне гулять на свете То в коляске, то верхом, То в кибитке, то в карете, То в телеге, то пешком ?А. С. Пушкин
Почти месяц труппа Драматического театра гастролировала по Европе: играли в Белостоке, Лодзи, Варшаве, Вильно. Потом отправились в Париж, где спектаклей запланировано не было. Там Вера Фёдоровна встретилась со своей сестрой Ольгой, которая жила в Париже и занималась скульптурой (что из этого вышло и какова дальнейшая судьба младшей из сестёр Комиссаржевских, остаётся по сей день неизвестным). 18 февраля (по европейскому, «новому» стилю) из города Шербур на пароходе с символическим для мировой истории XX века названием — «Kaiser Wilhelm» труппа отправилась в^Америку и через десять дней путешествия прибыла в Нью-Йорк, где её ждали и встречали весьма торжественно. Навстречу пароходу вышел правительственный катер, на борту которого находились представители американской прессы всех направлений. Вере Фёдоровне был поднесён огромный букет красных роз — её любимых цветов. Пока катер шёл к пристани, она давала подробное интервью. Всё это свидетельствовало о чрезвычайном интересе американской публики к прибывшей из России труппе. Как выяснилось впоследствии, антрепренёр Комиссаржевской Орлов[468] усиленно создавал ей рекламу задолго до её приезда и этим скорее испортил её положение. Она же слепо доверилась этому человеку, поскольку он был известен как устроитель американских гастролей двух русских актёров — П. Н. Орленева и А. Я. Назимовой. Имя Аллы Назимовой, ученицы К. С. Станиславского, которая решилась после гастролей на Американский континент не возвращаться в Россию и стала одной из самых знаменитых звёзд не только театральной сцены, но и немого кино, ещё не раз будет вспоминаться Комиссаржевской. Для гастролей труппы в Нью-Йорке Орлов снял театр Шубертов, антрепренёров Назимовой. Он, конечно, не имел дурных намерений, наоборот, был заинтересован в успехе гастролей, прежде всего материальном, однако вышло так, что с первых же шагов сравнение Комиссаржевской с Назимовой стало главным пунктом почти всех театральных рецензий и впечатлений. Ф. Ф. Комиссаржевский вспоминал: «Назимова, выучившись по-английски, стала играть на родном американцам языке и называться в рекламах “величайшей русской актрисой”. “Коронными” ролями в её репертуаре были Нора и Гильда (Строитель Сольнес), те самые роли, в которых должна была выступить Вера Фёдоровна, “имеющая смелость”, по словам американских газет, “конкурировать с г-жой Назимовой”. Крупнейшей ошибкой антрепренёров Веры Фёдоровны в Америке, говорили потом её тамошние друзья, было открытие спектаклей Норой. В этом дружественные Шубертам и Назимовой газеты увидели желание конкурировать с вышеупомянутой актрисой. К другим бессмысленным поступкам администрации относится глупейшая реклама до начала спектаклей; зачем-то Веру Фёдоровну во всех газетных заметках называли графиней Муравьёвой (её фамилия по мужу), писали о каких-то её богатствах, бриллиантах, мехах; одна из актрис её труппы величалась баронессой, другая графиней и т. д. и т. п. Когда Вера Фёдоровна сердилась, антрепренёр отвечал: “Вы не знаете Америки. Здесь так принято. И это нужно”. Кроме того, Орлов нанял аристократический Daly’s театр на Бродвее, вдалеке от резиденции русской колонии, и назначил дорогие цены на места <...> чем лишил возможности русскую и еврейскую колонии посещать театр. Американская ж публика отнеслась к гастролям очень недоверчиво, а после первых “ругательных” рецензий почти совсем перестала посещать театр, снятый с расчётом именно на неё»[469]. Все эти подводные камни были до поры скрыты от глаз Комиссаржевской и её труппы, но обнажились довольно быстро. К. В. Бравич записывал в своём дневнике: «...18 февраля (2 марта) 1908 г. Нью-Йорк. В понедельник мы открыли в театре “Daly’s” наши спектакли. Шла “Нора”. Публики много, но сбор не полный. Приём большой. После 1-го акта вызывали 5 раз, после 2-го — 10. Также и после 3-го. Спектакль шёл удачно. На другой день газеты разделились. В одних порицали, в других хвалили. В отрицательных отзывах чувствовалось вообще враждебное настроение, видимо, вызванное тем, что мы осмелились начать спектакли “Норой”, в которой здесь стяжала славу Назимова. Как о Нью-Йоркской критике, так и о публике по этому факту легко составить мнение. 19 февраля (3 марта). Театров в Нью-Йорке, вероятно, больше, чем во всей России, чуть ли не на каждой улице театр. Театры по преимуществу лёгкого жанра. <...> В них ставят небольшие пьесы, оперетки, диалоги, и в каждом неизбежно вечер кончается синематографом. Это нечто вроде наших кафешантанов, хотя программа совершенно своеобразная, особенно диалоги. Театры эти очень характерны для американцев. Американец весь день отдаёт наживе, и вот, пообедав в 6—7 часов вечера, он идёт в ближайший к его квартире театр — смеётся там глупым ораторам, смотрит фокусника, синематограф и тому подобную дребедень... 4/ 17 марта. После 2 недель в “Daly’s Theater” на Бродвее 2/15 марта мы сыграли два спектакля — утром (“Бой бабочек”) и вечером (“Огни Ивановой ночи”) в Доун-Тоуне, в театре “Талия”, в районе русско-еврейской колонии. Оба сбора переполненных. Перед спектаклем (утренним) выступила с речью к публике здешняя первая еврейская артистка, объясняя публике дарование В. Ф. Комиссаржевской и прося её со вниманием и не прерывая игры смотреть наши спектакли. Воображаю, как эта публика ведёт себя на других спектаклях, если на наших, несмотря на предупреждение, был такой гвалт, какого я не видывал в театре. Цветам и вызовам не было конца. Свистки как высшее выражение удовлетворения раздавались после каждого акта»[470]. Как видно из этих записей Бравича, всё, с чем столкнулась в Америке Комиссаржевская, даже способы выражения одобрения публикой, было совершенно неожиданно, чужеродно и неприятно. Главная же цель поездки — попытка заработать и тем самым наконец свести концы с концами — не оправдывалась с самого начала. Сборы за спектакли в Нью-Йорке были такими, что их не хватало даже для арендной платы за театр. Антрепренёр Орлов уговорил хозяев театра освободить Комиссаржевскую от аренды, они согласились, но потребовали от неё поездки по провинциальным театрам на весьма невыгодных условиях — 50 процентов от валового сбора. Делать было нечего — приходилось соглашаться. Эту поездку с горькой иронией описывает в своих воспоминаниях Ф. Ф. Комиссаржевский: «Поездка по провинции: Филадельфия, Пугкипси и Ньюгевен, — как и следовало ожидать, никакого материального успеха не имела. В первом городе не оказалось ни одного человека, понимающего по-русски, и в кассе было пусто. Нам стоило большого труда убедить Веру Фёдоровну играть, что было необходимо ввиду большой неустойки за каждый спектакль, отменённый по вине Веры Фёдоровны. Играли “Дикарку”. Немногочисленная публика, состоявшая преимущественно из чернокожих, конечно, недоумевала и безмолвствовала. А управляющий театром, почтенный янки в очках, местный интеллигент, выразитель взглядов обывателей этого города, разговорившись со мной, совершенно серьёзно спрашивал, — правда ли, что у нас в России круглый год зима, что все носят медвежьи шубы мехом наружу и русский царь собственноручно казнит преступников? Играть при таких обстоятельствах серьёзно, конечно, было смешно, и Вера Фёдоровна, всегда серьёзно относившаяся к своим спектаклям, сама предложила закончить представление третьим действием комедии Островского. Так и кончили. И никто из публики не обратил на это внимания. Посидели и тихо разошлись. Помню — очень развеселила публику кошка, вылезшая на сцену во время действия. Выход кошки был единственным явлением, на которое реагировали в этот вечер зрители»[471]. Ф. Ф. Комиссаржевский рисует чудовищную картину обмана и воровства, всевозможных подлогов и афер, с которыми столкнулась русская труппа в таких масштабах, о каких даже не могла подозревать. Америка явилась перед русскими в двойственном обличье: с одной стороны, как страна предприимчивых аферистов, поднаторевших в обмане всякого рода, с другой — как оплот строгой и неподкупной законности. В театры продавали фальшивые билеты, зрителей пропускали на спектакль в обход кассы, за небольшую мзду, публики собиралось много, но при этом сборов не было, и театр не получал и сотой доли того, на что мог рассчитывать при таком наполнении зала. Бывали случаи, когда устроители спектакля, участвовавшие в обмане, скрывались до наступления времени расчёта. И даже пойманным за руку опытным аферистам удавалось выкрутиться из ситуации, оставляя русских служителей прекрасного без законно заработанных денег. Но бывали случаи, когда полиция вмешивалась и прерывала спектакли труппы, если владелец театрального здания не получил свидетельства о пожарной безопасности. Огромные деньги были уплачены Комиссаржевской за право играть в русском переводе пьесы немецкого драматурга Г. Зудермана по закону об авторском праве, который в России того времени не действовал. А «Сестру Беатрису» вообще сняли с афиши, поскольку право на исполнение главной роли принадлежало одной из американских актрис. «В Америке Вера Фёдоровна потеряла около 20 тысяч рублей, а если бы не было спектаклей в еврейском городе, очень удачных в смысле материальном, несмотря на воровство, то ей, да и всем нам, вероятно, пришлось бы, подобно Орленеву, и в тюрьме сидеть, и возвращаться в Европу за счёт доходов американских благотворителей»[472], — грустно подводит итоги поездки Ф. Ф. Комиссаржевский. За два месяца своего пребывания в Америке Вера Фёдоровна давала интервью, кажется, чаще, чем за всю свою жизнь в России. Это тоже сильно отличало американскую прессу от русской. Ею постоянно интересовались, ей задавали самые разные вопросы, в том числе неожиданные: о её отношении к животным — кошек или собак она предпочитает, интересовались её мнимым богатством, спрашивали о бриллиантах, которые были широко анонсированы ещё до её приезда в Америку. Всё это не могло не обескураживать. Были, конечно, и вопросы более серьёзные: о полученных ею впечатлениях во время гастролей, о собственной миссии, как она её видит, о дальнейшихпланах. Приведём несколько цитат из этих интервью, чтобы почувствовать, каково было настроение Комиссаржевской в Америке и с какими ощущениями она возвращалась на европейскую землю. «Вы можете считать, что наши гастроли неудачны, но какого рода эта неудача? Не было финансового успеха, это ясно каждому, но я приехала сюда не в поисках американского золота, как говорили обо мне некоторые. Это была неудача в том смысле, что вашу публику не волновала наша игра, и эта неудача на вашей совести»[473]. «Я полагаю, что причиной небольшого интереса к нашей труппе было то, что американцы не могут ещё воспринимать простоту в искусстве. То, что просто, не вызывает у них интереса. Это вывод не только из моего актёрского опыта. <...> Ваша аудитория не очень разбирается в искусстве и мало обеспокоена этим»[474]. «Для меня самым большим препятствием была проблема языка. Сейчас я понимаю все трудности лучше, чем прежде. Тонкие подробности в трактовке диалога, смысл которых целиком зависит от актёрского исполнения, безнадёжно теряются. Представление становится подобным пантомиме, и актёр может привлечь к себе внимание интонацией голоса, самой игрой, жестикуляцией и общей манерой поведения. <...> Но я не считаю, что именно незнание языка явилось причиной слабого интереса к нашей игре»[475]. «...Ваша публика в массе своей не одарена критическим вкусом, не испытывает интереса к серьёзным формам драмы. Кажется, она любит театр как лёгкое развлечение, не имеющее подлинно художественной ценности. Кажется, зрители не замечают, что часто пьесы бывают неудачны с художественной точки зрения, игра актёров — на том же уровне. Они принимают любое представление как дети»[476]. «У вас очень мало опытных и проницательных критиков. Нет ничего лучше для публики, для пьесы и для актёра, чем хороший критик, человек с серьёзным и честным взглядом на развитие искусства. Но я полагаю, нигде больше в мире не может быть допущена такая критика, как здесь. Чаще всего кажется, что у них не больше вкуса, чем у остальной публики, и нет способности восторгаться простыми впечатлениями. Они считают, что лучший способ изображения характера на сцене — эффектная, кричащая карикатура на него. Некоторые из них предельно безответственны в своих замечаниях и бедны мыслью»[477]. «На предложение американских критиков как-нибудь сократить её неудобопроизносимую фамилию актриса ответила отказом: “Назимова <...> гораздо проще, чем Комиссаржевская, хотя и Комиссаржевская кажется мне достаточно простой фамилией. Я понимаю, что американцам сложно произнести моё имя, но я бы хотела играть только на моём родном языке, потому что это мой родной язык, и я не могу изменить своё имя, потому что это моё имя, имя, под которым меня знают, имя, под которым я работала все эти годы. Мне кажется, что моё имя — часть меня”»[478]. 28 апреля 1908 года Вера Фёдоровна садится на лайнер «Kaiser Wilhelm», чтобы вернуться в Европу. Свою работу в Америке в письме Л. Н. Андрееву она назовёт «варварской», ей требовались отдых и лечение, она хотела прийти в себя. До конца июля Комиссаржевская оставалась в Германии и делами практически не занималась. К началу августа она вернулась в Петербург — нужно было готовиться к давно запланированным на сентябрь московским гастролям. К 3 августа съехалась и вся труппа, состав которой практически не изменился. За лето прояснилась кандидатура нового первого режиссёра, который был приглашён и принял предложение дирекции. Им стал Н. Н. Евреинов. Молодой актёр А. А. Мгебров, который работал в театре в последнем сезоне, о режиссёрском дуэте Евреинов — Комиссаржевский писал так: «Сезон 1908/09 г. прошёл под художественным руководством Фёдора Фёдоровича Комиссаржевского, брата Веры Фёдоровны, и Николая Николаевича Евреинова, сменивших Мейерхольда. Одному, Евреинову, принадлежал день в театре, другому, Комиссаржевскому, — вечер и ночь. И один был подобен шумному, яркому, солнечному дню, другой — тихой и бледной, лунной ночи. Оба искали путей совершенно различных»[479]. В конце августа в труппу Комиссаржевской по приглашению А. П. Зонова пришёл ещё один молодой актёр — В. А. Подгорный. Он вспоминал свою первую встречу с Верой Фёдоровной, с которой судьба совсем скоро крепко его свяжет: «Две электрических лампочки у зеркала на столе освещали маленькую и неуютную каморку, именуемую уборной знаменитой русской актрисы. Женщина в большой шляпе сидела за столиком. Она протянула мне руку. <...> После довольно длинной паузы, во время которой незаметно исчез из уборной Зонов, она спросила: “Вы хотите служить у меня в театре?” — “Да, очень”. — “Ну, что же! Весь вопрос в бюджете, — улыбнулась Вера Фёдоровна. — Впрочем, мне кажется, мы сойдёмся. Я уверена, что сойдёмся. Да? Вы уже служите у меня?” — “Да, служу”. Так я вступил в её театр»[480]. Владимиру Подгорному, получившему в труппе Драматического театра прозвище Чиж, в это время шёл двадцать первый год. Другой молодой актёр, А. А. Мгебров, ровесник Подгорного, который был принят в театр на излёте мейерхольдовской эпохи, вспоминал о своей первой встрече с Комиссаржевской более откровенно: «Наконец наступил день, когда я должен был в первый раз прийти к ней для настоящего знакомства. Меня ждали. После нескольких слов приветствия Вера Фёдоровна опустилась в кресло, предоставив говорить мне. Я заговорил... Как я волновался! я говорил о разном, рассказывал о себе длинно и наивно — она же всё молчала... Только моментами менялось её лицо... Разумеется, я говорил не о том, о чём хотелось, говорил слова, но искал её... Она же пытливо приглядывалась и то улыбалась, то недоумевала, и всё больше, всё сильнее. Наконец ужас овладел мною. Мне стало невозможно говорить дальше. Я встал. Она протянула мне руку, и этот миг остался мне глубоко памятен. Вдруг вся она внезапно изменилась. “Колдунья” — пронеслось в моей голове. Всё во мне странно насторожилось... Ещё мгновение, и она стала так очаровательна, как могут быть только волшебницы. Я затрепетал, сконфузился, растерялся, не мог отыскать замка, потерял шляпу; она же нервничала и помогала, но неумело, небрежно и как-то даже враждебно. Наконец всё отыскалось, дверь открылась, ещё раз прощанье, ещё раз протягивается её рука, и то же мгновение, то же очарование. “Как она прекрасна”, — прошептал я. “Колдунья” — пронеслось снова в мозгу. Я вышел затуманенный»[481]. Способность уже совсем не юной Комиссаржевской внезапно преображаться и, сверкая глазами, в буквальном смысле завораживать, зачаровывать иногда даже совсем молодых людей, вызывать в них не только ответный восторг, но и готовность идти за ней до конца, служить ей, не справляясь о практической исполнимости её устремлений, упоминается во многих мемуарах. Первой потухала чаще всего она сама, зачастую нанося своим партнёрам очень чувствительную душевную травму. Так, собственно, произошло и с влюблённым в неё Мгебровым. Но об этом немного позже. В Москву собирались ехать с четырьмя старыми, возобновлёнными постановками («Кукольный дом», «Строитель Сольнес», «Сестра Беатриса», «Пелеас и Мелизанда») и тремя новыми — «Франческа да Римини» Д’Аннунцио, «У врат царства» Гамсуна и «Дикаркой» Островского-Соловьёва. Началась жаркая пора репетиций; особенно тщательно репетировали «Пелеаса и Мелизанду» и «Франческу да Римини». Рискнём предположить, что не только по причине занятости в этих пьесах почти всей труппы. В большей степени, вероятно, потому, что обе они были освящены авторитетом и присутствием в них Брюсова, который в Москве должен был увидеть их на сцене. Театр выехал в старую столицу в полном составе в последних числах августа. Перевозили с собой и весь гардероб, и декорации, что требовало немалых денежных затрат. «Финансы театра были напряжены до крайности, — вспоминает актёр Александр Дьяконов, в то время исполнявший обязанности секретаря Комиссаржевской, — неудача гастролей грозила катастрофой. Но почему-то все ехали в Москву в весёлом настроении, с уверенностью в успехе...»[482] Думается, это настроение можно понять: после недавних переживаний, которые довелось испытать актёрам на Американском континенте, нынешняя поездка сулила только радость. Так и вышло. Московская публика на этот раз с восторгом приняла Драматический театр, в том числе и «Франческу да Римини», которая удостоилась выгодных сравнений с постановкой в Малом театре, куда Брюсов, как мы помним, поторопился отдать свой перевод. Наиболее холодно был встречен Метерлинк. 14 сентября Комиссаржевская пишет Брюсову красноречивую записку: «“Я должен знать правду, иначе я не могу умереть”. “Пелеас и Мелизанда”. Надо Вас, как не надо никогда. Мне надо знать, надо ли мне ждать Вас. Я прошу телеграммы с одним словом: да или нет»[483]. Возможно, здесь речь шла не столько о личной встрече, сколько о посещении Брюсовым спектакля «Дикарка», назначенного на 17 сентября, день именин Веры Фёдоровны. Этим спектаклем Комиссаржевская собиралась отпраздновать 15-летие своей сценической деятельности. Для нас важен, конечно, тон этого письма, очевидно, умоляющий. Комиссаржевская чувствовала, что Брюсов уходит от неё. Чествование актрисы 17 сентября прошло под несмолкаемые овации, ей подносились адреса, букеты и венки, зачитывались приветственные телеграммы от ведущих драматургов, актёров, режиссёров и театральных коллективов. Был также венок от редакции журнала «Весы» и издательства «Скорпион» — приветственный жест со стороны Брюсова. Однако сам он, видимо, всё-таки не присутствовал на торжестве. Вместо Брюсова с пространной речью выступил Андрей Белый, который говорил о Комиссаржевской как о представительнице театра будущего. С подкупающей самоиронией он вспоминал об этом вечере: «...Один из спектаклей был превращён в чествование; мне поручено было сказать ей приветствие; занятый до отказа писанием, я относился рассеянно ко всем общественным функциям; и в этот вечер я был столь рассеян, что не обратил внимания на вопиющее нарушение мною тогдашнего правила: при сюртуке неприличны цветные ботинки; а мои ноги, освещённые рампой, кричали в партер двумя рыжими пятнами — верх неприличия! И я смутился: приветствие вышло весьма угловатым; выговаривая его, я имел всё тот же неприятный объект: кричащие рыжие пятна ботинок; миниатюрная женщина, с бледным и несколько помятым лицом (я его разглядел в полном свете), с большими глазами, глядящими из синевы, меня слушала с удручавшим вниманием; вдруг резко она шагнула ко мне, по-мужски сжавши руку, тряхнула её»[484]. Заметим к слову, что это была вторая встреча с Андреем Белым: их знакомство состоялось несколько раньше, в Петербурге, куда Комиссаржевская пригласила его прочитать лекцию о Пшибышевском. Третье, самое значимое свидание произойдёт между ними через год, тоже во время московских гастролей Драматического театра. Конечно, в этот вечер она ощущала себя снова в зените славы, таково было воздаяние за неудачи американских гастролей. Может быть, именно благодаря им Комиссаржевской удалось преодолеть разрыв между собой нынешней и собой прошлой. Перед пустующими американскими залами, перед публикой, не понимавшей по-русски и не желавшей вживаться в сложности психологизма, ей было не так трудно искать свой артистический стиль, утраченный в сотрудничестве с Мейерхольдом. Теперь она снова жила на сцене — это отмечали все критики, даже самые недоброжелательные. Она по-прежнему, несмотря на все катастрофы и провалы, сияла яркой звездой российского театра. Но была ли она счастлива в тот вечер, сказать наверняка трудно. 1 октября 1908 года пьесой К. Гамсуна «У врат царства» Драматический театр открыл новый сезон в Петербурге. Особый интерес вызвала постановка «Франчески», которая была показана на Офицерской 4 октября. Спектакль, впервые по воле судьбы представленный в Москве, а не в Петербурге, был первой работой Н. Н. Евреинова в Драматическом театре. Как пишет К. А. Чекалов, «в нём впервые обкатывались положения театральной эстетики Евреинова, включая принцип “монодрамы”, когда характер сценического оформления должен был меняться в соответствии с внутренним состоянием героини»[485]. Подход нового режиссёра к постановке подразумевал сочетание живописного и музыкального начал, «мистическую напевность», световые эффекты и был, конечно, тоже совершенно новаторским и экспериментальным. К пьесе Д’Аннунцио он относился как к блестящему произведению, позволяющему развернуть его режиссёрские принципы. Актёр А. Желябужский, вынужденно введённый в роль Паоло в разгаре репетиций, вспоминал о разногласиях между Евреиновым и Комиссаржевской: «Работая над “Франческой”, Евреинов всё внимание уделял сценам, в которых Аннунцио колоритно и сочно передал внешний быт эпохи Ренессанса — жизнь средневекового замка, нравы его обитателей. Эти сцены он отделывал самым тщательным образом, основными же психологическими сценами интересовался меньше, предоставляя их мастерству Веры Фёдоровны, Бравича и Неволина, игравших главные роли. Работа со мной — партнёром Веры Фёдоровны — была предоставлена ей. Сам Евреинов заботился лишь о внешнем рисунке этих сцен, их ритмопластике. Тут он был настойчив и придирчиво требовал точного выполнения его указаний. Вера Фёдоровна безропотно подчинялась его требованиям. Это был период увлечения его “театрализацией”, которую она считала подлинным новаторством. Но аннунциевская “Франческа” увлекала её всё меньше»[486]. Эта пьеса, действительно далёкая от сценической правды, полна отвлечённой риторики, гипербол, натуралистических сцен, смакования жестокости. Все злодейства, описанные автором, режиссёр не только не затушёвывал, но наоборот, всячески обыгрывал, считая их наиболее выигрышными эпизодами с точки зрения театральности: «Как хотите, а в этом красота! Сила всегда красота! И как это театрально — клокочут страсти: ненависть, ревность, месть»[487]. Для Комиссаржевской главное значение пьесы и роли Франчески было в трагической поэзии и красоте внезапного и сильного любовного чувства, которое сметает всё на своём пути. Репетируя с Желябужским роль Паоло, она говорила ему: «Давайте разбираться в его “натуре”. Образы у Аннунцио интересные, но написаны трудно. Я не в восторге от этой вещи. Есть сильные места, но много риторической шелухи, зёрна истинной поэзии приходится освобождать от неё»[488]. Перед премьерой Комиссаржевская была фактически уверена в провале, в собственном провале — прежде всего, её больше не увлекали ни сама пьеса, ни образ Франчески, который оказался (и это можно было предвидеть) ей не по размеру. Как актриса она не была создана для трагедии. День, когда пьеса была показана на сцене театра на Офицерской, Желябужский называет в своих мемуарах «судным днём». В зале присутствовала вся творческая интеллигенция обеих столиц: А. Блок, Ф. Сологуб, В. Брюсов (!), Вяч. Иванов, Л. Андреев, крупнейшие театральные критики и художники. Пессимистические ожидания Комиссаржевской полностью оправдались. Её обвиняли в том, что она снова замкнулась в оковы модернизма, не говорит, а холодно декламирует, трагические сцены играет с ненужным надрывом и ролью Франчески не прониклась. Спектакль, на который возлагали большие надежды как на главный «козырь» сезона, на который потратили много средств и сил, сняли после третьего представления. Вскоре после этого последовал провал постановки Ф. Ф. Комиссаржевского, тяготевшего к условному театру и страстно желавшего проявить свои режиссёрские таланты. Спектакль из двух модернистских пьес — «Госпожа Смерть» Рашильд и «Балаганный Прометей» А. Мортье — не вызвал никакого зрительского интереса. Театр пустовал. В это самое время пришло официальное разрешение на постановку пьесы О. Уайльда «Саломея». Было решено поставить спектакль в рекордные сроки — за две недели. Режиссёром стал Н. Н. Евреинов. Одновременно шла работа над совершенно новой вещью — пасторалью Глюка «Королева Мая», которая включала сложные вокальные партии, для драматических актёров зачастую представлявшиеся неисполнимыми. О репетициях этой музыкальной пьесы, на постановку которой в России Драматическим театром были получены исключительные права, вспоминает молодой актёр труппы А. Н. Феона, который играл одну из главных ролей: «Путешествуя с братом Фёдором Фёдоровичем по Европе летом 1907 года[489], Вера Фёдоровна увидала “Королеву мая” на сцене придворного театрика одного из многочисленных немецких владетельных князей. Вера Фёдоровна осталась в восторге и тут же постаралась добыть клавир. Вернувшись в Петербург и делясь со мной своими впечатлениями о поездке, она рассказала, что ей удалось набрести на прелестную музыкальную вещицу Глюка, которую Ф. Ф. Комиссаржевский будет ставить в этом сезоне как маленький, но настоящий музыкальный спектакль с оркестром, хором и балетом... — Но как же, Вера Фёдоровна, Вы рассчитываете поставить музыкальный спектакль с драматическими актёрами? Ведь у нас никто не поёт? — спросил я. — Как это никто не поёт? — ответила Вера Фёдоровна. — А Вы? — Что Вы, Вера Фёдоровна, какой же я певец... Это я так, для себя... — отвечаю я, смутившись. — Вот и неправду Вы говорите! — смеясь говорит Вера Фёдоровна и шутливо грозит пальцем. — Я помню, как Вы в Озерянах пели. Все наши дамы заслушались... даже помню, что Вы пели, — цыганский романс “Сгубили меня твои очи”... Так вот, мы с Фёдором Фёдоровичем решили поручить Вам в “Королеве мая” партию маркиза де-Монсупир... — заканчивает Вера Фёдоровна уже серьёзно. Заметив моё смущение и неуверенность в своих силах, Вера Фёдоровна добавляет: — У Вас несомненный голос, Алёша... Вам надо с кем-нибудь заняться... Ну, хотя бы с Тартаковым. Я слыхала, что он отлично ставит голоса... Поговорите с ним! — А Вы, Вера Фёдоровна, будете участвовать в “Королеве мая”? Вера Фёдоровна оживляется. — Обязательно! Там есть очаровательная роль травести-пастушок Флинт... буду петь и танцевать! Вам не кажется, Алёша, странным, что я собираюсь петь и танцевать? Кажется ли мне это странным? Нисколько! Я-то отлично знал, как любила и умела В. Ф. Комиссаржевская петь и танцевать — факт, прошедший мало замеченным для её биографов. <...> Всех нас необыкновенно интересовало, как Вера Фёдоровна будет репетировать эту необычную для неё роль, но Вера Фёдоровна проходила свои сцены вполголоса и наше любопытство не могло получить удовлетворения. И вот, на одной репетиции, незадолго перед премьерой, Вера Фёдоровна запела и заиграла — и восторгам нашим не было конца! У Веры Фёдоровны был чарующий своеобразный голос — меццо-сопрано, переходящее в контральто, хотя, по внешности, в ней можно было бы скорее предположить высокий голос. К этому надо прибавить удивительно приятный грудной тембр и идеальную для драматической актрисы музыкальность... Вера Фёдоровна своим голосом сумела тонко передать очарование кудрявой глюковской музыки. Декорации и костюмы работы Калмыкова были восхитительны и выдержаны в тонком стиле старинной пасторали. В. Ф. Комиссаржевская в трико, облегавшем её стройную фигуру, в шёлковом кафтане и жабо, с посохом и цветами в руках, с лукавой полуулыбкой на устах, была живым олицетворением галантного пастушка. <...> Успех в “Королеве мая” Комиссаржевская имела огромный — все были поражены новой яркой гранью её таланта»[490]. Казалось, успех пришёл в театр и с рекордной по срокам постановкой «Саломеи». Генеральную репетицию посетили не только литераторы, критики и художники, но были приглашены также депутаты Государственной думы, в том числе Пуришкевич, а также представители городского управления. Театр хотел показать, что, вопреки слухам, в постановке нет ничего богохульного, ничего порнографического. Постановку оценили очень высоко, она была признана одним из самых значительных достижений Драматического театра. В спектакле сочетались и интересные находки режиссёра, и талантливое декоративное решение художника С. И. Калмыкова, и специально написанная музыка В. Т. Каратыгина. На первые три спектакля все билеты в театр были распроданы. Гром среди ясного неба грянул в самый день премьеры «Саломеи». В 11 часов утра в театр пришла бумага, запрещавшая постановку пьесы. «И это после разрешения цензурой, после разрешения градоначальника печатать, в продолжении почти трёх недель, анонсы о пьесе!»[491] — горестно восклицает А. П. Зонов. Спектакль был отменён, деньги за билеты возвращены публике. Зонов вспоминает: «Неожиданное запрещение постановки “Саломеи”, стоившей около 25 тысяч, подорвало вконец материальную сторону театра. Больнее всех эта неожиданность, конечно, затронула Веру Фёдоровну. Постановка удалась, впереди возможность сборов, интереса к театру, и вдруг почти безвыходное положение. Поднимался вопрос о закрытии театра и роспуске труппы»[492]. Чтобы спасти театр, труппа готова была играть без жалованья. Комиссаржевская решила вопрос иначе: она скрепя сердце вернула на сцену старый репертуар — испытанное средство, к которому она прибегала уже не один раз. Он не требовал материальных затрат, пьесы были давно поставлены и отрепетированы. Острота материальных проблем была отчасти снята этим компромиссом. Неплохие сборы давала и «Королева Мая»[493]. Собственно, эту пьесу можно назвать последним удачным реализованным проектом Драматического театра на Офицерской. Но, как справедливо замечал один из театральных критиков того времени, такими экзотическими находками, как опера Глюка, не может существовать драматический театр. Вопрос репертуара обострялся и становился всё более неразрешимым. В октябре 1908 года Комиссаржевская переписывается с Л. Н. Андреевым — он предлагает ей на выбор две пьесы, одну «простенькую, реалистическую, весьма незатейливую» — «Любовь студента». И вторую, «Чёрные маски», — «символическую, сложную, с большими трудностями для постановки». Ф. Ф. Комиссаржевский, тяготевший к иррациональным, мистическим произведениям, стремившийся испробовать свои силы в режиссуре, кумиром которого был Метерлинк, пришёл в восторг от идеи поставить в Драматическом театре «Чёрные маски» и убедил в этом Веру Фёдоровну, которой пьеса Андреева не очень понравилась. Постановка этой пьесы требовала больших материальных затрат, а театр находился в бедственном положении. Но брат убеждал её, что новый спектакль станет художественным событием, не уступающим по значимости «Саломее», и это поправит дела. Кроме того, полагаем, что, ведя предварительные переговоры с Комиссаржевской, Андреев сознательно или случайно затронул тему, которая сыграла решающую роль. Он написал ей о своих отношениях с МХТ: «От постановки “Масок” театр отказался: и очень дорого, и очень трудно, и негде показать себя артистам, измученным безличностью ролей в “Синей птице”. А как заявил Станиславский на своём торжестве, они снова возвращаются к реализму — от которого, в сущности, и не уходили далеко. Ихний символизм — частью добросовестное заблуждение, частью лёгонькое кокетство и желание показать свои силы. <...> Отдаю судьбу “Масок” в Ваши руки, дорогая Вера Фёдоровна. Уверен, что Ваш театр сделает всё возможное и покажет Художественному театру (как это было с “Жизнью человека”), что и с малыми денежными средствами могут достигаться большие результаты»[494]. Это письмо никак не могло оставить Комиссаржевскую равнодушной, прежде всего, благодаря лестному сравнению её театра с МХТ, ироническому упоминанию о приверженности Станиславского к реализму, от которого он так и не смог уйти, рассуждению о его неудачных попытках освоить стилистику символизма. Даже упоминание о недостаточности материальных средств Драматического театра в этом контексте звучало как похвала. Станиславский, располагающий куда более очевидными возможностями, отказался от «Чёрных масок», испугался сложностей постановки — Комиссаржевская же не испугается. Такая убеждённость в её силах и таланте, в возможностях созданной ею труппы со стороны именитого писателя не могла не льстить, требовала немедленного согласия. Конец осени 1908 года был для Комиссаржевской чрезвычайно труден. Почти каждый день она была занята в спектаклях, преимущественно из старого своего репертуара — «Бесприданнице», «Кукольном доме», «Родине» — работала без особой творческой радости, ради спасения театра. «Делая это, я изменяю себе как художнику»[495], — говорила она. Как считал Ф. Ф. Комиссаржевский, именно в это время Вера Фёдоровна испытала сомнение в возможности продолжать дело своего театра и в глубине души перестала верить в него. А. Желябужский вспоминает: «Усилилась изнурявшая её бессонница. <...> Она засыпала, сплошь и рядом, только под утро, и её старались не тревожить иногда до полудня. Помимо повышенной нервности, причиной бессонницы было, конечно, чрезмерное потребление кофе. Вера Фёдоровна пила его в течение всего дня, особенно во время работы. За кулисами часто можно было видеть её театральную горничную с подносиком, на котором стояла красиво отделанная серебром и эмалью чашка крепкого чёрного кофе. Вера Фёдоровна отпивала из неё в перерывах между выходами. К концу спектакля она бывала часто настолько возбуждена, что не могла идти домой и просила кого-нибудь из нас побродить с ней. Обычно эта честь выпадала на долю одного из “трёх мушкетёров” — так называли в театре Феону, Подгорного и меня. Гуляли чаще всего по безлюдной в эти часы набережной Екатерининского канала»[496]. В это время, очевидно, завязался ещё один роман Комиссаржевской, о котором известно крайне мало. Её возлюбленным стал молодой актёр Владимир Подгорный. Нам не всегда достоверно известно, какие отношения, только ли дружеские, только ли профессиональные, соединяли её с другими молодыми актёрами труппы. А их было множество, и все приблизительно ровесники: А. Желябужский, А. Феона, А. Мгебров, В. Подгорный, Г. Питоев... Разговоры вокруг беспорядочных связей Комиссаржевской велись всегда; к тому времени, о котором идёт речь, они расцветились новыми красками. Главной темой теперь был, конечно, возраст предполагаемых любовников. Одно из выразительных свидетельств об этой стороне жизни Комиссаржевской принадлежит А. А. Мгеброву: «В противовес мне, Феона был чрезвычайно выдержан и спокоен в жизни, но и он временами терял это спокойствие до смешного. Помню, в Иркутске же, на вокзале, когда мы уже уезжали, мы сидели вчетвером: Вера Фёдоровна, Феона, Чижик-Подгорный и я... Вдруг Феона уставился на Веру Фёдоровну и в течение целого часа не спускал с неё глаз... Вера Фёдоровна мило проводила рукой между собой и его глазами, отмахиваясь от него, смущённо улыбалась и говорила всё время: “Да не смотрите на меня так, Алёша”. А он смотрел... он не смотрел, а глядел на неё исступлённо жадными глазами. Впрочем, непосредственность этого взгляда была так очевидна, что сердиться на него было невозможно, и Вера Фёдоровна не сердилась... Загрустил к тому времени что-то и Подгорный... Я же замкнулся в своей жажде жертвенного подвига во имя той, кого избрала душа моя, как свою властительницу и владычицу, в мир которой я хотел проникнуть»[497]. 2 декабря состоялась премьера спектакля «Чёрные маски». Вопреки ожиданиям Ф. Ф. Комиссаржевского, выложившегося на этой сложной постановке, изобилующей массовыми сценами, зал уже на втором спектакле наполовину пустовал. Спектакль тоже был убыточным. Последней постановкой сезона была пьеса Ф. Грильпарцера «Праматерь», перевод которой был заказан А. Блоку ещё до отъезда в Америку. Блок выполнил перевод в срок, однако Комиссаржевской он не нравился. Она бы с удовольствием отказалась от этого спектакля, но перед Блоком ей было неловко, да и Ф. Ф. Комиссаржевский режиссировал его с упоением. Музыку к спектаклю писал М. А. Кузмин, декорации делались по эскизам А. Н. Бенуа. На премьере, как вспоминает А. П. Зонов, оформление Бенуа вызвало такой взрыв аплодисментов, что актёры смутились и не сумели передать темперамент пьесы, захватить зрителя. Спектакль успеха не имел, хотя Блоку он понравился. Комиссаржевская на премьере не играла. Рассуждая о причинах этих трагических неудач Драматического театра, следовавших одна за другой, Л. Я. Гуревич писала: «Сцена представляла собой резкое по художественной красоте зрелище, но она не жила тою волнующей, захватывающей, проникающей в тайники нашего сердца жизнью, какую развёртывает перед нами настоящий театр, где творческое сотрудничество драматурга, актёров и режиссёра создаёт образцы новой, не взятой из природы, но божественно-одушевлённой действительности. Все усилия режиссёров оказывались тщетными: они не могли пробудить актёров к настоящему сценическому творчеству, в труппе не было сил, способных перевоплощаться в героев Грильпарцера или д’Аннунцио»[498]. Возможно, что наблюдения за молодыми актёрами собственной труппы, вышедшими из разных театральных мастерских, индивидуальная работа с ними над ролями, занимавшая Комиссаржевскую, дали ей пищу для размышлений о будущем театра, о необходимости школы, формирующей актёров нового типа, а не просто обучающей актёрскому мастерству. «На масленице, — пишет Зонов, — Вера Фёдоровна серьёзно захворала, почему даже были отменены два спектакля с её участием, но для последнего, несмотря на болезнь, она выступила в 100-й раз на петербургской сцене в роли “Норы”. Кто мог предполагать, что этот последний спектакль будет прощальным для петербуржцев, прощальным навсегда...»[499] На последние спектакли сезона в театр пришёл, как называла это сама Комиссаржевская, «её зритель». Она чувствовала поддержку зала, то тепло, которого ей остро не хватало всё последнее время; она выходила на бесчисленные вызовы со счастливой улыбкой, но еле держась на ногах. Сцена была завалена цветами. Комиссаржевская плакала. Её угнетённое настроение легко объяснимо. Театр, на который она возлагала такие надежды, который считала делом своей жизни, явственно шёл ко дну. Спасти его было уже практически невозможно. Снова планировалась и организовывалась длительная (шестимесячная) гастрольная поездка, теперь — по Сибири и Дальнему Востоку, но даже самые хорошие сборы могли только покрыть существующие долги. Будущее театра казалось ей весьма и весьма сомнительным. Драматизм положения усугублялся ещё и тем, что собственного будущего как актрисы Комиссаржевская не видела. Лучшими её ролями до сей поры были роли юных девушек, почти девочек, которые она играла с первых своих сезонов, и молодых женщин, борющихся за личное счастье, за свободу проявления своей личности, за любовь, задушевную цельность. И хотя Комиссаржевская взрывала амплуа изнутри, вместо пассивности, ребяческого лепета и неуверенных движений давая «три наиболее существенных элемента» внутренней жизни героинь — «молодость, падение и смерть»[500], а эти символические «элементы» были лишены жёстких возрастных ограничений, ей всё-таки шёл сорок пятый год. Она трезво отдавала себе отчёт в том, что наступает иное время. В прессе, даже в театральных рецензиях, уже давно мелькали суждения критиков о её возрасте и внешности, не позволяющих создавать достоверные художественные образы юных героинь. Писали, что на сцене она выглядит намного старше своих лет. А образ жизни и необходимость постоянной работы, особенно во время изнурительных гастролей, ситуацию, конечно, не улучшали. Другие актрисы, которые сталкивались с подобными проблемами, обычно меняли своё амплуа. Так поступили в своё время Савина и Ермолова, но у Комиссаржевской другого амплуа не было. Несколько лет назад, когда обсуждался вопрос её поступления на сцену МХТ, Станиславский советовал обратить внимание на так называемые «характерные» роли, чтобы таким образом расширить свой репертуар и не замыкаться на ролях обаятельных молодых женщин. Комиссаржевская не послушалась этого совета. Может быть, это стало одной из причин, отвративших её от МХТ: диктат режиссёра в выборе ролей она не принимала категорически. Таково было свойство её артистической индивидуальности. Она умела играть только себя саму. В одном из интервью в самом начале 1909 года она признавалась: «Верьте мне, я молода ещё, испытания последних двух лет дали мне новые силы, я начинаю понимать, где и как надо искать красоту»[501]. Самоощущение человека редко совпадает с его действительным возрастом, тем более самоощущение женщины, тем более — актрисы... 10 февраля 1909 года труппа Драматического театра отправилась в поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Через неделю, прибыв в Иркутск, Комиссаржевская заболела воспалением среднего уха. Но через два дня вышла на сцену. В. А. Подгорный вспоминал: «Она приехала в город совсем больной, температура была высокой, сильные боли в ухе и голове, и врачи опасались, что придётся делать трепанацию черепа. А через два дня надо было начинать гастроли. Не начать их вовремя — значило бы испортить всю поездку, потому что болезнь актёра — причина для публики неуважительная, и была серьёзная опасность, что срыв первого спектакля поколеблет доверие сибиряков. А доверие было велико: все билеты на объявленные в Иркутске спектакли были проданы. Она решила играть назначенный спектакль — “Дикарку”. И мы были так жестоки, что не воспротивились этому. Было страшно смотреть за кулисами на Веру Фёдоровну в этот вечер. Ей пришлось разбинтовать голову, она еле стояла на ногах перед выходом, и всё время ей давали пить холодный чёрный кофе. <...> Она вышла на сцену как ни в чём не бывало: юной лукавой “Дикаркой”, заразительно смеющейся, бегающей, шалящей. Она увлекала всех нас неожиданными красками, бешеным темпом своей игры, мы едва успевали следовать за ней. Победа была полной. Доверие оправдано. Наутро она лежала в забытьи, и в Петербург отправили телеграмму, запрашивающую какого-то знаменитого хирурга»[502]. Так начались очередные долгие и трудные гастроли, которые Подгорный остроумно назвал «великий сибирский путь». Комиссаржевской, на этот раз победившей свою болезнь, предстояло многое решить в себе и вокруг себя. Перспективы были туманными.
Глава 15 ФЕНИКС
Высоко горю и горю до тла, И да будет вам ночь светла.М. Цветаева
После выздоровления Комиссаржевской гастроли были продолжены в Иркутске, потом в Чите. В середине марта труппа по КВЖД прибыла в Харбин. Поезд пришёл на станцию ночью. В. А. Подгорный вспоминает: «Было холодно. Вокзал был пустынен. В буфете мы пили чай, и она писала письма друзьям. Выбрав в киоске одну открытку, на которой был изображён какой-то из бесчисленных китайских божков, она сказала: “Я пошлю её Ремизову. Он будет так доволен этим уродцем. Он их очень любит. Он и сам немножко похож на него. Правда?”»[503]. Нельзя не оценить и острого юмора Веры Фёдоровны, и какой-то удивительной жизнеспособности. Она ни минуты не кривила душой, заявляя, что чувствует себя молодой и полной энергии. В Харбине Комиссаржевская жила в отвратительной гостинице недалеко от вокзала, но очень далеко от здания театра. Снять приемлемую квартиру на время гастролей так и не удалось. С 15 по 26 марта она играла ежедневно. Однако, несмотря на крайнюю усталость, повторяющиеся головные боли, напряжённую работу (ведь кроме спектаклей шли репетиции), находилось время и на короткие путешествия. Подгорный описывает одно из них, и в этом рассказе склад характера Комиссаржевской высвечивается наиболее отчётливо: «Как-то мы взяли экипажи и поехали из Харбина за четыре километра в китайский городок Фудзяндзян. Там мы провели целый день, и большая часть дня была отдана китайскому театру, из которого Вера Фёдоровна ни за что не хотела уйти, а представление длилось с утра до вечера. Она восхищалась как ребёнок спектаклем китайцев, смотрела на сцену блестящими глазами и даже вскрикивала от восторга или ужаса. Стоило большого труда уговорить её покинуть бесконечное представление китайской труппы. Мы пошли бродить по грязному Фудзяндзяну, заходили в лавки и наконец попали в какую-то кумирню. Много золотых, серебряных и бронзовых богов увидели мы там — многоруких, многоногих и многоголовых. Она непременно всё хотела потрогать руками. Служитель смотрел на неё подозрительно, я обратил её внимание на это. “Я знаю, но мне так хочется дотронуться до всего. И во всех музеях, я знаю, неприлично трогать вещи руками, а я не могу утерпеть и непременно потрогаю”»[504]. Это детское желание всё потрогать руками, это упорство в осуществлении своего намерения во что бы то ни стало, даже понимая, насколько оно несуразно и неприлично, — тоже проявление жизнелюбия, живого интереса к окружающему. Молодой и уже потому открытый миру Подгорный быстро устаёт от непонятного китайского спектакля, хочет уйти, но увести Комиссаржевскую не может. Она, как ребёнок, хлопает в ладоши и приходит в неистовый восторг от экзотики, красок, музыки, танца. В своё время символисты предложили концепцию театра-храма, основанного на идее мифа и соборности по модели античного искусства. Основой такого театра должны были стать мистерии, возвращающие театру его религиозную природу. Театр будущего, по их мнению, был призван формировать, воспитывать гармоничного и творческого нового человека: «Театр должен окончательно раскрыть свою динамическую сущность; итак, он должен перестать быть “театром” в смысле только “зрелища”. Довольно зрелищ, не нужно circenses. Мы хотим собираться, чтобы творить — “деять” — соборно, а не созерцать только: “zu schaffen, nicht zu schauen”[505]. Довольно лицедейства, мы хотим действа»[506]. Возможно, нечто мистериальное Комиссаржевская увидела в китайском представлении, на которое случайно попала накануне своего отъезда из Харбина. Гастроли продолжались во Владивостоке, потом в Хабаровске, Никольско-Уссурийском, Чите, Верхнеудинске, снова в Иркутске, Красноярске, Томске, Новониколаевске, Омске, Челябинске... Поездка растянулась на такой срок и на такое гигантское пространство снова из-за малоопытного администратора труппы, которому вверилась Комиссаржевская. Но, несмотря на усталость, впечатлений было множество и, кажется, большей частью радостных: и природа Сибири, и приём публики — всё нравилось. В одном из интервью она говорила: «...Много простора и солнца. Особенно красив Байкал, его берега напоминают мне Норвегию, норвежские фиорды. Из городов мне больше других понравился Владивосток. Между прочим, была в окрестностях некоторых городов и была поражена красотой сибирской природы»[507]. Неизменным спутником Комиссаржевской в этом путешествии был, как это явствует из мемуаров, Владимир Подгорный. Изредка она обменивается с ним записками, в которых звучат очень знакомые мотивы: «“Я жажду напитка, невидимого на земле и которого не могло бы мне предложить небо” (Кто это?). Выполнены ли заветы на этот день? Чужое»[508]. Всё — от первого, почти экзаменационного вопроса об авторстве приведённой цитаты, до придирчивого контроля за выполнением неведомых нам, но, очевидно, строго определённых заветов, и подписи «Чужое» говорит о типе отношений между Комиссаржевской и Подгорным. Она снова принимает на себя роль наставницы, мудрой путеводительницы, добровольно передающей своему «воспитаннику» творческий огонь своей вечно юной души. Да это и понятно — Подгорный моложе своей возлюбленной на 23 года. Подобные же темы звучат и в её письмах из-за границы, куда Комиссаржевская отправилась сразу после гастролей. Денег на отдых, правда, не было, несмотря на удачную в материальном смысле поездку по Сибири. Один из антрепренёров предложил ей выступить с несколькими спектаклями на выставке в Казани, с тем чтобы сборы с них пошли только на её нужды. В Казань она отправляется вместе с Подгорным: «Её гастроли в Казани, на выставке, пользуются большим успехом. Она всегда была “счастливой” гастролёршей. Но антрепренёр жалуется: сборы не такие, на которые он рассчитывал. Однажды, после спектакля, она говорит, печальная и растерянная: “Вы понимаете, он просит уступить. Он говорит, что ему тяжело платить мне 400 рублей от спектакля. Я не знаю, как быть...” 400 рублей от спектакля — не такая уж большая сумма для Комиссаржевской, и я очень прошу её не уступать, быть твёрдой, помнить, что иначе ей не было никакого смысла ехать сюда, что ей необходимы деньги для лечения. После последнего спектакля она приходит сияющая. “О, я была тверда! Я даже сама не ожидала, что буду такой непреклонной. Вот — смотрите!” И она высыпает на стол кучку золотых монет. Она садится считать деньги, добытые тяжким трудом. “Это — на лечение, это — на дорогу, это — на платье, это — Оле (сестре. — А. С.-К.), это — долг”, — говорит она, откладывая в сторону золотые столбики»[509]. Отсутствие практической смётки — тоже детская черта, вечная зависимость от умения вести дела мужчины, находящегося поблизости, К. В. Бравича, брата Феди, разнообразных антрепренёров, теперь случайно оказавшегося рядом Подгорного. Месяц Комиссаржевская проводит в Вильдбаде, где проходит курс лечения, потом едет на несколько дней в Берлин и Париж. Из Берлина пишет Подгорному: «Мне кажется, что я уже немного еду к Вам. Мы, кажется, любили жить»[510]. Употреблённое ею прошедшее время — элемент актёрской игры: она по-прежнему любит жить. В Париже Комиссаржевская проводит время с молодым актёром Георгием Питоевым, развлекается, отдыхает: «Рано начинался день в Париже. И так мало времени. Столько надо, столько надо! <...> Как только успевали! Когда видели, что действительно невозможно успеть, разбежались в разныестороны, каждый со своим списком. На Avenue l’Орега Вера Фёдоровна заходила в магазин по одной стороне улицы, я по другой. И с какой быстротой, скорее французов. И довольна была Вера Фёдоровна, что так всё хорошо успеваем! В магазине Louvre нас просто попросили уйти: магазин запирали, громадными холстами покрывали прилавки, всё укладывали, а Вера Фёдоровна отдёргивала холсты и всё выбирала, — “нужное, самое нужное”. Мы вышли из Louvre последние. За нами несли громадную корзину покупок»[511]. Вечером того же дня они посещают американский Luna Park, развёрнутый на ярмарке: русские горки, карусели, мостик «кек-уок». По свидетельству Питоева, Комиссаржевская не пропускала ни одного развлечения, стояла по полчаса в очереди, чтобы попасть в лодку и слететь с высокой горы в воду, и тут же, не теряя времени, бежать на другой аттракцион. Интересно вспоминает об этом Н. Д. Кистенёва, с которой Комиссаржевская сдружилась в своей последней гастрольной поездке: «Мне рассказывала Катя Ильина, жившая в Париже с Олей Комиссаржевской, как однажды Вера Фёдоровна, будучи в Париже, пошла на народные увеселения, вроде тех, что бывают у нас в Москве под Девичьим. Один из аттракционов привлёк её внимание — движущиеся половицы — одна в одну сторону, а другая в другую, окружённые сеткой, так как все пробующие обязательно падают. Вере Фёдоровне очень захотелось пробежаться. Когда она взошла наверх, публика обратила внимание, предвкушая комическое падение в сетку. Но каково же было общее удивление, когда Вера Фёдоровна, уловив ритм движения досок, быстро помчалась вперёд. Добежав до конца, вся сияющая, она приняла аплодисменты зрителей»[512]. Какая яркая характеристичная подробность: бесстрашно взобраться на самый верх, не боясь стать посмешищем, броситься вниз по плавающим доскам, всем своим существом ощущая их ритм, — и получить взрыв аплодисментов в финале! Из Парижа Комиссаржевская съездила на один день в Мюнхен — посмотреть постановку «Юдифи», пьесы немецкого драматурга-романтика Ф. Геббеля, которой она в это время заинтересовалась. Но ей не повезло — спектакль в Мюнхенском театре был заменён «Фаустом». Тем не менее Комиссаржевская принимает решение поставить «Юдифь» со своей труппой. 5 августа 1909 года она возвращается в Петербург и в течение двух недель живёт у матери в Царском Селе. Отношения между Верой Фёдоровной и братом в это время дали трещину. Ещё перед сибирской поездкой она съехала из квартиры, которую снимала совместно с ним (вернее, это были две квартиры, расположенные так, что образовывали фактически единое помещение). Фёдор Фёдорович не участвовал в гастролях. В его письмах и мемуарах прочитываются намёки на скрытый конфликт. Личные отношения между ними, однако, не прерывались. Ещё в самом начале 1909 года Комиссаржевская отказалась от дальнейшей аренды театра на Офицерской улице. В нём уже обитали новые арендаторы, но в августе труппе Драматического театра разрешили временно проводить репетиции в фойе. В свой театр Комиссаржевская приходила теперь в роли гостьи. А. Дьяконов вспоминал: «Актёры уже съехались. В день первой репетиции, в верхнем фойе “Драматического театра” все с нетерпением ждут Веру Фёдоровну... Она входит в зал приветливая, радостная, весёлая. На ней летний голубой костюм и чёрная шляпа с страусовыми перьями. Изящна как парижанка... Говорит, улыбаясь, что прекрасно отдыхала летом за границей и чувствует себя теперь очень бодрой и сильной. Её лицо дышит молодостью, ярко, светло горят глаза, стремительны движения и жест...»[513] 8 августа проходит первая считка пьесы Геббеля «Юдифь». Л. Я. Гуревич, отдавая должное энергии Комиссаржевской, отмечала: «Характерно, что пустившись в своё странствие, которое продолжалось около года, лишь с небольшим перерывом для летнего отдыха, — несмотря на все тяжести, тревоги, неприятности, которые должны были бы вконец истомить её, она находит силы для постановки новых пьес. И чрезвычайно характерно также, что в число этих трёх её постановок входят две превосходные старые пьесы, ставшие уже классическими: трагедия Геббеля “Юдифь” и “Трактирщица” Гольдони[514]. <...> Теперь не оставалось, кажется, ничего, что было бы в её силах и чего бы она не испробовала»[515]. Третьей и последней постановкой Комиссаржевской была пьеса современного драматурга Пшибышевского «Пир жизни», переделанная из его же романа. Она не понравилась ни одному из актёров, но всё же была выведена на сцену. Действительно, упорству и энергии Комиссаржевской можно только подивиться: она ездит по всей стране, преодолевая гигантские расстояния, непрерывно играет сама, репетирует, ставит пьесы в суете переездов и гастрольных выступлений, а в это время в её душе происходит невидимая никому, но чрезвычайно интенсивная внутренняя работа, результаты которой станут очевидны уже совсем скоро. После нескольких спектаклей в петербургских предместьях, в том числе и в Озерковском театре, где когда-то Комиссаржевская начинала свой триумфальный путь на сцену, 29 августа труппа выехала в Москву на гастроли. Спектакли давали в театре «Эрмитаж». 10 сентября состоялась премьера «Юдифи», 16 сентября впервые играли «Хозяйку гостиницы». Если во второй пьесе, где Комиссаржевская исполняла роль лукавой жизнерадостной трактирщицы, успех был полный, то «Юдифь» фактически провалилась. Г. Питоев с горечью вспоминал: «В Юдифи была вся Вера Фёдоровна... Но великий образ творчества встретила холодная толпа — холодная Москва. Больно это говорить, но на нас, приехавших этой осенью в Москву, повеяло от любимого города холодом, и всё время между сценой и зрителями стояла холодная стена. Больно чувствовала это Вера Фёдоровна, страшно больно, потому что любила Москву. Холодные, с определённым желанием найти “нехорошее”, приходили москвичи в “Театр Комиссаржевской”, и всюду слышалось...“надо играть Дикарку, Бесприданницу, а нового не надо, новое не хорошо... Ошибки... Фокусы... Неестественно”... — и все эти слова трафарета»[516]. Публику, которая приходила в театр, интересовало — как Комиссаржевская в роли Юдифи будет отрубать голову Олоферну. Увы, этой сценой, как, впрочем, и всей трагедией, зрители остались разочарованы. Неизвестно, объясняется ли это особенной холодностью московского зрителя, как ощутил это Питоев, или действительной неспособностью Комиссаржевской сыграть трагическую роль. Мы помним её неудачи в «Отелло» и «Гамлете», после которых она долгие годы не бралась за трагедии, потом — во «Франческе да Римини», и новая попытка опять не удалась. Дело было не в опыте, не в возрасте, а в чужеродное™ материала её природному складу. Может быть, не так уж неправ был когда-то Синельников, увидев в Комиссаржевской прежде всего комическую актрису. Однако для Веры Фёдоровны роль Юдифи была чрезвычайно важна. 17 сентября в день своих именин она играла именно Юдифь, словно подчёркивая этим внутреннюю близость к героине. Вероятно, и неодобрение критики, и холодность публики она воспринимала очень остро и болезненно. То, что Москва в этот раз осталась равнодушна к Драматическому театру, — истинная правда. В газетах появляются отзывы: «Комиссаржевская была неинтересна, Комиссаржевская была слаба» и особенно часто — «Комиссаржевская делала не своё дело». Если раньше вся вина падала на Мейерхольда, заставившего её играть так, как играть ей было противопоказано, то теперь каждая неудача вменялась в вину ей самой. Один из критиков писал по поводу «Юдифи»: «Я не хочу сказать, что талант Комиссаржевской потускнел. Он достаточно ярок. Но почему-то уже хочется спросить: “ну, где же Комиссаржевская?” Где то, что может сделать только Комиссаржевская? <...> Возьмём хотя бы этот приезд её к нам. <...> В Юдифи, грозной, карающей, библейской Юдифи слышны интонации из “девочки Рози”. Эта Юдифь не может отрубить головы Олоферну. Она может рисовать “бой бабочек” на веерах. И хорошо рисовать, но убивать — никогда. И действительно, сцена обезглавления совсем не удаётся Комиссаржевской»[517]. Это упорное стремление публики повернуть её вспять, в сторону реалистической драмы, заставить отказаться от поисков живого и нового материала, не просто обескураживало — мучило её. Л. Я. Гуревич вспоминает, как после одного из представлений «Родины» Зудермана, где Комиссаржевская играла от безысходности после запрещения «Саломеи», овациям не было конца. На сцену вырвался какой-то студент и прочитал ей приветственный адрес, в котором артистка превозносилась за то, что открыла России... Зудермана. Вера Фёдоровна ушла со сцены бледная, со слезами на глазах и потом долго сидела в своей уборной, сжимая руками виски, с остановившимся взглядом и повторяла: «Ах, если бы они знали, если бы они знали...»[518] Возможно, то решение, которое уже созрело в Комиссаржевской ко времени её приезда в Москву, не давало ей играть с полной отдачей. Здесь, видимо, настало время поговорить о том, куда уводил её совершенно особый, оригинальный, неожиданный выбор. Видимо, ещё летом, во время отдыха в Германии, Комиссаржевская окончательно сформулировала для себя то, что давно уже маячило перед её внутренним взором, не принимая отчётливых очертаний. Она решила оставить сцену. Не давая зарока, предполагая, что возвращение в будущем возможно, но всё же — закрыть театр, распустить труппу, не играть больше. Это решение легко объяснить усталостью, разочарованностью артистки, неудачами последних лет. Однако была у него и другая, позитивная, сторона, до поры совершенно скрытая от посторонних взглядов. Программой на будущее Комиссаржевская стала широко делиться с окружающими только с осени 1909 года. Её сокровенной мыслью, к воплощению которой она теперь направила все свои недюжинные силы, стало создание школы нового человека. В этой формулировке нет ошибки. И сколько бы ни было логичным предположить, что опытная актриса, ощутив тупик сценической деятельности, владея тайнами мастерства и театральной техники, решила теперь поделиться своими навыками с молодым поколением и подготовить для театральных подмостков новую плеяду актёров, — эта версия только в малой степени отражает грандиозный план, возникший у неё летом 1909 года. О своём проекте она настойчиво сообщает нескольким людям, которых хочет завербовать, сделать будущими сотрудниками новой школы. Все они, что называется, знаковые личности, избранные. Их объединяет несколько общих черт. Прежде всего они — люди искусства, беззаветно ему преданные. Кроме того, обладают, как и она сама, незаурядной энергией и волей к воплощению своих устремлений. И наконец, это люди идеи, из их рук она фактически и получила тот материал, из которого вылепила собственную концепцию. Одним из первых, кого Комиссаржевская «посвятила в рыцари», был Андрей Белый. В своих воспоминаниях он почти воспроизводит её эмоциональную сумбурную речь, когда она в доверительном разговоре «вылепетала» ему душу: «...Она устала от сцены; она разбилась о сцену; она прошла сквозь театр: старый, новый; оба разбили её, оставив тяжёлое недоуменье; театр в условиях современной культуры — конец человеку; нужен не театр; нужна новая жизнь; и новое действо возникает из жизни: от новых людей; а этих людей — ещё нет; вот почему устремления театральных новаторов обрываются недоуменным вопросом; актёра — нет: его надо создать; его не создашь, коли не создашь в нём нового человека; нового человека выращивать надо с младенчества; мы же все искалечены: артисты и люди; она, более чем другие, тем именно, что театральная культура ненужно обременила её; это она из тоски своей поняла; и вот: опыт свой и все силы стремлений решила она посвятить воспитанию нового человека-актёра; перед нею носилась картина огромного учреждения, чуть ли не детского сада, переходящего в школу, и даже в театральный университет; преподаватели-педагоги этого невиданного предприятия должны быть избранными людьми, тоскующими по человеку, она хочет сплотить их, они должны ей помочь»[519]. Как узнаются в художественном изложении Андрея Белого черты речи Комиссаржевской! «Вы мне должны помочь», — писала она в своё время Чехову, потому что это дело моей жизни, потому что если эта моя вера разобьётся, то «убьёт во мне всё, с чем только и имеет для меня смысл жизнь»[520]. Аналогичную аргументацию и те же самые формулы она применяет, вербуя Андрея Белого. Но теперь она не просто просит о помощи, она убеждает его стать одним из самых активных деятелей на той ниве, которая простирается перед её взором. «Всё это с быстрыми, лёгкими телодвиженьями, то приближаясь вплотную, то отбегая», — буквально требует от него поддержки и единомыслия. «Откликнуться, взять, по её словам, в руки “младенца” — значило: ему отдать свою жизнь», — с очевидностью понимает Белый, а ведь у него всегда, и в это время в особенности, есть собственные сферы, в которых он интенсивно вращается и которым посвящает всего себя: «Только что в руки отдали мне “Мусагет”; только что дал я согласье д’Альгейму быть в “деле” его: а чем кончилось это согласие? В Брюсселе ждала меня Ася; а тут наперерез всему, бросив всё, я был должен по убеждению артистки пуститься уже в настоящее кругосветное путешествие, где “паспорт” на него? И — где средства?»[521] Комиссаржевская не ошибалась, так горячо уповая на согласие Андрея Белого, одного из страстных идеологов и пропагандистов символизма. Надежда на рождение нового человека, даже нетерпеливое ожидание его появления одухотворяли эту эпоху. Уже в поздние годы, объясняя по пунктам свою приверженность символизму, Белый писал: «...символическая школа ставит себя под знак теории символизма как обоснования нового культурного творчества, которого источник — новый человек в нас»[522]. За этим новым человеком в себе Белый проделывал рискованные путешествия в глубины собственного духа и за его пределы, ездил к Рудольфу Штайнеру, строил Гётеанум и всякий раз оказывался на передовой линии эпохи. Так что в своём выборе Комиссаржевская нисколько не ошиблась. И Белый не нашёл в себе сил отказать ей: «Что сказать о таком разговоре? Только то, что он выступил изо всех берегов; воспроизвести — нет возможности: разговор, построенный на импрессиях, оспариваньи друг друга; сказалась в нём вся тоска этой прекрасной души, блеск утопий, невоплотимых в действительность; зачем она выбрала меня конфидентом своих стремлений? Лет восемь назад и я мечтал о создании “человека”; кончил же... злобою дня; то, с чего начал я, к этому теперь приводил её огромный театроведческий опыт: опыт утраты человека театром; мой же жизненный опыт как раз начался с разбития детских утопий о человеке-младенце в условиях тогдашней действительности; не мог же я её, разбитую в своём опыте, добить моим опытом; и я обещал ей всемерно думать о планах её; и посильно на них откликнуться; она требовала — непосильного...»[523] Действительно, уже после отъезда из Москвы на гастроли Комиссаржевская не оставляет Белого в покое, она штурмует его телеграммами, заставляя снова и снова вспоминать о состоявшемся разговоре, думать её думы, реализовывать её планы. Вернее, хочет, чтобы он принял их как свои собственные. Её намерение создать школу казалось многим случайным капризом, как в своё время капризом называли решение Комиссаржевской покинуть Александринский театр ради создания собственного. О своём настроении накануне принятия этого решения она писала сестре Ольге: «Я пришла к большому решению и, как всегда, верная велениям в себе художника, подчиняюсь радостно этому решению. Я открываю школу, но это не будет только школа. Это будет место, где люди, молодые души, будут учиться понимать и любить истинно прекрасное и приходить к Богу»[524]. В этом неожиданном заявлении ощущаются и мистические прозрения символистов, и их религиозная философия, связанная с концепцией театра-храма. Конечно, идею свою Комиссаржевская буквально вдохнула из сгущённого воздуха эпохи, но конкретный план практической реализации её — дело совершенно другое. За это никто ещё не брался, и теоретики всегда оставались теоретиками. Собственно, создание такой школы — своеобразный Гётеанум[525] на русской почве. И к его строительству тоже привлекаются первые лица отечественного искусства. Приведём монолог Комиссаржевской в передаче её сотрудника А. Дьяконова (Ставрогина): «Мне совершенно безразлично, где будет школа — в Москве или Петербурге. Но я предпочитаю последний из-за практических соображений. В Петербурге имеется самый большой художественный материал для школы: Эрмитаж, академии, ценные музеи, прекрасные памятники различных эпох... Затем, нужные мне лица тоже там: Ал. Бенуа, В. Иванов, Добужинский, Бакст, Ал. Блок... Наконец, при московском Художественном театре своя школа — весьма влиятельная, и мне, в соседстве с нею, было бы труднее работать в совершенно новом направлении... Для москвичей — В. Брюсова, А. Белого — можно будет устроить систему гастролей. <...> Я считаю в высшей степени полезным и необходимым для школы близость и общение с природой. Нужно как можно чаще устраивать возможные экскурсии, и образовательные, и просто как наилучший отдых. Лекции в лесу, в окрестностях, в поле... Не говорю уже о необходимости постоянного общения с памятниками искусства, старины. <...> <...> В школе проектируются пока два отделения: драматическое и музыкально-пластическое. Оба в самой тесной связи, в зависимости, оба всесторонне освещённые. Искусство музыки, искусство пластическое должны иметь огромное воспитательное значение для развития в каждом искусства драмы, и должны быть средством достижения новых художественных задач. Специально оперного класса не будет. <...> Искусство живописи, к сожалению, больше музеи, чем класс. Но это только пока... Кроме двух отделений, как вывод из предыдущего, может быть образовано третье — режиссёрский класс. <...> Курс элементарный. Физическое воспитание, гимнастика, игры, — по новейшей системе; постановка и развитие голоса, дыхания, дикции, речи; гигиена голоса; пластика и танцы, — à lа Дункан; теория музыки, музыкальные занятия; экспериментальная психология; краткая анатомия, мимика, работы грима. Теорию музыки я буду просить читать Надежду Яковлевну Брюсову. Она прекрасно знает всё... А пластикой и танцами приглашу руководить лицо, окончившее школу сестры А. Дункан. Такая школа уже пользуется популярностью в Германии. Или же буду просить госпожу Книппер. <...> Курс изучения сценического искусства. История русской литературы, история русского театра; предлагаю пригласить Н. А. Котляревского, Ф. Д. Батюшкова, П. О. Морозова. История древней и европейской литературы, и история их театра — В. И. Иванов, А. А. Блок, бар. Н. В. Дризен, П. О. Морозов. Теория искусств, эстетика — А. Белый. История живописи — Ал. Н. Бенуа, А. Л. Волынский. История быта и костюма — Ф. Ф. Комиссаржевский. История драмы и нового европейского театра — В. Я. Брюсов, С. А. Венгеров. Конечно, не всё дело в курсах, а и в лекторах. <...> Теперь — самое главное: практические занятия... Я беру их на себя... Школа отнюдь не должна учить лицедейству. Развитие темперамента и индивидуальности каждого должно идти в полной свободе. Ничего нарочитого, никаких навыков и трафаретов сцены... Нужно, чтобы творила душа, воображение, воля... Нужно, чтобы все жили красотой, поэзией, лирикой... Принцип свободного обучения полный, и он — основа всего. <...> Кстати, я ещё не придумала, какое дать название проектируемому художественному учреждению»[526]. Забавно звучит эта последняя фраза, венчающая каскад фантастических построений. Как будто только за названием и оставалось дело... Из записанного Дьяконовым монолога Веры Фёдоровны можно воссоздать масштаб того учреждения, которое она задумала. Масштаб в духе архитектурных проектов Французской академии эпохи Империи. Комиссаржевская настойчиво повторяла одну и ту же фразу о том, что не собирается учить в своей школе лицедейству, то есть давать определённую профессию, она хотела уйти от неизбежной узости, которую заключает в себе профессионализм. Она мечтала о том, чтобы со временем на сцену вышел не просто актёр, а свободный художник, чутко откликающийся на зов современности, органически ощущающий красоту, обладающий глубокими познаниями, несущий в себе бережно выращенное дарование. Этот новый человек сумеет изменить театр до неузнаваемости, сделать его храмом вдохновения, вернуть ему изначальное сакральное значение, о котором то и дело напоминал в своих эстетических трудах Вяч. Иванов. Себя саму она видела корифеем «хора», берущим трудную и почётную миссию возрождения театра на новых началах. Но каким образом это гигантское мероприятие могло осуществиться? Каковы были практические планы Комиссаржевской? Откуда она могла взять необходимые средства? Раньше, когда речь шла об организации театра, она сама зарабатывала деньги во время своих скитаний по России — гастролями, с одной стороны, подорвавшими её силы, с другой — принёсшими ей всероссийскую славу. Но теперь она наотрез отказывалась от актёрской деятельности. Эта сторона остаётся непонятной и непрояснённой. Разговор о смете, правда, то и дело поднимался в её письмах. Вера Фёдоровна обращалась к брату, прося его продать то, что возможно, из театрального реквизита, который был собран любовно и тщательно за время деятельности Драматического театра. Понятно, что часть средств, заработанных во время последней поездки, которая планировалась до конца весны 1910 года, Комиссаржевская намеревалась пустить на новое предприятие. Но всё же практическая сторона, как кажется, не была ею продумана детально. Впрочем, времени до нового сезона, когда она собиралась открыть свою школу, оставалось ещё много. Рассуждая о характере Комиссаржевской и её способности мгновенно зажигаться и гаснуть, брать на себя непосильную ношу, сгибаться под её тяжестью и снова подыскивать «дело жизни», которое неминуемо принесёт разочарование, А. Р. Кугель писал: «Она уже мечтала о школе, и если бы мечта её о театральной школе осуществилась, это было бы не более, как новой вспышкой “Ивановых огней”, для которых, конечно, понадобились бы новые вязанки хвороста и, следовательно, новые скитания по Ташкентам. А лично ей, Комиссаржевской, зачем была школа? Почти так же мало ей она нужна была, как и театр для “исканий” Мейерхольда...»[527] В этом рассуждении есть, конечно, доля истины. Но в том-то и состоял главный механизм личности Комиссаржевской, что она никогда не могла бы удовлетвориться малым, погрязнуть в рутине, беречь себя, отказаться от поисков, внутренне замереть. В том легковоспламеняющемся составе, которым была пропитана её душа, содержалась необычайная притягательность для окружающих. Когда она зажигалась, то могла свернуть горы. Но таилась в нём и страшная испепеляющая сила, угрожающая и любому делу, за которое она бралась, и — прежде всего — самой Комиссаржевской. Она называла себя Гамаюн, но в ней было намного больше от Феникса, неизменно обращающегося в пепел и неизменно воскресающего в прежнем великолепии. Проект школы был новым оперением Феникса, которое уже просвечивало сквозь языки беспощадного пламени. Кроме А. Белого, которого, только что уехав из Москвы в Ригу, Вера Фёдоровна засыпает телеграммами, видимо, чувствуя непрочность их договора, ей удалось привлечь к своему проекту Ю. К. Балтрушайтиса, оказавшегося более податливым. Для переговоров с Комиссаржевской о будущей школе он специально приезжает из Москвы в Харьков, где в ноябре продолжаются гастроли труппы. Балтрушайтис вспоминал впоследствии: «С самого начала нашей первой беседы было слишком ясно, что её решение непоколебимо и бесповоротно, равно как определённо чувствовалось, что оно стоило ей глубокой и, может быть, долгой внутренней борьбы. Но шаг уже был решён, и в изумительном, всем известном голосе Комиссаржевской звучали одухотворённость и ясность подлинного внутреннего подвига, который перерождает человека»[528]. Эх, не был знаком ещё Юргис Казимирович с Комиссаржевской в 1903 году, когда она собиралась открывать свой театр. Иначе он, как и мы сейчас, непременно ощутил бы почти художественную магию повтора: та же борьба, то же неколебимое решение, тот же отчаянный шаг в никуда, то же ощущение подвига, который перерождает человека. После разговора с Балтрушайтисом, состоявшегося 13 ноября, будущее, видимо, настолько прояснилось перед её внутренним взором, что она приняла окончательное решение и сочла возможным поделиться им с труппой. Актёры, конечно, понимали, что готовится какая-то перемена, но ничего конкретно ещё не знали, кроме нескольких избранных, хранящих своё знание в тайне. 16 ноября по просьбе Комиссаржевской, которой самой трудно было произнести слова прощания, Аркадий Павлович Зонов огласил написанное ею накануне письмо. Оно состояло из трёх пунктов: «по окончании этой поездки я ухожу совсем из театра»; «театр в той форме, в какой он существует сейчас, — перестал мне казаться нужным»; я ухожу «с душой, полной более чем когда-либо ясной, твёрдой веры в неиссякаемость и достижимость истинно прекрасного»[529].
 Труппа встретила решение Комиссаржевской неоднозначно, но всё же в большинстве желала ей блага и восхищалась её жизненной энергией. Сразу оговоримся, что перед актёрами Комиссаржевская все обязательства за сезон выполняла намеченными гастролями. То, что будущий сезон висел на волоске и фактически был обречён, связано не с её внезапным капризом, а с объективными обстоятельствами — Драматический театр не выстоял, пришёл к своему печальному, но естественному концу. Смена труппы и сцены для актёра в то время была делом привычным, тем более если речь шла о таком сравнительно небольшом сообществе, как театр Комиссаржевской. Конечно, многим было грустно расставаться, в том числе и с Верой Фёдоровной, которую в труппе любили. «...Удивляюсь силе Веры Фёдоровны, искренне желаю успеха»[530], — записал А. П. Зонов, выражая, как кажется, общее ощущение. В личном письме он высказывал не только восхищение, но и другие противоречивые чувства, которые, наверное, охватили многих сотрудников театра: желание и практическую невозможность остаться при школе Комиссаржевской, опасение за её будущее, сознание, с одной стороны, значительности избираемой ею миссии, с другой — почти очевидной невозможности её осуществления, и при этом — сожаление о её уходе в момент наивысшего развития дарования, при непрерывных овациях, на какую бы сцену она ни выходила: «Дело в том, что на будущий год театра Комиссаржевской не будет. Вся она теперь бредит школой. Оставаться у неё в школе трудно будет, деньги проклятые заедают. В провинцию очень уж ехать не хочется. Самое бы идеальное было остаться в Питере, чтобы быть около школы. Миссию взваливает на свои плечи Комм[иссаржевская] огромную. Перед выездом из Харькова объявил по труппе, прочитав письмо Комм[иссаржевской]. <...> Дела блестящи. “Пир жизни” идёт первым номером. Здесь в Полтаве тоже уже выброшен аншлаг. Сбор опять будет “выше полного”»[531]. И при этом блеске успеха и полных сборах отказываться от театра, уходить в другую область, гасить огни рампы!
Трагически отреагировал на решение Комиссаржевской покинуть сцену К. В. Бравич. После сибирских гастролей он отошёл от Драматического театра. Сказалась усталость длинного пути, пройденного бок о бок с Комиссаржевской, с которой, несомненно, очень трудно было находиться постоянно рядом. Вспоминая впоследствии Комиссаржевскую, А. А. Мгебров довольно точно писал о ней то, о чём не решались упоминать «многие, кто хотел любить Комиссаржевскую... Эти многие умалчивали с великою, я бы сказал, фарисейскою грустью обо всём теневом и страшном в ней и всегда с необыкновенным пафосом какой-то голубой любви превозносили её небесный, необыкновенный, исключительный талант, стремясь и душу её нарядить в этот талант... Сквозь призму его они смотрели на неё, и для них Комиссаржевская и — “белая чайка”, “белая лилия”, “нездешняя”, “небесная”, “струна натянутая”, “струна незримая” и — бог знает ещё что... Всё это верно... Всё это так. Комиссаржевская была такова, когда звучала, как актриса, перед восхищенною и умилённою толпою... Но она была и другая... это многие знали... многие боялись... и потому почти отшатывались от неё, в реальном, человечески близком смысле этого слова. В конечном счёте, я думаю, что Комиссаржевская была, как никто, одинока...»[532]. Это одиночество Комиссаржевской Бравич понимал, вероятно, лучше многих, поэтому и не оставлял её до последнего. Однако и его силы, видимо, имели предел.
Стремление вырваться на свободу явственно ощущается в его письмах из Харбина. С начала сезона 1909 года Бравич был уже актёром Малого театра в Москве. Получив сообщение об уходе со сцены Комиссаржевской, он писал: «Решение это страшной болью отозвалось в душе моей, я не могу сейчас ничего сказать ни за, ни против. Одно знаю, что не могу примириться с мыслью, что больше я не увижу на сцене Комиссаржевскую. У меня отнимают что-то такое, чем я жил много лет, много лет... И мне больно, больно до слёз»[533].
Читать эти скорбные слова равнодушно невозможно. Чувствуются в переживаниях Бравича и многолетняя привязанность к Комиссаржевской, и восхищение её искусством, и глубокая преданность человека, который так или иначе посвятил ей свою жизнь. Дальнейшая карьера Бравича сложилась неудачно. Он перешёл из Малого театра в МХТ, но проработал в нём совсем немного и скоропостижно скончался в 1912 году, пережив Комиссаржевскую всего на два года.
Труппа встретила решение Комиссаржевской неоднозначно, но всё же в большинстве желала ей блага и восхищалась её жизненной энергией. Сразу оговоримся, что перед актёрами Комиссаржевская все обязательства за сезон выполняла намеченными гастролями. То, что будущий сезон висел на волоске и фактически был обречён, связано не с её внезапным капризом, а с объективными обстоятельствами — Драматический театр не выстоял, пришёл к своему печальному, но естественному концу. Смена труппы и сцены для актёра в то время была делом привычным, тем более если речь шла о таком сравнительно небольшом сообществе, как театр Комиссаржевской. Конечно, многим было грустно расставаться, в том числе и с Верой Фёдоровной, которую в труппе любили. «...Удивляюсь силе Веры Фёдоровны, искренне желаю успеха»[530], — записал А. П. Зонов, выражая, как кажется, общее ощущение. В личном письме он высказывал не только восхищение, но и другие противоречивые чувства, которые, наверное, охватили многих сотрудников театра: желание и практическую невозможность остаться при школе Комиссаржевской, опасение за её будущее, сознание, с одной стороны, значительности избираемой ею миссии, с другой — почти очевидной невозможности её осуществления, и при этом — сожаление о её уходе в момент наивысшего развития дарования, при непрерывных овациях, на какую бы сцену она ни выходила: «Дело в том, что на будущий год театра Комиссаржевской не будет. Вся она теперь бредит школой. Оставаться у неё в школе трудно будет, деньги проклятые заедают. В провинцию очень уж ехать не хочется. Самое бы идеальное было остаться в Питере, чтобы быть около школы. Миссию взваливает на свои плечи Комм[иссаржевская] огромную. Перед выездом из Харькова объявил по труппе, прочитав письмо Комм[иссаржевской]. <...> Дела блестящи. “Пир жизни” идёт первым номером. Здесь в Полтаве тоже уже выброшен аншлаг. Сбор опять будет “выше полного”»[531]. И при этом блеске успеха и полных сборах отказываться от театра, уходить в другую область, гасить огни рампы!
Трагически отреагировал на решение Комиссаржевской покинуть сцену К. В. Бравич. После сибирских гастролей он отошёл от Драматического театра. Сказалась усталость длинного пути, пройденного бок о бок с Комиссаржевской, с которой, несомненно, очень трудно было находиться постоянно рядом. Вспоминая впоследствии Комиссаржевскую, А. А. Мгебров довольно точно писал о ней то, о чём не решались упоминать «многие, кто хотел любить Комиссаржевскую... Эти многие умалчивали с великою, я бы сказал, фарисейскою грустью обо всём теневом и страшном в ней и всегда с необыкновенным пафосом какой-то голубой любви превозносили её небесный, необыкновенный, исключительный талант, стремясь и душу её нарядить в этот талант... Сквозь призму его они смотрели на неё, и для них Комиссаржевская и — “белая чайка”, “белая лилия”, “нездешняя”, “небесная”, “струна натянутая”, “струна незримая” и — бог знает ещё что... Всё это верно... Всё это так. Комиссаржевская была такова, когда звучала, как актриса, перед восхищенною и умилённою толпою... Но она была и другая... это многие знали... многие боялись... и потому почти отшатывались от неё, в реальном, человечески близком смысле этого слова. В конечном счёте, я думаю, что Комиссаржевская была, как никто, одинока...»[532]. Это одиночество Комиссаржевской Бравич понимал, вероятно, лучше многих, поэтому и не оставлял её до последнего. Однако и его силы, видимо, имели предел.
Стремление вырваться на свободу явственно ощущается в его письмах из Харбина. С начала сезона 1909 года Бравич был уже актёром Малого театра в Москве. Получив сообщение об уходе со сцены Комиссаржевской, он писал: «Решение это страшной болью отозвалось в душе моей, я не могу сейчас ничего сказать ни за, ни против. Одно знаю, что не могу примириться с мыслью, что больше я не увижу на сцене Комиссаржевскую. У меня отнимают что-то такое, чем я жил много лет, много лет... И мне больно, больно до слёз»[533].
Читать эти скорбные слова равнодушно невозможно. Чувствуются в переживаниях Бравича и многолетняя привязанность к Комиссаржевской, и восхищение её искусством, и глубокая преданность человека, который так или иначе посвятил ей свою жизнь. Дальнейшая карьера Бравича сложилась неудачно. Он перешёл из Малого театра в МХТ, но проработал в нём совсем немного и скоропостижно скончался в 1912 году, пережив Комиссаржевскую всего на два года.
Глава 16 «СМЕРТЬ ПОНЯТНЕЙ ЖИЗНИ»
Гимн в честь чумы! послушаем его! Гимн в честь чумы! прекрасно! bravo! bravo!А. С. Пушкин
Последние гастроли Драматического театра продолжались. Из Москвы труппа отправилась сначала на запад. Играли в Риге, Вильно, Варшаве, Лодзи; в середине октября перекочевали в южные губернии: Киев, Одесса, Кишинёв, Харьков, Полтава, Екатеринослав, Ростов-на-Дону. В Кишинёве во время представления «Кукольного дома» произошла любопытная история, о которой вспоминает В. А. Подгорный: «За кулисы пришёл священник, скромный человек средних лет, и, сославшись на свой сан, не позволявший ему присутствовать в зале, попросил позволения постоять в кулисах. Ему, разумеется, разрешили. Он стоял, утирая слёзы, и в антрактах говорил: “Вот как надо служить! А мы? Разве мы так можем, разве мы так умеем?”»[534]. Сравнение актёрской игры с церковным служением кажется не только не кощунственным, оно очевидным образом связывается и с убеждениями самой Комиссаржевской, воспринимавшей свою деятельность как служение, и с её планами на будущее, о которых в это время ещё никто ничего толком не знал, и с общим настроением эпохи, готовой объявить театральное представление едва ли не сакральным. Следующим гастрольным городом был Харьков. Вера Фёдоровна никогда не жила подолгу на украинской земле, хотя своё родство с ней, вероятно, ощущала. Во всяком случае, есть свидетельства, что, приезжая в Харьков, она всегда встречалась со своим кузеном — Семёном Семёновичем Комиссаржевским. Кажется, однако, это не единственный человек из её многочисленной родни со стороны отца, с которым у неё сохранялась прочная семейная связь. Из семейных легенд следует, что во время киевских гастролей Вера Фёдоровна посещала дом другого своего кузена, Ивана Дмитриевича Комиссаржевского, с маленькими дочерьми которого с удовольствием ставила и разыгрывала домашние спектакли, а может быть, даже живала в этой семье. В этой последней её поездке Харьков становится композиционным центром, кульминацией гастролей. Сюда к ней приезжает Ю. К. Балтрушайтис для обсуждения проекта школы, здесь вслед за этим происходит её отречение от сцены. Мемуаристы отмечают огромный успех, который сопровождал выступления труппы в Харькове. В. А. Подгорный пишет: «Когда Вера Фёдоровна выходила из театра, чтобы сесть в экипаж и ехать в гостиницу, приходилось окружать её специальной “охраной”, с трудом удавалось протиснуться к экипажу. Люди бросались к лошадям, останавливали их и стремились ещё раз увидеть её лицо в тёмном окне кареты»[535]. В Харькове разыгрался один из актов любовной драмы, участниками которой были Вера Фёдоровна и Александр Авельевич Мгебров. Этот 25-летний актёр был давно страстно влюблён в Комиссаржевскую. Судя по его мемуарам, она то приближала, то отдаляла его, то ли не давая себе труда разобраться в своих чувствах, то ли играя с ним, то ли просто привыкнув к восхищению и почитанию со стороны самых юных и восторженных её поклонников. В течение последних двух лет можно с уверенностью указать на непродолжительный период, в который они были близки. Мгебров рассказывает об этом вполне откровенно: «Окно её было открыто... много раз я поднимался к нему и снова и снова вглядывался через него в бледное, прекрасное, словно исчезающее от меня лицо и ловил на нём страдальческий и печальный взгляд, больную, но полную нежной и благородной любви улыбку... “Приезжайте, непременно приезжайте... приезжайте... слышите...” — шептала она, и лицо её вздрагивало от страдания и напряжения и от боли глухой, вечной боли молодого существа, рвущегося на простор, туда, в эти золотые, освещённые загадочно манящими красками солнца, — поля, которых так жаждала её детская, ещё не вкусившая жизни, рвущаяся к ней, душа... Я целовал её руки... уходил... возвращался снова... и снова целовал... Бросал в окно цветы к её ногам и улыбался и обещал!., и снова уходил... снова возвращался... О, так трудно, трудно было уйти... Прощальный взгляд... прощальная улыбка... грустная, тихая...»[536] К началу последних гастролей для Комиссаржевской было очевидно, что её чувства уже далеко не так пламенны; она, видимо, стремилась к завершению связи, Мгебров мучительно переживал. В Харькове между ними произошёл следующий эпизод, который, как кажется, объясняет отчасти специфику её личности: «Однажды я набрался мужества и больной, вечером, пришёл к ней. Помню, как сейчас, полуосвещённую комнату и её, стоящую посередине, с измученным, бледным, лихорадочно-возбуждённым лицом... “Вера Фёдоровна”, — тихо, почти с мольбою, прозвучал мой голос. Она вдруг вся затрепетала, ударила себя по виску и почти выкрикнула: “Я не могу... не могу... Поймите же — я большой человек... Вы должны понять это”... Глаза её сверкали... Вытянувшись, как струна, она прислонилась к стене и умолкла. Тогда я совсем тихо, почти шёпотом, но с большой силой и твёрдостью сказал: “А я — человек”... Вера Фёдоровна вскинула удивлённо на меня свои большие глаза... В этот миг они были совсем лучистые... лицо её светилось... Вдруг она протянула навстречу мне, открыто и порывисто, обе руки. Потом также стремительно поцеловала меня в лоб»[537]. В этой сцене, как кажется, высвечивается самая суть мироощущения Комиссаржевской. То, что впоследствии было интерпретировано как отказ от себя и бескорыстное служение искусству, было скорее стремлением к самой полной реализации. В ней жила вера в своё высокое предназначение. Оно было неизмеримо выше всех человеческих, обыденных представлений, оно было связано с миссией, которую необходимо было выполнить любой ценой. Разве могла сравниться с этой миссией любовь какого-то мальчика, одного из многих. Она могла принять рядом равного ей соратника, например Брюсова, да и то ненадолго, и то на время. Для осуществления миссии человек должен быть одинок, он не позволяет себе размениваться на других, он устремлён только вперёд, к своей высокой цели. Миссией своей Комиссаржевская, во всяком случае в это время, уже отнюдь не считала сцену. Её взор проникал куда дальше, её стремления были куда более глобальными. Она воспринимала себя не актрисой — «большим человеком», которому предначертано сказать своё слово в истории культуры. Это свойство Комиссаржевской, кажется, понял Н. В. Туркин, сблизившийся с ней во время её службы у Синельникова: «Такие люди, как Вера Фёдоровна, не могут находить себе счастья в личных привязанностях. Оно для них бывает только мимолётным отдыхом. И они сами же разбивают его, чтобы снова быть свободным и идти вперёд, к новой жизни»[538]. Примерно то же понял и Мгебров, заболевший после своего объяснения с Комиссаржевской и некоторое время находившийся между жизнью и смертью: «...В моих отношениях с Верой Фёдоровной столкнулись два мира: один — безмерная моя вера в человека, в радость человечески-простой, ясной улыбки, другой — мир её — как мир отрешённости от жизни, где в великом тщеславии духа возник и вырос безумно страстный культ, дошедший до самоисступления, и в этом исступлении сотворивший почти божественное поклонение человеческой личности через себя и в себе самой. <...> Здесь в одиночестве моей болезни я убоялся, что Вера Фёдоровна в жизни была лишь человеком красивых слов, утончённых и прекрасных мечтаний, порою безумных взлётов, но больше — знатной иностранкой, неизвестно откуда пришедшей в жизнь. Земное, простое, реальное — было ей чуждо... И я, земной с головы до ног, для неё был далёк и непонятен... Иначе она не мучила бы меня так долго, упорно и страстно, как мучила всё это время, доведя до пределов, где уже кончается жизнь и, возможно, начинается смерть...»[539] Мгебров решился разорвать этот порочный круг не сразу. Он ещё некоторое время путешествовал с труппой и покинул Комиссаржевскую только в Ташкенте, когда, наконец, обрёл в себе силы на окончательный разрыв. Он уехал из Ташкента в Петербург до того, как Вера Фёдоровна заболела, и первые сообщения о её болезни с ужасом прочитал уже в столице. Из Ростова труппа отправилась на Кавказ, в Тифлис и Баку. Конец гастролей не предвиделся. После Нового года труппу ждала Средняя Азия. Но в программе были ещё сибирские и дальневосточные города. Этот конец наступил внезапно как для самой Комиссаржевской, так и для её театра, так и для всей России. В Тифлисе её встретил давний знакомый Ф. П. Купчинский. Он был поражён переменой, которую в ней отметил. Впервые он видел Комиссаржевскую страшно уставшей, вконец измученной, постаревшей, со скорбным предчувствием в голосе и взгляде. Это сильно расходилось с тем, что Вера Фёдоровна говорила о себе и своём будущем, полном надежды и света. «“У меня ещё так много сил! — так много!” — А я видел, что у неё сил очень мало»[540]. Купчинский словно почувствовал грядущую вечную разлуку: «Последний раз с ней говорил и, уходя, подумал: “Никогда больше её не увижу”»[541]. Неизвестно, можно ли доверять этому впечатлению. Вероятно, уже после смерти Комиссаржевской воображение нарисовало мемуаристу такую картину. Тифлис был давно знаком Вере Фёдоровне и связан с дорогими её сердцу воспоминаниями об отце. В течение двух лет (1893—1895) Ф. П. Комиссаржевский работал здесь профессором Музыкального училища; она приезжала в Тифлис на гастроли, отдыхала, проводила с отцом время, всегда для неё особенно значимое. То было самое начало её деятельности в театре, её первые шумные успехи, горячо одобренные и поддержанные отцом. В последние годы жизни Ф. П. Комиссаржевского близость между ними ещё увеличилась. Они регулярно переписывались. Исписывая своим каллиграфическим убористым почерком несколько страниц, он давал ей советы, совсем не практического, а какого-то высшего порядка. Да и речь в письмах не шла об обыденных, повседневных вещах — они всегда разговаривали о том, что равно волновало обоих: об искусстве и собственном назначении. В одном из последних писем из Рима Ф. П. Комиссаржевский, отвечая, вероятно, на жалобы дочери, связанные с очередным творческим кризисом, писал: «Перед тобой, совершенно свободной и независимой, два выбора — пирог с вкусной начинкой, для вкушения от которого ты должна пристать к среде объедал, или служение чистому идеалу и тогда ты должна стать революционеркой, нажить кучу кишащих в болоте врагов и стать сюжетом уязвления неустанного. Словом, твоё призвание не наслаждаться, а страдать и ты должна или уйти, порешив, что не способна на самопожертвование во имя правды, или пристать к среде грызунов и служителей мамоны. <...> Сегодня ровно 35 лет, как я подошёл к болоту, возле которого ты стоишь. Я пережил больше, чем ты переживаешь, потому что намного был глупее тебя, менее талантлив и с неизмеримо меньшей подготовкой эстетической и, кроме того, был один, не только без всякой помощи, но простого участия»[542]. Благодаря отцу, всегда поддерживающему, всегда любящему, родственному по духу, Комиссаржевская чувствовала себя менее одинокой. Обратим внимание на интонацию его письма. Мало того что он говорит почти такими же словами, какими всегда рассуждала о своём призвании сама Вера Фёдоровна, не стесняясь высоты выражений, — это, конечно, свидетельствует о родственности их мироощущения. Но каким исключительным уважением, каким восхищением проникнуто это письмо, даже в самой своей интонации, как высоко ставит Фёдор Петрович дар своей дочери, как верит в её призвание! И это, конечно, не всё, что можно сказать о взаимоотношениях отца и дочери. Главное, что связывает их, — самая преданная любовь и искреннее желание никогда не расставаться. «Бывают случаи, — признается больной и немощный старик своей любимой дочери, — когда неимение денег обращается на великую пользу. Будь они у меня теперь, я сделал бы последнюю глупость, которой завершил бы свою жизнь. В одно утро я, не выжидая, когда прорастут желанные крылья, помчался бы в Петербург, чтобы увидеть тебя и отвести душу»[543]. Очевидно, что и счастье такого глубокого внутреннего родства с отцом, не раз поддержавшим её в жизни, и горечь его утраты должны были особенно остро вспомниться Комиссаржевскойименно в Тифлисе. Гастроли здесь проходили в прекрасном здании казённого театра. Вера Фёдоровна отыграла свои восемь спектаклей и дала ещё один с благотворительной целью в Народном доме. Гастроли закончились 15 декабря. После этого на десять дней Комиссаржевская, истощённая нравственно и физически, уезжает в Кисловодск отдохнуть. Действительно, она с начала августа в театре, вывезла на своих плечах сложнейшую поездку по России, Украине и Кавказу, беспрерывно играла, соединяя эту деятельность с размышлениями о школе, с попытками заочно координировать её организацию. Собственно, тем же самым Комиссаржевская продолжает заниматься и в Кисловодске, уже «купаясь в солнце» и отдыхая на этот раз, кажется, в одиночестве. Актёру А. А. Дьяконову, уже некоторое время исполнявшему по совместительству должность её личного секретаря, она даёт наставления в письмах, далеко планируя будущее: «Решила просить Юргиса Казимировича (Балтрушайтиса. — А. С.-К.) приехать ко мне в Самару 6-го февраля, а оттуда Вы с ним поедете и вернётесь в Томск на 4-й или 5-й спектакль. К тому времени все сотрудники будут намечены, и Вам со всеми будет необходимо закончить переговоры. Без этого не может быть составлен бюджет, и, кроме того, в случае чего бы то ни было отрицательного в смысле переговоров, — нужны иные комбинации, которые тут же должны быть приведены в ясность...»[544] Своему молодому сотруднику она желает энергичности, инициативы и «радостной веры в себя» — всех тех качеств, которыми сама обладала сполна. В этот момент и в страшном сне не могло привидеться Вере Фёдоровне, как предстоит ей провести 6 февраля будущего года, который вот-вот уже должен был наступить. 23 декабря Комиссаржевская выехала из Кисловодска для встречи с труппой в Баку. Все были поражены, как она бодра и жизнерадостна. Недельный отпуск буквально переродил её, прежней усталости как не бывало. В Баку, словно расплачиваясь за дни отдыха, она играет подряд, ежедневно, 12 спектаклей. И здесь же начинает репетиции новых пьес для гастролей в Сибири, которые запланированы на конец зимы и весну. Первой репетируют «Чайку». В Баку труппа встречает Новый год. Актёры очень сплочены между собой. Это чувство общей жизни и общего дела усиливается, с одной стороны, удалённостью от дома и всех близких: самыми близкими в такой многомесячной поездке становятся коллеги по сцене; с другой — тем, что актёры живут ощущением: это последняя совместная поездка, последняя возможность в таком составе, вместе с Комиссаржевской, играть поставленные в Драматическом театре спектакли. Каждый отыгранный спектакль — уже часть их общего прошлого. Новый год Комиссаржевская встречает в узком кругу, пригласив к себе самых близких. А. А. Дьяконов вспоминает: «Было весело, оживлённо, очень уютно. Вера Фёдоровна пела романсы, смеялась... Но случайно настроение нарушилось: один из артистов читал Э. По — “Колокольчики и колокола”, и странно среди веселья прозвучал напев: “Похоронный слышен звон — долгий звон”...»[545] 3 января в Баку играли «Сестру Беатрису». В. А. Подгорный провожал Комиссаржевскую после спектакля домой: «...Вера Фёдоровна вышла из театра очень печальной. Я сопровождал её на извозчике из театра в гостиницу. Мы ехали молча. Мне показалось, что она плачет. Я спросил, что с ней. Она долго не отвечала и всё плакала. Потом сказала: “Мне кажется, что я в последний раз сыграла Беатрису”»[546]. Предчувствие не обмануло её. 7 января труппа села на пароход и отправилась морем в Красноводск. «В ту ночь, когда труппа переезжала Каспий — море бушевало, и небольшой старый пароходик кидало из стороны в сторону, как щепку. К утру случилась поломка машины, о которой, к счастью, никто не знал... Переезд был одновременно и смешон, и страшен»[547], — вспоминает А. Дьяконов. Насилу оправившись после морской болезни, Комиссаржевская через несколько часов после прибытия сходит с парохода, и дальше труппа отправляется на поезде — путь лежит через унылые степные районы в Ашхабад. «Наш путь по Средней Азии от Красноводска до Асхабада и далее до Самарканда освещался кометой. Зелёная мохнатая звезда с большим хвостом возникала перед вечером на небе и сопровождала наш поезд. Это было необычайно ярким и волнующим впечатлением, поразившим нас на пустынной азиатской земле»[548], — вспоминает В. А. Подгорный. Если на Кавказе Комиссаржевская не раз бывала, то в Средней Азии оказалась впервые. Естественно, всё её интересует. «Увидев в первый раз своеобразную красоту городов Асхабада и, в особенности, Самарканда, с его восточной толпой, памятниками старины, с окрестностями, где от всего веет чем-то библейским, Вера Фёдоровна страшно увлекалась, ей хотелось “всё повидать”»[549]. Но Ашхабад ещё не совсем Азия. Это новый город, практически без истории, застроенный современными каменными домами, колорит Востока чувствуется только за его пределами, куда, конечно, выезжают на экскурсии. Там встречаются караваны верблюдов, туркменские деревни, юрты. Погода стоит совершенно летняя. Гостиницы в городе самого высокого класса и устраивают всех. Комиссаржевская остановилась во французском пансионе, остальные — в Grand Hotel. Совершенно другое впечатление производит театр... Велосипедного клуба, где предстоит играть. Крошечная сцена, одна уборная позади сцены — для Комиссаржевской, всем актёрам приходится ютиться в подвальном помещении, где сыро, тесно и холодно. В театре нет никаких удобств, освещение — керосиновое. Кроме того, в нужное время (а в Ашхабаде всего три спектакля!) не пришёл сценический багаж. В первый вечер объявлен «Кукольный дом», а костюмов и реквизита нет. Комиссаржевская решается играть «Огни Ивановой ночи», которые не требуют специальных костюмов, но без суфлёра. Она боится за своих партнёров — насколько твёрдо они помнят текст. К счастью, всё складывается удачно — пьесу все помнят хорошо, выходы налаживает помощник режиссёра. Театр полон, сборы прекрасные, но они не дают прибыли — слишком много денег уходит на перемещения труппы. Гастроли построены не слишком практично, как случалось уже не раз. 13 января театр уже в Самарканде. Этот город со сказочными ландшафтами, с грозной и древней историей, покоривший Комиссаржевскую своим экзотическим духом, стал её судьбой. Дадим слово мемуаристам. В. А. Подгорный подробно описывает, как проводили время в Самарканде: «Мы приехали вечером и, едва устроившись в гостинице, пошли в “старый город”. Луна освещала площадь и старые голубые мечети. Огни горели в палатках торговцев. Звуки старых восточных инструментов, совмещавшие в себе непередаваемый покой и необъяснимую тревогу, раздававшиеся невидимо откуда, делали площадь волшебной и переносили нас куда-то в глубь веков, в древний Восток, знакомый по сказкам детства. Утром жаркое солнце (это было в январе) залило площадь, позолотило бирюзу мечетей, засверкало на пёстрых и ярких халатах и чалмах, на зелёных конусах табака, насыпанного на лотках, на медных сосудах, на цветистых тканях самаркандского базара. Мы целый день проводили там, покупали всякую “восточную” ерунду и были похожи на детей, глаза которых разбегаются при виде огромного количества игрушек. Такими игрушками были для нас все эти азиатские кувшины, чашки, тюбетейки, халаты, ткани, ковры. Мы осмотрели мечети, видели чёрную гробницу Тимура, присутствовали на богослужении, где старые дервиши неистово кружились под ритмическое дыхание и выкрики верующих. Вера Фёдоровна была захвачена этим зрелищем и не замечала того, что на неё смотрят подозрительно и враждебно. Она долго не хотела уходить и сделала это лишь по нашему настоянию»[550]. Вспомним, как Подгорный рассказывал о поведении Комиссаржевской в Китае, где она тоже никак не хотела покидать бесконечно длившиеся представления, а в случайно встретившейся по дороге кумирне не могла удержаться оттого, чтобы не потрогать всё руками, несмотря на недоброжелательные взгляды китайцев. Можно представить себе, с какой охотой она трогала на самаркандском базаре пёстрые ковры и ткани. На следующий день после приезда, понимая, что в Ташкенте расписание вряд ли позволит посетить базар, отправились выбирать ковры для новой петербургской квартиры Комиссаржевской: «Торговцы изощрялись в своём искусстве показать товар, мы очаровывались бесконечным разнообразием рисунков и тонами красок, вдыхали едкую и старую пыль развёртываемых ковров и, выбрав необходимое и с сожалением отказавшись от многого, ушли из лавки, утомлённые и разбитые, пробыв там не меньше двух часов. Какие красивые были ковры! Вечером в номере, где жили Зонов и я, лопнуло зеркало. Мы ужинали рядом, у Веры Фёдоровны. Странный звук встревожил её, и Зонов пошёл посмотреть, что случилось. “Пустяки, — сказал он, — лопнуло зеркало”. Актёры суеверны. Вера Фёдоровна сделалась мрачной на несколько минут. Но вскоре были забыты и зеркало, и страх. Надо было готовиться к отъезду, и так не хотелось покидать волшебный город. В Самарканде, волшебном городе, выбирая ковры, мы заразились оспой»[551]. О случае с зеркалом актёр А. И. Аркадьев рассказывал потом, акцентируя предчувствие Веры Фёдоровны: «Как-то ночью в номере у Зонова от неизвестной причины лопнуло и развалилось пополам стоявшее на письменном столе большое зеркало. “Кто-нибудь умрёт”, — воскликнула В. Ф.»[552]. А. А. Дьяконов выразительно описывает величественные архитектурные красоты Самарканда и, конечно, восточный базар. «Среди этих царственных руин раскинулся теперь туземный город. Его жизнь — огромный базар, бесчисленное множество рядов с маленькими лавочками, похожими на ящики. Здесь сарты, узбеки, таджики, киргизы занимаются торговлей. Картина восточной жизни чрезвычайно пестра и оригинальна. <...> Из русского города по Абрамовскому бульвару ежедневно ездит сюда Вера Фёдоровна. Насладившись сперва достопримечательностями Самарканда, осмотрев их за эти дни все без исключения, — она увлекается потом восточным базаром, как увлекаются до самозабвения и все её спутники... Вера Фёдоровна ходит по лавкам, покупает драгоценные вещицы из серебра и золота, старинные украшения — “подвески”, шёлковые материи туземной работы, скатерти, ковры — “паласы”, смотрит яркие персидские халаты, из одной лавочки спешит в другую, где “лучше и красивее”, — и покупает, покупает без конца... Она хочет устроить в своей петербургской квартире столовую в восточном вкусе, такую, “какой ни у кого ещё не было”. <...> Обыкновенно на базар её кто-нибудь сопровождает, — и компания веселится, восхищается, торгуется и покупает новые красивейшие ткани и одежды. И кто мог предположить, что лишь прикосновение к ним уже ядовито, что в этих складках таится жадная, невидимая смерть?!»[553] В Самарканде у труппы было всего три дня. Каждый вечер по спектаклю, как в Ашхабаде. «Маленький, деревянный, сырой и грязный театр» Музыкально-драматического общества, «как в захудалой русской провинции». Опять полный театр и — очень небольшие сборы, никак не покрывающие расходов на перемещения. Возникает вопрос: зачем нужно было ехать на окраину империи, тратить колоссальные деньги на переезды, которые не возмещались даже полными сборами в местных театрах, если в русской провинции в гораздо лучших условиях, с меньшими затратами сил и здоровья, можно было собрать гораздо большие деньги? Предварительные расчёты, как пишет А. Дьяконов, сулили золотые горы, но расчёты эти были чрезвычайно легкомысленными и базировались на превратных представлениях об азиатской части Российской империи. А ведь нужно было всего лишь навести необходимые справки! Но творчество редко соседствует с математическими выкладками и информационной точностью. 17 января труппа уже в Ташкенте играет первый спектакль в театре Общественного собрания. Комиссаржевская и некоторые актёры (в том числе В. А. Подгорный, А. П. Зонов, М. С. Нароков) останавливаются в отеле «Захо». Другие — в отеле «Россия». Первый вопрос, который задаётся прислуге в гостинице: есть ли в Ташкенте базар? Базар, конечно, есть, но значительно уступает самаркандскому в живописности и находится очень далеко от центра города, на окраине, в ложбине. Торгуют под огромными навесами, под ногами грязно и сыро. Базар напомнил, скорее, большую русскую ярмарку. Зато, по неизменному природному закону равновесия, — хорош театр. Новое вместительное чистое здание с электрическим освещением. Спектакли идут каждый день: 17 января «Родина», 18-го «Кукольный дом», 19-го «Хозяйка гостиницы», 20-го «У врат царства», 21-го «Дикарка», 22-го «Кукольный дом», 23-го «Огни Ивановой ночи», 24-го утром «Дикарка», вечером «Бесприданница», 25-го «Сестра Беатриса» — спектакль отменён... Предчувствие Веры Фёдоровны, посетившее её в Баку, сбывалось. Ей больше не суждено было играть Беатрису. Уже 19 января две актрисы почувствовали себя плохо, и спектакль шёл с заменой. На другой день обе они слегли в сильном жару. Днём позже та же участь постигла двух актёров. Один из них — Владимир Подгорный: «21 января 1910 года шла “Дикарка”. Театр был переполнен, как и все спектакли в Ташкенте. Было душно, но мне почему-то было холодно. В антрактах я сидел в уборной, закутавшись в пальто. — Что с Вами? — спрашивала Вера Фёдоровна. — Не знаю. Знобит как будто. — После спектакля, когда приедем в гостиницу, я Вас вылечу. В гостинице я прошёл к ней в номер вместе с Зоновым. Был заказан лёгкий ужин. Она велела принести водки, налила мне рюмку, всыпала в неё какой-то порошок и заставила выпить. — Это я положила хинин. Завтра Вы будете здоровы. Я как-то сразу ослабел после этой рюмки и, отказавшись ужинать, ушёл к себе. Прошло пять дней, прежде чем врач определил у меня оспу. Все эти пять дней она навещала меня, проявляя исключительное внимание и самую нежную заботливость»[554]. В тот вечер, когда был отменён спектакль «Сестра Беатриса», Комиссаржевская не знала, куда себя деть. Она предложила Зонову и Нарокову отправиться в кинематограф на мелодраму о нелёгкой судьбе маленькой девочки. Мелодрама вызвала у неё самое трепетное сопереживание. Как вспоминает М. С. Нароков, вечер после кинематографа они провели у Веры Фёдоровны. Около десяти вечера к больному Подгорному пришёл доктор, Зонов тоже отправился к нему. Встревоженная Комиссаржевская осталась с Нароковым вдвоём. «“Чем же вас развлечь, сударь? — спросила она. — Хотите, я покажу вам свои сокровища?” Достала из шифоньерки небольшую изящную шкатулочку и раскрыла её передо мной. Это были сокровища “Золушки”: несколько старинных медальонов и целый ряд незатейливых сувениров, которые, вероятно, можно было найти и в шкатулке Татьяны Лариной. Подбор “сокровищ” рождал впечатление редкого душевного изящества их владелицы. Вошёл Зонов. На лице его была какая-то растерянная улыбка. Вера Фёдоровна встала ему навстречу. — Ну что? — спросила она. Зонов развёл руками: — Доктор говорит — оспа. Вера Фёдоровна опустилась на стул. — Чиж этого не перенесёт. Надо дать телеграмму его матери... Так впервые было произнесено это роковое слово — оспа»[555]. Подгорного изолировали, дверь его комнаты закрыли на ключ, туда теперь мог входить только живший с ним и уже находившийся в тесном контакте Зонов. Правда, ещё до этого необходимого, но запоздалого акта Комиссаржевская много времени провела у Чижа, как его называли в труппе, приносила ему подарки, рассказывала о новостях, да и после возникновения первых подозрений об оспе верить этому не хотела. «26 января я видел её в последний раз. Уже было предположение, что у меня оспа. Она не поверила этому и вошла в комнату, где я лежал. Она тревожно взглянула на меня и сказала: — Нет, нет, какие глупости, не может быть!»[556] А. П. Зонов, более других находившийся под ударом и так и не заболевший, был обречён присутствовать при последнем акте этой неожиданной трагедии. Он вспоминал потом, что Комиссаржевская, как сестра милосердия, ухаживала за больными, просиживая ночи у их постелей. Это кажется, конечно, некоторым преувеличением, хотя очевидно, что заразиться она не боялась и проявляла трогательную заботу по отношению к заболевшим. «Трудно было подумать, — пишет Зонов, — что близок конец этой жизнерадостности, духовной бодрости, веры в светлое будущее, которыми была полна тогда Вера Фёдоровна. Тайные предчувствия, которые иногда охватывали её, отгонялись ею. Ещё за день перед тем, как самой лечь в постель, Вера Фёдоровна говорила о предсказаниях хироманта на заре её деятельности, утверждала, что словам предсказателя нужно верить, потому что всё сказанное им сбылось. Хиромант предсказал ей успех и многое другое и, между прочим, что она долго-долго проживёт»[557]. И наивная вера в предсказание хироманта, и рассматривание «сокровищ» фактически у постели тяжелобольного Подгорного в решительный момент, когда был поставлен окончательный диагноз, — всё это выглядит чрезвычайно инфантильно. Думается, однако, что то была попытка отгородиться от страшной реальности, не видеть и не признавать её и уже тем самым делать её как будто не существующей, лишить фатальной силы. Уход в детское, светлое, полное веры в будущее, мироощущение не только для Комиссаржевской, для каждого человека бывает спасительным в самые тяжёлые минуты. 26 января был назначен спектакль «Бой бабочек». Сделав несколько экстренных замен, Комиссаржевская решила не отменять его. Само это решение демонстрировало её непоколебимую силу духа: настроение труппы было удручающим. Артисты видели, что началась какая-то эпидемия. Даже ещё не слыша страшного слова, они понимали, что вряд ли удастся уберечься. Симптомы болезни были тяжёлыми. Когда же роковое слово прозвучало, настроение упало окончательно: «Оспа!.. Рано утром, 26 января, с быстротою молнии все узнают о ней — и ужас проник в душу... Оспа... Если у одного — у всех: все в одинаковых условиях! Одна судьба!..»[558] Утром 26 января М. С. Нароков заходит к Комиссаржевской в номер. «Разговаривал я с ней через ширму. “Я тоже больна”, — сказала она. Но вечером к спектаклю она приехала»[559]. Днём Комиссаржевская чувствует начинающуюся головную боль. В пять часов, перед тем как ехать в театр, она постучалась в дверь к Подгорному, но он был не в силах отозваться. И только слышал, как кто-то в коридоре говорил ей: «Нельзя, нельзя, Вера Фёдоровна, у него оспа, завтра утром его необходимо увезти из гостиницы»[560]. Приехав в театр, Комиссаржевская не имела возможности особенно прислушиваться к своему состоянию. В спектакле было много замен, от неё требовалась предельная сосредоточенность. Отметим, что играла она юную Рози, прыгающую, бегающую — летящую. Заходя за кулисы, хваталась за голову, чувствовала наступающую лихорадку, но потом снова выбегала на сцену и сверкала глазами. Зрительный зал был переполнен, успех спектакля — необычайный, болезненное состояние Комиссаржевской не было замечено. А может быть, наоборот, лихорадка сослужила актрисе хорошую службу — кто же определит из зрительного зала, почему у неё так блестят глаза? Однако, как вспоминает М. С. Нароков, «играла она в полном изнеможении. Почти в беспамятстве Вера Фёдоровна закончила спектакль»[561]. Вернувшись в гостиницу, прежде чем окончательно погрузиться в свою болезнь, подошла к двери Подгорного. «Вдруг я услышал лёгкое шуршание. Это в щель под дверью кто-то просунул две записки. Одну Зонову, другую мне. Она писала в этой последней записке, что она заболела, но она уверена в том, что мы скоро увидимся. Увидаться нам не пришлось»[562]. В записке, адресованной Зонову, Комиссаржевская писала: «Я больна — 38,7. Адски болит голова. Я вся в тревоге за Чижа, себя, за всё. Бога ради, берегите Чижа и себя»[563]. Зонов аккуратно и самоотверженно исполнял всё, что мог. Подгорный вспоминает: «Утром 27-го Зонов закутал меня в пальто и сверх него в одеяло и на руках вынес меня из номера. Я уже был очень слаб. Он нёс меня по коридору, я увидел нашего администратора, стоявшего у телефонного аппарата. Он говорил: “Спектакль сегодня отменяется, Вера Фёдоровна больна”. Зонов отвёз меня в больницу. Поздно вечером ко мне пришёл врач, определивший у меня накануне оспу. Я спросил: — Что с Верой Фёдоровной? — Оспа, — ответил он»[564]. Утром 27 января к Комиссаржевской пришёл доктор М. И. Слоним и привил ей оспу на обеих руках. Она ещё беспокоится о продолжении гастролей и просит дать в Самару телеграмму о том, что задержится. К вечеру её состояние резко ухудшается. В тот же день больную перевозят на Самаркандскую улицу в квартиру друга её детства, с которым когда-то в родительском доме они разыгрывали любительские спектакли, — А. А. Фрея. Больной предоставили большое изолированное помещение в четыре комнаты, в одной из них, окнами во двор, её и разместили. С ней остались Н. Д. Кистенёва, недавно принятая на работу по протекции сестры Ольги Фёдоровны и выполнявшая в поездке должность помощника уполномоченного, а во время эпидемии проявившая себя как опытная сестра милосердия, компаньонка Комиссаржевской мисс Фоглер и А. П. Зонов — в качестве секретаря. На помощь взяли ещё одну сестру милосердия и больничного слугу. На следующий день газета «Туркестанские ведомости» поместила краткое сообщение о болезни актрисы: «Сообщаем, что талантливая артистка В. Ф. Комиссаржевская, доставившая столько эстетического удовольствия ташкентской публике, опасно заболела. Температура вчера доходила до 40 градусов. В виду неудобства лечения в гостинице предполагается перевезти больную на отдельную квартиру»[565]. Температура около 40 градусов держится несколько дней, состояние больной не облегчается. Врач вторично прививает ей оспу. Вместе с Комиссаржевской в труппе шестеро заболевших. Слухи об эпидемии быстро распространяются, доходят до генерал-губернатора края А. В. Самсонова, тоже встревоженного появлением оспы. 2 февраля наступило неожиданное облегчение. Температура понизилась, больная пришла в себя, заговорила, попыталась есть. Однако процесс этот оказался чрезвычайно мучительным, поражены были все слизистые оболочки, не прекращался глубокий удушливый кашель. У неё страшный упадок сил. Но всё же улучшение налицо. Следующую ночь Комиссаржевская хорошо спала, утром рассказывала, что видела во сне Чехова. Настроение у неё бодрое, вот-вот собирается вернуться к делам, готова обсуждать продолжение гастрольной поездки. Постепенно выздоравливают и все остальные. В Петербург отсылаются обнадёживающие телеграммы. 7 февраля из больницы выписывается выздоровевший В. А. Подгорный и на следующий день привозит Комиссаржевской букет цветов. По лицам встретивших его он сразу понял, что ситуация в корне переменилась. Действительно, после почти недели надежды наступило резкое ухудшение. Температура снова поднялась, оспенная сыпь появилась на лице. Вечером по телефону Зонов рассказал Подгорному о последних распоряжениях Комиссаржевской: в случае своей смерти она просила никого не пускать к её телу, чтобы никто не видел её обезображенное лицо. Будучи ещё в сознании, она передала Зонову шкатулку с письмами и просила сжечь их в первый же час после того, как её не станет. Забегая вперёд скажем, что и то и другое поручение Зонов выполнил в точности. 9 февраля состоялся консилиум, признавший состояние Комиссаржевской фактически безнадёжным. «У больной были ещё проблески сознания. Видя осматривающих докторов, Вера Фёдоровна шептала: “разве, разве, разве”, потом громко, сознательно сказала: “будет, будет, будет”, но самое страшное впечатление произвели её последние слова. Врачи вышли из “красной” комнаты, где лежала больная, начали грустно делиться своими замечаниями, наступила пауза, и вдруг раздались стальные слова Веры Фёдоровны: “довольно, довольно, довольно!” Сказанные очистившимся голосом прежней Веры Фёдоровны Комиссаржевской, полные какой-то решимости и примирения с неизбежным, слова эти создали необычайное, жуткое настроение. В молчании, печально склонились головы консультантов, было ясно, что смерть неизбежна. Спасти могло только чудо»[566]. Оставалась слабая надежда на сердце, которое у Веры Фёдоровны всегда было крепким. Но организм не выдержал — отказали почки. «Около 10 часов утра 10 февраля, — вспоминает В. А. Подгорный, — в мой номер постучались. Вошли товарищи. Они сказали, что она умирает, что она непременно умрёт сегодня. — Сколько времени она может прожить? — Часа два, — ответили мне. Кто-то сказал, что надо заказать гроб. Странно и страшно было услышать это слово. Ведь она ещё жива. Но слово было произнесено, и оно не оставляло никаких надежд. Я вышел и стал бродить по городу. На какой-то улице я присел на скамью. Вдруг я увидел гроб — белый металлический гроб — его быстро везли в том направлении, где была она»[567]. В 1.45 дня 10 февраля 1910 года Вера Фёдоровна Комиссаржевская скончалась. Цветы, которые накануне передал для неё Подгорный, были положены ей в гроб. После смерти Комиссаржевской уполномоченный совета Российского театрального общества по Ташкенту Ю. Ф. Бонч-Осмоловский телеграфировал в Петербург о её кончине: «26-го последний спектакль “Бой бабочек”, здоровье хуже. 27-го слегла. Температура 41. Далее в течение трёх дней обычного падения температуры не было. Образовалась сливная оспа. Лицо, шея, туловище, руки покрылись сплошной язвой. Вспрыскивание производилось в ноги. Первого февраля улучшение, максимум — 38. Четвёртого обнаружилось воспаление почек, сразу ухудшение. Язвы мертвели, подсыхало только лицо. Последние дни обнажилась вся кожа, местами сплошной чёрный струп. Девятого потеряла сознание, десятого два часа скончалась от паралича сердца. Безотлучно, самоотверженно при ней находились секретарша Кистенёва, режиссёр Зонов, компаньонка. Период болезни провела квартире Фрея. Страдала замечательно, терпеливо, волновалась за судьбу четырёх заболевших оспой артистов. Смертельного исхода не предвидела»[568]. Поражает это сочетание: нечеловеческие страдания, которые стойко и покорно переносила Комиссаржевская перед смертью, таинственным образом сопровождались непоколебимой верой в выздоровление. Такова, видимо, была сила её жизнелюбия. Дом 24 по Самаркандской улице, в котором располагалась квартира А. А. Фрея, где умерла В. Ф. Комиссаржевская, существовал до 1966 года и был отмечен мемориальной доской: «В этом доме 10 февраля 1910 года скончалась знаменитая актриса Вера Фёдоровна Комиссаржевская». После землетрясения 1966 года дом был снесён. По этому месту теперь проходит проспект, в советское время называвшийся проспектом Ленина.
Глава 17 ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Ты удалилась, Как тихий ангел; Твоя могила, Как рай, спокойна! Там все земные Воспоминанья, Там все святые О небе мысли.В. А. Жуковский
Четверо артистов, заболевших оспой, Подгорный, Закушняк, Любавина и Нарбекова, а также парикмахер Шишмарёв выздоровели. Больше никто из труппы не заразился. Почему не выдержал болезни именно организм Комиссаржевской, сказать трудно. Вероятно, были для этого и самые очевидные причины: общее утомление, истощённость и слабость — всё-таки основная тяжесть затянувшихся гастролей легла на её плечи. Возможно, была здесь и медицинская ошибка. В местной газете через месяц после смерти Комиссаржевской появилась следующая заметка: «Совещание врачей, подведомственных московской городской санитарной комиссии, приняло характер диспута между аллопатами и гомеопатами по поводу причины смерти В. Ф. Комиссаржевской. Гомеопат Френкель утверждал, что ближайшей причиной смерти артистки послужила предохранительная прививка, сделанная в то время, когда болезнь уже появилась. По его словам, он наблюдал неоднократно, как прививка оспы, сделанная заражённому больному, приводила к роковым результатам. Это мнение разделял и доктор Бразоль. Однако никаких научных данных в подтверждение своего взгляда они привести не могли»[569]. Неизвестно, насколько высказанное врачами предположение верно, ведь оспу прививали и другим заболевшим. Столь ранний, неожиданный, трагический, таинственный уход из жизни актрисы, владевшей сознанием и сердцем многих своих соотечественников на протяжении последних пятнадцати лет, потряс всю Россию. В день её смерти, после получения телеграммы из Ташкента, в Петербурге были отменены спектакли в театрах, отслужены панихиды, начался сбор средств на венки. Во всех крупных театрах прошли поминальные собрания и гражданские панихиды, прежде всего в Александрийском и МХТ. Но всё это, конечно, никаким образом не утешало и не отменяло острой боли утраты, которую чувствовали не только знакомые и близкие, но даже те, кто сталкивался с Комиссаржевской только мельком, бывал на её спектаклях простым зрителем. Узнав о случившемся, К. В. Бравич писал из Москвы Ф. Ф. Комиссаржевскому, как кажется, выражая общее ощущение смятения и ужаса: «Родной Вы мой, несколько раз собирался Вам писать, начинал, рвал и бросал. Что писать? Всё равно не скажешь сильнее, чем сказал проклятый рок или случай — не знаю, всё равно не смягчишь той муки, что этот проклятый случай бросил в наши души. Да и нужно ли это? Не лучше ли, чтобы мы мучились? Я думаю, лучше. Это последний нам дар её богатой души. Сбережём же его, приняв с благодарностью. Никому не отдадим, ни с кем не поделимся, потому что этот дар последний, самый дорогой, — память об ней, об её страдальческой, несмотря на весь блеск, жизни и такой же страдальческой смерти. Вы говорите, служат панихиды, разбирают вещи. — Да, так они должны делать. Они такие. Я не хочу сказать, что плохие. Нет. Бедные — им не надо больше. Вас это не удовлетворяет. Я понимаю Вас, родной. Меня тоже. Кругом у нас панихиды — я не хожу на них. Был на одной в Храме Спасителя. <...> Там ничто не оскорбляло памяти о её прекрасной, благородной душе. Храм величественный, пустота — кроме нас, никого не было — молчание, всё говорило о величии случившегося, и полчаса, проведённых в этом храме с мыслью о ней, среди людей, действительно её любящих, принесли мне отраду, успокоение хоть временное от той муки, какая наполняет моё сердце»[570]. Отпевание прошло в квартире Фрея, где провела последние дни умершая. Потом тело было положено в два гроба, их запаяли и в полдень 11 февраля перенесли в маленькую кладбищенскую церковь при огромном стечении публики. На гроб было возложено несколько десятков венков. Родственники добились разрешения на захоронение тела Комиссаржевской в Петербурге, как она сама бы, конечно, хотела, — при условии соблюдения карантинных норм. Двойной запаянный гроб был из этого ряда. Тело должны были отправить в Москву 12 февраля, но по железнодорожным правилам оказалось невозможным прицепить траурный вагон к поезду. Тело было отправлено в ночь с 13 на 14 февраля, в Москве гроб должны были перенести с Рязанского (ныне Казанского) на Николаевский вокзал, похороны в Петербурге планировались на 21 февраля. Февральские газеты полнятся сообщениями о смерти, перевозке тела, панихидах, которые проходят по всей России, похоронах: «Ташкент. 13 февраля. Утром, по окончании литургии и панихиды, последовал вынос гроба с останками почившей Веры Фёдоровны Комиссаржевской из кладбищенской церкви и перевезение его на вокзал. В процессии принимала участие здешняя учащаяся молодёжь, неся множество венков, возложенных за эти дни на гроб покойной. Хотя проводить Веру Фёдоровну явилась вся здешняя интеллигенция, однако только на вокзале скопление народа было очень значительно. Представители города и властей совершенно отсутствовали. Вечером, в сопровождении осиротевшей труппы, траурный вагон с телом почившей отошёл в печальный путь, последний путь Комиссаржевской»[571]. «Вчера, 12 февраля, по усопшей В. Ф. Комиссаржевской были отслужены панихиды: в Императорском театральном обществе, на высших женских курсах, в Казанском соборе, в церкви гр. Апраксиной (артистами Малого театра) и в дирекции Императорских театров»[572]. «Вчера, в театральном бюро, в 1 час дня была отслужена первая в Москве панихида по Вере Фёдоровне Комиссаржевской. Присутствовали московский градоначальник генерал-майор А. А. Адрианов, его помощник подполковник Модль, член совета театрального общества А. А. Бахрушин, все служащие в театральном бюро во главе с Н. Д. Красовым, артисты разных московских театров, некоторые представители театральной критики и много приезжих артистов»[573]. В каждом большом городе, в котором останавливается поезд с траурным вагоном, тело Комиссаржевской встречает толпа, на гроб возлагают венки,.прямо на вокзалах служат литии. В Москву поезд из Ташкента пришёл 18 февраля в 19 часов. В 21.30 другой поезд, направлявшийся в Санкт-Петербург, должен был принять печальный груз. С дороги А. П. Зонов телеграфировал М. И. Гучковой, находившейся в это время в Москве и распоряжавшейся здесь всеми приготовлениями к встрече покойной. В этой встрече участвовала и младшая сестра Комиссаржевской Надежда Фёдоровна. «Москва. 18 февраля. В 7 ч. веч., с опозданием на час, прибыл вагон с гробом В. Ф. Комиссаржевской. На перроне находились представители всех московских театров, вся труппа художественного театра, градоначальник, гор. Голова, депутация от журналов и газет, студенческих организаций и землячеств. На площади — громадная толпа, тысяч в 15-20. На руках молодёжи гроб переносится на Николаевский вокзал. Во время литии поёт студенческий хор. Порядок поддерживается учащимися. Несмотря на темноту и громадное скопление — нет давки. На Николаевском вокзале была отслужена панихида. Депутации возлагают венки. Речей нет. Поезд уходит. Молчаливая толпа долго ещё не расходится. Неожиданно неизвестный старик-актёр начинает произносить речь. Слёзы душат его и артист умолкает»[574]. В газетах перечисляются города, в которых непрерывно служат панихиды по умершей: помимо обеих столиц, Одесса, Оренбург, Киев, Баку, Ставрополь, Новочеркасск, Вильно... В этом перечне те города, где гастролировала Комиссаржевская, и те, где она никогда не бывала. Потрясающая душу картина всенародной скорби была искажена одним неприятным инцидентом. Один из видных деятелей православной церкви, известный своими, мягко говоря, консервативными взглядами, епископ Саратовский и Царицынский Гермоген (Долганев), и ранее выступавший с резкой критикой новейших тенденций в искусстве[575], запретил служить панихиду по Комиссаржевской в кафедральном соборе города Саратова. На этом он не остановился, но послал в Ташкент запрос, «чем болела артистка, была ли она православной, когда исповедовалась». Надо отдать должное российскому обществу того времени — в ответ на запрет епископа и его демонстративные запросы последовала целая буря негодования, широко отразившаяся в прессе. Так, автор статьи, специально посвящённой этой истории, справедливо возмущается: «Пусть Вера Фёдоровна была плохой христианкой (я не знаю этого, но пусть!) и давно уже не была у исповеди, так разве она за то отлучена от церкви? Разве она лишена церковного погребения и молитв церковных? Ведь это же не так, и епископ Гермоген не мог не знать этого»[576]. Очевидно, что ответы на другие свои вопросы Гермоген сам хорошо знал: Комиссаржевская не раз гастролировала в Саратове, и сведения о ней имелись в городской управе. О характере её болезни было в это время более чем широко известно из прессы. Зачем же он задавал свои вопросы и делал это так демонстративно? Как будто именно в Ташкенте, где Комиссаржевская оказалась фактически случайно, должны были обладать о ней самыми точными сведениями. В своих рассуждениях о театре епископ не раз приводил цитаты из святоотеческой литературы, направленные против языческих театральных действ. Автор статьи справедливо спрашивает: «Так разве о нашем театре, о театре Комиссаржевской писали отцы? Читаешь их страшные, суровые обличения, а перед глазами неотступно стоит Вера Фёдоровна — сестра Беатриса, и слышишь её голос, полный благочестивого отчаяния и страшного душевного надрыва: — Владычица, я не могу молиться!.. Разве о ней, о сестре Беатрисе, писали древние обличители театра? Но и они, оберегая христиан от театральных соблазнов, разве они запретили молиться за актёров, отлучили их от церкви? Епископ Гермоген, не зная современного театра, ненавидит его. Но сводить счёты с театром у гроба одной из лучших служительниц его — разве это уж так по-христиански?»[577] Взрыв негодования был настолько всеобщим и настолько очевидным, что епископ Гермоген вскоре принуждён был пойти на попятный. В газете «Биржевые ведомости» была опубликована его телеграмма на имя санкт-петербургского митрополита Антония (Бадковского), в которой подробно объясняются причины запрета панихиды в кафедральном соборе. Собственно, слово «подробно» здесь не очень уместно, потому что в качестве главной причины епископ выдвигает следующую: «...За многократно проявленные актёрами озорства в разных случаях, между прочим, и к кафедральному собору, допустить их в собор я не могу по чувству глубокой духовной нравственной обиды и оскорбления»[578]. Как следует из этого объяснения, вовсе не личность самой Комиссаржевской и сомнения в её религиозной лояльности заставили епископа пойти на такую крутую меру, а «проявленные актёрами озорства». Надо отметить, что панихида по Комиссаржевской, возможно благодаря разгоревшемуся скандалу, была разрешена епископом Гермогеном в саратовском приходском храме Сретения Господня. 20 февраля на Николаевский вокзал прибыл траурный поезд с телом Комиссаржевской. Заметим, что на заупокойную службу в соборе Святого Александра Невского ввиду огромного количества желающих присутствовать на ней распространялись билеты, словно похороны Комиссаржевской были её последним спектаклем. С 9 часов утра на площади перед Николаевским вокзалом стала собираться публика. К 12 часам дня движение трамваев и экипажей было остановлено и вся площадь оказалась буквально запружена толпой. Преобладала в ней учащаяся молодёжь — те, кто больше всего любил Комиссаржевскую при жизни. В вокзальное помещение входили по билетам, с трудом протискиваясь сквозь толпу. На платформу пускали только депутации с венками, которых тоже оказалось немало, около двухсот. Среди них пресса выделяет венок белых лилий от редакции «Русского богатства», венок из роз от газеты «Утро России» с надписью: «Пусть арфа ломана — аккорд ещё рыдает», венок из ландышей «Артистке-гражданке» от трудовой партии Государственной думы, лавровый венок от дирекции Императорских театров, от редакции журнала «Театр и искусство»: «Молния поражает людей, стоящих на высоте», от Общедоступного театра: «Первой чайке»... Толпа на площади самоорганизовывается, студенты образуют цепи, через которые пропускают депутации к вокзалу. В 13.20 подошёл траурный поезд, была отслужена лития. Венки складывают на специально подготовленные для этого колесницы, но их не хватает, спешно находят новые. Разложив венки на семи колесницах, депутации выстраиваются для встречи гроба. Группа студентов выносит металлический гроб с останками Комиссаржевской, толпа расступается. После минуты напряжённой тишины тысячи голосов затягивают «Святый Боже». Очень медленно десятитысячная толпа движется к Александро-Невской лавре. Около 3 часов дня процессия подходит к кладбищу. Но за ограду могут пройти только депутации и лица, запасшиеся билетами. Начинается панихида, на ней присутствуют мать, сестра Надежда и братья покойной, её друзья и труппа её театра. Здесь же известные актёры, драматурги, литераторы. У самого гроба стоит А. И. Гучкове супругой, Машей Зилоти. После возложения венков над гробом вырастает гора цветов и зелени. Через некоторое время лица в храме сменяются, начинается вторая панихида. Около 5 часов вечера толпа начинает редеть. В 7 часов закрывают храм, не желая больше пускать публику к телу. Но желающие проститься добиваются продолжения заупокойных служб и чтения псалтыри над гробом. На следующий день, 21 февраля, в 10 часов утра назначено погребение на Ново-Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Эта часть большого монастырского кладбища, которая находится позади Троицкого собора, была в начале XX века не только самой престижной, но и самой живописной, с хорошо продуманной планировкой, искусственным прудом, длинными тенистыми аллеями. Сюда эксцентричная Комиссаржевская любила приезжать на прогулки, нередко в компании со своими кавалерами, здесь хотела быть похороненной. Задолго до указанного времени обладатели билетов стали собираться вокруг будущей могилы, занимая удобные места для обозрения. Могила располагалась с правой стороны алтаря церкви Святого Николая Чудотворца. Заупокойная литургия началась в 10 часов утра, пели два лучших петербургских хора. После службы из церкви вышла траурная процессия, гроб несли студенты, артисты, офицеры. Цепи учащихся оттеснили публику. На длинных полотенцах гроб опустили в могилу, началась последняя лития, пропели «Вечную память», стали говорить речи. Среди ораторов был и А. И. Гучков. «Прекрасная ты была артистка, — сказал он, обращаясь к покойной, — прекрасной души человек. Одинаково отзывчива ты была и к актёру, и к простому человеку. Твоей отзывчивости, твоей доброй души мы никогда не забудем. Прости нас, Вера Фёдоровна. Помолимся о ней»[579]. После возложения венков и цветов могила Комиссаржевской превратилась в огромный радужный холм, вышло солнце, погода в Петербурге в этот день была совсем весенняя. В середине 1930-х годов, во время реализации глобальных проектовсоветской власти по перестройке городских пространств, на территории Александро-Невской лавры был организован Некрополь мастеров искусств. В этом «мемориальном парке» теперь обязаны были покоиться в том числе и те, кто, с точки зрения официальных лиц той эпохи, сыграл заметную роль в истории русского театра. Это кладбище сейчас широко известно и входит во все туристические путеводители по Петербургу. Однако настоящих захоронений среди могил в Некрополе не так уж много. Большинство памятников, свезённых сюда с разных разорённых и уничтоженных петербургских погостов, вынужденно стали кенотафами — останки тех, чьи имена горделиво на них значатся, перевозить не стали. Некоторое количество настоящих могил, в которых прах был перезахоронен, имеется, но на этот счёт не существует никаких точных, зафиксированных документально данных. Вероятнее всего, что прах В. Ф. Комиссаржевской с расположенного совсем неподалёку Ново-Никольского кладбища всё же перенесли. Во всяком случае, нам хочется так думать. На могиле стоит памятник работы скульптора М. Л. Диллон, которая была знакома с Комиссаржевской, но при жизни не делала её портретов. Памятник выполнен по фотографии и, судя по всему, очень удачно. Внешнее сходство несомненно. Впервые памятник был показан в мастерской Диллон в 1914 году. Он стал предметом всеобщего интереса и паломничества петербургской интеллигенции. В 1915 году памятник был установлен на могиле. Осталось сказать несколько слов об осиротевшей труппе Драматического театра. Вот свидетельство одного из актёров, человека, безусловно близкого Комиссаржевской, глубоко переживавшего её уход, А. Н. Феоны: «Гибель Веры Фёдоровны Комиссаржевской была для меня не только смертью гениальной актрисы и руководителя театра, не только тяжёлой утратой близкого и горячо любимого человека — это была катастрофа. И не только для меня — все мы, актёры и актрисы, проработавшие ряд лет с Верой Фёдоровной, похоронив её, ясно поняли, что театр перестал существовать — перестало биться сердце, объединявшее нас, вдохновлявшее нас, любившее и учившее нас... И хотя в тот момент — весной 1910 года существовал крепкий и слаженный коллектив одного из самых передовых русских театров того времени — ни у кого из нас ни на секунду не появилась мысль продолжать дело В. Ф. Комиссаржевской без неё... Такая мысль даже показалась бы нам тогда кощунственной. Грустно, подавленно прошло последнее собрание труппы... Не было ни официальных речей, ни поминок, ни пышных некрологов — всем как-то отчётливо стало понятно, что театр умер и всем нам надо расстаться. И мы расстались и разбрелись — кто куда»[580]. Катастрофа — это верное слово. Внезапная гибель Комиссаржевской многими была воспринята именно так. Однако фактически сразу после полученного в Петербурге известия ошеломлённая творческая интеллигенция стала искать пути примирения как с жестокой реальностью, отнявшей у неё актрису, так и с самой тенью Веры Фёдоровны, перед которой многие чувствовали свою (иногда вполне иллюзорную) вину. Первым на смерть Комиссаржевской откликнулся Александр Блок. Сначала, буквально на следующий день — 11 февраля, пронзительным некрологом, потом — устным выступлением. 7 марта 1910 года в зале Петербургской городской думы на вечере памяти актрисы Блок произнёс знаменитую речь[581] — знаменитую прежде всего тем, что завершалась она новым стихотворением на смерть Комиссаржевской:
Пришла порою полуночной
На крайний полюс, в мёртвый край.
Не верили. Не ждали. Точно
Не таял снег, не веял май.
Не верили. А голос юный
Нам пел и плакал о весне,
Как будто ветер тронул струны
Там, в незнакомой вышине,
Как будто отступили зимы,
И буря твердь разорвала,
И струнно плачут серафимы,
Над миром расплескав крыла...
Но было тихо в нашем склепе,
И полюс — в хладном серебре.
Ушла. От всех великолепий —
Вот только: крылья на заре.
Что в ней рыдало? Что боролось?
Чего она ждала от нас?
Не знаем. Умер вешний голос,
Погасли звёзды синих глаз.
Да, слепы люди, низки тучи...
И где нам ведать торжества?
Залёг здесь камень бел-горючий,
Растёт у ног плакун-трава...
Так спи, измученная славой,
Любовью, жизнью, клеветой...
Теперь ты с нею — с величавой,
С несбыточной твоей мечтой.
А мы — что мы на этой тризне?
Что можем знать, чему помочь?
Пускай хоть смерть понятней жизни,
Хоть погребальный факел — в ночь...
Пускай хоть в небе — Вера с нами,
Смотри сквозь тучи: там она —
Развёрнутое ветром знамя,
Обетованная весна.
Главная тема этого очень символистского и при этом проникнутого искренним переживанием текста — «крайний полюс», «мёртвый край», «склеп», среди ночи застигнутый внезапным наступлением зари и весны. Обладательница «вешнего голоса» пытается пробудить замёрзший и замерший мир от вечного сна, однако усилия её тщетны. Из противопоставления «полюса в хладном серебре» и весенней посланницы небес органически следует один из лейтмотивов стихотворения, развёрнутых дальше, — непонимание или неузнавание толпы («Что в ней рыдало? Что боролось? / Чего она ждала от нас? / Не знаем»). Здесь есть и «юный голос», который «пел и плакал о весне», и звучащие в «незнакомой вышине» струны, и «звёзды синих глаз» — черты облика Комиссаржевской. Его Блок запечатлевает теми средствами, которые представляются ему наиболее отвечающими сути её личности. Завершается стихотворение мистической картиной небесной славы героини, которая даже после своего ухода остаётся обетованием новой прекрасной жизни. В стихотворении звучат, конечно, и печальные ноты погребального плача, и человеческое прощание с Комиссаржевской, своим уходом отметившей окончание важнейшей эпохи русской культуры, которую мы знаем под именем «символизм». С 1910 года начинается его «постепенный и всё более интенсивный распад»[582]. Конечно, не смерть Комиссаржевской была причиной этого процесса, но она таинственным образом совпала с высшей точкой кризиса и угасанием символизма. Ощущение границы, перехода в новую эру Блок отразил в своих поминальных текстах, посвящённых Комиссаржевской. «Смерть Веры Фёдоровны, — писал он, — волнует и тревожит; при всей своей чудовищной неожиданности и незаслуженной жестокости — это прекрасная смерть. Да это и не смерть, не обыкновенная смерть, конечно. Это ещё новый завет для нас — чтобы мы твёрдо стояли на страже, новое напоминание, далёкий голос синей Вечности о том, чтобы ждали нового, чудесного, несбыточного те из нас, кого ещё не смыла ослепительная и страшная волна горя и восторга»[583]. Образ Комиссаржевской представал со страниц блоковских некрологов настолько глубоко идеализированным, она явилась перед обывателем, и без того ошарашенным её смертью, настолько прекрасной, одухотворённой, таинственной, что окончательно оторвалась от земной почвы: «И вот, в предреволюционный год, открылись перед нами высокие двери, поднялись тяжёлые бархатные занавесы — и в дверях — на фоне белого театрального зала — появилась ещё смутная, ещё в сумраке, неотчётливо (так неотчётливо, как появляются именно живые) эта маленькая фигура со страстью ожидания и надежды в синих глазах, с весенней дрожью в голосе, вся изображающая один порыв, одно устремление куда-то, за какие-то синие, синие пределы человеческой здешней жизни. Мы и не знали тогда, кто перед нами, нас ослепили окружающие огни, задушили цветы, оглушила торжественная музыка этой большой и всегда певучей души. Конечно, все мы были влюблены в Веру Фёдоровну Комиссаржевскую, сами о том не ведая, и были влюблены не только в неё, но в то, что светилось за её беспокойными плечами, в то, к чему звали её бессонные глаза и всегда волнующий голос»[584].
 Ещё значительнее примерно о том же сказано в речи Блока, написанной через месяц после смерти Комиссаржевской. По прошествии времени, когда его рукой двигала уже не только боль внезапной потери, обдумав и глубоко осознав случившееся, Блок писал:
«В. Ф. Комиссаржевская видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз; она не могла не видеть дальше, потому что в её глазах был кусочек волшебного зеркала, как у мальчика Кая в сказке Андерсена. Оттого эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены, так удивляли и восхищали нас; говорили о чём-то безмерно большем, чем она сама.
В. Ф. Комиссаржевская голосом своим вторила мировому оркестру. Оттого её требовательный и нежный голос был подобен голосу весны, он звал нас безмерно дальше, чем содержание произносимых слов.
Вот почему сама она стала теперь символом для нас. Вот почему десятки тысяч людей, которые шли за её погребальной колесницей, десятки тысяч людей, почти равнодушных ко всему, что было вокруг неё, — всё-таки шли, влекомые тем незнакомым, что стояло за нею, тем тревожным и страшно интересным, что таит в себе имя Слава»[585].
Шквал некрологов, коротких и длинных мемуаров, поминальных слов и слов благодарности в адрес внезапно и страшно умершей актрисы обрушился на страницы разнообразных периодических изданий практически сразу после известия о её смерти и не стихал в течение нескольких лет, неизменно набирая силу к памятным биографическим датам. Смысловые и образные узлы этих публикаций зачастую повторялись, так или иначе воспроизводя блоковские тексты, выразившие общее смятение, сожаление и запоздалое восхищение личностью и деятельностью В. Ф. Комиссаржевской. Блок своими прозаическими и поэтическими высказываниями о смерти актрисы практически предложил трафарет, по которому послушно двигалась общественная мысль на протяжении десятилетий. Таково было мощное воздействие Блока на эпоху, такова была магия его слова, что как сознательно, так и подсознательно цитаты из его текстов воспроизводились от раза к разу, постепенно оформляя мифологизированный образ актрисы.
Об этом мифе стоит поговорить подробнее, чтобы иметь возможность сознательнее отнестись к чертам реальной личности Комиссаржевской, плотно скрытой флёром блоковской легенды. Первым пунктом мифа можно назвать разбитую личную жизнь и пережитые страдания, которые толкнули артистку на сцену, утончили её душу, сделали её подобной скрипке, способной к передаче тончайших эмоций. Вот что писал о Комиссаржевской Юрий Беляев: «Ах, этот голос, эта натянутая струна, эта драгоценная скрипка Страдивариуса! Я сказал, что тогда она пела, а не говорила. Её музыкальная душа, её ритмическое исполнение давали сладкое ощущение мелодии. Сначала тихо, потом усиливая звук, наконец вырывая из своей слабой груди такие звуки, какие есть только в груди старинных скрипок, оброненных на землю ангелами, Комиссаржевская пела нам тогда свои создания»[586].
С ангельской темой тесно связан мотив вечной юности, предвосхищающий тему бессмертия актрисы. Это второй пункт мифа. Он тоже был заявлен Блоком в его поминальных публикациях: «Она была — вся мятеж и вся весна, как Тильда, и, право, ей точно было пятнадцать лет»[587]. Блок выстраивал отчётливую зависимость между ощущением юности, которое исходило от Комиссаржевской, её смелым поиском в искусстве и приверженностью к новым формам, и — вечностью, ради которой она работала и которой после смерти в полной мере принадлежит. Последователи Блока упростили эту сложную парадигму: Комиссаржевская в самом складе своей личности таила нерастраченные молодые силы, неугасающую юность, к которой тянулась молодёжь и которая позволяла ей несколько раз заново начинать свою жизнь.
С вечной молодостью Комиссаржевской тесно сплетена другая легенда — влюблённость в актрису, которая распространяется лично от А. А. Блока на всё русское общество: «И я молю её светлую тень — её крылатую тень — позволить мне вплести в её розы и лавры цветок моей траурной и почтительной влюблённости»[588]. «Можно любить театр и не любить, — но Комиссаржевскую нельзя было не любить»[589], — патетически вторит Блоку писатель Николай Крашенинников, посвятивший свою заметку пятилетию со дня смерти актрисы. Речь шла, конечно, об особой магии личности Комиссаржевской, которая распространялась на всех без исключения. Не её театр, не её дар, а её саму — нельзя было не любить.
Ещё одна черта, отмеченная Блоком и сросшаяся с мифом о Комиссаржевской, — это постоянное стремление актрисы в иные сферы, в иные миры, которые поэт романтически обозначил как «величавую», «несбыточную» мечту, «устремление куда-то, за какие-то синие, синие пределы человеческой здешней жизни». Комиссаржевская относилась к тем, «кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной...»[590]. Одна эта способность делает её не просто художником, но сверхсуществом, которому ведомы судьбы мира и, уж конечно, судьбы мирового искусства. Один из критиков использовал в своём некрологе такую метафору: «Она создала свой театр и отважно, смотря вперёд своими удивительными глазами, поплыла как большой корабль с мачтами, уходящими в облака...»[591] Пётр Ярцев вспоминает своё впечатление от сверхчеловеческих проявлений в Комиссаржевской: «Теперь была она другая, “настоящая”, и показалось мне тогда, что такое лицо, глаза такие — не лицо, не глаза человека»[592]. Брат актрисы Ф. Ф. Комиссаржевский писал о ней в 1912 году: «Она никогда не была удовлетворена действительностью; живя в настоящем, она уже предчувствовала будущее; её духовный взор был всегда устремлён вдаль, в прекрасную страну новых истин»[593].
Тема острого духовного зрения, отрешённости от земного существования в пользу высшего бытия искусства, полумистических прозрений раскрывается Блоком с помощью описания заведомо хрупкой «маленькой фигурки» (неприспособленной для жизни в этом мире), синих «бессонных глаз», глядящих в «неизвестную даль», и «голоса художницы», сливавшегося с мировым оркестром. «При имени В. Ф. Комиссаржевской <...>, — писал к пятилетию её смерти Николай Евреинов, разворачивая метафору запредельного взгляда и неземного голоса, — на меня смотрят глаза, большие и печальные, как вопросы о жизни и смерти, о добре и зле, о красоте и безобразии. При имени В. Ф. Комиссаржевской в моей памяти звенит низкий грудной голос, твёрдый и мягкий в одно и то же время, голос совсем нездешнего очарования. Я слышу самые простые слова — “хотите чаю?”, “вы не устали?”, “сегодня так холодно”, как слова какого-то особого значения, слова, весь смысл которых для меня не в сказанном, а в задушевных звуках, выразивших сказанное, звуках, рождённых вечно верной себе женственностью. Самые обыкновенные слова покойной всплывают в моей памяти, как слова необыкновенные, как “слова Комиссаржевской”, и я снова в плену отзвучавшей музыки, для которой ещё не выдуман нотный стан и нет примеров модуляции в учебниках гармонии»[594].
Все эти характеристики сливались в одно представление о душе не от мира сего, облечённой в хрупкую плоть, как бы заранее обречённой, обладавшей явными признаками своей сопричастности иным сферам. Ангелоподобие, почти святость — главная черта Комиссаржевской, практически слившаяся с её обликом после смерти. «Как легендарный ангел, она подходила, будто во сне совсем близко... она почти касалась дрожащей рукой нашего сердца и смотрела в самые глаза наши широко открытыми очами, затуманенными от слёз»[595].
Знаковый эпитет «синий», которым лаконично и исчерпывающе Блок описывает глаза Комиссаржевской, никем практически не повторяется. Современники, лично знакомые с актрисой, отлично знали, что синими её глаза не были. Во многих мемуарах упоминаются «тёмные» глаза, а вот более конкретное свидетельство: «Просто и ясно смотрела на меня широко открытыми голубовато-серыми глазами»[596], — пишет о своей встрече с Комиссаржевской нисколько не покорённый её обаянием П. П. Гнедич. Многократно акцентированный Блоком эпитет «синий» был справедливо воспринят не в цветовой конкретике, а в абстрактном символистском значении, он и не должен был описывать действительный цвет глаз Комиссаржевской, а фиксировал их обращённость внутрь себя, к тайнам мира, в вечность.
Общим местом стал вполне символистский образ весны, сопровождающий Комиссаржевскую в текстах Блока. Заметим, что и у Блока он возник скорее из сценической реальности. «Солнце России», «Весна русской сцены» — подобные надписи с лёгкостью обнаруживаются на лентах с венков, которые подносились В. Ф. во время её спектаклей и многочисленных гастрольных поездок. Однако Блок преображает эти тривиальные штампы: «предвесенняя смерть», «весенняя дрожь в голосе», она была «вся весна», «её требовательный и нежный голос был подобен голосу весны», и наконец, из стихотворения: «...голос юный / Нам пел и плакал о весне...», «вешний голос» и «обетованная весна» в финале.
Весна здесь имеет значение воскресения, и ангелическое, сакральное, неземное в образе Веры Фёдоровны притягивает эти ассоциации. В конце стихотворения они приобретают гиперболизированные религиозно-экстатические интонации, связанные с мотивом спасения — «новый завет для нас». То же происходит и в поминальной речи Блока: «Её смерть была очистительна для нас. Тот, кто видел, как над её могилой открылось весеннее небо, когда гроб опускали в землю, был в эту минуту блаженен и светел, а тяжёлое, трудное и грязное отошло от него»[597].
Подражатели и последователи Блока подхватили эту благодатную тему, зачастую достигая в ней совсем уже заоблачных высот. Приведём цитату из мистической повести с говорящим названием «Бессмертие. Посвящено Беатрисе предчувствуемой», написанной А. Дьяконовым к третьей годовщине смерти В. Ф. Комиссаржевской. Поскольку жанр этого произведения самим автором определён как «мистическая повесть», неудивительно, что сюжет его не всегда связан с реальными событиями, а действующие герои наделены, во всяком случае, вымышленными именами. Центральное место в повести занимают похороны героини по имени Марианна, свидетелем которых становится любящий её и безмерно страдающий от утраты Иоанн:
«Казалось, уже настигла Иоанна смерть и окаменел он. Но вдруг глухо, едва слышно крикнул:
— Солнце! Солнце!
И в тот миг, как упали в тишину, как камни драгоценные, его слова — в высоком небе загорелось солнце. Открылись облака жемчужные, и яркий луч упал щедро на землю. Как изваянный стоит Иоанн, ослеплённый потоком света. Горит лицо его восхищением, блаженной радостью сияют глаза и ликует в сердце любовь. Открылось небо, и солнце золотою ризою покрыло землю. С безмерной высоты до краёв земли сияющими ступенями ниспадал горящий луч, и вся в пурпуре, вся из огня нисходит Марианна, и лик ея — лик ангела в нимбе света, и рука ея благословляет нежно Иоанна»[598].
Блоковские сакральные мотивы обнажены здесь до предела. Происходит то, что в теории литературы называется реализацией метафоры, и это, несомненно, ещё раз указывает на особую популярность темы посмертного торжества Комиссаржевской.
Последний пункт, на котором мельком остановился Блок в своих прозаических текстах и который он сделал поворотным в тексте стихотворения, можно обозначить как «художник и толпа». К толпе он многозначительно причисляет и самого себя, объединяя тех, кто «не верил», «не ждал» и не почувствовал прихода весны, местоимением «мы». О «нашем» неумении ценить человека при его жизни Блок скажет и в некрологе. Однако и там, и в стихотворении «На смерть Комиссаржевской» в противовес этому утверждению звучат и другие слова, в которых авторское «я» существует совершенно отдельно от всяких «мы»: «никогда не забуду», «я вспоминаю», «я молю». Правда, эти авторские прозрения относятся тоже ко времени после гибели актрисы, а не к её славе. В своей речи Блок выделяет особый слой людей, не принимавших талант Комиссаржевской, и даёт им характерный для романтического мировоззрения ярлык — «обыватели» (за их спиной стоит знаменитый гофмановский «филистер»). Здесь особенно подчёркивается преображение тех, кто сначала коснел в своём непонимании актрисы, а потом «видел, как над её могилой открылось весеннее небо». Блок варьирует два мотива: неузнанности и непризнанности актрисы при жизни слепой профанной толпой — и внезапного просветления, узнавания её величия после её «очистительной смерти».
В поминальной статье Николая Евреинова, напечатанной в феврале 1910 года, которая носила говорящее название «В. Ф. Комиссаржевская и толпа», полностью выдержана романтическая антитеза: «Прекрасная душа несла толпе цветы своих стремлений... — толпа смеялась. Свободный ум дарил толпе свои раздумья... — толпа с презрением отвергала дар. Большое сердце на глазах толпы точилось кровью... — толпа не тронулась, — не верила, ответила насмешкой, отвернулась...»[599] У Евреинова даже появляется мотив бегства от толпы, который подсвечивается гибелью актрисы: «Преступная толпа! — на её совести великий, тяжкий грех! и этот грех не искупить ей своими грошовыми венками!.. Комиссаржевская не первая. Припомним, скольких при жизни не признала толпа, её облагодетельствовавших! скольким послала тернии!.. — Поистине не стоит жить там, где её смрадное дыхание гасит священные огни, где она равнодушно топчет ослиными копытами чудесные ростки творческой жизни! Поистине хорошо уйти от толпы»[600].
Как видим, широкое противопоставление профанного и сакрального вбирает в себя и характерную для символизма антитезу «обыватель — творец». В этом Евреинов совпадает с Блоком, во многом благодаря которому В. Ф. Комиссаржевская не только в памяти современников, но и в сознании потомков надолго, практически навсегда лишилась реальных земных черт. Зато она обрела черты ангела, надмирного создания, которому неуютно и горько жилось на земле, гонимого толпой, но всё же упорно и жертвенно обращавшего к ней призыв в заоблачные дали искусства. Её подвиг, её очистительная жертва были восприняты как устойчивая мифологема, к 1915 году полностью сформированная. И прав оказался Осип Дымов, который в своей поминальной статье об актрисе произнёс пророческую фразу: «Комиссаржевской уже нет. Но есть и будет жить всегда прекрасная легенда о Комиссаржевской»[601].
Ещё значительнее примерно о том же сказано в речи Блока, написанной через месяц после смерти Комиссаржевской. По прошествии времени, когда его рукой двигала уже не только боль внезапной потери, обдумав и глубоко осознав случившееся, Блок писал:
«В. Ф. Комиссаржевская видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз; она не могла не видеть дальше, потому что в её глазах был кусочек волшебного зеркала, как у мальчика Кая в сказке Андерсена. Оттого эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены, так удивляли и восхищали нас; говорили о чём-то безмерно большем, чем она сама.
В. Ф. Комиссаржевская голосом своим вторила мировому оркестру. Оттого её требовательный и нежный голос был подобен голосу весны, он звал нас безмерно дальше, чем содержание произносимых слов.
Вот почему сама она стала теперь символом для нас. Вот почему десятки тысяч людей, которые шли за её погребальной колесницей, десятки тысяч людей, почти равнодушных ко всему, что было вокруг неё, — всё-таки шли, влекомые тем незнакомым, что стояло за нею, тем тревожным и страшно интересным, что таит в себе имя Слава»[585].
Шквал некрологов, коротких и длинных мемуаров, поминальных слов и слов благодарности в адрес внезапно и страшно умершей актрисы обрушился на страницы разнообразных периодических изданий практически сразу после известия о её смерти и не стихал в течение нескольких лет, неизменно набирая силу к памятным биографическим датам. Смысловые и образные узлы этих публикаций зачастую повторялись, так или иначе воспроизводя блоковские тексты, выразившие общее смятение, сожаление и запоздалое восхищение личностью и деятельностью В. Ф. Комиссаржевской. Блок своими прозаическими и поэтическими высказываниями о смерти актрисы практически предложил трафарет, по которому послушно двигалась общественная мысль на протяжении десятилетий. Таково было мощное воздействие Блока на эпоху, такова была магия его слова, что как сознательно, так и подсознательно цитаты из его текстов воспроизводились от раза к разу, постепенно оформляя мифологизированный образ актрисы.
Об этом мифе стоит поговорить подробнее, чтобы иметь возможность сознательнее отнестись к чертам реальной личности Комиссаржевской, плотно скрытой флёром блоковской легенды. Первым пунктом мифа можно назвать разбитую личную жизнь и пережитые страдания, которые толкнули артистку на сцену, утончили её душу, сделали её подобной скрипке, способной к передаче тончайших эмоций. Вот что писал о Комиссаржевской Юрий Беляев: «Ах, этот голос, эта натянутая струна, эта драгоценная скрипка Страдивариуса! Я сказал, что тогда она пела, а не говорила. Её музыкальная душа, её ритмическое исполнение давали сладкое ощущение мелодии. Сначала тихо, потом усиливая звук, наконец вырывая из своей слабой груди такие звуки, какие есть только в груди старинных скрипок, оброненных на землю ангелами, Комиссаржевская пела нам тогда свои создания»[586].
С ангельской темой тесно связан мотив вечной юности, предвосхищающий тему бессмертия актрисы. Это второй пункт мифа. Он тоже был заявлен Блоком в его поминальных публикациях: «Она была — вся мятеж и вся весна, как Тильда, и, право, ей точно было пятнадцать лет»[587]. Блок выстраивал отчётливую зависимость между ощущением юности, которое исходило от Комиссаржевской, её смелым поиском в искусстве и приверженностью к новым формам, и — вечностью, ради которой она работала и которой после смерти в полной мере принадлежит. Последователи Блока упростили эту сложную парадигму: Комиссаржевская в самом складе своей личности таила нерастраченные молодые силы, неугасающую юность, к которой тянулась молодёжь и которая позволяла ей несколько раз заново начинать свою жизнь.
С вечной молодостью Комиссаржевской тесно сплетена другая легенда — влюблённость в актрису, которая распространяется лично от А. А. Блока на всё русское общество: «И я молю её светлую тень — её крылатую тень — позволить мне вплести в её розы и лавры цветок моей траурной и почтительной влюблённости»[588]. «Можно любить театр и не любить, — но Комиссаржевскую нельзя было не любить»[589], — патетически вторит Блоку писатель Николай Крашенинников, посвятивший свою заметку пятилетию со дня смерти актрисы. Речь шла, конечно, об особой магии личности Комиссаржевской, которая распространялась на всех без исключения. Не её театр, не её дар, а её саму — нельзя было не любить.
Ещё одна черта, отмеченная Блоком и сросшаяся с мифом о Комиссаржевской, — это постоянное стремление актрисы в иные сферы, в иные миры, которые поэт романтически обозначил как «величавую», «несбыточную» мечту, «устремление куда-то, за какие-то синие, синие пределы человеческой здешней жизни». Комиссаржевская относилась к тем, «кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной...»[590]. Одна эта способность делает её не просто художником, но сверхсуществом, которому ведомы судьбы мира и, уж конечно, судьбы мирового искусства. Один из критиков использовал в своём некрологе такую метафору: «Она создала свой театр и отважно, смотря вперёд своими удивительными глазами, поплыла как большой корабль с мачтами, уходящими в облака...»[591] Пётр Ярцев вспоминает своё впечатление от сверхчеловеческих проявлений в Комиссаржевской: «Теперь была она другая, “настоящая”, и показалось мне тогда, что такое лицо, глаза такие — не лицо, не глаза человека»[592]. Брат актрисы Ф. Ф. Комиссаржевский писал о ней в 1912 году: «Она никогда не была удовлетворена действительностью; живя в настоящем, она уже предчувствовала будущее; её духовный взор был всегда устремлён вдаль, в прекрасную страну новых истин»[593].
Тема острого духовного зрения, отрешённости от земного существования в пользу высшего бытия искусства, полумистических прозрений раскрывается Блоком с помощью описания заведомо хрупкой «маленькой фигурки» (неприспособленной для жизни в этом мире), синих «бессонных глаз», глядящих в «неизвестную даль», и «голоса художницы», сливавшегося с мировым оркестром. «При имени В. Ф. Комиссаржевской <...>, — писал к пятилетию её смерти Николай Евреинов, разворачивая метафору запредельного взгляда и неземного голоса, — на меня смотрят глаза, большие и печальные, как вопросы о жизни и смерти, о добре и зле, о красоте и безобразии. При имени В. Ф. Комиссаржевской в моей памяти звенит низкий грудной голос, твёрдый и мягкий в одно и то же время, голос совсем нездешнего очарования. Я слышу самые простые слова — “хотите чаю?”, “вы не устали?”, “сегодня так холодно”, как слова какого-то особого значения, слова, весь смысл которых для меня не в сказанном, а в задушевных звуках, выразивших сказанное, звуках, рождённых вечно верной себе женственностью. Самые обыкновенные слова покойной всплывают в моей памяти, как слова необыкновенные, как “слова Комиссаржевской”, и я снова в плену отзвучавшей музыки, для которой ещё не выдуман нотный стан и нет примеров модуляции в учебниках гармонии»[594].
Все эти характеристики сливались в одно представление о душе не от мира сего, облечённой в хрупкую плоть, как бы заранее обречённой, обладавшей явными признаками своей сопричастности иным сферам. Ангелоподобие, почти святость — главная черта Комиссаржевской, практически слившаяся с её обликом после смерти. «Как легендарный ангел, она подходила, будто во сне совсем близко... она почти касалась дрожащей рукой нашего сердца и смотрела в самые глаза наши широко открытыми очами, затуманенными от слёз»[595].
Знаковый эпитет «синий», которым лаконично и исчерпывающе Блок описывает глаза Комиссаржевской, никем практически не повторяется. Современники, лично знакомые с актрисой, отлично знали, что синими её глаза не были. Во многих мемуарах упоминаются «тёмные» глаза, а вот более конкретное свидетельство: «Просто и ясно смотрела на меня широко открытыми голубовато-серыми глазами»[596], — пишет о своей встрече с Комиссаржевской нисколько не покорённый её обаянием П. П. Гнедич. Многократно акцентированный Блоком эпитет «синий» был справедливо воспринят не в цветовой конкретике, а в абстрактном символистском значении, он и не должен был описывать действительный цвет глаз Комиссаржевской, а фиксировал их обращённость внутрь себя, к тайнам мира, в вечность.
Общим местом стал вполне символистский образ весны, сопровождающий Комиссаржевскую в текстах Блока. Заметим, что и у Блока он возник скорее из сценической реальности. «Солнце России», «Весна русской сцены» — подобные надписи с лёгкостью обнаруживаются на лентах с венков, которые подносились В. Ф. во время её спектаклей и многочисленных гастрольных поездок. Однако Блок преображает эти тривиальные штампы: «предвесенняя смерть», «весенняя дрожь в голосе», она была «вся весна», «её требовательный и нежный голос был подобен голосу весны», и наконец, из стихотворения: «...голос юный / Нам пел и плакал о весне...», «вешний голос» и «обетованная весна» в финале.
Весна здесь имеет значение воскресения, и ангелическое, сакральное, неземное в образе Веры Фёдоровны притягивает эти ассоциации. В конце стихотворения они приобретают гиперболизированные религиозно-экстатические интонации, связанные с мотивом спасения — «новый завет для нас». То же происходит и в поминальной речи Блока: «Её смерть была очистительна для нас. Тот, кто видел, как над её могилой открылось весеннее небо, когда гроб опускали в землю, был в эту минуту блаженен и светел, а тяжёлое, трудное и грязное отошло от него»[597].
Подражатели и последователи Блока подхватили эту благодатную тему, зачастую достигая в ней совсем уже заоблачных высот. Приведём цитату из мистической повести с говорящим названием «Бессмертие. Посвящено Беатрисе предчувствуемой», написанной А. Дьяконовым к третьей годовщине смерти В. Ф. Комиссаржевской. Поскольку жанр этого произведения самим автором определён как «мистическая повесть», неудивительно, что сюжет его не всегда связан с реальными событиями, а действующие герои наделены, во всяком случае, вымышленными именами. Центральное место в повести занимают похороны героини по имени Марианна, свидетелем которых становится любящий её и безмерно страдающий от утраты Иоанн:
«Казалось, уже настигла Иоанна смерть и окаменел он. Но вдруг глухо, едва слышно крикнул:
— Солнце! Солнце!
И в тот миг, как упали в тишину, как камни драгоценные, его слова — в высоком небе загорелось солнце. Открылись облака жемчужные, и яркий луч упал щедро на землю. Как изваянный стоит Иоанн, ослеплённый потоком света. Горит лицо его восхищением, блаженной радостью сияют глаза и ликует в сердце любовь. Открылось небо, и солнце золотою ризою покрыло землю. С безмерной высоты до краёв земли сияющими ступенями ниспадал горящий луч, и вся в пурпуре, вся из огня нисходит Марианна, и лик ея — лик ангела в нимбе света, и рука ея благословляет нежно Иоанна»[598].
Блоковские сакральные мотивы обнажены здесь до предела. Происходит то, что в теории литературы называется реализацией метафоры, и это, несомненно, ещё раз указывает на особую популярность темы посмертного торжества Комиссаржевской.
Последний пункт, на котором мельком остановился Блок в своих прозаических текстах и который он сделал поворотным в тексте стихотворения, можно обозначить как «художник и толпа». К толпе он многозначительно причисляет и самого себя, объединяя тех, кто «не верил», «не ждал» и не почувствовал прихода весны, местоимением «мы». О «нашем» неумении ценить человека при его жизни Блок скажет и в некрологе. Однако и там, и в стихотворении «На смерть Комиссаржевской» в противовес этому утверждению звучат и другие слова, в которых авторское «я» существует совершенно отдельно от всяких «мы»: «никогда не забуду», «я вспоминаю», «я молю». Правда, эти авторские прозрения относятся тоже ко времени после гибели актрисы, а не к её славе. В своей речи Блок выделяет особый слой людей, не принимавших талант Комиссаржевской, и даёт им характерный для романтического мировоззрения ярлык — «обыватели» (за их спиной стоит знаменитый гофмановский «филистер»). Здесь особенно подчёркивается преображение тех, кто сначала коснел в своём непонимании актрисы, а потом «видел, как над её могилой открылось весеннее небо». Блок варьирует два мотива: неузнанности и непризнанности актрисы при жизни слепой профанной толпой — и внезапного просветления, узнавания её величия после её «очистительной смерти».
В поминальной статье Николая Евреинова, напечатанной в феврале 1910 года, которая носила говорящее название «В. Ф. Комиссаржевская и толпа», полностью выдержана романтическая антитеза: «Прекрасная душа несла толпе цветы своих стремлений... — толпа смеялась. Свободный ум дарил толпе свои раздумья... — толпа с презрением отвергала дар. Большое сердце на глазах толпы точилось кровью... — толпа не тронулась, — не верила, ответила насмешкой, отвернулась...»[599] У Евреинова даже появляется мотив бегства от толпы, который подсвечивается гибелью актрисы: «Преступная толпа! — на её совести великий, тяжкий грех! и этот грех не искупить ей своими грошовыми венками!.. Комиссаржевская не первая. Припомним, скольких при жизни не признала толпа, её облагодетельствовавших! скольким послала тернии!.. — Поистине не стоит жить там, где её смрадное дыхание гасит священные огни, где она равнодушно топчет ослиными копытами чудесные ростки творческой жизни! Поистине хорошо уйти от толпы»[600].
Как видим, широкое противопоставление профанного и сакрального вбирает в себя и характерную для символизма антитезу «обыватель — творец». В этом Евреинов совпадает с Блоком, во многом благодаря которому В. Ф. Комиссаржевская не только в памяти современников, но и в сознании потомков надолго, практически навсегда лишилась реальных земных черт. Зато она обрела черты ангела, надмирного создания, которому неуютно и горько жилось на земле, гонимого толпой, но всё же упорно и жертвенно обращавшего к ней призыв в заоблачные дали искусства. Её подвиг, её очистительная жертва были восприняты как устойчивая мифологема, к 1915 году полностью сформированная. И прав оказался Осип Дымов, который в своей поминальной статье об актрисе произнёс пророческую фразу: «Комиссаржевской уже нет. Но есть и будет жить всегда прекрасная легенда о Комиссаржевской»[601].
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
1864, 27 октября — в семье артиста Мариинского театра Фёдора Петровича Комиссаржевского и его жены Марии Николаевны, урождённой Шульгиной, родилась первая дочь Вера. 1867 — у Комиссаржевских родилась вторая дочь, Надежда. 1869 — родилась третья дочь Ольга. 1871 — родился сын Григорий. 1876 — приобретено имение Марьино около станции Безданы Виленской губернии, где семья проводит летнее время. 1877 — смерть брата Григория, начало охлаждения между отцом и матерью. 1879—1880 — Вера живёт с отцом в Петербурге. 1882 — официальное расторжение брака между родителями, отец женится вторично на М. П. Курьятович-Курцевич. 23 мая — рождение в новой семье отца сына Фёдора. 1883 — В. Ф. выходит замуж за графа Л. Н. Муравьёва, начинающего художника. 1884 — рождение в семье Ф. П. Комиссаржевского второго сына, Николая. 1885 — В. Ф. узнает об измене мужа с её родной сестрой Надеждой. 1886—1887 — подаёт прошение о разводе, лечится на Липецких водах, знакомится с С. И. Зилоти и его семьёй. Маша Зилоти становится её ближайшей подругой. 1888 — Ф. П. Комиссаржевский, А. Ф. Федотов и Ф. Л. Сологуб организуют в Москве Общество искусства и литературы. 1889 — В. Ф. берёт уроки сценического мастерства у В. Н. Давыдова; выступает с пением цыганских романсов в любительском хоре С. И. Зилоти в Морском собрании Флотского экипажа. 1890 — брак В. Ф. Комиссаржевской и Л. Н. Муравьёва официально расторгнут. Сёстры Ольга и Вера Комиссаржевские приезжают к отцу в Москву и впервые публично выступают перед москвичами в хоре Общества искусства и литературы с исполнением цыганских песен. В. Ф. выходит на сцену в оперных и драматических спектаклях Общества. 1891 — первая большая роль Бетси в спектакле «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого. 1893 — играет под псевдонимом Комина в Сокольниках и Кунцеве в пьесе «Денежные тузы». По рекомендации актёра И. П. Киселёвского приглашена антрепренёром Н. Н. Синельниковым в Новочеркасск. 1893—1894 — театральный сезон в Новочеркасске, неудачный роман с Н. П. Рощиным-Инсаровым. 1894, весна — гастроли в Тифлисском театральном обществе. Встреча с отцом, который в это время живёт и работает в Тифлисе. Лето — играет в пригородах Петербурга в антрепризе П. А. Струйской. Август — получает приглашение от К. Н. Незлобина в театр Вильно. 1894—1895 — театральный сезон в Вильно. Начинается роман с К. В. Бравичем. 1895—1896 — второй сезон в Вильно. За два сезона сыграла около ста ролей, среди них Рози в «Бое бабочек», Клерхен в «Гибели Содома», Лариса в «Бесприданнице», Вера в «Месяце в деревне», Негина в «Талантах и поклонниках», Луиза в «Коварстве и любви», Софья в «Горе от ума». 1896, 4 апреля — дебют в Александрийском театре в пьесе «Бой бабочек». 17 сентября — «Бесприданница». 17 октября — «Чайка». Фёдор Петрович Комиссаржевский, расставшийся со своей второй семьёй, навсегда уезжает в Италию. 1898 — начало романа с Е. П. Карповым. 1900, 11 февраля — в паре с итальянским трагиком Т. Сальвини играет Дездемону в «Отелло». 10 мая — 10 июня — в Харькове началась гастрольная поездка, в которой приняли участие Варламов, Ходотов, Вульф и другие александрийцы. Гастроли проходили в Киеве, Одессе, Вильно. Начало романа с Н. Н. Ходотовым. Лето — разрыв отношений с Е. П. Карповым. Август — путешествие с М. И. Зилоти в Крым, встреча с А. П. Чеховым в Ялте. 1900—1901 — пытается освоить новый для себя язык трагедии. Играет Офелию в «Гамлете»; неудачи в ролях Марии Андреевны («Бедная невеста») и Снегурочки. 1902, 11 февраля — играет Маргариту в «Фаусте». Август — покидает Александринский театр. Осенью начинает гастрольную поездку по провинции. Декабрь — участвует в концерте, состоявшемся в Большом зале Московского Благородного собрания, вместе с Ф. И. Шаляпиным читает под музыку Шумана поэму Байрона «Манфред». 21 декабря — впервые встречается со своим младшим братом Ф. Ф. Комиссаржевским, студентом-архитектором. 1903—1904 — продолжает гастроли для сбора средств на свой театр. 1903, осень — гастроли в Суворинском театре в Санкт-Петербурге. Живёт в квартире Прибытковых. 1904, февраль — гастроли в Москве, в театре «Эрмитаж». 15 сентября — открытие Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской в «Пассаже» пьесой «Уриэль Акоста». 17 сентября — премьера «Кукольного дома», Комиссаржевская в роли Норы. 10 ноября — громкая премьера пьесы Горького «Дачники». Декабрь — в Баку знакомится с Л. Б. Красиным. 1905, 18 января — в связи с арестом Горького спектакль «Дачники» запрещён и снят с репертуара. 1 марта — в Риме умер Ф. П. Комиссаржевский. 7 апреля — премьера пьесы Г. Ибсена «Строитель Сольнес». Тильду играет Комиссаржевская, Сольнеса — Бравич. В постановке участвует А. Волынский. 1 сентября — открытие второго сезона театра в «Пассаже» «Чайкой». Октябрь — Октябрьская всероссийская стачка. Вслед за театром Яворской отменил свои спектакли и театр Комиссаржевской. 1906, апрель—сентябрь — первые гастроли Драматического театра. Весна—лето — в новом здании театра на Офицерской улице идёт ремонт, ведутся переговоры с Мейерхольдом о сотрудничестве. Октябрь — по субботам журфиксы Драматического театра в Латышском клубе. 10 ноября — открытие сезона в бывшем театре Неметти первой постановкой нового режиссёра В. Э. Мейерхольда «Гедда Габлер» Ибсена. 22 ноября — премьера «Сестры Беатрисы» Метерлинка (режиссёр В. Э. Мейерхольд). 4 декабря — премьера «Вечной сказки» Пшибышевского. 18 декабря — возобновлённый спектакль «Кукольный дом». 1907, март—сентябрь — гастрольная поездка, которая заканчивается в Москве в театре «Эрмитаж». Начало романа с В. Я. Брюсовым. 15 сентября — начало второго сезона на Офицерской улице постановкой «Пробуждение весны» Ведекинда. 10 октября — премьера пьесы Метерлинка «Пелеас и Мелизанда» в переводе Брюсова. 12 октября — заседание художественного совета театра, на котором резко обозначился конфликт с Мейерхольдом. 6 ноября — «Победа смерти» Ф. Сологуба — последняя постановка Мейерхольда. 20 декабря — заседание третейского суда по делу между В. Э. Мейерхольдом и В. Ф. Комиссаржевской. 1908, 6 января — вынужденное закрытие зимнего сезона по финансовым причинам. 10 января — труппа отправляется на гастроли в США. Конец апреля — возвращается на Европейский континент, лето проводит в Европе с братом Ф. Ф. Комиссаржевским. 29 августа — знакомство с В. А. Подгорным, принимает его на работу в свой театр. 4 сентября — во время московских гастролей премьера спектакля «Франческа да Римини» Д’Аннунцио, режиссёр Н. Евреинов. 1 октября — открытие третьего сезона на Офицерской улице пьесой «У врат царства». 30 октября — премьера оперы-пасторали «Королева Мая», Комиссаржевская в роли пастушка Филинта. 1909, 26января — премьера спектакля «Праматерь» Ф. Грильпарцера в переводе А. Блока. 8 февраля — прощальный спектакль «Кукольный дом», Комиссаржевская в сотый раз выходит на сцену в роли Норы. Закрытие Драматического театра в Петербурге. 10 февраля — начало гастрольной поездки по Сибири и Дальнему Востоку, с заездом в Китай. Роман с В. А. Подгорным. Июнь-август — отдыхает в Европе, в конце июля — начале августа живёт неделю в Париже. 8 августа — собрание труппы в театре на Офицерской, который уже не принадлежит Комиссаржевской. Начало репетиций. 8—20 сентября — гастроли в Москве, встречается с Андреем Белым, убеждает его участвовать в своём проекте «школы нового человека». 10 сентября — премьера трагедии Ф. Геббеля «Юдифь». 16 сентября — премьера комедии К. Гольдони «Хозяйка гостиницы». Сентябрь—декабрь — продолжение гастролей на юге России, Украине, в Баку. 16 ноября — в Харькове Комиссаржевская письмом заявляет труппе о своём решении покинуть театр. 1910, январь — продолжение гастролей в Средней Азии: Ашхабад, Самарканд, Ташкент. 25 января — из-за внезапной болезни актёров труппы в Ташкенте отменён спектакль «Сестра Беатриса». 26 января — у заболевших актёров диагностируется оспа, в тот же вечер идёт с заменами спектакль «Бой бабочек», Комиссаржевская играет больная. 28 января — больную Комиссаржевскую перевозят из гостиницы «Захо» в квартиру А. А. Фрея на Самаркандской улице. 2—7 февраля — наступает улучшение, температура падает, появляется надежда на выздоровление. 8 февраля — начинается необратимый процесс, отказывают почки. 9 февраля — консилиум врачей определяет состояние Комиссаржевской как безнадёжное. 10 февраля, 13.45 — смерть Комиссаржевской. 13 февраля — тело отправлено с траурным поездом из Ташкента. 18 февраля — гроб с телом Комиссаржевской прибыл в Москву. 20 февраля — торжественная траурная церемония встречи гроба с телом Комиссаржевской в Петербурге и перенесение его в Александро-Невскую лавру. 21 февраля — погребение Комиссаржевской на Ново-Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 7 марта — в зале Петербургской городской думы на вечере памяти актрисы А. Блок произнёс знаменитую речь «Памяти В. Ф. Комиссаржевской», которая заканчивалась стихотворением «Пришла порою полуночной...».
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской. СПб., 1911. Памяти Веры Фёдоровны Комиссаржевской // Алконост. Кн.1. Издание Передвижного театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. СПб., 1911. В. Ф. Комиссаржевская. Альбом «Солнца России». СПб., 1915. Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской. М., 1931. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. М., 1964. О В. Ф. Комиссаржевской: Забытое и новое. Воспоминания, статьи, письма. М., 1965. Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. (Серия «Жизнь в искусстве»). Л., 1971. Рыбакова Ю. П. Летопись жизни и творчества В. Ф. Комиссаржевской. СПб., 1994. Комиссаржевский Ф. Ф. Я и театр. М., 1999. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к условному театру. СПб., 2006. Комиссаржевская В. Ф. «Эти огненные письма...»: Письма В. Ф. Комиссаржевской к Н. Н. Ходотову / Расшифровка автографов, сост., коммент., предисл., вступ. ст. Ю. П. Рыбаковой. СПб., 2014.
Последние комментарии
4 часов 34 минут назад
9 часов 37 минут назад
17 часов 26 минут назад
19 часов 57 минут назад
20 часов 5 минут назад
2 дней 7 часов назад