Р. Штильмарк
А. Н. ОСТРОВСКИЙ
*
ЗА МОСКВОЙ-РЕКОЙ
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ


*
Рецензент — кандидат филологических наук Г. Г. ЕЛИЗАВЕТИНА
© Издательство «Молодая гвардия», 1983 г.

О тех, кто первыми ступили на неизведанные земли, О мужественных людях — революционерах, Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше. О тех, кто проторил пути в науке и искусстве. Кто с детства был настойчивым в стремленьях И беззаветно к цели шел своей.
ГЛАВА ПЕРВАЯ НОЧИ НА ВОЛГЕ
Когда проселочные дороги достаточно обсохли и переезд через ручьи и овраги сделался возможным, я решился ехать в страну болот и озер, к истокам Волги.Л. Н. Островский.Дневник. Май 1856 г.
1
Лес впереди стал редеть, приоткрылось больше сумрачного неба. В колее уж который раз всхлипнула под колесами болотная жижа. — Добрались-таки до Воронова поселка, — сказал кучер. — Дальше дорога покрепче должна пойти, как слышно. Езды теперь не более двух верст, но засветло никак не поспеем. Опять дождик накрапывает! Эх-ма, ну и дороженька от самого погоста! Село и влажную низину, по краям распаханную, оставили слева. За росстанью вороновской околицы опять пошло смешанное редколесье — сосна, разлатые елки, береза, черная ольха, кусты можжевельника и калины. Тарантас делал крен то на одну, то на другую сторону, будто ладья на волне. Дорога повела по невысоким валдайским взгорьям с разбросанными среди мха и травы валунами. Так много серело их у дороги и в полях, что Островскому подумалось, не выпадал ли здесь некогда диковинный каменный град… Дождь тем временем еще поддал, с поднятого кожаного верха слетали на колени едущих тяжелые капли. От сырости и тумана Островский зябко ежился: он легко простужался и любил домашнее тепло. Понуро глядел на свои забрызганные грязью сапоги и секретарь Островского, купеческий сын Гурий Николаевич Бурлаков. На козлах, рядом с кучером, уныло сутулился рассыльный из уездного осташковского суда, безропотно подставляя дождю спину и плечи. «Лошади, однако, тянули будто даже полегче против давешнего — хорошо умятая мужицкими телегами супесь не сразу сдавалась влаге, ободья еще не вязли. От придорожных травинок явственнее пахнуло дегтем. Колея здесь и впрямь была крепче и наезженней. Уже почти в темноте дорога взяла круто влево, вокруг угадывались пашни со свежими всходами озимой ржи, овса, ячменя. Смутно различались огороды за поскотинами, соломенные и тесовые кровли изб: тарантас въехал в казенную деревушку Волгино-Верховье, иначе, для краткости, просто Волгу. В ненастной весенней мгле Островский из-за спины кучера еле различал очертания деревенской улицы, Бедноватые избы раскинуты были здесь куда как вольно, подобно валдайским камням-валунам. Знать, сама природа, местность, холмистая, пересеченная оврагами, болотцами и моренными грядами, подсказала крестьянину-тверичу не гнаться за питерской и вообще северо-русской строгой линейностью построек, а держаться стародавней привычки к живописному московскому беспорядку… Между тем кучер уже стучал кнутовищем в окошко одного из крестьянских домов, побогаче и просторнее других. Как только дверь приоткрылась, кучер, почти отпихнув в дверях хозяина, пригласил путников в дом. И похоже было, что на потревоженную перед полуночью крестьянскую семью наибольшее впечатление произвел не сам высоколобый, бритый, рано отяжелевший московский барин средних лет, не другой, на вид помоложе, с портфелем для бумаг и саквояжем, а курьер осташковского земского суда со служебной форменной сумкой через плечо… Накануне отъезда из Осташкова тамошний начальник уездного управления полиции и председатель земского суда обещал Островскому послать с ним в дорогу к Волгину-Верховью судейского рассыльного, притом непременно с форменной сумкой «для острастки»… И на всем двухсуточном пути от города Осташкова через Звягино, мимо озера Сабро и дальше, от Шелеховского погоста и деревни Коковкипой до самого истока Волги судейская сумка магически действовала на встречных: просьбы и пожелания едущих исполнялись беспрекословно. Подвела только погода. Как утверждал сокрушенно Гурий Николаевич, на Илью-пророка и прочие небесные власти судейская сумка должного впечатления не произвела! Хозяйки внесли в избу большие охапки прошлогоднего сена, уже слежавшегося под крышей хлева и чуть пропахшего конским и коровьим навозом. Сено накрыли попонами и каким-то рядном. Проезжающие постлали поверху свои халаты. Для укрывания взамен простынь пошли домотканые полотна из хозяйского сундука. Женщины развесили у русской печи мокрые плащи, картузы и шипели, напоили нежданных гостей молоком вечернего надоя и оставили господ в большой горнице. Кучера и рассыльного уложили на полу у печи. К полуночи в избе все затихло. Одни черные тараканы, распуганные было светом сальных огарков, в темноте опять осмелели и пустились шуршать по стенам и потолку в поисках чего-то, им одним ведомого. И все же, несмотря на трудности дороги, майскую непогоду и неустройство с ночлегом, Островский был счастлив, что добрался-таки до этих мест. Засыпая, он думал о том, что едва ли чужеземец способен постичь всю безмерную притягательную силу небогатого здешнего края, труднодоступного, но заветного для сердца всякого россиянина. Ибо в какой-нибудь полуверсте от места ночлега прячется заповедная колыбель самой главной и самой любимой голубой дороженьки всея Руси, великой нашей кормилицы и поилицы, матушки Волги! И человек, сподобившийся испить глоток воды от волжского истока, потом гордится этим всю свою жизнь!* * *
Ехал Александр Николаевич Островский к верховьям Волги, однако, не только по велению собственного сердца, российское морское ведомство поручило ему изучить хозяйственную жизнь, промыслы и быт приволжского населения. Поручение, возложенное на Островского, исходило от очень важного лица — «Его императорского Высочества», генерал-адмирала, великого князя Константина. Открытый лист Александру Николаевичу Островскому был выдан за его подписью, в целях составления статей для «Морского сборника». Этот документ предписывал всем городским и земским полицейским управлениям оказывать Островскому содействие «ко исполнению возложенных на него поручений», предоставлять ему лошадей и провожатых. Что же это были за поручения и почему сиятельный выбор пал именно на Островского? Тут интересы государственные переплелись с личной судьбой и творческими замыслами самого драматурга. И для него, и для всей предреформениой России времена были трудными, переломными… …Как раз в те дни, то есть в феврале — марте 1856 года, когда Островский и еще целая группа писателей, тоже с поручениями для «Морского сборника», собиралась в путь в глубины России, во французской столице заседал международный конгресс, подводивший итоги Крымской войны 1853–1856 гг. Высшие сановники, дипломаты и военные чины России, Франции, Англии, Австрии, Турции и Сардинии запечатлели в Парижском мирном договоре поражение царской России. Ей пришлось официально отказаться от покровительства православным единоверцам (т. е. грекам, румынам, молдаванам и славянам, жившим под владычеством Турции), очистить Черное море от русских военных кораблей и морских баз, признать власть султана над Молдавией, Валахией и Сербией, уступить южную Бессарабию туркам, а на Балтике — отказаться от укрепления Аландских островов. Таковы невеселые итоги Крымской войны, показавшие «гнилость и бессилие крепостной России»… Горечь поражения заставляла русских людей и думать, и поступать по-новому. Теперь все поняли, что стране нужны глубокие перемены. Даже и невоенные люди, просто озабоченные судьбою России, убедились, что вооружение русской армии, оснащение русского флота устарели. Необходимо было изменить всю систему набора новобранцев в армию и на корабли, чтобы в матросы попадали не жители «сухопутных» губерний, а коренные рыбаки — мореходы, бывалые речники, или приозерные жители, словом, все те, кто сызмальства привык к большой воде. В те годы «Морской сборник» резко критиковал состояние боевых кораблей, систему управления ими, спорил с консерваторами и по общим вопросам, не связанным прямо с флотом. Великий хирург Пирогов опубликовал в «Сборнике» свои «Вопросы жизни», требуя обновить все дело воспитания молодого поколения в России, «Морской сборник» первым напечатал цикл гончаровских очерков «Фрегат «Паллада»… И по заданию генерал-адмирала Константина Николаевича за новыми материалами для «Морского сборника» были разосланы по стране видные русские писатели, уже имевшие опыт путешествий и вкус к очерковой прозе. Они должны были изучать и описывать народные промыслы, связанные с морем, озерами или реками, приемы местного судостроения и судовождения, положение отечественного рыболовства и само состояние водных путей России, в том числе искусственных каналов и водных систем. Среди привлеченных к сотрудничеству в «Морском сборнике» писателей были Гончаров, Григорович, Сергей Максимов, Афанасьев-Чужбинский, Писемский… Им поручены были описания Астраханской губернии и низовьев Волги, очерки о Каспийском и Белом морях, о Днепре и Доне. Островскому досталась Верхняя Волга от истока до Нижнего Новгорода. И он с увлечением взялся за дело.* * *
Дождь не переставал всю ночь. По тесовой кровле часто и глухо били дождевые струи, будто заячьи ланы по барабану. В оконца, забранные кусками битого стекла на замазке, пробивался серый рассвет. С крыш бежали потоки, пузыри на лужах плавали, не лопались, сулили долгое ненастье. Переждать такую непогоду безнадежно. Решили сходить к истоку Волги пораньше. Провожатым взяли взрослого хозяйского сына. Следом за приезжими потянулись и босоногие соседские ребятишки-подростки, но держались поодаль. Стены деревенских хат и сараев, кровли из осиновой щепы-дранки, соснового теса и слежавшейся, закопченной ржаной соломы, стволы ракит и вязов, даже сами холмы валдайские, каменистая почва, изгороди — все почернело от непогоды, будто ушло в себя, замкнулось. Избы исподлобья глядели на шагавших по лужам и сырой траве гостей в картузах, плащах и шинелях. Пошли к обширному, сильно заросшему кустарником болоту, полусокрытому в утреннем тумане. На краю селения, где широкая деревенская улица переходила в проселочную дорогу с наезженными колеями, полными воды, возник слева крутой холм с поникшими березками и растрепанными елками на юру, с едва приметными остатками деревянных церковных строений. Чуть поодаль угадывались следы старых-старых могил. Еще в XVII столетии основали здесь Волговерховский Спасо-Преображенский мужской монастырь. В часовенке над истоком монахи служили молебны и святили истекающую из первых ключей воду, «дабы текла река Волга свяченой струею по Руси»… Но слишком беден и пустынен был этот лесной, болотистый край, обитель захирела, и уже в XVIII веке храм и кельи «поднялися от огня». Осталась лишь часовенка Иордан, как ее исстари называли, над истоком реки. Мостки, проложенные к ней монахами, давно сгнили, пройти к Иордану можно было лишь по старым корягам и кое-как накиданным доскам, скользким и подгнившим… Но Александр Островский забыл о дожде, неудобствах, даже о своих спутниках. Будто никого рядом и не было, будто он один у ключевой, становой жилы России… Он вошел в убогую часовенку с черными от времени ликами святителя Николая и богородицы. Заглянул в колодец с красноватой от торфа водой. В глубине слабо шевелилась струйка, будто бежал в этом замшелом срубе тоненький ручеек. Ручеек, не ключ! Значит, ключ выбивался из земли чуть поодаль от колодца. Ребятишки с готовностью показали на ствол березы, лежащей в болоте саженях в двенадцати от Иордана. Пробираться было рискованно: оскользнешься — нитки сухой не останется! По вязкому дну болотца Островский все-таки достиг этого места, увидел биение ключа из-под упавшего дерева, наклонился, глотнул воды, будто причастился, и нарвал на память цветов эфемеров, росших у истока. Так хотелось показать их родной Гане! Две недели назад жена приезжала проведать его в Твери. Провожая ее обратно в Москву, вместе с ней любовался удивительным рассветом над разливом Волги при слиянии ее с Твердой. Как сравнить ту, сиявшую в розовых лучах полноводную реку вот с этим ручейком! Ганю сюда не привезешь — пусть хотя бы цветами от истока полюбуется! Разве в книжке их подсушить? …Только когда пошли назад, он стал прислушиваться к беседе Гурия Николаевича с хозяйским сыном. Тот рассказал, что из-за бездорожья мало кому удается сюда добраться из тех, кто охоч глянуть на исток. Со слов старших он знал, что в дни молодости его деда, поболее сорока лет назад, побывал здесь путешественник Озерецковский… Старики здешние хорошо его запомнили. Он будто бы потом и книгу написал про эти края. Книгу эту Александр Николаевич держал в руках перед самой поездкой в Тверь. То, что ученый географ Озерецковский описывал в своем «Путешествии на озеро Селигер», Александр Островский видел теперь своими глазами, притом особых изменений к лучшему с той поры будто и не произошло. — Народ-то сюда помаленьку все же тянется, — говорил провожатый. — Только на запустение сетует. Некому, мол, даже прежние мостки возобновить к Иордану. Как доберутся сюда — чуть не клятвы дают клич по Руси кликнуть насчет сбора доброхотных даяний, чтобы волжский исток благоустроить. Да, видно, клятвы-то легче давать, чем исполнять. Простятся, уедут и… поминай как звали![1] Островскому вспомнилось, как тверской губернатор настойчиво отговаривал от поездки за Остатков. «Источников Волги искать? — дивился губернатор. — 11е найдете, не доберетесь! И вообще у нас в губернии с, вашей миссией делать нечего! Рыболовства у нас нет, потому что рыбы нет, судостроение в жалком состоянии. Выла в Зубцове значительная стройка судов, а теперь по случаю Крымской войны по всей губернии промышленность в упадке. Прошу без церемонии обращаться за всеми сведениями только ко мне, а если обратитесь к кому-нибудь другому, вас непременно обманут!..» Чуть-чуть обсушившись, путешественники попили парного молока и велели кучеру закладывать лошадей. Судейский посыльный с сумкой снова забрался на облучок, тихонько звякнули под дугой валдайские колокольцы. И пошла снова тройка под непрестанным дождем месить грязь лесных святорусских дороженек мимо пустошей и пожарищ, печальных деревенек и болотистых озер, питаемых течением новорожденной Волги… Быстро умаявшись на тяжелой дороге по гатям, лошади стали у околицы деревни Коковкино. Небо чуть прояснело. Александр Николаевич вышел из экипажа промяться. После долгих лет сидячей московской жизни, лишь изредка прерываемой деловыми поездками в Петербург, нынешнее странствие по Тверской губернии, начатое 18 апреля, в самый разлив Волги, еще до начала навигации по ней, заметно укрепило здоровье писателя, покрыло кожу свежим загаром, прибавило задору во взгляде голубых глаз… Впечатления от виденного и пережитого ложились в дневники и записки, западали в тайники памяти, дополняли старые замыслы. Думал он, конечно, и о своих служебных заданиях для «Морского сборника», но куда более важные планы рождались здесь для будущих пьес! Его интересовало все: обороты живой крестьянской речи, дорожные рассказы ямщиков, труд рыбака и ремесленника. Жадно расспрашивал о местных названиях цветов, трав и деревьев, записывал рассуждения плотников о топкостях их ремесла, узнавал у женщин о ткачестве, домашнем прядении и вязке, интересовался ценами на местных рынках. В Коковкине купил у рыбака крупного леща, пойманного в озере Стерже. Записал: шесть копеек серебром. Сварили уху и перекусили вчетвером на дорожку. В сумерках пасмурного дня увидели за гривой свежезазеленевшего леса высокий шпиль осташковской Преображенской колокольни, главы и шатры Воскресенского и Троицкого соборов, верха башенок Знаменского монастыря. Когда с набережной открылась озерная ширь, полюбовались закатом над кровлями деревни Ботовой, за просторным селигерским плесом.2
Весь цикл статей для «Морского сборника» Островский решил озаглавить так: «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода». Первую статью цикла составили четыре очерка: 1. Тверь. 2. Весенний караван. 3. Село Городня. 4. Дорога к истокам Волги от Твери до Осташкова. Писатель начал трудиться над очерками уже в дороге и чувствовал, что еще «не расписался». Даже в дневнике с неудовольствием пометил 15 мая: «Как трудно еще писать для меня!» Но получились очерки настолько живыми и занимательными, что перед читающим зримо вставал край с его городами и селами, рыбаками и плотогонами, бурлаками, золотошвейками и вязальщицами, с нуждами и невзгодами землепашцев и кустарей, лодочников-перевозчиков и почтовых ямщиков, с шумом ярмарок и тишиной монастырских дворов. Задумывал Александр Николаевич даже составить особый волжский словарь, столь богаты были его языковые сборы в этой дороге. Вот как писал он в очерке «Село Городия» о плетеных рыболовных снастях: «Верша отличается от вятеля тем, что плетется из ивовых прутьев, а вятель — из пряжи… Вершею, как родовым названием, называются все снаряды, плетенные из ивняка, которые по местности и по устройству имеют и свои видовые названия, например: морда, мережа, ванда, рукав, кувшин, нерот, кошель, хвостуша…»[2] Заинтересовали Островского и местные, тверские обычаи: «В Торжке еще до сей поры существует обычай умыкания невест. Считается особым молодечеством увезти невесту потихоньку… Молодые на другой день являются с повинной к разгневанным будто бы родителям, и тут уж начинается пир горой… Не иметь предмета считается неприличным для девушки; такая девушка легко может засидеться в девках…» А вот штрихи бытовые, сделанные драматургом в том же Торжке: «Старый живописный наряд девушек (шубка или сарафан, кисейные рукава и душегрея, у которой одна пола вышита золотом) начинает выводиться; место его заступает пальто, а вместо повязки с рисками (поднизи из жемчуга) покрывают голову шелковым платочком… Пальто, которые теперь пошли в моду, длинны и узки, с перехватом в талии… сжимая грудь, они безобразят фигуру. Образ жизни замужних совершенно противоположен образу жизни девушек; женщины не пользуются никакой свободой и постоянно сидят дома. Ни на бульваре, ни во время вечерних прогулок по улицам вы не встретите ни одной женщины. Когда они выходят из дому по какой-нибудь надобности, то закутываются с головы до ног, а голову покрывают, сверх обыкновенной повязки, большим платком, который завязывается кругом шеи». В печати эти очерки впервые появились лишь в 1859 году. Александр Николаевич, на всю жизнь влюбившийся в Волгу, охладел, однако, к своему редакционному заданию. Журнал требовал сухого, чисто делового изложения фактов и сведений, не слишком дорожа живостью и красками писательского языка. Драматурга это, естественно, оттолкнуло. Волжские впечатления и зарисовки пошли целиком в «сценические» закрома его памяти… Многокрасочность русской одежды народного покроя и рисунка казалась Островскому удивительно декоративной, будто нарочно созданной для сцены. Дивился он головным уборам состоятельных горожанок — кокошникам из парчи или другой дорогой ткали «с высокими очельями, унизанными жемчугом… так что один кокошник бывает в 4000 рублей, да и посредственный стоит не менее тысячи». Даже в старинном Осташкове эти наряды уже уходили в прошлое, но, налюбовавшись ими, Островский теперь знал, как должны выглядеть участницы массовых сцен в исторических драмах, чем были внешне отличны богатые женщины от бедных… Постигал Островский и сокровенную, то щемяще-задушевную, то праздничную красу верхпеволжской природы. Ведь теперь он узнал Волгу с самого истока, слабым ручейком среди влажных низин, а ранее помнил ее могучей красавицей труженицей в Кинешме, Костроме, Нижнем Новгороде, Самаре… Он почувствовал, что везде, по всей Волге, скромность соединяется с величием, простор — с уютностью, красота — с глубокой, проникновенной душой. И во все эти волжские ландшафты с озерами, борами, холмами и развилками дорог русские люди умели с поразительным искусством и тактом вписывать красоту рукотворную, создаваемую талантом российских зодчих. Побывал Островский с осташковскими старожилами, отцами города, на знаменитом острове Столбном, в Пилоном пустыне. …В конце мая выдался по-летнему теплый, ясный денек. Широкий Осташковский плес озера Селигер искрился на солнце, ветерок рябил неоглядную даль. Писатель поднялся в пять часов утра. Его привезли в экипаже на городскую дамбу, возведенную всего четверть века назад на средства местного купца и предпринимателя, городского головы Федора Савина. Островскому его рекомендовали как человека широкой души и немалого таланта, Он-то и пригласил драматурга в это путешествие по озеру. Дамба соединила городскую территорию с ближайшим зеленым островком Житенным. Па нем осташковские горожане в давние времена держали амбары с зерном — отсюда и его название. Издавна обосновались здесь и монахи, построили монастырские здания, церкви и кельи. Раньше, до постройки дамбы, сюда переправлялись на лодках, а теперь островное уединение монахов кончилось: обсаженная березами дамба стала местом гуляний горожан, особенно с тех пор, как березки поднялись и раскудрявились. На городском причале ожидала приглашенных принаряженная баржа с золочеными перильцами. Буксировать баржу к острову Столбному должны были три большие гребные лодки, свежепокрашенные и чисто вымытые. Народу на барже и лодках уместилось много: взяты были с собою для крестного хода к Ниловой пустыни певчие трех церковных хоров. Каждый хор со своим регентом, с иконами в золоте и хоругвями. В восемь утра все наконец разместились, гребцы налегли на весла и флотилия тронулась. После медленного, приятного плавания под звучные хоровые песнопения баржа и лодки причалили к Архиерейской пристани Ниловой пустыни на острове Столбном. Монастырь славился издавна и был очень богат в отличие от скромного Житениого. Самое главное архитектурное украшение — величественный Богоявленский собор с колокольней — Нилова пустынь получила недавно, всего лет за двадцать до приезда сюда Островского. Еще с воды по мере приближения к острову Столбному паломники поражались ансамблю монастыря, необычности его архитектуры. Собор, колокольня и ближайшие к ним строения, будто вырастая прямо из воды, сливались для глаза в одно стройное, единое целое и плавно устремлялись к облакам, как бы поднимая к ним и твердь, и воды, и самый камень, подчинившийся воле мастера-зодчего. Строителем соборного ансамбля Ниловой пустыни был Осип Шарлемань, один из лучших столичных зодчих. И проект этот был создай для… Исаакиевской площади Петербурга, а отнюдь не для монастырской обители в глубине России. Проект Шарлеманя не выдержал, однако, конкуренции с монферановским, и Исаакиевский собор в Петербурге был воздвигнут по замыслу и рисункам удачливого француза. Проектом же Осипа Шарлеманя воспользовались… для Ниловой пустыни, взяв во внимание красоту местности на Селигере, славу обители, заложенной в XVI веке подвижником Нилом Столбенским, и весомость осташковского купеческого капитала. Пришлось примириться с тем, что итало-романские черты архитектурной новинки весьма отличны от прежней застройки монастыря, а тем более от старинных сооружений города Осташкова и его окрестностей. Да и само слово «пустынь» теперь плохо вязалось с нарядным, роскошным ансамблем, решенном во вкусе поздней эпохи Древнего Рима. Все-таки поездка в Нилову пустынь осталась в памяти писателя лучшим впечатлением о Селигере. «День прекрасный. Картина восхитительная — пролил несколько слез», — записал Островский в дневнике. Такое бывало с писателем нечасто! Александр Николаевич был чужд сентиментальности. Для обратного пути городской голова купец Федор Савин пригласил Островского в свою быстроходную гичку, которую называл американской. Этот полет по воде доставил писателю большое удовольствие… Все ему запомнилось: шелест волны у бортов, быстрая смена береговых картин, ласковый ветер в ушах, удалые гребцы, тихая беседа с хозяином — деятелем русской коммерции, нисколько не похожим на жуликоватых замоскворецких богатеев в комедии «Свои люди — сочтемся»… Такой человек, как Савин, скорее вызывал в памяти иной образ, воскрешал в уме драматурга фигуры крупные, патриотические, сыгравшие немаловажные роли в судьбах России. Мысль Островского с недавних пор все настойчивее возвращалась к труднейшей, переломной и судьбоносной полосе истории — к Смутному времени и могучей фигуре Минина, так полно воплощенной Иваном Мартосом в бронзовом монументе на Красной площади. Москва гордилась этим первым своим городским памятником-статуей, установленным за пять лет до рождения Островского. Даже великий шедевр Пушкина, драма «Борис Годунов», не все раскрыл русскому зрителю о той сложнейшей поре и трагических характерах тогдашних деятелей. Тем более что самые драматические события смуты начинались не смертью Годунова и воцарением самозванца Лжедмитрия Первого, а год спустя, как раз с момента гибели этого временщика. Тогда на политической сцене Московского государства возникают такие фигуры, как Лжедмитрий Второй, или «Тушинский вор», народный вожак Иван Болотников, коварный «боярский царь» Василий Иванович Шуйский, занявший престол в Московском Кремле… Польские и шведские войска вторгаются в пределы Руси… Идет долгая и многотрудная борьба нижегородца Минина с теми боярами и купцами, кто временных выгод ради поддерживал то поляков, то тушинского самозванца, то присягал Шуйскому… Как воплотить все это в театральной пьесе? В виде ли пятиактных классических трагедий? Напевным александрийским стихом с цезурой на второй стопе и монологами в духе Корнеля и Расина? Нет, нет и пет! Уже не тот ныне ритм жизни, не тот темп событий, с которым должен быть созвучен любой, хотя бы исторический, спектакль… Да и зритель театральный уже другой! Теперь, в век паровозов и нарезных пушек, сам бессмертный автор «Федры», «Эсфири», Жан Расин писал бы, верно, по-иному для господ зрителей без пудреных париков, кринолинов, фижм и турнюров. Недаром же те классические трагедии, «где наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый», ныне почти полностью сошли со сцены столичных театров… Идти путем великого германского романтика Шиллера? Созданная им историческая трилогия о Валленштейне посвящена событиям Тридцатилетней войны 1618–1648 годов между католиками и протестантами в Германии. И по времени, и по сложности исторической канвы эти события можно бы сопоставить с бедствиями польско-шведской интервенции на Руси в 1606–1613 годах… Но Островскому органически чужда шиллеровская выспренняя патетичность. Монологи героев кажутся искусственно затянутыми, несценичными. А возвышенный облик самого полководца Валленштейна в трагедии антиисторичен, он не соответствует реальному характеру этого переменчивого политика и полководца, преследовавшего прежде всего личные, далекие от патриотического бескорыстия цели. Минин же фигура высокопатриотическая и кристально чистая… Богатейший феодал-землевладелец, герцог Альбрехт Валленштейн, даже идеализированный Шиллером, все-таки выступает в трилогии не как патриот родной Чехии, а как роковая титаническая личность, стремящаяся стать правителем страны. Его огромная наемная армия, в которой он видит единственную опору, навербована из пестрого сброда, готова драться поживы ради и совсем непохожа на народное ополчение, возглавленное на Руси Кузьмой Мининым. Островский же намеревался изобразить Минина как героя из народа, взявшегося за оружие ради народа и во имя его. Минин должен выйти на театральную сцену как человек жертвенно-бескорыстный, лишенный честолюбия, но обладающий даром народного трибуна, способного увлечь даже колеблющихся и слабых на общее, святое дело! Речь его должна зазвучать сильно и просто, без патетики и выспренности, чтобы брала за сердце и горожанина, и вольного казака, и нерешительного купчину, и думающего о завтрашнем урожае крестьянина-семьянина… Потому и не находил Островский мотивов, созвучных будущей своей народной драме, у автора немецкой трилогии о Валленштейне… Великий, бессмертный Шекспир — вот учитель всех драматургов, пишущих на любых языках и живущих в любые времена, в любых странах! Александр Островский, очень способный к языкам, изучил английский язык прежде всего ради чтения Шекспира в подлиннике. Он уже перевел одну из шекспировских комедий, «Укрощение злой жены», не столь ради заработка и поэтической славы, сколь ради изучения самой ткани шекспировских творений, его языка, мизансцен, смены картин, особенностей стиля, казавшегося Островскому истинно народным. Островский знал, что творческий метод Шекспира повлиял на драматургию Пушкина: духом Шекспира овеяна драма «Борис Годунов»… Современником правителя Руси Годунова был и нижегородец Минин. Естественно продолжить пушкинскую традицию и в театральный хронике о купце Минине. Островскому казалось, что историческая драма или хроника — лучший жанр сценического искусства, если оно желает воспитывать национальное самосознание в народе. В скромном особнячке с мезонином за церковью Николы в Воробиие, рядом с Серебряными банями над Яузой-рекой, уже копились черновые листы начатой пьесы о Кузьме Захаровиче Минине-Сухоруке, задуманной как драматическая хроника для русской сцепы… Работа пока приостановилась из-за поездки на Волгу. …Во вторник, 29 мая, расстался Александр Николаевич со своими новыми друзьями-осташами и опять надел дорожное платье. Теперь путь его пролегал вдоль правого берега веселой порожистой Селижаровки. Река вытекает из южной оконечности озера Селигер. И первый ночлег после Осташкова был в Селижаровом посаде, где река впадает в Волгу, в нескольких верстах ниже бейшлота, первой волжской плотины со шлюзом, Других плотин на Волге во времена Островского не было! Селижаровский волжский бейшлот создавал здесь искусственное водохранилище в помощь местному судоходству. Однако уездный врач в Осташкове пожаловался Островскому, что в этом году тут появилась малярия. И приписывал он эту болезнь именно разливу искусственного водохранилища выше бейшлота со стоячей, слабопроточной водой. Бейшлот был лишь недавно пущен в ход. Через сутки добрался Островский со своим секретарем до Ельцов. Встретили здесь свои, особые порядки: Ельцы — деревня удельная, то есть принадлежащая царствующему дому, и подведомственна она не уездным властям, а особой конторе, учрежденной министерством императорского двора и уделов. В самодержавной России министров назначал по собственному выбору и усмотрению сам царь. Во главе министерства двора и уделов еще царь Николай Первый поставил своего приближенного и личного друга графа В. Ф. Адлерберга, а новый царь, Александр Второй, утвердил отцовского любимца в той же должности… Вся образованная Россия тех времен хорошо помнила, что покойный император Николай Павлович весьма критически отнесся к первым драматическим произведениям Островского. Шесть лет назад он собственноручно наложил известную, роковую для писателя «высочайшую резолюцию» по делу о комедии «Свои люди — сочтемся». Царская надпись на докладе об этой комедии гласила: «Напрасно печатано, играть же запретить». С тех пор влиятельный царедворец граф В. Ф. Адлерберг сделался одним из самых первых недоброжелателей Островского. Он же занимал по совместительству еще один министерский ноет — главноначальствующего почтового департамента. Станционный смотритель в Ельцах будто нюхом почуял недоброжелательство своего высшего патрона к путешествующему писателю: он предоставил Островскому самых худых кляч! Еле-еле дотащили эти одры тарантас до Сытькова. Но и здесь не повезло! Трактирщик в Сытькове не велел пускать никого даже на порог! Проезжающие постучали в двери трактира решительнее. И на повторные удары в обе створки дверей выглянул хозяйский работник. Лицо его было плутоватым. Увидев у дверей двух господ, он пустил их в сени, но все повторял, что места для таких проезжающих нынче нету. — Зови хозяина! — Путники сердились уже не на шутку. И когда пасмурный хозяин вышел в сени, Гурий Николаевич, готовый к крупному разговору, сразу поперхнулся и умолк под взглядом сытьковского трактирщика. Из-под кустистых нависших бровей горели злым огнем глаза настоящего колдуна. Он не обратил на Гурия Николаевича ни малейшего внимания и заговорил прямо с Островским. — У нас нынче, господин хороший, ночевать вам несподручно: господа офицеры из гарнизона погулять пожаловали. Дочери мои с ног сбились, им прислуживая. И места лишнего нету ни в зале, ни в горнице, и покоя полного посулить не могу. Не велят их благородия господ штатских даже близко подпускать к гулянью своему… Так что, барии, не извольте на нас, людей мизинных, подневольных, обиду держать, а поезжайте, покамест светло, до Бочарова… — Я с государственным поручением и бумагами… — начал было Островский… — По копям боярским видать, что люди вы государственные!.. — Через отворенную на улицу дверь хозяин увидел жалких ельцовских кляч. Он огладил пышную седоватую бороду и стер с лица непочтительную ухмылку. — Стало быть, извольте до Бочарова коней своих распрекрасных погрудить, птицей домчат, а уж там вам и стол и дом готовы! По дороге Островский спросил у ямщика: — А хороши, верно, дочки у этого колдуна? Сколько их у него? Ямщик почесал в затылке, сдвинув шапку набок. — Хороши-то хороши, что и говорить! Пять девок-погодок, любо-дорого глянуть! Да сомнительная слава у них. А про самого этого колдуна тоже всякое по селам бают. Не спалили бы его втихую, это у нас не диво! Под нескончаемые разговоры с ямщиком добрались под вечер до бедной деревушки Бочарове, а на следующий день, в среду, миновав Бахмутово, где получили наконец хорошую почтовую тройку, Островский с секретарем вышли из экипажа на городском бульваре уездного приволжского града Ржева, неподалеку от его главной, Соборной, площади.3
Город Ржев понравился Островскому, показался живым и особенным. Волжские берега здесь сужены, круты и гористы, причем левый, по всей Волге, как правило, низменный, здесь даже круче и выше правого. Река изгибается прихотливо, образует излучины, протоки, обтекающие зеленый остров в городской черте. Как раз под Соборной площадью перекинут через Волгу деревянный мост с разводной срединной частью для пропуска судов. Близкий приятель Островского, сотрудник журнала «Москвитянин», ржевский уроженец Тертий Филиппов, толковал Александру Николаевичу, что название города произошло от слова рожь. Здешние крестьяне зовут ржаное поле, с которого хлеб уже убран, ржевником. Отсюда, мол, и Ржев — город, окруженный пашнями и вдобавок ведущий крупную оптовую торговлю зерном, своим и привозным. Вечером Островский спустился к реке. Мост был разведен. Вверх по течению артель бурлаков тянула баржу. Лоцман, стоя на носу баржи, правил судном с помощью веревочной снасти с кольцом, сквозь которое продета была бичева. Поодаль от моста, против выбеленного кирпичного амбара, где одна дверь оставалась открытой, артель собиралась причалить баржу. За приготовлениями к причаливанию критически наблюдал старичок рыболов, примостившийся на мосту с удочкой. Островский поздоровался с ним, спросил про клев. — Да уж какой нынче клев, сударь, — словоохотливо отвечал рыболов. — Нигде рыбе покоя нету. Опять же бейшлотом Волгу наверху перегородили, нерест нарушен… Уж просто так, баловства ради, вышел посидеть на закате да прихватил снастишку… Однако в деревянной бадейке, прикрытые сверху пучком травы, били хвостами три порядочных окуня, уже вполне достаточных для доброй ушицы на целую семью. — Надысь судачка фунта на три здесь ненароком взял, правда, с лодки, но, бывает, и с моста удается. Переметом и сетями кое-когда и белорыбицу берем. А вы, я чаю, сами удочкой-то балуетесь? — Да, в имении родительском Щелыкове… соседней, Костромской, губернии. Там в речке Куекше по омутам и крупная рыба водится… Утихала вода, потревоженная баржей. Два бородатых мужика взялись за рукояти блока-лебедки. Средняя часть моста тихо тронулась по канатам, наматываемым на блок. Мост свели. Один из бородачей подровнял пастил, наладил трап. И тут же с заволжской стороны по мосту проехали ломовые на сильных мохнатых копях. Оказалось, что новый собеседник писателя, старик рыболов, в молодости исходил с бурлацкой артелью всю Волгу вдоль и поперек, как он выразился, знал наперечет все «жареные бугры» — и Юрьевецкий и Сызранский, где артельщики ременными лямками «жарят» новичков. Потом года четыре правил баржами в качестве лоцмана на Верхней и Средней Волге, под старость рыбачил, когда от старшего брата, утонувшего в реке, достался ему домик во Ржеве, на «береговом» берегу, то есть на правом, по всей Волге возвышенном. Тем временем артель бурлаков управилась с причаливанием судна. — На месте! — крикнул лоцман. — Сыми бурундук! Бичеву потрави, просушить надоть!.. Разгружать поутру будем, нонче притомилась артель! Амбарные двери закрылись, кто-то вышел из склада и вступил в переговоры с артельщиками насчет выгрузки. — Кто это с артельщиками толкует? — спросил гость. — Старший приказчик? — Афанасий Мешков, недавно из молодцов в приказчики повышен хозяином. Непьющий парень, голумный такой, памятливый, да хитрец! Далеко пойдет. Другой до старости лет может в мальчиках остаться, на складах или в лавке либо в конторе, а этому и до тридцати еще далеко, а уже в приказчиках. Того гляди по батюшке величать станут — Парамонович!
Беседовали до сумерек, когда рыболов уже с порядочной добычей собрался восвояси на свой правый, «береговой», берег. А Островский за один этот вечер хорошо пополнил свой запасец волжских, тверских речений… «Бурундук — веревка с кольцом, в которое продета бичева: привязывается на носу. Посредством бурундука лоцман правит баркой, то притягивая, то ослабляя бичеву; но, злоупотребляя этим способом, можно измучить бурлаков, задергать их, как задергивают лошадь вожжами». «Бичева — веревка, посредством которой тянут судно, привязывается на верх мачты. По мачте ходит бурундук». «Голумный (прилагательное) — сметливый. Тверское». «Молодец — должность у купцов, прислужник в лавке и дома: 1-й — приказчик, 2-й — молодец, 3-й — мальчик. Жить в молодцах, в мальчиках (в мальчиках может жить и совершеннолетний, и пожилой)». …Когда Островский добрался до гостиницы, еще не вовсе стемнело, по город уже погрузился в глубокую тишину. Все амбарные ворота на берегу наглухо затворились еще засветло. Калитки и двери, оконные ставни, воротные створки — все плотно закрыто, лишь кое-где из щелей выбивается лучик света от лампады или свечи. Пока он шел переулками и улочками, параллельными реке, чуть не над каждыми воротами замечал он либо восьмиконечные старообрядческие кресты старинной чеканки или литья, либо почерневшие иконы древнего письма. Город давал ясно попять, что большинство его жителей истые старообрядцы, крестятся двуперстием, а своих попов именуют «тайными». Но, конечно, главное, что бросается в глаза каждому приезжему и на первых порах может сильно подвести непривычного, свежего человека, — это ржевские просаки. Островский записал в дневнике: «Ржев поражает высоким местоположением, просаками». Действительно, эти просаки, то есть пенькопрядильные производства, буквально заполонили город, сделали неудобным, а порою почти невозможным проезд по некоторым городским улицам: те, что тянутся вдоль набережных, свободны для езды, а переулки и поперечные улицы загорожены «виселицами» с железными крючьями на перекладинах или деревянными гребенками, а то и новее кустарного вида рогульками и тянущимися от них веревками. Прямо под открытым небом установлены станки с колесами, шкивами и так называемыми санями, где на чурку наматывается скрученный канат или вервие… Здесь делается понятным выражение: попасть впросак. Если волосы работницы у колеса нечаянно угодят вместе с паклей в крутящиеся шкивы — их уже не выдернуть из каната! Островскому пояснили сами ржевцы. Просаки доставляют городу главные доходы и обеспечивают казну обильными податями. Тем не менее всякий новый тверской губернатор, попадая в Ржев впервые, поначалу клянется, что непременно уничтожит ржевские просаки, загромождающие улицы. Но… со временем пыл администратора проходит, с губернии требуют налоговых платежей, и просаки продолжают занимать добрую половину ржевских улиц. Гостя очень заинтересовало это производство и рабочий люд, им занятый. Побывал он на самой большой пенькопрядильной мануфактуре купца Мыльникова… Еще с экипажа, подъезжая к заводу, Островский увидел, как со двора на улицу, пятясь, выступила партия рабочих-трепачей, человек с полсотни; пенька широкими полосами намотана была на груди и животе каждого рабочего. Каждый «опускал» обеими руками прядево в высокий ворот, установленный во дворе под навесом. Весь же заводской двор представлял собою плетенье из веревок разной толщины, так что, казалось, невозможно разобраться и не запутаться вэтом хитром лабиринте. Приглядевшись, Островский, однако, убедился, что лабиринт этот строго управляем; к каждой веревке привязан рабочий, делающий свое дело очень точно и сноровисто. Ремесло трепачей оказалось вовсе не простым. Писатель в перерыве разговорился с двумя рабочими, молодым и пожилым. Александру Николаевичу пришлось на несколько минут покинуть своих некурящих спутников: он последовал за обоими рабочими в угол двора, где под железным навесом у кирпичного простенка стояли две скамьи, а между ними подобно железного противня, наполненного водой. Опасность пожара на этом заводе была велика, и курение строго запрещалось. — Кто это у вас догадался особое место для курцов отвести: хозяин небось противился? — Старика-то мы летось уломали, а с молодым… пришлось потолковать… по-нашему. — Это как «по-нашему»? — Да вчетвером этак, впятером по соседству в переулке невзначай встренулись да и втолковали ему с глазу на глаз, кто кому нужнее: мы ему или же он нам. После этой-то науки он у нас шелковым сделался, никаких возражениев против наших курцов более не имеет. «Только, — говорит, — с цигарками по двору около пряжи не шляйтесь!» Да мы это, чай, понимаем: нам и самим тут сгореть не с руки! — А в солдаты вас отдать потом не грозился? — Хотел было, да раздумал! Грубиянами обзывал. Да мы ему не спускаем! Чай, сам понимает, что без мастеров-трепачей ему никак не обойтись! Уж не те времена, чтобы нам перед ругателем рабствовать!.. Сопровождавший писателя Астерий Иванович Филиппов (брат Тертия) показал на кудрявого, рослого парня. Тот шел из фабричной конторы. — Обратите внимание, Александр Николаевич, — своего рода городская знаменитость. — Первый мастер кулачного боя… — Здесь, значит, тоже, как у нас на Москве-реке, стенка на стенку? — Обязательно! Зимой на Волге, летом на пустыре, за фабрикой. — И правила примерно те же, московские? Или свои, местные? — Правила простые: сперва обмен острыми, колючими словесами, скажем, заволжские против «береговых», то есть правобережных. Задирают подростки, потом вступают в дело парни, потом — мужчины. Запрещено любое оружие, равно как и любые металлические защитные средства вроде кольчуг или иных старинных доспехов. Лежачих бить строго запрещено. Если обнаружится у кого хотя бы камушек, в кулаке зажатый, бьют и свои и чужие. А потом… мирно бражничают, а старики следят, чтобы дневных обид никто за общей трапезой не вымещал. И заметьте, наш рабочий люд, притом в первую очередь именно трепачи-прядильщики, полон гордости и, я бы сказал, профессиональной чести, ибо знает, что их труд составляет основу благополучия города. Заставляют считаться с собою и городские власти, и хозяев, и даже полицию. — Не потому ли скорых на слово лихих краснобаев величают «трепачами»? Выходит, это вовсе и не оскорбление? — пошутил гость. — У нас, во Ржеве, скорее комплимент! — подтвердил Филиппов.
ГЛАВА ВТОРАЯ НЕВЗГОДЫ
От Ржева до Калязина — путь невелик, да перекаты трудны.Волжская поговорка
1
В старинном споре приволжских городов о том, который, мол, из них волею Островского превращен в Калинов (драма «Гроза») или Бряхимов («Бесприданница»), чаще всего слышны доводы в пользу Кинешмы, Твери, Костромы. О Ржеве спорщики будто забывали, а между тем таинственному зарождению творческого замысла «Грозы» именно Ржев явно сопричастен! Драма была окончательно выношена и написана позднее, но пребывание во Ржеве дало фантазии Островского первый толчок. Приезд во Ржев ознаменовался для драматурга одной важной и впечатляющей встречей! …Соборным священником во Ржеве был известный своим фанатизмом проповедник, сыгравший роковую роль в жизни Гоголя, отец Матвей Константиновский. Пока Островский изучал ржевские промыслы, купался в Волге, читал в знакомых домах пьесы собственного сочинения, отец Матвей велел Астерию Филиппову, своему прихожанину, передать писателю, что, мол, батюшка желает увидеть его в соборе на проповеди, а затем намерен побеседовать наедине. Островский воочию видел отца Матвея четыре года назад, на похоронах Гоголя, много слышал о его мрачном ораторском искусстве от Тертия Филиппова, которого восхищали проповеди ржевского фанатика. Гоголь считал этого проповедника своим духовным отцом и наставником, подчинялся безропотно его воле, исполнял его суровые требования, вплоть до столь тяжкого паломничества в Палестину, подорвавшего физические и нравственные силы больного писателя. Проповедник стращал Гоголя жуткими картинами потусторонних мучений, требовал покаяния и смирения, поста и изнурительного молитвенного бдения. Островский, как и все люди, хотя бы отдаленно знавшие Гоголя лично, полагал, что отец Матвей Константиновский повлиял на больную психику Гоголя самым роковым образом, усугубил душевный разлад и настроил на мысль о близкой смерти. Многие приписывали именно влиянию отца Матвея творческую неудовлетворенность Гоголя, судорожные порывы изменить направление «Мертвых душ», недовольство вторым томом и внезапное решение уничтожить написанное… Островского поэтому смущало и тревожило приглашение, полученное от духовного лица, сыгравшего столь пагубную роль в истории русской литературы. Но уклониться от личной встречи он не мог да и не хотел: драматургу нельзя пренебрегать знакомством со. столь известной и роковой фигурой. …Утром в Ржевском соборе проповедник посвятил свое слово одной теме — о свете и тьме. Говорил он о кознях сатаны, насылающего в виде всяческих соблазнов духов тьмы — бесов на слабое, греховное человечество, даже на самих церковных служителей. Толковал о расколе церкви и еретиках, о развращающем действии на умы и души сценического искусства в том виде, в каком оно царит в нынешнем театре. Островскому проповедь показалась поистине фанатической, доходящей до истерических нот, даже до грани религиозного кликушества, безумия… Но нельзя было отказать проповеднику в силе убежденности, в доходчивости живых примеров и яркости ораторского дарования. Богослужение кончилось. Народ после крестного целования расходился по домам. Многие казались взволнованными и потрясенными суровой проповедью. Спутники Островского уже стояли на паперти, когда к писателю подошел псаломщик. — Батюшка требует вас, сударь, к себе. Извольте пройти в алтарь. Островского провели мимо закрытых позолоченных царских врат к боковому приделу. Там в озарении свечей и скупого луча из занавешенного оконца ризничий помогал отцу Матвею и соборному диакону снимать ризы к остальное облачение. Александр Николаевич принял благословение и получил приглашение вечером посетить жилище священника, пастырского ради наставления. От легкой трапезы в домике псаломшика при соборе писатель отказался — в окно было видно, что небо приняло зловещий оттенок и со стороны Заволжья надвигается грозовая туча. Островский торопливо вышел на паперть. Небо почти почернело. У грозовой тучи появились лиловые закраины, она будто спускалась все ниже. Громовой удар потряс соборные своды, и тут же хлынул настоящий ливень. На крытой паперти уже не было никого из знакомых. Струи воды так и хлестали с железной кровли, мимо желобов. Слепящие молнии, казалось, целили прямо в соборную колокольню, будто божий гнев, которым так страстно грозил проповедник, уже обрушивается на грешный город… Островский присматривался к полустертым, давно не возобновлявшимся фресковым росписям на стенах паперти… Еле угадывались какие-то ветхозаветные библейские сцены. Он не разобрал содержания росписей, зато увидел за оградой извозчичьи дрожки, тихо едущие мимо собора. Окликнул возницу, уселся под кожаным верхом и воротился к себе на Гостиный двор. Эту на редкость сильную грозу, разразившуюся над Ржевом в день соборной проповеди отца Матвея, Островский кратко отметил в своем дневнике, где записывал только самые важные для себя события дня. Вечером он сидел у отца Матвея за мирным чаепитием с прославленной ржевской пастилой, известной даже в обеих столицах. Собеседник для начала вечернего разговора по-хозяйски объяснял гостю, что готовят эту пастилу из яблок местного сбора. Яблоки именуются ржевкой, а кроме них, в пастилу добавляют ягодный сок — клюквенный, смородинный, брусничный и крыжовниковый… — Что привело вас, Александр Николаевич, в наш град благословенный? Островский рассказал о заказанных ему статьях для «Морского сборника», упомянул о лучшем оснащении неприятельского флота в недавней, проигранной кампании: мол, вместо парусных кораблей надо строить паровые, а гладкоствольные пушки заменить нарезными. Отец Матвей возразил резко: — Да разве враг нас оружием своим одолел или перевесом в числе? Все сие одно божие попущение! Враг силен нашими грехами да божиим гневом на нас! Давид победил Голиафа не артиллерией и не кораблями, а малым камнем, выпущенным из мальчишечьей пращи. Спрошу вас, чем мы Наполеона гнали? Рогатинами да вилами супротив его пушек, зане вера в нас тогда была покрепче и диаволу мы радели меньше нынешнего. Народ греха боялся, диаволу злокозненному угождать не спешил! В покоях сгущался сумрак. Казалось, огоньки в разноцветных лампадах у старинных образов разгорались ярче. Воодушевлялся и проповедник. — Ненавистник нашего спасения, враг злохитрый, никогда не дремлет. Величайшее коварство сатаны в том, чтобы заставить нас, все грешное человечество, паче же народ наш богоносный, православный, усумниться в самом существовании сатаны в мире! Усыпить ему надобно души паши, чтобы вернее этим сгубить. Расхититель стада божьего злоумышляет разъединить нас, поселить меж нами междоусобие, брата на брата, слугу на господина, господина против даря натравить. Прислужник хозяина убирал чайную посуду, двигаясь как бесшумная и безглагольная тень. Затем принес тарелки с сушеными фруктами и изюмом. — И рядится дьявол в одежды прелестные, яркие, красивые, принимает обличие светлое, ангелоподобное, чтобы погубить вернее… Велик соблазн, исходящий и из ваших уст, господа сочинители! Помните басносписца вашего российского, Ивана Андреевича Крылова, царствие ему небесное? Басню его незабвенную о сочинителе и разбойнике? Смотрите, Александр Николаевич, чтобы и вас такая участь не ждала за тем пределом, его же не преступите. Спрос с вас велик, как и с нас, недостойных служителей церкви. И над нами, и над вами десятки бесов так и кружат, так и мельтешат денно и нощно! Другой раз… слышу их и вижу, дыхание их нечистое осязаю… Проповедник обвел рукою вокруг, и Островский невольно проводил взглядом этот жест, будто и впрямь мог увидеть под потолком, где надсадно жужжала оса, стаю кружащихся бесов… Уже другим, спокойным топом собеседник спросил: — Над чем, позволительно ли спросить, трудитесь сейчас, исключая статью для «Морского сборника»? Прочитал я года три назад в журнале пиесу вашу «Не так живи, как хочется». Соблазны вы расписали такими красками — уж куда там! И как человека грешного они к самому краю гибельной пропасти привели. И как после, в последний миг, к нему прозрение пришло. Успел купец ваш покаяться, к свету воротился, греху своему ужас-нулей. Эта пиеса — душеспасительна и поучительна. Только вот что-то мало ныне таких! Все больше под защиту берется грех и беспутство, диаволу на радость. Так напишут, что грех в радужном свете предстает. — О задуманном и начатом говорить трудно, — уклончиво ответил Островский. — Сейчас небольшую комедию из купеческого быта в уме держу. Но, думается, отныне и Волга-матушка должна главное место в моих планах занять. — Дай вам господь силы! Только еще об одном хотел бы спросить вас, как говорится, по совести, уважаемый Александр свет Николаевич! Не пренебрегаете ли вы, будучи в блеске славы, духовными своими обязанностями? Бываете ли у исповеди? Причащаетесь ли? Храм у вас под боком, приход хороший… Посты соблюдать изволите ли?.. И прослышан я от близких друзей ваших ржевских, что, христианином будучи, все-таки житие свое не совсем правильно устроили, а по модным веяниям. Ведь… без ненца, сударь, живете? А семья уже многодетная, давнишняя? Позвольте спросить, почему же это вы, воспитатель народной нравственности, сами-то в собственной жизни изволите пренебрегать православным законом о браке? Али… уже обвенчались тем временем? — Это глубоко личный вопрос, отец Матвей, по кратко отвечу вам; не хотелось мне огорчать моего батюшку браком против его воли. Отец мой, ныне покойный, Николай Федорович Островский, не одобрял моего выбора и наших близких отношений с Агафьей Ивановной. Прервать же их… было уже поздно! — Кто же опа, какого звания и роду-племени? — Мещанского звания, из города Коломны. В Москву перебралась для заработка шитьем, поселилась по соседству со мною, в Николо-Воробинском переулке. Познакомились у церкви, погуляли вместе, да и… полюбилась мне она. И детишки пошли… Перед богом она мне уже почти десяток лет жена, а перед алтарем, под венцами, не стояли, чтобы отцову обиду хуже не растравлять. Он был горд своим дворянским званием, заслуженным им в годы зрелости. Второй своей супругой избрал, как вы, должно быть, знаете, даму-баронессу шведского корня, и Агафья моя ему, что называется, не ко двору приходилась… На брак с нею он благословения отцовского дать не мог. — Однако, государь вы мой, к слову вашему весь народ прислушивается! Как полагаете, не спросится с вас: проповедуете, мол, одно, а почему закон преступаете? Значит, поступаете по-иному, не по проповеди! Ведь вот мой грех, ваш грех, их грехи, — он указал на окно, откуда сквозь прутья ограды можно было различить редкое мелькание фигур уличных прохожих, — все скапливается воедино, в общенародный грех, и ослаблены мы этим против врага рода человеческого. Оттого и поражение потерпели, что вера слабеет, и опасность согрешить не больно-то страшит нынче нашего брата… Итак, понимаю, что жена ваша по-прежнему живет с вами не в законе? Советую сие упущение уладить, дабы совесть очистить… — Совесть моя перед самой Агафьей Ивановной спокойна, хотя с вашим рассуждением трудно спорить! Совет ваш приму во внимание!..2
Беседы с Матвеем Константиновским невольно вновь напомнили Островскому читанные им в архивах и университетской библиотеке исторические документы Смутного времени. Речи фанатичного отца Матвея всей манерой своей будто обращали течение реки времен вспять, к 1611–1612 годам, когда интервенты-шляхтичи, засевшие в Московском Кремле, бросили в глухое подземелье Чудова монастыря плененного ими всероссийского патриарха Гермогена. В своей глубокой темнице узник Гермогеи писал грамоты к народу, призывая русских людей восставать против иноземного ига. Грамоты эти верные люди, рискуя жизнью, передавали на волю, рассылали по русским городам, селам, посадам. Письма Гермогена к народу помогли Минину и Пожарскому собрать нижегородское ополчение, будили патриотические чувства, хоть писал их Гермоген тяжеловесным, патетическим слогом. Его и вспоминал Островский, слушая проповеди и беседы отца Матвея. Теперь, два с половиной века спустя после грамот Гермогена, речь отца Матвея звучала архаично, была уже чуждой народному слуху, И когда драматург обдумывал реплики для «барыни с двумя лакеями, старухи лет 70-ти, полусумасшедшей», как же пригодилось ему общение с отцом Матвеем! Вспомним слова Кабанихи: «Красота-то ведь погибель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вот тогда и радуйся красоте-то своей… Все в огне гореть будете в неугасимом!..» Разве же эти фанатические угрозы не взяты прямо из речей Матвея Константиновского? Вообще ржевские впечатления оказались на редкость плодотворными для будущих пьес. Не из ржевских ли фабричных парней, мастеров и на кулачках подраться, не теряющих достоинства в спорах с хозяином и лихих в ухаживании за своим «предметом», выбрал Островский своего героя Кудряша? Да и сама гроза, застигнувшая писателя на соборной паперти во Ржеве, полустертые фрески, лиловая туча, черная волжская вода и ослепительные молнии, в ней как бы тонущие, — не они ли обогатили пас… заключительной сценой признания Катерины? И еще нечто важное верно угадал в спектакле «Гроза» коллега Островского по журналу «Москвитянин», писатель Мельников-Печерский, автор романов «В лесах» и «На горах». Мельников-Печерский был крупным знатоком старообрядчества и раскола, по не сочувствовал ни раскольникам, ни сектантам, напротив, считался гонителем раскольников, разорителем их скитов, которых называл рассадниками деспотизма и невежества. В критической статье, посвященной постановке «Грозы», он писал: «Хотя Островский, изображая семейство Кабановых, не упомянул нигде, что это семейство раскольничье, но опытный глаз… с первого взгляда заметил, что Кабаниха придерживается взглядов Аввакума и его последователей…» А ведь именно во Ржеве Островский с такой силой ощутил дух старообрядчества в здешних богатых купеческих семействах. Свидетельство тому — вся обстановка в доме Кабановых, так верно понятая Мелышковым-Печерским. …Писатель покидал город Ржев в субботу, 9 июня, и ночевал в Зубцове, который показался ему «несчастным городом», как он пометил в дорожных записях. Может быть, по причине тяжелых жертв, понесенных Зубцовом при Дмитрии Донском из-за соперничества Твери с Москвою? Или из-за упадка местного судостроения, о чем толковал Островскому тверской генерал-губернатор? Ненадолго задержался Александр Николаевич и в живописной Старице, сохраняющей память об Иоанне Грозном: в лихолетье войны со Стефаном Баторием город Старица служил резиденцией Грозному. Неудивительно, что Островский услышал здесь несколько сказаний и легенд об этом государе. Сказания были фантастическими. Островский решил проверить в архивах, какие реальные обстоятельства могли преломиться в этих устных стариц-ких преданиях. 11 июня Островский вернулся в хорошо знакомую Тверь. Но ждали его здесь неприятные вести от московских друзей. Пришлось без промедления прервать экспедицию и выехать на несколько дней в столицу.* * *
Александру Николаевичу Островскому ко времени волжского путешествия шел 34-й год. Казалось, главные трудности и невзгоды — жестокая нужда в начале самостоятельной жизни, нападки завистливых недоброжелателей-интриганов — теперь отошли в прошлое. Увы, не тут-то было!.. Впрочем, нужды-то Александр Николаевич мог бы смолоду избежать, прояви он поменьше гордости и самостоятельности по отношению к отцовскому ультиматуму: либо брось свою мещаночку Ганю (а заодно хорошо бы бросить и пустое дело — писание пьес!), и тогда можешь, поднимаясь по ступеням служебной лестницы, пользоваться как подспорьем и отцовским карманом; либо оставайся со своей избранницей, ниши свои комедии, но уж на отцову помощь не рассчитывай! Островскому и его жене пришлось с болью пережить первые столкновения с цензурой, которая ставила молодому драматургу такие препятствия, что порою он сам дивился, как впоследствии его влиятельным друзьям и благожелателям удавалось обходить их. Поначалу цензоры запретили к печати, а потом и к постановке на сцене пьесу «Картина семейного счастья». Затем не дозволили ставить на сцепе еще не полностью опубликованную комедию «Несостоятельный должник», или «Банкрут» (впоследствии она стала называться «Свои люди — сочтемся»). А когда полный текст этой вещи появился в мартовском номере журнала «Москвитянин» за 1850 год, последовал цензурный запрет публиковать ее отдельной книгой. Эти произведения нашли оскорбительными для чести купечества. Молодой драматург внушал цензорам такое недоверие, что даже сделанный им перевод шекспировской комедии «Укрощение злой жены» ле смог увидеть света — его запретили печатать и ставить. Положение начало облегчаться, когда Островский и группа его тогдашних друзей создали так называемую «Молодую редакцию» журнала «Москвитянин». Издателем этого, по некрасовскому выражению «древлетощего», журнала был человек влиятельный и сложный, историк, знаток российской старины, писатель и журналист, сын крепостного крестьянина, а ныне профессор и член Академии наук Михаил Петрович Погодин. Память о «Молодой редакции» (теперь уже распавшейся) была у Островского еще свежа! Составилась редакция пять лет назад из людей не просто молодых и одаренных, но и связанных страстной общей любовью к родной матушке-Руси! Островского мучило тогда острейшее безденежье. Не было и заступничества перед «недреманным окном». Пи влиятельных связей, ни знакомых меценатов! Отец пристроил его на мелкую чиновничью должность в суде поначалу за… четыре рубля в месяц! Позднее жалованье прибавили, но служба и курс юридических наук в университете не оставляли времени писать пьесы. Островский в конце концов вынужден был расстаться со своей судейской службой и с университетом, но «кружок Островского», сложившийся еще на студенческой скамье, не распался. Он-то и стал ядром «Молодой редакции» погодинского «Москвитянина»… …Стоял на дворе морозный февраль 1850 года. Поцеловав на прощание Ганю, Островский плотнее запахнул полушубок и вышел нз флигеля в Николо-Воробинский переулок. Путь впереди был длинен, и он всегда старался отмахать пешком побольше переулков, набережных, мостов, площадей и пустырей, чтобы уж в Замоскворечье сесть в извозчичьи санки (мол, за остаток пути «ванька» спросит подешевле!). Больше двугривенного седок тратить на извозчика не мог… Далеко за аристократическими старомосковскими улицами — Арбатом, Пречистенкой, Остоженкой, Зубовской и Крымской площадями — простирается в Лужниковской излучине Москвы-реки обширное и полупустое Девичье поле. То самое, где у Пушкина «к монастырю пошел и весь народ» просить на царство Бориса Годунова… Монастырь издали виднеется на самом краю Девичьего поля, в уголке между рекой и остатками Камер-Коллежского вала. Невдалеке и отслужившая свой век Лужнецкая застава с желтым строением кордегардии. Когда-то здесь проверяли крестьянские возы, не спрятана ли среди клади беспошлинная водка (для этой проверки и служил Камер-Коллежский вал). Ближе к заснеженной реке раскинулись огороды в заливной пойме, теперь тонущей в сугробах. В правой стороне поля, среди чернеющих садовых и парковых аллей мигали сквозь оледенелые стекла и занавеси огоньки люстр и керосиновых ламп в окнах княжеских особняков, построенных здесь еще в прошлом столетии. Тогда они считались почти загородными (в конце XIX века здесь вырастут знаменитые московские клиники)… Тут, среди просторных барских усадеб, принадлежавших Голицыным, Трубецким, Гагариным, Оболенским, Кропоткиным, находился во владении княгини Волконской большой старинный дом с флигелями, собственным парком и хозяйственными службами. Это обширное и запущенное владение приобрел еще в 1836 году в собственность профессор М. П. Погодин. Вся образованная Москва ценила погодинский дом. Его хозяин лично знал Пушкина. Погодин был 12 октября 1826 года в числе гостей у Веневитинова, когда москвичи впервые услышали «Бориса Годунова» в чтении автора… А 9 мая 1840 года в погодинском доме на Девичьем поле праздновал свои именины Гоголь, и по этому случаю Лермонтов читал здесь поэму «Мцыри». В этом же доме 3 декабря 1849 года Островский читал своего «Банкрута» («Свои люди — сочтемся»), и среди слушателей находился Гоголь. Его похвальный отзыв, написанный на маленьком листке бумаги карандашом, Островский «сохранял потом как драгоценность» (Н. Берг). Погодин создал у себя в доме целый музей русской старины, знаменитое древлехранилище (для которого и была впоследствии выстроена «погодинская изба», уцелевшая до наших дней!). Здесь сберегались рукописи, первопечатные книги, предметы старинной одежды, ткани, оружие, изделия русских ювелиров, эмальеров, резчиков по дереву и кости; медали, монеты, а наряду с этим и такие мемориальные вещи, как простреленный пулей Дантеса сюртук Пушкина со следами его крови. В доме часто собиралась «Молодая редакция» погодинского журнала. Сюда и спешил Островский вечером 19 февраля 1850 года… В тог день решалась судьба «Москвитянина» на несколько лет вперед. Решалась в перспективе и судьба самого Александра Николаевича. Погодин предложил ему в будущем сменить службу судейского чиновника на жизнь профессионального литератора… Но на первых порах Островский решил совмещать и то и другое… Друзья между собой называли Погодина «старцем Михаилом». Он действительно выглядел много старше своих 50 лет: белобородый, с лохматой седой гривой и некрасивым широконосым лицом, он внешне походил на простого мужика из какой-нибудь барской вотчины. Пока он показывал Александру Николаевичу вновь приобретенные для «древлехранилища» старинные книги, вроде рукописного «Хронографа» или первопечатного «Георгия Амартола», подъезжали к крыльцу остальные участники встречи. Вошел в гостиную уроженец Ржева белобрысый Тертий Иванович Филиппов, критик, близкий по взглядам славянофилам, возражавший против «гоголевского одностороннего критицизма» российской действительности. Друзья поддразнивали его, будто ездит он сюда неспроста, а, мол, собирается присвататься к профессорской дочке, погодинской наследнице, только, мол, «старец Ми хайл» не согласен! На самом деле профессор Погодин едва ли противился бы такому предложению, ибо Тертий Филиппов, помимо на редкость красивого голоса и песенного таланта, известного всей Москве, успешно продвигался по службе и в конце концов сделался сенатором и видным государственным чиновником… Музыканты же. считали его лучшим знатоком народных русских песен: с его голоса композиторы Вильбоа и Римский-Корсаков записывали их для будущих романсов и оперных арий… — Вот и Лев Александрович! — Хозяин дома как бы распростер объятия навстречу входящему поэту Льву Мею. Московский аристократ по рождению, он получил образование в Царскосельском Лицее (брали туда детей дворян с чином не ниже генеральского), однако, воротившись в родную Москву, вел жизнь довольно «рассеянную», как шептали в литературных салонах… Уже получили известность его исторические драмы «Царская невеста» и сцены из «Псковитянки», напечатанные стихи, отличные переводы. Погодин давно, еще в середине прошлого десятилетия, старался заручиться сотрудничеством Мея в «Москвитянине»… Очень красивый, немного восторженный, с ухоженными шелковистыми русыми волосами, он сердечно протянул Островскому руку. — Извольте видеть, — пояснил хозяин дома Островскому, — Лев Александрович изъявляет согласие заведовать у нас в журнале отделом словесности российской и иностранной. Драматургия, библиография и еще кое-что, надеемся, будут за вами, Александр Николаевич! Хрипловатый бас погодинского слуги, исполнявшего в доме роль швейцара и лакея, камердинера и дворецкого одновременно (Погодин был всей Москве известен своей скупостью!), огласил еще три имени вновь прибывших гостей: Евгений Эдольсон, Николай Берг и Борис Алмазов… И пока сам хозяин рассаживал в гостиной этих молодых людей, показался в дверях и хорошо знакомый обеим столицам литератор — знаменитый поэт Аполлон Григорьев… — Вот вы наконец и в сборе, дорогие мои, долгожданные! — говорил хозяин, зорко приглядываясь к тем, кого так убедительно рекомендовал ему в сотрудники Александр Островский. Эта молодежь определенно нравилась профессору, но… полной воли давать ей он все-таки не собирался. «Старец Михаил» знал, что с цензурой не пошутить и репутацию журнала благонамеренного терять ни в коем случае нельзя! Закрытие журнала «Европеец» еще не изгладилось из его памяти. …Забегая несколько вперед, можно признать, что поэт Лев Александрович Мей впоследствии не слишком утруждал себя редакционной работой по журналу, хотя печатал там стихи и переводы. Редакционные же труды всей тяжестью навалились на Островского и лежали на нем около полутора лет, с тех пор как сделался он некоронованным королем «Молодой редакции». Большим помощником ему был Евгений Николаевич Эдельсон из давно обрусевших немцев — тонкий литературный критик и поклонник немецкого философа Гегеля. Эдельсон успел совершить вместе с писателем деловую поездку в Самарскую губернию, увлекся драматургией Островского, а тот ценил верный вкус и добрые советы молодого критика. Участник «Молодой редакции», Николай Берг был товарищем Островского еще по гимназии, выступал в печати как поэт и переводчик, впоследствии оставил интересные воспоминания об этой поре литературного сотрудничества с Островским. А поэт-сатирик Борис Алмазов, самый молодой из этих литераторов, оживил страницы скучноватого «Москвитянина» своими острыми стихотворными пародиями, фельетонами и памфлетами под псевдонимом Эраст Благонравов. Число подписчиков заметно возросло… Сам же профессор особенно дорожил сотрудничеством в журнале Аполлона. Григорьева… Автор знаменитой «Цыганской венгерки» («Две гитары, зазвенев, жалобно заныли») вскоре стал главным литературным критиком журнала, когда основоположник «Молодой редакции» Александр Островский, занятый собственными пьесами, уже не смог уделять столько сил и времени журналу, как вначале… Но и годы спустя московский профессор Б. И. Ордынский в переписке с М. П. Погодиным назвал Алмазова, Эдельсона и Аполлона Григорьева «планетами, кружащимися вокруг своего солица — Островского» (письмо Ордынского Погодину от 1 февраля 1861 года). …Эти сотрудники «Москвитянина», особенно поэт Аполлон Григорьев, горячо любили, страстно защищали все самобытно русское. Вот как, например, оценивал в своей поэме «Искусство и правда» Аполлон Григорьев значение драматургии Островского для русского народа (поэма была написана Григорьевым несколько позднее, после того, как в Малом театре замечательный артист Пров Садовский потряс москвичей своим исполнением роли Любима Торцова в комедии «Бедность не порок»):Поэт, глашатай правды новой,
Нас миром новым окружил
И новое сказал он слово,
Хоть правде старой послужил…
Поэта образы живые
Высокий комик в плоть облек…
Вот отчего, теперь впервые,
По всем бежит единый ток.
Вот отчего театра зала,
От верху до низу, одним,
Душевным, искренним, родным
Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней живой.
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною головой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с чисто русскою душой…
3
По-видимому, недоброжелатели осмелели из-за отсутствия Александра Николаевича в старой столице. Теперь, в 1856 году, нападать на него открыто стало рискованно. Девять его пьес (как ои сам писал в ответах клеветникам) вошли в репертуар императорских театров в обеих столицах. Н. А. Некрасов уже назвал Островского «нашим бесспорно первым драматическим писателем». Стало известно, что даже покойный, император Николай, считавший себя знатоком театра и покровителем искусств, встретивший первые шаги драматурга с неодобрением, позже в угоду всеобщему мнению счел уместным похвалить комедию «Не в свои сани не садись». Произошло ото на премьере пьесы в Александрийском театре, три года назад, в 53-м… После закрытия занавеса Николай Павлович заметил по-французски: — Это не просто пьеса. Это урок! Редко я получал такое удовольствие от пьесы. Правда, тут же разнесся слух, будто Островский в тот вечер совершил неловкость или даже бестактность пренебрег возможностью быть лично представленным императору. Будто бы драматург в тот вечер находился в театре и… получил депешу о смерти отца в Щелыкове. Николай Федорович скончался 22 февраля, первое представление пьесы «Не в свои сани не садись» состоялось 19 февраля, а затем повторялось несколько дней подряд, когда на спектакль приехал Николай. Слух о том, что драматург в тот вечер тихо покинул здание Александринки, вышел на Невский и укатил в отцовское Щелыково, ничего не предприняв, дабы предстать перед очами высочайшего критика, как бы сводил на нет царскую похвалу, по причина для неожиданного отъезда была все же веской, и клеветать на автора одобренной пьесы не осмелились… Его талант высоко ценили Тургенев и Гоголь, молодой Лев Толстой, Писемский, Григорович. Пьесы Островского уже переводились на французский и немецкий языки, приобретали европейскую известность — это тревожило и злило завистников и идейных врагов, возненавидевших «опасный демократизм» драматурга. Оставалось испытанное оружие клеветы и навета по французскому рецепту: «Клевещите, клевещите, всегда что-нибудь и прилипнет!» Вот это отравленное оружие и пошло теперь в ход против Островского… …В раме вагонного окна чередовались раскидистые сосны, темно-зеленые, до синеватого отлива ели, мокрые луга, свежесрубленные избы. Старинных сел и деревень нигде не было видно, будто поезд шел по необжитой стране. Дорогу строили более двух десятилетий без научно обоснованного проекта, по царскому капризу — напрямик, больше лесами и болотами, как топографическую визирку, оставляя в стороне города и селения, местами далеко отклоняясь от старого почтового тракта между обеими столицами. Движение пассажирских поездов открыли пять лет назад, а местность по обе стороны полотна оставалась безлюдной, неприветливой, располагая путешественника к грустным раздумьям. От пейзажей за окном переводил он взгляд на соседей по вагону второго класса… Ехали какие-то господа средней руки, коммерческие агенты с образчиками товара в чемоданах и саквояжах. В иных лицах и в тоне разговоров Островский легко угадывал судейских юристов. Опять вспомнился покойный отец-адвокат. Думалось о собственной юности, о годах службы сперва в Совестном, потом в московском Коммерческом судах. Со службы в Коммерческом суде он был уволен в январе 1851 года, когда сам Николай Павлович приказал учредить за сочинителем Островским полицейский надзор из-за опубликованной комедии «Свои люди — сочтемся», той самой, что царь запретил ставить на сцене, назвав ее публикацию напрасной… Островский прослужил в судах почти восемь лет, имел чин губернского секретаря и безупречный послужной список. Однако судейское начальство, напуганное жандармским надзором и желая избавиться от неугодного чиновника-литератора, побудило его подать прошение об увольнении… В те, теперь уже отдаленные времена, еще до увольнения, Александр Островский возобновил (это было в 1846 году) еще более раннее знакомство с человеком по имели Дмитрий Тарасенков-Горев, которого помнил со студенческих лет. Александр доверил приятелю Гореву замысел и черновые заготовки для комедии «Банкрут, или Несостоятельный должник». Позднее Островский дал ей название «Спои люди — сочтемся». Именно эта комедия я создала славу автору, заставила смотреть на него как на продолжателя традиций Гоголя и Грибоедова, как на их наследника. Островский предложил Дмитрию Тарасенкову поработать над комедией «Банкрут» вместе. И самый замысел, и предложение соавторства привели того в восторг. Человек этот сам был выходцем из купечества, по уже принадлежал к театральной богеме, играл на провинциальной сцене в амплуа трагика, заменил фамилию Тарасенков роковым псевдонимом Горев, но главное — уже имел некоторые литературные навыки: ему удалось напечатать мелодраму собственного сочинения! Разумеется, Островский при всей его молодости догадывался, что корейская мелодрама «Государь-избавитель, или Бедный сирота» не является вершиной драматургического искусства, а сам ее создатель более привык к трактирной стойке, чем к письменному столу. Но Александр еще не начинал печататься, по скромности считал себя в писательстве малоопытным и желал советов человека хоть и слабовольного, но уже несколько поднаторевшего в драматургических приемах. Он, например, предлагал соавторство литератору Тертию Филиппову. Тот, однако, отклонил предложение Островского, сознавая недостаточность собственных сил по сравнению с могучим талантом своего друга Александра. Не таким скромником оказался Горев-Тарасенков! Четыре вечера ходил он в дом Островского, садился за письменный стол в комнате Александра, дымил сигарой, писал под его диктовку. Возможно, вносил какие-то слова, предлагал репризы, искал варианты, рассуждал о сюжете. Александру Островскому было искренне жаль неприкаянного приятеля, небесталанного, но слабохарактерного и неустойчивого. Будущий драматург ободрял его, благодарил за помощь, делал вид, будто они вместе творят нечто общее. Этим актом творческого содружества он надеялся укрепить в Гореве веру в его литературные и душевные силы, чтобы удержать товарища от сползания на общественное дно. Попытка эта Александру не удалась. Их пятая встреча в Николо-Воробинском оказалась уже нетворческой. Просто Горев-Тарасенков явился к Островскому с известием, что снешно убывает из Москвы по театральному ангажементу. — Что же мне делать с теми страницами, над коими мы поработали вместе? — спросил деликатный и добросовестный автор. — Что вы, что вы! — смущенно отмахнулся «соавтор». — Уж какое там мое участие! Сущие пустяки! Помилуйте! Вот только одна просьба к вам, милый Александр Николаевич: сохраните где-нибудь у себя кое-какие мои записки и наброски. А то куда мне ихдевать — в дороге лишняя обуза, а в родственном доме их не сбережешь! И отбыл Дмитрий Горев-Тарасенков в свой гастрольный вояж, но надолго! Лет шесть он ничем не напоминал о себе Островскому. А тот за несколько месяцев напряженного труда закончил первый вариант своей пьесы «Несостоятельный должник» и напечатал сцены из этой комедии в газете «Московский городской листок». По своей педантичной, скрупулезной добросовестности он поставил под этими сценами инициалы свои и горевские (А. О. и Д. Г.), хотя Гореву могли принадлежать в комедии лишь отдельные крохи в двух или трех первых явлениях. (Такие литературные услуги пишущие оказывают друг другу постоянно, не претендуя, разумеется, на соавторство.) Щепетильность Островского имела для него роковые последствия… По прошествии целых шести лет, в 1853 году, Дмитрий Горев, типичный провинциальный трагик, неожиданно вновь объявился в Москве. Как раз в те дни в обеих столицах с успехом шла комедия «Не в свои сани не садись». Была напечатана комедия Островского «Бедная He-поста». Драматург готовил ее к постановке, а сам уже начинал работу над пьесой «Бедность не порок», причем намеревался закончить ее в том же году, что даже и при его работоспособности было непросто! Времени у писателя в обрез! Агафья Ивановна оберегала мужа от случайных посетителей, сторожила редкие часы его покоя. Горев прямо-таки вломился во флигель к Островскому, оторвал от работы, стал требовать… свои записки. Конечно, Александр Николаевич и думать о них давно забыл, тем более что ему пришлось перетаскивать все пожитки, книжки и бумаги из проданного отцом большого дома во флигель, назначенный Николаем Федоровичем сыну. Но Горев проявил такую настойчивость, что пришлось Островскому отложить все дела, забраться в чулан и перерыть весь накопившийся там бумажный хлам. К счастью, Агафья Ивановна, бережно относившаяся к мужниным бумагам, не извела горевские тетрадки на растопку! Бумаги Горева нашлись! Островский вручил их актеру в неприкосновенном виде. Эпизод этот стал известен недоброжелателям Островского, и они не преминули им воспользоваться. Враги пустили слушок и даже разослали письма от имени некоего правдолюбца, не пожелавшего раскрыть свое инкогнито, что, мол, всеми своими успехами Островский обязан только Дмитрию Гореву, чьи труды он бессовестно присвоил. Комедия «Банкрут» просто-напросто целиком украдена Островским у настоящего автора. Потрясенный драматург сделал попытку усовестить бывшего приятеля, но результат получился обратный: Дмитрий Горев письменно в сильных выражениях и в истерическом тоне подтвердил все эти дикие обвинения. Спившийся субъект, быть может, и сам успел уверовать в свою загубленную гениальность и уже начал принимать свои фантазии за действительность. Как бы то ни было — руководила ли им зависть, или злоба, либо мучило душевное расстройство — для клеветников он был находкой! Неблагоприятные для Островского слухи распространились в Москве и в Петербурге. И подогревала, пополняла их очень целеустремленная рука! Догадался об этом Островский позднее, когда первый вал клеветы уже отхлынул, испортив драматургу немало крови. На публику повлиял успех «Бедной невесты»; вышла на сцену комедия «Бедность не порок». Она ознаменовала собою новую эру в истории русской сцены, как о том вспоминал в своей поэме Аполлон Григорьев. Вскоре зрители вновь горячо аплодировали комедиям «Не так живи, как хочется» (она сразу же полюбилась Льву Толстому) и «В чужом пиру похмелье». Попытка же самого Горева опубликовать собственное драматическое сочинение окончилась позорным провалом. Трагик опускался все ниже и ниже, внушал людям презрительную жалость. Огонек клеветы угасал, чадил, покрывался пеплом. И вот внезапно весной 1856 года тайные силы вновь ухитрились раздуть этот огонек. Приемы были прежними, как и в 1853 году. Злокозненность и точная целеустремленность кампании были очевидны уже потому, что повели ее одновременно как московские, так и петербургские газеты. В «Санкт-Петербургских ведомостях», чьим редактором был А. А. Краевский, старый недоброжелатель Островского, и одновременно в «Ведомостях московской городской полиции» под разными «правдоподобными» псевдонимами (сходными с анонимщиками 53-го года) история о мнимом соавторстве Горева в «Банкруте» была вновь вытащена на свет божий. Более того, от Островского теперь требовали объяснений и оправданий, почему он, мол, умалчивает о соавторстве Горева в последующих комедиях… …К платформе Санкт Петербургского вокзала в Мосине на Каланчевской площади поезд пришел строго по расписанию. Это было 13 июня. Загоревший, слегка похудевший и окрепший Александр Николаевич радовался встрече с друзьями — Аполлоном Григорьевым, Тертием Филипповым, Мишей Семевским — будущим издателем «Русской Старины», Евгением Эдельсоном, артистами Провом Садовским, Турчаниновым, критиком В. П. Боткиным (братом славного российского доктора). Застал он в Москве писателей-друзей — Дружинина и Григоровича. Со всеми этими людьми он обсуждал, как действовать против пасквилянтов. Мнение всех друзей было почти единодушным! Все решили, что прямым поводом к возобновлению травли явилось согласие Островского сотрудничать с «опасным» журналом — «Современником». Ведь перед самым отъездом на Волгу драматург дал согласие трем редакторам «Современника» — Некрасову, Панаеву и Никитенко — публиковать свои сочинения только на страницах их журнала. Кстати, профессор Никитенко, служивший цензором, имел в правительственных кругах репутацию благонамеренного либерального деятеля и был привлечен Некрасовым и Панаевым к редактированию в надежде, что фигура Никитенко несколько замаскирует «красноту» журнала. Надежда не оправдалась, так как Никитенко вскоре отказался от роли полуфиктивного третьего редактора слишком радикального для пего журнала. Как известно, идейным руководителем «Современника» был И. Г. Чернышевский, а сотрудничать в журнале одновременно с Островским обещали Добролюбов, Гончаров, Дружинин, Григорович… Даже после своего вынужденного отъезда на Запад печатался в «Современнике» Александр Герцен. Между тем на сотрудничество Островского рассчитывал и Краевский, издававший одновременно с газетой «Санкт-Петербургские ведомости» «Отечественные записки». Он готов был забыть свои неодобрительные оценки ранних драматургических опытов Островского, если бы драматург, ставший знаменитым, согласился печататься в его изданиях. Но автор «Своих людей», выступая в «Современнике», не оправдал расчетов издателя. Островский выразил друзьям свое глубокое убеждение, что главным организатором травли, скрытым за подставными анонимами и псевдонимами, является не кто иной, как Краевский… Друзья старались приободрить Александра Николаевича, успокоить его тревоги, развеять подозрения. Его снова потянуло на Волгу, к неоконченным путевым очеркам и драматургическим замыслам. Пьесу о Минине приходилось, однако, вновь отодвигать… Потому что нужны были дополнительные материалы об истории смуты, и уже виделась ему «сквозь магический кристалл» современная, трагическая героиня «Грозы». А тут дерись вот с низкими злопыхателями и клеветниками! Лишь много позже раскрылся псевдоним «Правдева» — им оказался мелкотравчатый журналист, хваставшийся княжеским происхождением, Н. С. Назаров. Опасаясь называться прямо, ои прибегал и к другим псевдонимам и ипостасям. Выступил тогда против Островского и петербургский фельетонист Владимир Рафаилович Зотов, впоследствии сотрудничавший и с петрашевцами, и с Герценом, и с революционными народниками. Возможно, что его участие в клевете было результатом нажима со стороны Краевского… Актер С. Брянцев быстро, явно по влиятельной подсказке состряпал комедию-пасквиль против Островского под названием «Заблуждение, или Свой своему поневоле друг». В этой двухактной комедии Островский был выведен под именем бесчестного литератора Васильевского, обокравшего своего обманутого друга-актера, подлинного автора драматического произведения… Этот спектакль-пасквиль врагам Островского удалось даже протащить на сцепу: гнусная комедийна дважды прошла в Александрийском театре, однако успеха не имела, а попытка поставить ее в московском Малом театре сразу провалилась… Впоследствии писал о Гореве артист, поэт и рассказчик И. Ф. Горбунов: «Ведь это был человек необразованный, даже мало развитый… несчастный человек, страдавший галлюцинациями… Не на одного Островского он посягнул: Горев впоследствии присваивал себе пиесу Чернышева «Не в деньгах счастье»…»…18 июня Ганя провожала мужа в Тверь. Отсюда отправил он в два адреса гневные письма-объяснения, где по-богатырски разделывался с врагами: В. Ф. Коршу в редакцию «Московских ведомостей» и Н. А. Некрасову в журнал «Современник». Письма пошли в один день — 27 июня. Оба органа печати их сразу опубликовали, клеветники, прихлопнутые горячим, страстным словом писателя, притихли; ложь забывалась, внимание читающей публики отвлекли другие события…
* * *
А душа писателя Островского оставалась раненой, и от горечи мутился разум! Вот как он в дневнике своего путешествия описывал состояние своего духа: «Середа, 4 июля, Калязин, 9 часов утра. В эту неделю я проживал самые мучительные дни и теперь еще не совершенно оправился. Только было я принялся за дело и набросал сцену для комедии («Не сошлись характерами». — Р. Ш.), как получил от Григорьева (поэта Аполлона Григорьева. — Р. III.) письмо с приложением; номера «Полицейских ведомостей», исполненных гнусных клевет и ругательств против меня. Мне так сделалось грустно! Личность литератора, исполненного горячен любви к России, честно служащего литературе, ничем у нас не обеспечена. И притом же я удален от всех своих близких, мне не с кем посоветоваться, не с кем поделиться своим горем. Это навело на меня такую грусть, которой не дай Бог испытать никому. Написал и разослал ответы; а между тем, время уходит, душа растерзана». В те дни Александр Николаевич пытался продолжать работу над очерками. Отправлялся в тарантасе за город, изучал постройку барок на тверской верфи, пополнял задуманный «Волжский словарь». Работа не отвлекала от печальных мыслей, не разгоняла тоски и чувства обиды. Наконец он решил проститься с Тверью и отправился вдоль Волги вниз. Побывал в городке Корчеве, миновал земли большого поместья Новоселки. Узнал, что недавно принадлежали эти земли помещику Ивану Алексеевичу Яковлеву, отцу Герцена. Ивана Алексеевича уже нет в живых, сын его, Александр Герцен, почти 10 лет в эмиграции. Даже переписка с ним может навлечь беду! Островский мимоходом встречал Герцена в 1846 году в редакции «Московского городского листка», зачитывался «Письмами об изучении природы», высоко ценил роман «Кто виноват?»… Вспоминая свое мимолетное знакомство с Герценом в Москве 40-х годов, Александр Николаевич подумал, что непременно рискнул бы навестить опального изгнанника Искандера в Лондоне, если бы случилось побывать в британской столице. Тяжелое настроение чуточку развеялось, когда на паромной переправе близ Корчевы перевозчик поругался с жителем села Кимры. Словесная перепалка корчевца и кимряка была столь острой, что несколько сильных словечек попало в языковые записи драматурга… Однако ни в Корчеве, ни в Кимрах материала, нужного для служебных очерков, не оказалось, писатель не стал здесь задерживаться. Утром 3 июля его экипаж остановился на главной площади города Калязина. Островский пометил в дневнике: «Поужинали в трактире, в котором очень чисто и все чрезвычайно дешево. Сегодня пишу». На этих словах дневник путешествия обрывается. Здесь ждала писателя новая злая беда! 5 июля Островский покинул было Калязин и отправился дальше, намереваясь сделать большую остановку в Угличе. Да не тут-то было! Случилось дорожное несчастье. Не повинуясь кучеру, испуганные кони понесли экипаж. Ямщик слетел с облучка. Тарантас с седоками и пожитками перевернулся. Островскому в двух местах переломило кости правой ноги. Оба перелома были тяжелыми. Кое-как довезли его обратно в Калязин, лекарь из соседнего уезда (в Калязинском такого врача не нашлось!) ставил Островскому пиявки и бинтовал переломы. Под надзором этого лекаря больной поправлялся медленно, кости срастались плохо. Два месяца спустя московскому хирургу пришлось ломать свежие костные ткани и снова надолго укладывать больного в постель. Дома, в Николо-Воробинском, выхаживала его неутомимая Агафья Ивановна. Так неожиданно горько прервалось путешествие Островского по Волге. И хотя в следующие годы Александр Николаевич продолжал свои волжские странствия то в экипаже, то пароходом, повидал и Углич и Ярославль, набрался там и новых знаний, и новых впечатлений, однако задуманный им цикл пьес «Ночи на Волге» так никогда и не был завершен. Драматург даже не вполне ясно определил для себя, что же именно должно было войти в этот цикл. Но все-таки именно Волга и волгари дали ему материал для главных драматических творений, ставших вечными на русской и мировой сцене: «Гроза», «Воевода, или Сон на Волге», «Козьма Захарьин Минин-Сухорук», «Бесприданница» и поэтический шедевр, весенняя сказка «Снегурочка», рожденная в заветном уголке ближнего Заволжья — имении Щелыково. В заволжских лесах развивается и действие комедии «На бойком месте»…ГЛАВА ТРЕТЬЯ ОСВЕЖАЮЩАЯ ГРОЗА
«Грозу» Волга написала…С. A. Юрьев(писатель, редактор журнала «Русская мысль»)
…Могу сказать, по совести, что подобного произведения, как драмы, в нашей литературе не было. Она, бесспорно, занимает и, вероятно, долго будет занимать первое место по высоким классическим красотам.И. А. Гончаров
В «Грозе» есть что-то освежающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанным нами и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства.Н. А. Добролюбов
1
Где написана «Гроза» — на подмосковной даче, снятой Островским в Останкине, или в заволжском Щелыкове, в точности неизвестно, по создана она с поразительной быстротой, истинно по вдохновению, за два осенних месяца 1859 года в результате волжских поездок писателя. «Гроза» родилась самой решительной, по выражению Добролюбова, пьесой Островского. Будь Добролюбов свободен от когтей цензуры, он, возможно, избрал бы выражение даже более прямое: «самая революционная». А за словом «самодурство» здесь чувствуется и намек на «самодержавие». Тысячи критиков и режиссеров спорили об этой пьесе, от Добролюбова и Писарева до великих современных постановщиков и актеров, притом во всех цивилизованных странах. Нет драматической актрисы, не мечтавшей сыграть Катерину, хотя далеко не каждая соответствует образу, созданному драматургом. О «Грозе» ежегодно пишутся школьные сочинения. Самое удивительное — что они вовсе не похожи друг на друга! Ибо каждая эпоха, каждое поколение понимает пьесу по-своему, открывает в ней новизну, созвучную душам этой эпохи, как бы ни были далеки во времени персонажи «Грозы» и их жизненный уклад. О рождении и сценической судьбе этой пьесы мы тут и расскажем. …Поболее полутораста лет назад в деревне Ждановке под Нижним Новгородом родилась в семье податного крестьянина Павла Косицкого синеглазая девочка. Родители были крепостными. Любашин отец служил дворецким, мать — ключницей. По-видимому, Любашины родители были грамотными людьми, и тем невыносимее казалась им крепостная неволя: выкупиться, пусть за большие деньги! Помещик требовал большой выкуп — две тысячи рублей серебром за освобождение всего семейства. Родители сумели взять денег в долг. Как только они оказались на воле, Любаше пришлось идти в услужение, чтобы кормиться самой и отрабатывать родительский долг. Поступила она младшей горничной к богатой нижегородской купчихе. У новой хозяйки был открытый дом и широкий круг знакомств. В гости к пой хаживали и местные деятели театра. И маленькая горничная попалась на глаза нижегородскому антрепренеру. Он первым угадал в девочке артистическое дарование и большие музыкальные способности. Нередко ее заставляли петь при гостях… — Уступите мне ее для сцены — будет забавлять публику песенками в дивертисментах, а то и для водевильчика либо для интермедии маленькой пригодится… Так Любаша рано узнала и свет рампы, и суфлерскую будку, и первые аплодисменты. После Нижнего Новгорода театральная судьба привели ее в Ярославль, а еще позднее, уже на настоящие роли, — в Рыбинск. Тут ее, восемнадцатилетнюю, местные купчики стали преследовать своим вниманием так настойчиво, так грубо, что пришлось ей буквально бежать от них в Москву по чьему-то доброму и верному совету. Добралась она до Москвы без денег, хотя незадолго перед бегством получила от антрепренера разрешение на свой первый бенефис по случаю пятилетнего пребывания на сцене. Этот бенефис принес Любаше Косицкой сумму, по тем временам ощутимую, — сотню рублей серебром. Однако девушка тут же отослала их почтой в Нижний Новгород, родителям на уплату их долга помещику. Было это в 1845 году. В Москве девушка отважилась явиться прямо в дирекцию императорского Малого театра. Тут ей посчастливилось! Слушал и экзаменовал ее знаменитый театральный деятель, оперный композитор Алексей Николаевич Верстовский. Публика любила его романс «Черпая шаль», на многих сценах ставились оперы Верстовского «Аскольдова могила» и «Пан Твардовский». Композитор фактически руководил деятельностью московских театров, занимая должность инспектора музыки и репертуара. Позднее он стал официальным главой дирекции Большого и Малого театров в Москве. Вдобавок в дни, когда на московском театральном горизонте возникла маленькая фигурка никому не ведомой провинциальной девушки-просительницы, рожденной в крестьянском звании и состоявшей тогда в звании мещанском, гостил в старой столице высокий чиновник петербургского двора, сам Александр Михайлович Гедеонов, состарившийся в должности директора императорских театров России… …Советскому кинозрителю примелькался этот образ сухого надменного царедворца в фильмах, связанных с творчеством Глинки, Даргомыжского, молодого Чайковского или с судьбами артистов, таких, как Асенкова, балетмейстер Петипа, трагик Мартынов. Длинные седые бакенбарды, холодный взгляд, гордая осанка. Ордена на строгом черном фраке или мундире. Таким бесстрастным и важным предстает нам Гедеонов-старший. Впоследствии должность директора театров перешла как бы по наследству к его сыну Степану Александровичу, старавшемуся внешне подражать осанке и стилю отца. Гедеонов-старший поддерживал в императорских театрах — Большом и Малом в Москве, Александрийском в Петербурге — режим крепостнический, порой напоминавший скорее арестантские роты, чем храм искусства. «Театр — прежде всего дисциплина, иначе он превратится в балаган», — говаривал Гедеонов-старший. При всем своем наружном бесстрастии он бывал с актерами и жесток, и груб, и несправедлив, давал волю вспышкам необузданного гнева на репетициях и смотрел на артистов как на собственных слуг и наложниц. Об этом сохранилось много живых воспоминаний, от мемуаров Щепкина или Косицкой, до горьких строк в статьях и дневниках самого Александра Островского. Кстати, и при Гедеонове-младшем, с которым Островский близко сотрудничал, крепостнический режим в театрах отнюдь не без трений уступал место более гражданственным и достойным порядкам. Однако оба Гедеонова, старший и младший, чувствовавшие себя царями и богами московских и петербургских театров, определявшие выбор репертуара и все внутренние порядки, все-таки при всей условности их вкусов и наклонностей любили сцену, знали театральный мир, разбирались в тонкостях драматургии, хорошо отличая сценическое от несценического! Умели они и распознавать молодые дарования. И вот, на счастье юной Любаши Косицкой, грозный Александр Гедеонов и придирчивый Верстовский выслушали рассказ девушки о ее первых пяти годах на провинциальной сцене. Перед властителями театрального мира стояла хорошенькая голубоглазая девушка. Но просила она чиновных театральных деятелей о невозможном: принять ее на императорскую сцепу. Взыскательные директора проверили Любашин голос, музыкальный слух, умение самой аккомпанировать себе на гитаре, знание нотной грамоты. Девушка легко и свободно двигалась на сцепе, показала способность к быстрому перевоплощению, изящно танцевала, обладала живой мимикой и несомненным обаянием. Прочла несколько монологов из сыгранных ролей — у нее и актерская память была неплоха, и дикция отчетлива, выразительна, красива. Верстовский и Гедеонов, убедившись в неоспоримых способностях Косицкой, прикинули денежную сторону: бюджет-то театральный был уж очень ограничен! Не хватало на жалованье постоянному актерскому составу. А вместе с тем московская труппа нуждалась в свежих силах… И Любашу определили в воспитанницы при Малом театре. Через два года она вышла на сцену хорошо обученной, прошедшей щепкинскую школу актрисой. Для упрочения театральной и жизненной судьбы ее выдали замуж за актера Ивана Никулина. Об этом актере говорили, что он внебрачный сын известного богача князя Грузинского, которому принадлежала текстильная фабрика и крупная усадьба в Павловском Посаде. Там на любительской сцепе и играл Иван Никулин. Князь Грузинский баловал своего любимца, купил ему дом на углу Салтыковского переулка, невдалеке от московского Купеческого клуба. Иван Никулин отличался завидной мужской красотой южного типа, а жена его привлекала наружностью чисто великорусской. Совместная их жизнь была недолгой и не особенно счастливой. Никулин предпочитал жить на юге, любил перемену мест, разъезжал с провинциальными труппами по южным губерниям и мало заботился о супружеской верности. Жене он тоже предоставил свободу, ограниченную соблюдением внешних приличий. Любовь Павловна сначала жила в мужнином доме, приобретенном на княжеские средства, потом, в 1858 году, переселилась в небольшой домик в Мамоновском переулке, по соседству с Садовскими. Познакомились Островский и Косицкая в конце 40-х годов, когда еще ни одна пьеса молодого драматурга не пробила себе дороги на сцену. Сам он лишь недавно был произведен в чин губернского секретаря на службе в московском Коммерческом суде и с успехом читал в знакомых домах сцены из своих комедий. Знакомство, очевидно, произошло в дачной местности Останкино, где любили проводить летние месяцы многие артисты императорских театров, в том числе и Любовь Павловна. Артисты часто бывали первыми слушателями драматургических набросков Островского. Осенью 1852 года писатель закончил комедию «Не в свои сани не садись». Любовь Павловна избрала ее для своего бенефиса… Такой выбор показывал немалое мужество артистки, так как пьеса не слишком гладко миновала цензурные препоны, а театральному начальству комедия показалась низкой, плебейского жанра и к тому же оскорбительной для дворянского сословия, представленного в образе хлюста и лживого вертопраха Вихорева. Этот циничный, расчетливый развратник обманывает в пьесе доверчивую, простодушную Дуню, которую спасает потом от позора и проищет любящий ее по-настоящему Ваня Бородкин, Дунин жених из их родного городка Черемухина… В Москве премьера спектакля «Не в свои сани не садись» прошла на сцене Большого театра. 14 января 1858 года. Недаром Островский считал 14-е число своим счастливым! Первая вещь на сцене — и сразу в Большом! Перед двумя тысячами зрителей! Сам Верстовский вместе с бенефицианткой шли на риск: ведь пьесу еще не знали. Если бы остались непроданные билеты, их пришлось бы согласно правилам взыскать с героини бенефиса! Спектакль был триумфальным! Притом для обоих: для драматурга, дотоле известного лишь московским литературным салонам, и для артистки, уже покорявшей сердца зрителей в шиллеровской драме «Коварство и любовь» (роль Луизы), в шекспировском «Гамлете» (Офелия), по искавшей для себя образ более близкий, чисто русский… Критика признала спектакль новаторским и поняла, что «появление Островского составляет эпоху на сцене». Месяцем позже пьеса прошла и в Петербурге, в Александрийском, с не меньшим успехом, даже удостоилась «высочайшего одобрения»: ее похвалил Николай Павлович… Сам драматург считал, что пьеса полюбилась московской публике благодаря замечательной игре Косицкой-Никулипой. Отношения драматурга и «героини» то крепли, то осложнялись: муж ее, Иван Никулин, не был сторонником драматургии Островского, да и дружба жены с писателем, видимо, ему не правилась: может быть, раньше артистки догадался, что в сердце Островского зарождается к ней чувство сильнее дружеского. Он преподнес жене сплетню об авторстве Горева-Тарасенкова. Весть о «плагиате» оттолкнула было ее от Островского, пока она сама не убедилась в лживости этих низких наветов. Наступила осень 1859 года. На московской квартире Любови Павловны Косицкой-Никулиной Александр Николаевич с присущим ему мастерством прочитал ведущим актерам Малого театра свою новую, только что законченную драму «Гроза»… В перерывах Островский выходил из гостиной выкурить папиросу в коридоре — хозяйка не любила табачного дыма в покоях. А слушатели-артисты, воодушевленные услышанным, уже толковали о распределении ролей — какая кому подходит. И единодушно решили — Любови Павловне быть первой Катериной на русской сцене. Вынашивая «Грозу», он будто ощущал рядом с собою незримое присутствие Косицкой — Катерины, слышал рядом ее дыхание. Он писал Косицкой жаркие, полные страсти письма. До сердечных глубин, до беспамятства влюбился он в эту милую, одаренную и столь нужную ему женщину. А затем произошло неизбежное: он прямо предложил ей руку и сердце! И получил… решительный отказ! Она отклонила предложение писателя, стараясь смягчить это решение словами дружбы и преклонения перед талантом Островского. Говорила она о моральной несвободе Александра Николаевича — ведь она была знакома с Агафьей Ивановной, видела Островского в семье, в заботах о малолетних хворых детях — их было к тому времени трое… Пусть брак Островского не был церковным, пусть судьбу детей можно было бы обеспечить материально — все равно Островского нельзя было считать полностью свободным! Да и собственное ее сердце принадлежало… не Островскому! Она призналась Александру Николаевичу, что под этой сердечной несвободой подразумевала не Ивана Никулина, нелюбимого официального супруга. Он находился по-прежнему в отъезде, медленно угасал от неизлечимой хвори, унесшей его уже в 1861 году. А любила Косицкая некоего молодого московского купца. Чем далее, тем сильнее привязывалась артистка к этому человеку, вскоре доведшему ее чуть не до нищеты. Сердечная рана, нанесенная им Косицкой, привела к болезни и печальной, одинокой кончине на 38-м году этой незаурядной жизни. В одном из предсмертных писем она заверила Островского, что его дружба и любовь были высшей радостью в ее творческой и жизненной судьбе. Но все это произошло позднее, измучив и артистку, и писателя, и тяжко страдавшую Агафыо Ивановну, А тогда, к моменту премьеры «Грозы» в Малом театре, 16 ноября 1859 года, Любови Павловне шел только 33-й год, и перевоплощалась она с присущим ей мастерством в юную, неискушенную Катерину так, будто играла собственную судьбу! Если жизненный путь Катерины и Любови Павловны и не совпадал полностью, то играла артистка такую судьбу, какая была ей очень понятной, близкой, а кое в чем и прямо схожей. В своих «Записках» она вспоминает барина-крепостника, «которого народ звал собакой… Я родилась… на земле, облитой кровью и слезами бедных крестьян… Когда он, бывало, выходил из дому гулять по имению, дети прятались от страха под ворота, под лавки»… Даже на черновой рукописи «Грозы» есть пометки Островского: «сообщено Л. П.». Косицкая рассказывала писателю эпизоды своей жизни, навеяв ему заветные слова Катерины о ее юности, годах, проведенных в отчем доме, до замужества с Тихоном Кабановым. Самые поэтические, самые светлые черточки в характере Катерины рождены были живыми признаниями Любови Павловны.2
Накануне премьеры, 15 ноября, Островский до позднего вечера репетировал на сцене при затемненном зале с убранной в потолочный люк главной люстрой те места пьесы, где Катерина — Любовь Косицкая и Марфа Кабанова — Надежда Рыкалова противостоят друг другу. Вновь и вновь отрабатывал автор-режиссер сцены единоборства этих двух женских характеров… Как нельзя понять суриковское «Утро стрелецкой казни», если не увидеть главного конфликта в картине — смертельного поединка двух мужских воль, двух скрестившихся взглядов — Петра и осужденного на казнь нераскаявшегося стрельца (в телеге, с зажженной свечой), — так нельзя до конца понять смысла «Грозы», не вникнув в стержневой конфликт между Катериной и Кабанихой. Ведь Островский как бы вопрошает у зрителей: кто одержал верх в этом поединке? Смерть Катерины — победа или поражение Кабанихи? Как бы поступила Кабаниха, будь на месте непокорной Катерины другая невестка, покладистая, подхалимка, умеющая лицемерить, соблюдать видимость «бла-алепия», по-Феклушиному? Что нужно Кабанихе от невестки в доме? Чего она добивается? Марфа Кабанова прежде всего воинствующий консерватор, твердолобая блюстительница домостроевских порядков: «Смех, да и только! Так-то вот старина и выводится… Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уже и не знаю…» Но даже родной сын Марфы Игнатьевны Тихон называет эту домостроевскую старину кандалами: «С этакой-то неволи от какой хочешь красавицы-жены убежишь… Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?» И механик Кулигин, живущий где-то неподалеку от дома Кабановых, знает тамошние домашние порядки, заведенные Марфой Игнатьевной: — Ханжа, сударь, — говорит он Борису о Кабанихе, — нищих оделяет, а домашних заела совсем». Но что же заставляет эту богатую, оделяющую нищих вдову-купчиху «заедать» своих домашних? Понимает ли она сама, как тягостен и бесчеловечен режим неволи, утвержденный ею в доме? С кем она сама знается в городе Калинове? Долю снисхождения к человеческим слабостям она проявляет в отношениях с Савелом Прокофьевичем Диким. Как-никак достиг, мол, человек богатства, что же ему теперь и не покуражиться! Но малейшей непочтительности она не потерпит и от Дикого. Стоило тому только помянуть «чорта водяного», как непреклонная Марфа Игнатьевна круто обрывает богача буяна: «Ну, ты не очень-то горло распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебе дорога! Ступай своей дорогой, куда шел!» И тот спохватывается, по-своему приносит извинения важной соседке. Умиротворения ради Кабанова приглашает расходившегося во хмелю «воина» в дом закусить чем бог послал… Для нее этот сосед-грубиян — союзник! Он ведь из тех, о ком так жутковато звучат слова Кулигииа: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие… В мещанстве, сударь, вы ничего кроме грубости да бедности нагольной не увидите… Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного кабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать…» Попутно хочется заметить, что под этими словами из пьесы русского драматурга, бесспорно, согласились бы поставить свои подписи даже авторы «Коммунистического манифеста», опубликованного за 11 лет до выхода на сцену драмы «Гроза», но едва ли известного Островскому. Такие речи звучали на русской сцене впервые! Ведь со смертью Николая Павловича в 1855 году цензурные строгости приослабли, по ведомство-то оставалось прежним, помещалось по-старому в зловещем здании у Цепного моста в Питере, да и сидели в нем все те же нордстремы и Феоктистовы, прошедшие школу николаевского шефа жандармов Дубельта. Александру Островскому пришлось самому отправиться в Петербург. Наибольшие сомнения цензора И. А. Нордстрема вызвал образ Марфы Кабановой. Он заподозрил, что под маской Кабанихи зашифрован… покойный император Николай Первый. …Александр Николаевич следил за карандашом Норд-стрема, опущенным на страницы рукописного экземпляра «Грозы». Цензор поднял глаза на писателя: — Знаете, господин Островский, пьеса ваша должна подействовать на публику чересчур возбуждающе. Ведь кое-где здесь можно прямо усмотреть… завуалированный призыв к возмущению (то есть к революции. — Р. Ш.). Роль Марфы Игнатьевны Кабановой… придется исключить. Я такую пьесу разрешить не могу-с! Выбросьте из нее Марфу — и… в таком виде ставьте вашу драму на доброе здоровье! — От такой операции, Иван Андреевич, вся пьеса рухнет и потеряет смысл, — доказывал чиновнику Островский. — Спектакль готов, публика его ждет с нетерпением. Пьеса читана во многих высокопоставленных домах, ни у кого не вызвала сомнений. Ее переделка или запрещение, сударь, возбудила бы в столичных кругах такое возмущение, какого отнюдь не приходится ждать от самого спектакля! В конце концов, сраженный этими доводами писателя, Иордстрем махнул рукой, проговорил: «Придется нам с вами, Александр Николаевич, вместе ответ держать за эту вещь!» — и… подписал разрешение к постановке ровно за неделю до премьеры! Риск был для театра велик! Тем радостнее чувствовал себя Островский после триумфальной премьеры в Малом! Но тем сильнее было и озлобление врагов Островского. Дрогнул даже большой мастер русской сцены — артист Щепкин, уже состарившийся на строго «благонравном» театральном репертуаре. Щепкин особенно негодовал по поводу сцены в овраге. По его словам, девушек-дочерей пускать на спектакль «Гроза» просто невозможно…
Злопыхателей напугал небывалый успех нового спектакля, и конечно, в образе Кабанихи они почувствовали главную опасность. Что же все-таки определяет ее личность? Во имя чего весь ее гнев? Во имя господства над другими людьми! Она тираническая натура, чувствующая, что ее всевластье под угрозой. Потому-то за любой протест — позор и смерть! Потеря власти — потеря всего, в чем она видит смысл своего существования. Без этого она останется посмешищем, жалкой ворчуньей! Притом реальная власть ее в масштабах города Калинова немалая! Ведь она правит не только большим домом и всеми членами семьи, но и оставшимся после мужа торговым делом. Автор не дает нам прямых свидетельств о ее денежных оборотах, по сама длительная командировка Тихона по коммерческим делам в Москву означает, что Кабанова ведет эти дела крупно. Островский предоставляет нам самим вообразить и покойного супруга, родителя Тихона. Вероятно, супруг этот чем-то схож с Савелом Диким — может быть, отсюда известное потакание слабости Дикого? А откровенное неуважение матери к сыну Тихону с его душевной и умственной неполноценностью говорит о том, что покойный Марфин муж был не таков! Верно, у него Марфа Кабанова смолоду училась властвовать! Но уже и сама она начинает опасаться, надежно ли держат ее руки кормило власти! Ведь у волевой и расчетливой Кабанихи есть и человеческие, женские слабости. Она ревнует сына к его молодой жене, она склонна даже завидовать Катерине: Тихон, мол, слишком балует супругу и недостаточно строг с ней. Вероятно, отец Тихона… не подавал сыну такого примера! Марфу Игнатьевну смолоду явно не баловали! Она пугается мысли, как бы младшая дочь Варвара не «заразилась» примером Тихона и будущий Варварин муж не упрекнул бы тещу в недостаточной строгости при воспитании дочери! Основа кабанихинской «педагогики» — страх! Пугать и держать в повиновении страхом — вот и вся ее философия. Однако Кабаниха еще и опытная ханжа, настоящий фарисей: ведь одним застращиванием ближних не выслужишь себе небесной благодати! Кабаниха, конечно, более суеверна, чем религиозна, но внешне «бла-алепие» соблюдено! В доме полно странниц, нищие оделены и молятся за благодетельницу, лампады возжены, иконы развешаны и расставлены во множестве, и с бульвара Марфа Игнатьевна отправляется прямехонько в свою домашнюю молельню. Притом не забывает строго напомнить молодым, чтобы они не вздумали опоздать с прогулки и не заставили ее, чего доброго, ждать! Ослушайся Тихон с Катериной и Варвара — трудно и вообразить, что бы их постигло! Ио с приходом в дом смиренной Катерины неожиданно для Кабанихи возникла некая глухая, скрытая опасность. Кабаниха чувствует ее инстинктивно. Почему? Ведь никакого непокорства та сначала не проявляет. Не думает участвовать в торговых делах, не пытается претендовать на главенство в доме. Видимо, она и в хозяйство домашнее почти не вмешивается. Кажется, власти Кабанихи ничто прямо не угрожает. Но, безотчетно чуя опасность, Кабаниха обращается с Катериной подчеркнуто грубо, пренебрежительно: «Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают…», «Да я об тебе и говорить не хотела, а так, к слову пришлось». Между тем ведь выбирала себе невестку, несомненно, сама Кабанова, хотя в пьесе прямых указаний на этот счет нет. Но само собой разумеется, что о супруге для безвольного Тихона позаботилась, когда времечко пришло, властная мамаша! Верно, и приданое взяла за Катериной немалое, не продешевила! Сама же этим приданым и распоряжается. Присмотрела она невесту Тихону из состоятельного, даже богатого дома. Ведь в девичестве Катерина вышивала «больше по бархату золотом» под пение странниц. На реплику Варвары: «Да ведь и у нас то же самое» — Катерина отвечает лишь: «Да здесь всё как будто из-под неволи», но ясно, что уровень благосостояния этих домов примерно одинаков. Взята Катерина, по-видимому, не из того же города Калинова, а привезена издалека, ибо у Катерины и мысли не зарождается искать спасения у родных. Либо матери-вдовы уже нет в живых, либо, что вернее, она живет далеко. Выход для Катерины, «коли очень здесь опостынет», один: «В окно выброшусь, в Волгу кинусь». Нет у Островского и прямых указаний на возраст Катерины, но немало примет косвенных: ее духовные порывы, мечтательные мысли, какими она делится с Варварой, «неземные» сны с полетами — а они, хоть и стали реже, еще случаются и под крышей Кабановых, — при знаки возраста очень молодого, 18—19-летнего. «Молоду тебя замуж-то отдали, погулять тебе в девках не пришлось: вот у тебя сердце-то и не уходилось еще», — замечает Варвара. «И — никогда не уходится, — отвечает Катерина, — такая уж я зародилась горячая». Кабаниху инстинктивно пугает эта способность Катерины к душевным взлетам, ее одаренность красотою не только внешней, но и внутренней, ее «горячесть», неутоленная в супружестве с Тихоном. Обе — свекровь и невестка — заранее чуют в будущем неизбежную беду, столкновение характеров: Катерина предчувствует близкую смерть, Марфа Кабанова сознает зреющий внутренний протест невестки и мало надеется на действенность приказа «чтобы почитала свекровь, как родную мать» при отъезде Тихона в Москву. А когда домашняя трагедия завершилась гибелью Катерины, побегом Варвары с Кудряшом и бессильным бун том Тихона: «Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы!» — Кабаниха, готова!: проклясть и память о вышедшей из повиновения, мертвой невестке, и даже собственного сына за попытку ослушаться («Мало она нам страму-то наделала, еще что затеяла!.. Прокляну, коли пойдешь!.. О ней и плакать-то грех!») — этими жестокими угрозами и поношением признается в крушении своей власти, в бессилии отстоять свое разрушенное «бла-алепие». Дочь убежала! Утопленнице-невестке выроют могилу где-нибудь на краю кладбища как самоубийце! Сын намерен пропить и «последний, какой есть» умишко. «Пусть маменька тогда со мною, как с дураком, и нянчится…» Что же остается Кабановой? Только путь в монастырь, в одинокую келью. Это финиш жизни, шахматный мат в собственной ее судьбе. И это явный приговор драматурга Островского всему темному царству кабаних и диких. Вместе с тем это и утверждение светлого, страдальческого образа Катерины, победы «луча света» над кромешной тьмой насилия и бесчеловечности. И приходится тут признать: у революционного критика Добролюбова и царского цензора Нордстрема совпали взгляды на «Грозу» как пьесу с «завуалированным призывом к возмущению». Только выразили они свои взгляды по-разному! Приговор «самодурству» был вынесен! И в этом бессмертная заслуга и Островского, и всех, кто вынес на плечах своих все трудности подготовки этого революционизирующего спектакля!
3
Первые сценические воплощения «Грозы» под руководством самого автора как в московском Малом, так и в петербургском Александрийском театрах в отношении техническом получились далеко не парадными спектаклями. Ведь дирекция скорее противилась постановке, чем содействовала ей. Александр Николаевич огорчался тем, что декорации в Малом пришлось использовать от старых постановок, костюмы придумывали сами артисты, да еще подчас из собственного гардероба, сцена плохо освещалась керосиновыми фонарями. От них делалось жарко у кулис, припахивало керосиновой гарью, которая смешивалась с запахом восковых и спермацетовых свечей в зале. Но все эти технические недостатки не повредили спектаклю. «Гроза» буквально прогремела в Москве, вызвала восторг демократического зрителя и резкий гнев реакционеров. Ученый мир России довольно быстро подтвердил высокие достоинства пьесы: 25 сентября 1860 года правление Российской академии наук присудило пьесе «Гроза» Большую Уваровскую премию. Учредил эту премию основатель Московского археологического общества граф А. С. Уваров для награждения самых выдающихся исторических и драматических произведений. Спектакль «Гроза» вошел в репертуар многих театров, но его сценическая судьба стала постепенноотдаляться от первоначальной авторской трактовки. Ставили пьесу уже после смерти Островского крупные режиссеры, в ролях бывали заняты выдающиеся артисты, и все-таки «Гроза» чем дальше, тем больше утрачивала именно свой идейный смысл. Как ни парадоксально, по и в советскую эпоху это положение, по оценке такого мастера сцены, как Борис Бабочкин, не изменилось к лучшему. Ио его мнению, с которым трудно не согласиться, режиссеры понимали и толковали пьесу иначе, чем задумал ее автор. Вот что писал Бабочкин накануне премьеры «Грозы» в его собственной постановке в октябре 1974 года: «Особенно не повезло лучшей драме Островского — «Гроза». Я бы сказал, что сложившиеся за 120 лет ее существования штампы так изуродовали пьесу, что нашему зрителю просто неизвестно ее содержание» («Литературная газета», 2 октября 1974 года). Чем же вызвана столь суровая оценка? Тем, что в последующих постановках вольно или невольно притуплялся общественный смысл пьесы. Недаром в 20-х годах нарком Луначарский призвал советский театр «Назад, к Островскому!», после того как в толковании и трактовке наших великих классиков, особенно Гоголя, Грибоедова и Островского, многие режиссеры и постановщики слишком далеко отошли от авторского замысла, придавая спектаклям иное, подчас уж очень субъективное сценическое решение. Катерина превращалась, например, в некую бескрылую, внежизненную мечтательницу, «бледно-протестующую» против извечных сил мирового зла и поэтому заранее обреченную на поражение. Ибо преступает она жестокие земные законы только ради того, чтобы познать дотоле неведомый, влекущий ее мир чувственного наслаждения, страсти. Но страсть запретна и извечно греховна! Устрашась греха, Катерина кается. Беспощадные ханжи не принимают ее раскаяния, не прощают ее. Катерина не в силах вынести их волчьей лютости в масках лицемерного благолепия. Блаженная смерть освобождает ее для полета в мир горний, за пределы косного земного бытия. Так поставил «Грозу» в Театре Комиссаржевской великий режиссер Всеволод Мейерхольд в годы первой мировой войны. Постановка была гениальной, но… далекой от российской действительности, которую так страстно осудил своей пьесой Островский. Те же идеи неотвратимой обреченности греху и роковому наказанию звучали, в спектакле МХАТа: Катерина — Тарасова выступала с трагической аффектацией чуть ли не с первых реплик, а Марфа Кабанова вообще утрачивала черты реальной злой старухи. Она медленно двигалась по сцене как сказочное или религиозно-мистическое воплощение зла. Это был образ уже почти нечеловеческий, существо нездешнее, с загробным голосом и пугающими интонациями. У режиссера А. Я. Таирова в Камерном театре «Гроза» превратилась в драму лирико-бытовую. Алиса Коонен, артистка огромного дарования и обаяния, в роли Катерины являла зрителям как бы символ гонимой вечной женственности, она рванулась было к миру страсти, но, поруганная злой мещанской средой, уходит от своих гонителей в лучший мир. Известный кинофильм «Гроза» с Катериной — Тарасовой выдвинул на первый план власть денег: персонажи положительные закабалены золотым тельцом, а отрицательные — изуродованы им нравственно. Образ Катерины вопреки Островскому стал подчеркнуто патетическим, реплики Катерины — плачущими, даже рыдающими. Постановщики фильма «Гроза» совсем забыли настойчивое напоминание Островского первым исполнительницам роли: «Поровнее бы!» Он имел в виду ровность, естественность тона актрис, решительно запрещал им «завывающие» интонации. Многочисленные «антиостровские» эксперименты над «Грозой» и побудили большого мастера русской сцены, народного артиста СССР Бориса Андреевича Бабочкина вернуть в наши дни драме Островского ее подлинную, авторскую трактовку… «Исходя из добролюбовского толкования «Грозы», — писал Бабочкин, — исходя из принципа воссоздания исторической конкретности того времени… исходя, наконец, из текста пьесы, мы должны установить главное: Островский показал в «Грозе»., не обреченность и гибель Катерины, а обреченность и близкую гибель Дикого и Кабанихи, близкую неизбежную гибель всего темного царства». Сам Бабочкин сыграл в спектакле «Гроза», поставленном в связи со 150-летием Малого театра, в 1974 году, роль Кулигина. И, думается, впервые эта роль была раскрыта полностью. Бабочкин превратил Кулигина из скучного резонера, каким его представляли все прежние исполнители, в ведущий образ спектакля, как бы воплотив в нем совесть человеческую. Если у прежних режиссеров и актеров Кулигин бывал жалок в сцене с Диким, то в исполнении Бабочкина он противостоял Дикому как равный и даже более сильный собеседник. Этому, конечно, помогли необыкновенное обаяние, огромная популярность и сила личности артиста. Бабочкин — Кулигин высоко поднял своего героя над уровнем калиновских обывателей. Автор почувствовал и дал понять зрителю, с какой любовью Островский относился к механику-самоучке. Ведь недаром же драматург выбрал для своего героя фамилию, почти созвучную имени знаменитого изобретателя Кулибина, гордости российской механики XVIII века! Кулигин совсем не наивный провинциальный мечтатель, для кого свет клином сошелся на идее «перпету-мобиль». Душа Кулигина такая же высокая и поэтическая, как у героини! Он остро чувствует и красоту берегов Волги, и могучую благодатную силу грозы над Волгой. «А «перпету-мобиль» для него не самоцель — он хочет своим согражданам умной, творческой жизни. Ведь, мол, англичане обещают миллион премии: «Я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего». Благородной цели — решить проблему занятости для своих сограждан — и надеется достичь Кулигин. А прежние исполнители изображали его морализирующим чудаком, антиком и «химиком», то есть так, как понимали Кулигина ограниченные калиновские обыватели. Один Борис, человек образованный, окончивший Коммерческую академию в Москве (она помещалась некогда на Покровском бульваре), сознает душевную высоту Кулигина, понимает, «как жаль его разочаровывать». Ведь теоретического образования у Кулигина нет, он не подкован ни в химии, ни в физике и не знает научного доказательства невозможности «вечного двигателя»… Народный артист Бабочкин, игравший Кулигина, не раз говорил, что готовился поставить «Грозу» в течение нескольких десятилетий, а «выстрелил» ее разом, за три предъюбилейных месяца, когда нашел подходящих исполнителей, способных сыграть «Грозу» как пьесу для молодежи и о молодежи. Как некогда постановщик Александр Островский остановил свой выбор на Никулиной-Косицкой, так постановщик Борис Бабочкин приметил талант молодой выпускницы Щепкинского училища Людмилы Щербининой. Телевизионный вариант спектакля был, к несчастью, снят уже после смерти Бабочкина, и в цветном телефильме «Гроза» роль Кулигина сыграл другой исполнитель, А. Смирнов, старавшийся, насколько мог, сохранить образ, созданный Бабочкиным. Эффект был тот же, как, если бы бабочкинского Чапаева сыграл дублер… Сценическое мастерство и обаяние Бориса Андреевича, разумеется, неповторимы и незаменимы. Тем не менее этот телефильм по спектаклю Бабочкина смог вернуть «Грозу» именно к первоисточнику, к Островскому! Катерина — Л. Щербинина стала самой естественной, неподдельной Катериной за полвека на русской сцене. То, чему Островский так терпеливо и настойчиво, может быть, впервые для русских актеров, учил их, сам находясь за кулисами, передала артистка Щербинина, получившая за исполнение этой роли звание заслуженной. Ее Катерина — простая, очень молоденькая русская красавица, еще опутанная предрассудками своей среды, по одаренная талантом любить, радоваться, сильно чувствовать. В игре Катерины — Щербининой нет позы, фальши. Она живая и непритворная. Известно, как трудны для исполнителя любовные сцены. Один неверный шаг, фальшивая нота — и зритель почувствует игру, ложь, «не поверит», как говорил Станиславский. Щербинина на протяжении всей трудной роли такой ошибки не сделала — она везде верна образу Островского. Мизансцена с ключом от калитки, когда в сердечном волнении Катерина начинает напевать, еще вся в сомнениях и колебаниях, пожалуй, самая счастливая находка артистки. Такие находки обогащают, уточняют драматургический замысел. В бабочкинской постановке драма «Гроза» стала спектаклем до удивления современным. Ибо Бабочкин-режиссер «пошел на «Грозу» с подлинно свойственным ему и в жизни, и в искусстве чапаевским глазомером и непримиримостью к пережиткам темного царства.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ДО И ПОСЛЕ «АЛЕКСАНДРОВА ДНЯ»
Существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожи даться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу.Москвичи старшего поколения еще помнят последние годы перед первой мировой войной, когда старый граф Шереметев, тогдашний владелец Останкина, сам показывал желающим художественные коллекции своего дворца. Под конец он обычно приводил посетителей в круглый кабинет с ионической колоннадой по стенам и кессонированным куполом вместо потолка. В центре этого по коя находился письменный стол с придвинутым к нему кожаным креслом. — Вот в этом кабинете, — говорил граф Шереметев (а после него повторяли в 20–30 х годах и советские экскурсоводы), — за этим столом и вот этим гусиным пером государь Александр Второй подписал проект Манифеста и «Положение о крестьянах». А здесь, в этом шкафу, хранится первый выпуск Манифеста, напечатанный в Петербурге… Заметьте, мои уважаемые гости, — заканчивал повествование хозяин дома, — с того дня, 19 февраля 1861 года в России стало на 22 миллиона граждан больше. Треть населения тогдашней России впервые ощутила себя людьми, а не чьей-то собственностью. В 1861 году в империи было что-то около 67 миллионов, а к концу столетия — 125 миллионов человек. Преуменьшать значение этого события никак не следует! …Впоследствии, листая нарядные белые книги шеститомного издания «Великой Реформы», вышедшего в 1911 году, к 50-летию события, приходилось убеждаться даже на страницах этого парадного издания, какое сопротивление реакционеров встречали деятели комитетов по крестьянскому вопросу, в каком тревожном ожидании жила страна. Огласить царскую волю решено было для начала только в Петербурге и Москве, в день 5 марта 1861 года…Речь Александра Второго 30 марта 1856 года перед московским дворянством
1
В то прощеное воскресенье 5 марта — последний день масленой 1861 года — в Москве слегка подувал теплый ветер, отрадный после долгой январской стужи и февральских ледяных метелей. Ртутный столбик на градуснике Реомюра стоял всего двумя делениями ниже нулевой черты. Но даже и столь отрадные перемены погоды теперь тяжелее отзывались на самочувствии Александра Николаевича, хоть и находился он в лучшем мужском возрасте, в самом соку, как выражались свахи, — было ему 38. лет. Помучивала нога — давали себя знать калязинский перелом и последовавшая затем в Москве долгая болезненная хирургическая операция. Какая-то затрудненность дыхания, тяжесть в груди чем дальше, тем определеннее ощущалась, особенно после мускульных напряжений и быстрой ходьбы. Да и «вечный двигатель» в левой стороне груди, постоянно подстегиваемый курением, то давал перебои, то как-то замирал настороженно, а потом, как отпущенная пружина, сорванная с упора, быстро-быстро колотился в своей клетке. На рассвете, пока Ганя и ее младшая, но уже вдовая сестра Наталья впотьмах тихонько собирались к заутрене, заботясь, как бы не поднять шуму и не разбудить детишек, оставляемых на попечении кормилицы, да не потревожить и хозяина в постели, сам Александр Николаевич еще силился сберечь спасительную, тоненькую, как ряска над прудовой водой, пленочку сна, чтобы сесть к рабочему столу с освеженной головой. И, несмотря на все его усилия ни на что не откликаться, уловил он сквозь двойные оконные рамы и полудремоту отзвук раннего колокольного благовеста. Звонили, похоже, во всех московских «сорока сороках», притом по самому торжественному, праздничному чину. Чуткое ухо легко угадывало в этом гуле голос большого кремлевского глашатая с открытой звонницы, что рядом с Иваном Великим. Островский догадывался о причине праздничного благовеста. Причина эта волновала, и радовала, и тревожила его, как любого россиянина, верного вековечной мечте о широком народовластии, о полноте гражданских прав и свобод для каждого русского человека, богатого или бедного… В доме после ухода женщин и сына Алеши установилась полная тишина. И только густое, как мед, музыкальное гудение проникало будто сквозь толщу стен спальной и баюкало сладостно. Неожиданно для самого себя он крепко, без сновидений, уснул и пробудился чуть не в десятом часу. Подивился, что Агафья Ивановна все еще не воротилась от Николы с поздней обедни, поспев к началу утрени… Нынче вопреки обыкновению он и сам было собирался в Никольский храм вместе с нею, да помешал приступ болей и легкая простуда. А причина пойти и послушать батюшку была нынче чрезвычайная! Агафья Ивановна еще накануне, субботним вечером проведала от попадьи, что утром после литургии батюшка будет читать с амвона царский манифест о воле для крестьян. После чтения, мол, будет отслужен еще молебен с коленопреклонением, под благовест о здравии государя императора Александра Николаевича… Чтобы Ганя смогла получше усвоить это чтение, Островский послал с нею в церковь старшего своего отпрыска Алексея, тринадцатилетнего ученика 2-й московской гимназии. Записан он был в гимназии под фамилией Александров, как родившийся на Руси вне брака, то есть без права на отцовскую фамилию… …Толки о мужицкой воле давно шли открыто. Народ ждал ее нетерпеливо, надеялся на лучшую долю, и никто еще но ведал, что манифест почти месяц как подписан, в 19-й день февраля, и сулит мужикам покамест немногое. Волновались по всем губерниям. Ждали дворовые люди; ждали те, кому грозила рекрутчина; ждали чиновники и судейские ярыжки, чаявшие неслыханных возможностей половить рыбку в мутной воде! Но еще никто в глаза не видал долгожданный документ! Не поступал он ни в редакции московских газет и журналов, ни в суды, ни в полицейские участки… до самого 5 марта! Консистория разослала печатный текст по церковным приходам накануне вечером и ночью. Утром особые нарочные доставили выпуски манифеста в участки. Квартальные должны были принести эту бумагу в те дома, где имелось много крепостной прислуги. В скромный домик в Николо-Воробинском пока никто не заглядывал… А колокола все звонили! Трезвон этот будто приглашал подойти к окну, открыть форточки и впустить в покои, пропитанные табачным духом, вместе с первым веянием недалекой весны и щемящую сердце голосистую колокольную медь. Александр Николаевич, уже облаченный в любимый домашний халат, отстроченный беличьим мехом, приподнял занавеску. Он занимал с Ганей и детьми второй этаж, а вернее сказать — мезонин дома. Нижний этаж Агафья Ивановна сдавала жильцам — это было подспорьем к слабоватым заработкам мужа. И ведь подумать только! На протяжении двух последних месяцев в обеих столицах, на Неве и Москве-реке, снова чуть не каждый день гремят овации в честь писателя Островского: два императорских театра, Малый и Александринский, впервые осуществили постановку знаменитой, уже в рукописи прославленной комедии «Свои люди — сочтемся», наконец-то дозволенной цензорами, хотя и в искаженном виде. В иные дни спектакль идет сейчас и в утренние и в вечерние часы при переполненных залах. Лучшие критики оценили эту вещь наравне с «Ревизором» и «Горем от ума», а денежные дела драматурга не улучшались, ему постоянно грозила нужда, так несправедливы и жестоки были правила оплаты произведений авторов-драматургов. Например, за спектакли, шедшие в бенефис артистов, драматургу вообще никакой платы не полагалось… Впрочем, нынче эти тревоги как-то отошли на задний план, стушевались перед значительностью наступающих событий. Вид из верхнего окна, особенно в будние дни, а более всего — по субботам, был незатейлив, но частенько привлекал внимание хозяина, дома и его гостей, вызывая крепкие шутки и мужские остроты. Потому что за обширным, сейчас заснеженным пустырем, тянувшимся от окон дома до берега Яузы, виднелись приземистые строения и кирпичная труба Серебряных бань, весьма известных во всей округе. Сейчас двери бань были на замке, но в обычные дни эти двери то и дело распахивались, выпуская облака пара, из которых выныривали обнаженные фигуры купальщиков. Выскочив на холодный воздух, они с разбегу кидались в сугробы. И, хорошенько вывалявшись в снегу, с рычанием бежали снова в парную нахлестывать остуженное тело распаренными березовыми вениками. Кстати, и сам Александр Николаевич в молодые годы тоже не брезговал такой банной закалкой! От природы ему досталось завидное здоровье, и подрывалось оно лишь непосильным трудом, нервным перенапряжением и подчас неумеренным курением, без чего ему никак не работалось. С дешевым банным соседствовало на яузском берегу еще одно «народное» заведение — питейное. По российскому обычаю после жаркой бани полагалось для «укрепу здоровия» пропустить и чарочку. Судя по тому, что от банных дверей к дверям кабака протоптала и разметена прямая и отнюдь не узкая тропа, мало кто из помывшихся пренебрегал обычаем. В нынешний воскресный день оба заведения безмолвствовали, зато недреманно бодрствовали охранители порядка. Островский увидел конный полицейский разъезд, который на рысях проследовал в сторону деревянного Высокого моста над Яузой-рекой, близ красивой найденовской — прежде гагаринской — усадьбы. Как рассказывала потом мужу Агафья Ивановна, с самого рассвета наряды пешей полиции тоже патрулировали бульвары, улицы, площади. Москва встречала «Александров день» хоть и под колокольный звон, но в настроении тревожном. В народе не ощущалось праздничного веселья и благодушия. Впрочем, все это Островский узнал уже попозже, а пока он поискал на столе среди рукописей и книг сложенный вчетверо номер «Московских Ведомостей». Газету он получал прямо из редакции. В последнем номере все выглядело буднично — датирован он был 3 марта, вышел в пятницу, на масленой. Правительственные распоряжения, заграничные телеграммы — обычные, рядовые. Тревожные намеки о положении в бунтующей, неспокойной Варшаве… Масленичные гуляния… Маскарад в Большом театре… Следующий номер редакция обещала лишь 7 марта, во вторник. Потому что в субботу и воскресенье редакция и типография отдыхали. О манифесте в газете ни намека! Стукнула калитка в воротах: из церкви воротилась младшая сестра Гани, Наташа. Она жила по соседству, но большую часть дня проводила в обществе сестры, в доме Островского. Помогала старшей сестре управляться с ребятишками и хозяйством. Агафья смолоду не блистала здоровьем, детство у нее было трудным, а юность — тяжелой, И дети росли хилыми, болели, и уже случались в доме маленькие гробы, и материнские слезы, и тягостное молчание, и тишина, и вынесенная на чердак колыбелька, чтобы видом своим не надрывала сердец… Ганя и Александр Николаевич уговаривали Наташу совсем переселиться к ним, а та но скромности опасалась их стеснить, пока нижний этаж занимали жильцы, а наверху и без нее было не слишком просторно, в трех-то комнатах… Через два года жильцам отказали, и Наталья Ивановна переселилась к Островским. Покамест же она разогревала самовар вчерашними углями из печи, собирала на стол завтрак — калачи, масло коровье, крупно нарезанная ветчина. Всё — последние перед постом скоромные угощения. Днем обещаны были блины. Пора бы и тесто для них ставить, но хозяйка с сыном остались в храме дослушать чтение и отстоять молебствие. Наталья Ивановна, хотя и грамотная, как старшая сестра, поняла из услышанного немного. — Что в народе толкуют? — допытывался писатель. — Как встречают прочитанное? Много ли народу в храме? — Народу, будто на пасху, полон храм, и на паперти у дверей стоят. А толкуют разное. Рядом со мною старик один приезжий чтение слушал, ладошку к уху прикладывал, старался слова не упустить. Говорил мне, что сюда, в Москву, барину своему оброк привозил. Старик прочитанным как будто не очень доволен остался. Вслух так говорил потом: «Два, мол, годка, значит, мы еще барину во всем подвластны, а тогда и настанет настоящая воля? Велика ли радость? Эдак и околеть можно до той поры!» — Ну, вот и наши! Наконец-то! Ганя и Алеша вернулись не одни: заглянул во двор и квартальный надзиратель Яузской части. Тот самый полицейский чин, что еще несколько лет назад по приказу свыше денно и нощно следил вместе с жандармским унтером за поведением поднадзорного драматурга, регулярно доносил начальству обо всех поступках и личных знакомствах Островского. Как сам квартальный не раз заверял писателя, донесения были неизменно положительные! Когда надзор был снят, квартальный явился «проздравить его благородие»… Сейчас он пожаловал, можно сказать, с услугой: доставил Александру Островскому печатный экземпляр Манифеста и брошюру «Положение о крестьянах». Совершив этот акт патриотизма и добрососедства, квартальный задержался в прихожей у лестницы как бы в скромном ожидании. Серебряный рубль, переданный блюстителю порядка через Агафью Ивановну, удовлетворил чаяния полицейского патриота, и калитка за ним снова стукнула. Александр Николаевич стал было читать документ вслух, но смолк и…вернулся к калачу с маслом: ведь домочадцы уже прослушали этот тяжелый, высокопарный текст, отпечатанный теперь в типографии правительствующего сената. Островский про себя быстро дочитал все восемь страничек Манифеста: «Божиею милостью, Мы, Александр Вторый, император и самодержец всероссийский… Призвав Бога в помощь… В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей… Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость… До истечения сего срока, крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении помещикам… Помещикам сохранять наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и расправы…» Касалось ли все это, хотя бы в малой степени, лично самого драматурга или его близких? Была ли у самого Островского недвижимая собственность, а тем более собственность крещеная, как назвал ее Александр Герцен?2
Свои личные бумаги Александр Островский держал в большом кожаном портфеле со старинной застежкой. Портфель всегда лежал в кабинете под рукой, поблизости от письменного стола, чтобы даже впотьмах можно было его нащупать и вынести на случай, не дай бог, чьего-нибудь недосмотра с дымоходом или лампой в обветшавшем деревянном флигеле. Среди документов, хранящихся в портфеле, были упоминания и об отцовских имущественных делах. Вот что значилось, например, в аттестате, врученном б февраля 1851 года при увольнении иг Коммерческого суда губернского секретаря Александра Николаевича Островского: «…он, как из формулярного о службе его списка вид-по: из дворян, продолжал науки в Императорском Московском Университете по юридическому факультету, но не кончив курса но прошению его из ведомства Университета уволен, с выданным ему свидетельством 22 мая 1843 года, в службу вступил в Московский совестный суд канцелярским служителем того же 1843 года сентября 19, перемещен по прошению его в Московский коммерческий суд 1845-го декабря 10… из сего Суда по прошению его за болезнью уволен 10 января сего года… от роду ему 27 лет, холост, у родителя его в Москве дом, крестьян в Нижегородской губернии 142 души и в Костромской 152 души…» (подчеркнуто Р. Ш.). …Покойного отца Островский вспоминал с уважением и любовью. В каждый свой приезд в Щелыково шел к его могиле у церкви Николы на погосте в Бережках, долго сидел там в размышлениях, иногда вместе с мачехой, Эмилией Андреевной, нынешней владелицей имения. «Маменька», как величал ее по старой памяти Александр Николаевич, отводила ему верхние покои, где писателю и теперь так легко дышалось. Почти каждое лето проводил он в Щелыкове, удил рыбу за мельницей, расспрашивал крестьян, знакомился с соседями-помещиками. Щелыковские впечатления дали ему материал для пьесы «Воспитанница», уже напечатанной в дружининской «Библиотеке для чтения» в позапрошлом, 1859 году… Живая связь с отцом, принесшая сыну так много драматургических сюжетов, ослабла с переездом Николая Федоровича на постоянное жительство из Москвы в Щелыково в 1849 году. Сразу после отъезда родителя и мачехи Александр взял в дом Агафью Ивановну. Отец, лишив сына материальной поддержки, продал большой белый дом в Николо-Воробинском переулке, где прошла юность драматурга, и оставил сыну бедный флигелек о пяти окнах на улицу и с теплым мезонином… Александр никогда не винил родителя за резкую прямоту и за охлаждение к нему. Причина разочарования была не в одной Гане! Ведь до расцвета сыновней славы отец не дожил. Сердили его частые трактирные пирушки сына в компании молодых литераторов и знакомых купеческих сынков, с пением крестьянских и цыганских песен под гитарный перебор и при обильном винопитии… Доходили до отца и глухие толки, и даже печатные статейки о неблаговидном соавторстве сына с каким-то забулдыгой. Сильно встревожило установление жандармского надзора над сыном. И все это естественным образом переплеталось в представлении отца с мыслью о сожительнице сына. Воображению Николая Федоровича, верно, рисовался образ малограмотной, настырной бабы. Эта связь казалась ему чересчур обременительной для дворянской репутации! А сын был слишком самолюбив, чтобы доказывать отцу достоинства и преимущества скромной, любящей Агафьи Ивановны. Отца прямо-таки сокрушало, что из-за нее, из-за этой белошвейки, сын пренебрегает обществом таких милых, умных и образованных барышень, как, скажем, сестры Новосильцевы, родственницы московского вице-губернатора, принадлежащие к цвету московского дворянства и проявлявшие немалый интерес к Александру! Да мало ли красивых, родовитых, образованных и богатых барышень встречал Александр в литературном салопе графини Ростопчиной, где он с успехом читал свои первые сочинения! Мог ли он там не то что показать свою избранницу, а даже вслух упомянуть о ней, о серенькой коломенской мещанке? Сын понимал эти чувства отца, его заботы и недоумения, но… поступал по-своему! В сущности, он поступал так же, как и юный Николай Федорович по отношению к своим родителям. Самого Николая Федоровича жизнь сызмальства не слишком баловала. Свое прочное имущественное и семейное положение он создал самостоятельно. Сын костромского священника, семинарист, отданный отцом в Московскую духовную академию… вот на какие житейские рельсы поставили Николая Федоровича Островского его отец с матерью. А Николая духовная карьера никак не радовала! Академию он окончил блестяще, получил диплом кандидата богословских наук. Но не захотел принять духовный сан и не убоялся первых трудностей на неведомом пути «по штатской части». Пошел канцелярским служителем в департамент сената, самостоятельно изучил право, получил к 30 годам немаловажную должность секретаря Московской палаты гражданского суда и повел в судах крупные дела московских купцов в качестве их адвоката. Эта адвокатская практика сделала Николая Федоровича состоятельным, обеспеченным человеком, а сыну Александру она послужила для создания таких образов, как Досужев в «Тяжелых днях» или Погуляев в «Пучине». Заметим мимоходом, что некоторые черты образа Беркутова в «Волках и овцах» тоже, возможно, навеяны деловой хваткой отца. Ведь и он покупал в Москве дома, а в провинции — земли с крестьянами. Под конец жизни он стал помещиком, оставил службу и занимался лишь попутно адвокатской практикой. Ради упрочения своего положения в деловом мире и в московской дворянской среде он в расцвете своей служебной карьеры добился дворянского звания. Это ставило уже особые требования ко всему образу жизни, меж тем светского лоска и опыта у бывшего костромского семинариста и канцелярского служителя быть не могло. Матерью Александра Николаевича была Любовь Ивановна Саввина. Супруги жили тогда в Замоскворечье, в скромном домике на Малой Ордынке, где в 1823 году родился у них сын Александр. Любовь Ивановна происходила тоже из среды духовной, притом самой низовой: была дочерью псаломщика и церковной просвирни, то есть прислужницы, чьей обязанностью была выпечка просфор. Русские писатели помнили совет Пушкина — почаще прислушиваться к языку московских просвирен. Поэт находил, что именно в среде этих женщин звучит самый чистый и правильный русский язык. Играя ребенком на церковном дворе, будущий драматург Островский усваивал московскую речь. Александр рано осиротел — на девятом году жизни потерял мать. Вскоре умерла и бабушка — первая воспитательница мальчика. Два младших брата, Михаил и Сергей, а с ними и сестра Наташа, Сашина погодка, остались на руках опечаленного отца. Но долго вдовствовать отцу было невозможно! Слишком занят он был делами служебными и адвокатскими, да и личные деловые хлопоты отнимали немало времени!.. Второй его женой стала в 1836 году 24-летняя знатная барышня из обрусевшей шведской аристократической семьи фон Тессинг… Отец Эмилии, барон Андрей фон Тессинг (или Тессин), владел, в частности, крупным городским земельным участком вдоль реки Яузы, как раз рядом с Серебрянической набережной и Николо-Воробинским переулком. Дом Николая Федоровича, где поселилась семья с новой хозяйкой, примыкал к владению тестя, и даже переулок, куда одним боком выходил этот дом Островских, получил позднее название Тессинского. Это название сохранилось и в Москве советской… Отец взял за женой солидное приданое, а сама Эмилия Андреевна немало потрудилась над светским воспитанием детей-иолусирот. Впоследствии, когда у супругов родились сыновья Андрей, Николай и Петр, мачеха старалась воспитывать их так, чтобы Саша, Миша, Сережа и Наташа не чувствовали себя пасынками, обделенными судьбой: для всех детей стали приглашать учителей иностранных языков, музыки и танцев. Эмилия Андреевна свободно владела тремя языками и была терпеливым педагогом. Юный Александр рано обнаружил большие музыкальные способности, выучил с Эмилией Андреевной нотную грамоту (это ему впоследствии очень пригодилось в работе с композиторами!), хорошо пел и в ранней молодости выступал как исполнитель романсов и песен. С братом Михаилом Александр Островский был очень дружен, несмотря на разницу характеров. По возрасту Михаил был на четыре года моложе Александра и делал большую государственную карьеру. Оба брата уже начинали задумываться о том, чтобы выкупить у мачехи родное для них Щелыково в полную свою собственность… Александр Николаевич всегда думал об этом заветном для него уголке с грустью и сердечной тревогой: как-то там обстоят дела? Ведь как хрупко и бренно это отцовское владение, этот хорошо срубленный двухэтажный дом с деревянными колоннами под общим фасадом и скромными внутренними покоями, напоенными сосновым духом! Покойный отец не любил рассказывать сыновьям предысторию этого гнезда. Прежний владелец, помещик Сипягин, промотал наследственное имение (как естественно эти рассказы отца впоследствии перешли в комедию «Не сошлись характерами», где поместье, подобное Щелыкову, бездумно и легкомысленно проматывают барственные владельцы — стареющая госпожа Прежнева и ее сынок Поль!). Сипягин, заложив и перезаложив поместье в Московском опекунском совете, проел наконец и «закладные» денежки без остатка, безнадежно задолжал опекунскому совету, и тот по истечении всех льготных сроков пустил имение, что называется, с «молотка»… Условия показались Николаю Федоровичу Островскому, уже надворному советнику, весьма выгодными, а само имение, хоть и в запущенном состоянии, чрезвычайно привлекательным. В 1847 году он, как тогда выражались, «оформил купчую крепость» во Втором департаменте Московской гражданской палаты, и в 1848 году, но весне, 25-летний Александр Островский в обществе папеньки, маменьки и меньших братьев совершил свою первую поездку в Щелыково. Сохранился его лирический дневник об этой дороге, впоследствии вошедшей в «Золотое кольцо» для туристов по России, мимо Сергиева Посада (ныне — Загорск), Переславля-Залесского, Ростова Великого, Ярославля и Костромы… Как слышно теперь, в ожидании реформы заранее волнуются крестьяне соседних больших поместий в Кинешемском уезде. В огромном барском имении фон Менгдена ждут настоящих бунтов — народ там только и надеется поскорее высвободиться из-под ненавистной власти немца-управляющего. Там неизбежны кровавьте бунты, может быть, со свирепым подавлением недовольства. Ну а что до хозяйств мелких, дело в них и вовсе должно пойти вкривь и вкось! Подтверждение тому — слова Наташиного собеседника в церкви, старого крестьянина-оброчного. Какие силы заставят мужиков терпеть палку управляющего еще целых два года? Как потребовать с них выкупные платежи за землю? Если фон Менгдену придут на помощь генеральские и губернаторские вооруженные солдаты, силы усмирителей и карателей, то на что надеяться, скажем, Эмилии Андреевне в ее Щелыкове? Ради «маменьки» губернатор утруждать войска не станет, и принудить мужиков к повиновению таким помещицам… нечем!.. …Лет через двадцать после «Великой реформы» (как ее называли буржуазные историки) замечательный российский сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин опубликует свой цикл автобиографических повестей о кануне реформы и ее первых последствиях. Этот цикл он назовет «Пошехонская старина». Спокойные, неторопливые, совсем не острогротескные новеллы, где проходит перед читателем целая галерея помещиков, не сумевших освоиться с новыми, пореформенными условиями и разорившихся. Как правило, быстрее других разорялись и гибли именно помещики жестокие, крепостники-барщинники, не приспособленные к тому, чтобы видеть в серой скотинке людей, получивших свободу и требующих теперь «настоящие деньги» за труд на барской ниве! Да и сам-то драматург… Нешто он опытный сельский хозяин? Он поят и мечтатель, самый трудолюбивый и усидчивый мастер среди тружеников российского художественного слова, и для него отцовское Щелыкове всего лишь «обитель дальняя трудов и чистых пег», а не источник доходов с крестьян! Доход с крестьян… Сейчас «маменька» лишится этого дохода с обитателей деревень, приписанных к имению… А сам Александр Николаевич? Он-то ведь тоже числится в землевладельцах… Хотя никогда не принимал во внимание в своем бюджете этот источник дохода! Дело в том, что отец оставил в наследство двум сыновьям, Александру и Сергею, небольшой клочок «барской» земли и крепостное сельцо Богоявление. Убогое это поместье находится на севере той же Костромской губернии, в Солигаличском уезде… Вот где поживился бы гоголевский Чичиков, отправься он туда на охоту за мертвыми душами! Александр Николаевич прервал свои воспоминания и размышления, отложил тетрадку с манифестом, потянулся за портфелем с документами и извлек оттуда тоненькую пачку, относящуюся к его личным помещичьим заботам. Заглядывать в эти бумаги он не любил, мыслей о них просто избегал… Брат Сергей, очень больной человек (болезнь эта свела его вскоре в могилу), по уговору между братьями занимался этим владением более внимательно, чем Александр… Перебрав несколько листков, Островский вынул и положил на стол последний документ из этой пачки, донесение деревенского старосты Потапа Павлова. Вот что писал тот своим господам: «Его высокоблагородию Милостивому Государю Александру Николаевичу от верно поданого вашего кристиянина Потапа Павлова. Желаю я вам, батюшка, на многая лета здравствовать. Я осмеливаюсь вашей милости доложить: посылаю я вашей милости с Матреной Матвеевной копию и квитанцию. Извините нас, батюшка, что мы продолжительное время не посылали, потому что было много нездоровых, которые померли, и всех выключили. Еще осмеливаюсь доложить: Андриан Леонтив хотел в Москву, да теперя нездоров, оброк вашей милости пошлет непременно. Затем прощайте, батюшка. Желаем вам на многая лета здравствовать. 1858-го года мая 28 дня». К листку был прикреплен и конверт с адресом: «Его высокоблагородию Милостивому Государю Александру Николаевичу Островскому. Из села Богоявления». Хозяин кабинета только головой покачал и вздохнул: острой жалостью наполнило это послание сердце «его высокоблагородия». Ни сам он, ни больной брат Сергей Николаевич, служивший старшим ревизором в Контрольной палате на Украине, вдали от наследственной земли, никогда всерьез не принимали во внимание дохода с этих обнищавших, затерянных в костромских лесах деревенских «оброчных душ»… Кто разбежался, кто занемог, кто уже давно попал на погост. Отец некогда случайно, по дешевке приобрел это выморочное владение, тоже мало им интересовался и «для очистки совести» оставил его двоим сыновьям, по его суждению, незадачливым. А что будет со Щелыковом? С тревогой он представил себе, какой ущерб всей его творческой деятельности нанесла бы разлука с этим лучшим из отцовских владений. Освободить бы «маменьку» от щелыковских забот и принять их с Мишей на свои плечи! Только небось «маменька» недешево уступит свои права, а больших денежных сумм нет ни у Михаила Островского — чиновника, ни у Александра Островского — драматурга! Поэтому будущее Щелыкова туманное. Однако не пора ли от размышлений частных, личных на время отвлечься! И перейти к более широким, гражданским мыслям, ибо день-то нынче, как ни говори, все-таки поистине исторический!3
Несколько дней минуло — и Александр Николаевич простуду свою одолел! Пришло приглашение в гости к другу, артисту Малого императорского Прову Михайловичу Садовскому. Он собирал участников спектакля «Свои люди — сочтемся», в котором сам недавно, в день своего бенефиса, 31 января, с блеском исполнил роль Подхалюзина, а еще три дня спустя, 3 февраля, спектакль прошел в том же составе артистов в бенефис Косицкой-Никулиной. Любовь Павловна не смогла выбрать для себя роли в этой пьесе (хотя некоторые современники утверждали потом, будто она дублировала Липочку — основной исполнительницей была Бороздина), но весь вечерний сбор шел в пользу Любови Павловны, Сама бенефициантка решила сыграть в тот вечер трагическую роль Гризельды в романтической драме Ф. Гальма «Гризельда»: два действия этой драмы, особенно правившиеся публике, были поставлены в начале вечера, перед «Свои люди — сочтемся»… …Александр Николаевич тщательно оделся, выбрал темно-коричневый с искрой пиджак, белый жилет и пестрые, по моде, брюки, отглаженные будто по линеечке. Наполнил портсигар самокручеными папиросами из керченского табака. Заглянул в комнату Агафьи Ивановны. Искусственно бодрым, веселым и будто бы вполне непринужденным топом сказал: — Не скучай, Ганя! У нас встреча нынче деловая, очень нужная. Я, верно, не поздно ворочусь… Уловил ее беглый, пытливый взгляд, таивший и вопрос, и надежду, и невысказанную, неизбывную тоску. Побыстрее захлопнул дверь, сбежал вниз по скрипуче]! лестнице, ведущей в сенцы, и с облегчением вдохнул свежий мартовский воздух, уже отзывающий весной. Пошла первая неделя поста.
Он уселся в присланные за пим легкие сапки в одну лошадь, с маститым кучером Садовских на передке. Запахнул широкую медвежью полость, укрыл горло теплой шалью поплотнее и бульваром помчал до Покровки. Липки на бульваре за полвека поднялись уже довольно высоко, с тех пор как екатерининские садовники посадили их здесь, на месте снесенной по приказу императрицы кирпичной стены Белого города. Площади на перекрестках все еще хранили названия ворот в память о бывшей стене. У Покровских ворот сани свернули влево, миновали великолепную красно-белую церковь Успенья, затем узкую, бегущую вниз Маросейку и вдоль Китайгородской стены понеслись еще ниже, к Театральной площади. Мелькнула знакомая колоннада Большого театра с квадригой бога искусств Аполлона. Память перенесла от площади московской на петербургскую, Александрийскую. Сюда всего каких-то полтора месяца назад, вечером 16 января, съехались сотни карет, извозчичьих сапок, частных экипажей. Театральный фасад освещали дополнительные фонари. Шли последние приготовления к премьере спектакля «Свои люди — сочтемся». Автор пьесы, бледный, в черном фраке и твердо накрахмаленной сорочке, давал за кулисами последние успокоительные советы бенефициантке Юлии Линской, хотя сам был взволнован едва ли не больше ее, то и дело утирал вспотевший лоб и оглаживал бородку, лишь недавно отпущенную. В последнюю минуту ему шепнули, что в театр прибыл государь Александр Второй и члены императорской семьи уже занимают места в царской ложе… Капельдинеры гасили свечи в ложах, а большая люстра пошла в свой потолочный люк, когда Островский через смотровой глазок успел бросить последний взгляд в зрительный зал. Это был всего лишь миг, но в глазах у него зарябило от блеска орденских звезд, золота эполет, сверкания драгоценных камней, фероньерок, ожерелий, лорнетов… А позади этих первых рядов кресел и лож, занятых придворной знатью, смутно различалось волнующееся море тех человеческих лиц, кому оп, драматург Островский, более всего желал служить своим искусством… Целый мир блестящих, полных напряженного ожидания глаз… Эти глаза по мере развития действия не тускнели, не утрачивали интереса к происходящему на сцепе. Наоборот! Ощущение успеха, общей радости росло! В первом же антракте из партера, амфитеатра, и особенно из райка стали раздаваться приветственные выкрики, властно требовавшие «автора на сцену!». Важный Андрей Иванович Сабуров, три года назад сменивший Гедеонова на посту директора императорских театров, уже нервничал: не вздумалбы автор и в самом деле явиться публике перед занавесом вместе с исполнителями! Сабуров велел вызвать драматурга из-за кулис в директорскую ложу и с беспокойством наблюдал, как взволнованный, побледневший Островский растроганно раскланивается в ответ на усиливающуюся овацию… Когда занавес опустился в последний раз, гром рукоплесканий, крики «автора! автора!» заглушили даже голоса поклонников бенефициантки Линской! Сама она аплодировала драматургу, устремляя взор на ложу дирекции. Как потом рассказывали, к утешению Сабурова, Александр Второй, всегда предпочитавший легкий французский водевильный репертуар, на этот раз тоже одобрительно похлопал актрисам, исполнительницам пьесы русского автора. Островский, усталый, счастливый и обнадеженный, сразу после премьеры уехал домой. И здесь он до изнеможения работал над тем же спектаклем, помогал артистам Малого театра углублять понимание ролей, заставлял их вникать в общественный смысл ситуаций и образов, чего до него еще не пытался делать ни один режиссер или постановщик!.. Его пылкой, хотя подчас и упрямо своевольной союзницей становилась Любовь Косицкая-Никулина, не занятая в самом спектакле, но помогавшая его режиссуре. Она жила уже несколько лет на Тверской, в том же Мамоновом переулке, что и их общий друг Пров Михайлович. Муж артистки, Иван Никулин, как было известно в артистическом кругу, умирал на юге — дни его были сочтены, Любовь Павловна вот-вот останется вдовой… Но, увы, Александр Островский уже знал, что юридическая свобода любимой женщины не сулит ему никаких новых надежд! Тороватый купчик Соколов, будто песенный «удалой молодец», покорил вольное Любашино сердце! А как властвует она над его думой, как неотступно звучит в душе ее голос, будто они вот-вот только перекинулись по-дружески веселым словцом, шуткой или одним им понятным намеком. «Сердцу-то… не прикажешь, милый ты мой Александр Николаевич», — эти слова терзали его и днем, и в часы ночной бессонницы. Стоит лишь чуть-чуть ослабить волю, уловить где-нибудь на улице отголосок любимой ее песни — и с мучительной ясностью он будто воочию видел ее глаза, на пего вскинутые, такие ясные и неподкупные, печальные и насмешливо-улыбчивые в одно время! Он-то впал, какой опорой служит ей его дружба!.. Эх, увидеть ее поскорее одну, не при гостях, что-то суметь у нее выспросить, в чем-то важнейшем убедить, заставить, может быть, передумать!.. Швейцар Садовских кинулся со всех ног к гостю снимать шубу, отряхивать костюм… — Погоди, дай опомниться! — шутливо посторонился Островский. — Ты мне самого хозяина сейчас сюда подмани — вот услужишь! В прихожей появился Пров Михайлович, удивленно вскинул брови. — Послушай, друже! Любаша небось ведь опаздывает? Просьба к тебе: хоть на полчасика дай мне свою лошадку, что меня сюда довезла, только… без кучера! Добро? Хочу с Любашей наедине потолковать, а в доме… что у нее, что у тебя… всегда кто-то вмешается! Не сердись! Часу не пройдет — воротимся! — Изволь, Александр свет Николаевич! Кобылка резвая, по… не больно огневая и как будто не из пугливых. Поезжай! Только помни: сердце у меня колотиться не перестанет, пока я вас обоих живыми и здравыми за столом не увижу! …Любовь Павловна капризничать, отказываться не стала. С утра она перебирала свой гардероб, что-то читала в последнем номере «Современника», затеяла было клеить в альбом, недавние фотографии — свои и дареные — да так за весь день на улицу даже не выглядывала. Долго ожидать себя тоже не заставила: только переобулась в меховые сапожки с тупыми носами, поддела еще под меховую шубку беличий, очень ей шедший жилетик поверх просторного бархатного платья с рюшами и воланами, затянула перед зеркалом завязки мехового капора и… легко сбежала со ступенек крыльца. Падал тихий снежок, и Александру Николаевичу пришлось смахнуть бархатной кистью снежную пыль с медвежьей полости. Лошадь он оставил легонько привязанной к фонарному столбу во дворе. Усадив спутницу, распутал ременный узелок, сел в сани, по московскому обычаю закинул руку за спину дамы, собрал вожжи в другой руке. Тихо направил лошадь к воротам. — Куда поедем, Люба? Эдак на часик… Потолковать наедине! — Да вези хоть на край света, Александр Николаевич… только к столу не очень бы запаздывать! Небось Пров Михайлов с тебя обещание стребовал… не протомить гостей? — Еще мало кто пожаловал. Одну Софью Павловну Акимову мельком видел, несравненную мою Аграфену Кондратьевну Большову… Поспеем вовремя. — Да что у вас за таинственность такая нынче? Какой-то вы сегодня важный и неприступный! Приехал, похитил, будто невесту в Торжке… О чем толковать будем? Сперва скажи, как простуду свою одолел? Ведь вот до чего слава мирская доводит! Любовь Павловна часто переходила с дружеского «ты» на более официальное «вы». Она постоянно делала такие переходы и в письмах, и в живом разговоре, наедине. Островский улыбнулся недавнему воспоминанию. Действительно, простыл он месяц назад, после премьеры «Своих людей» в Большом. Театр был переполнен. После спектакля толпа молодежи подхватила Островского на руки и с фанатическим энтузиазмом понесла его по площади, позабыв, что он ничем не защищен от двадцатиградусного мороза, С открытой грудью, в одном фраке, он было поплыл на руках ликующей толпы мимо озаренного театрального фасада в сторону Китайгородской стены, к тому, упоминавшемуся в спектакле зданию у Воскресенских ворот, где находилась «яма» — долговая тюрьма для банкротов… Молодежи хотелось пронести автора «Своих людей» мимо этого места, как бы символизируя жизненную правду спектакля. Раздавались крики: «Виват, Островский!», «Наша взяла!» Самые восторженные непременно желали вот так, с драматургом на руках, продефилировать по всей Красной площади и вдоль Китайгородской степы, набережными Москвы-реки и Яузы доставить его до дому! К счастью, театральные служители сразу же догнали толпу еще у самого театра, укрыли Островского шубой и уговорили молодежь уложить писателя в сани. Однако толпа и от саней не отстала! Люди бегом следовали за ними до Николо-Воробинского переулка, сгрудились перед скромным флигелем и не хотели расходиться! Со времен давнишних старанием полицейских властей была некогда установлена на пустыре перед «устьем» переулка полосатая будка. Доживал в ней свой век старик будочник, некогда имевший на вооружении алебарду, впоследствии куда-то исчезнувшую. Старик, потревоженный уличным шумом, высунулся из будки и во все глаза глядел на небывалое возвращение домохозяина к своему тихому семейству… Будочник видел, как взволнованный Александр Николаевич, во фраке и небрежно накинутой на плечи шубе, под восторженные возгласы обнимался и целовался на пасхальный манер с ближайшими к нему юнцами провожатыми. Напоследок он крикнул им всем с крылечка: «Милые мои! Как я жалею, что мой дом не может вместить всех вас, дорогих моих, поздних гостей!» Слова эти потонули в криках толпы: «Браво!», «Фора!», «Ура!», будто все это происходило в театральном зале. В самом же театре артисты, оркестранты, капельдинеры всерьез тревожились, не отзовутся ли эти триумфальные проводы на шатком здоровье писателя, всегда чувствительного к сквознякам и холодному ветру. И действительно, схватил он изрядный насморк, а приступы кашля не переставали мучить его до самой масленой… Тем не менее он никогда еще так остро, как в тот вечер, 31 января 1861 года, не ощущал бремени и сладости писательской славы… Спутница искоса поглядывала на возницу. Ее смешила серьезность, с какой тот правил лошадью. Из Мамоновского они свернули в Трехпрудный, оставили позади длинный забор густого, пышно разросшегося сада Глазной больницы, сейчас утонувшего в сугробах. Некогда места эти принадлежали к патриаршим владениям, и славилась здесь белизною стволов старинная березовая роща. А три пруда служили святым отцам для разведения зеркальных карпов… Один из этих, некогда патриарших, прудов уцелел, и сейчас, при свете первых фонарей, на его снежном покрывале темнели лупки прорубей. По всем этим тихим переулочкам между Тверской и Большой Никитской, где вперемешку с барскими особняками ютились и совсем небогатые, по довольно вместительные жилые строения в два и даже в три этажа, Островский не раз прогуливался с Косицкой в теплые весенние вечера после спектаклей. Он увлеченно рассказывал ей эпизоды из московской истории, связанные с этими уголками столицы, толковал смысл и происхождение древних названий — Козихинского, Палашовского, Благовещенского переулков, Спиридоньевки, Большой и Малой Бронных, урочища «Козье болото», где монахи разводили коз для настрига тончайшей шерсти — козьего пуха… Артистку все это живо интересовало — она любила русскую старину, играла на старинных инструментах, пела народные песни. Любовь же Павловна показывала собеседнику, где в этих переулках обитают ее и его лучшие, самые восторженные поклонники — учащаяся, студенческая молодежь, преимущественно университетская. Островский, сам некогда учившийся на юридическом факультете, шутливо называл этот уголок «Латинским кварталом Москвы». И сейчас Любови Павловне больше всего хотелось, чтобы Островский заговорил именно на эти нейтральные, всегда очень его увлекавшие темы и обошел бы деликатным молчанием щекотливые, болезненные для обоих сердечные и интимные стороны. — Ежели я тебе, Александр Николаевич, автор наш любезный, в чем-либо подмогой послужить пригодна — считай, что заранее на все согласна! Кроме… сам знаешь чего: в чем сердце невольно! Да ты что ж мне про волю-то крестьянскую ничего не расскажешь? Чай, сама из крепостных! А родных деревенских в двух-то селах приволжских у меня и ныне, почитай, поболе десятка, а то и двух наберется! Растолкуй, голубчик, все ли ладно с во-лей-то? Наш Михайло Семенович Щепкин за столом у Самарина так слезами и залился на радостях. Купеческий-то клуб позавчера, 5 марта, по случаю прощеного воскресенья закрыт был. Так Самарин поболее трех десятков гостей домой пригласил — и писателей, и артистов, и купцов, и помещиков-либералов. Целовались, плакали, христосовались, будто на пасху! Каждый обязался нынче же отпустить на волю, не ожидая двух лет, хотя бы по одному дворовому человеку. Подписку открыли в пользу освобожденных дворовых, две тысячи сразу, не выходя из-за стола, собрали… А я читала, читала Манифест — подумала: вот увижусь с Александром Николаевичем, он мне все покороче объяснит. И знаешь, что сразу вспомянулось: как ты у меня «Воспитанницу» читал, где я должна была Надю сыграть. Помнишь, как ты меня на эту роль уговаривал? — Конечно, помню! И сейчас уговаривать хочу! — Нешто цензурное разрешение в Петербурге выхлопотал? Теперь, по новым-то обстоятельствам, пьеса непременно должна на сцепу выйти! — Твоими бы устами да мед пить, Любовь Павловна! Ермолаевским переулком выехали наконец на более просторную Садовую Кудринскую. Здесь их стали обгонять сани лихачей. Островский, чувствуя внутреннюю настороженность собеседницы, решил повеселить ее какой-нибудь забавной историей. Стал изображать, как их общий знакомый, писатель Писемский, ездит по Москве в извозчичьих санях… — Сядет он в сани, укутанный так, что ни пошевелиться, ни шеи повернуть, сам на палку обопрется, а в передок саней спиною к извозчику поставит женскую особу, тоже упакованную в сто одежек. Спрашиваю его как-то, зачем, мол, с таким адъютантом ездишь, Алексей Феофилактович? А он очень серьезно поясняет: «Боюсь один-то ездить (Островский отлично воспроизводил костромской, окающий говорок своего друга и его манеру выражаться на купеческий лад)… Посему, бережения ради собственной особы, ставлю в санях свою куфарку, чтобы взад глядела! Не то дышлом как раз в спину и наедут, пикнуть не успеешь! Надысь на Тверской учитель один таким манером живота лишился! А я не имею охоты тако помирати, вот и беру куфарку, назад смотрящую. Она у меня вроде марсового на корабле, только под наблюдением держит… судовую корму…» Артистка живо представила себе тучноватого, смешливого Писемского с укутанным «адъютантом» в санях и от души засмеялась, Но и сама теперь оглядывалась с опаской всякий раз, когда настигала их сзади упряжка лихача, с офицером-гвардейцем или богатым барином в санях. Островский тоже поехал быстрее, пустил лошадь размашистой рысью. Ветер засвистел в ушах, снег под полозьями бодряще поскрипывал. Быстро миновали Кудринскую площадь с классическим Вдовьим домом на правом углу, где улица Пресня спускалась к прудам, а слева обозначали «устье» Поварской два красивых барских особнячка. Потянулись поредевшие, грустно притихшие увеселительные сооружения «городка-скороспелки» вдоль будущего, уже намеченного здесь городской думой Новинского бульвара. На масленой, неделю назад, верно, в последний раз прошли здесь знаменитые на всю Москву «гулянья под Новинским», заведенные еще Петром Великим… Ныне дума решила перенести гулянье на Болотную площадь, в Замоскворечье, а тут разбить бульвар — продолжение Садовых улиц, второго зеленого кольца старой столицы. Любовь Павловна очень любила эти гулянья. Они проезжали как раз мимо балаганов, каруселей и качелей, запорошенных снегом, кое-как укрытых рогожами и охраняемых сонными сторожами. Весь этот подновинский «городок-скороспелка» остался справа, а слева от проезжей части мелькнули тесные рядки палаток, киосков и ларьков, маленьких рестораций и питейных заведений, где по праздникам сновали бойкие офени с лотками, толпился народ, разносчики сбитня, ворожеи-цыганки, торговцы сластями. В окнах чайных и кабаков мерцал тусклый свет — несмотря на наступивший пост, кабатчики и трактирщики и сейчас занимались своим делом. Под копытами и полозьями подтаявший снег стал заметно грязнее. Уже в сумраке сани пронеслись по ухабистой, замызганной, полной мусора, клоков лежалого сена, щепы и конских катышков, застроенной палатками площади Смоленского рынка, мимо темных, сбегающих к реке Проточных переулков справа с их притопами и мрачными тайнами… Промелькнул и Толкучий рынок, сейчас затихший и опустелый… — Вот где нищета и разврат — полные хозяева, — грустно вздохнула артистка. — Живем — не думаем, будто не замечаем. Сюда бы вам, Александр Николаевич, почаще заглядывать — смотришь, новые замыслы быстрее бы на бумагу легли и до сцены дошли! Она намекала на его поиски новых сюжетов. Он не любил говорить о них заранее, но с него бывал откровенен, советовался, как бы вслух прикидывая драматургическую канву будущих «Шутников» или «Пучины». Их герои — именно завсегдатаи таких вот толкучих рынков Москвы!.. Нет, прогулка не получилась развлекательной, а беседа не стала задушевной! Что ж, пора и до хаты, по выражению украинцев, столь гостеприимно принимавших Островского еще прошлым летом, когда он вместе с другом своим артистом Мартыновым, перед чьим талантом преклонялся, совершал гастрольную поездку по Украине, окончившуюся такой бедой! Вспоминались триумфальные спектакли с Мартыновым в Одессе, поездка в трагически разрушенный Севастополь и агония Мартынова в харьковской гостинице на рассвете 16 августа. Его послед ним словом было: «Зажгите!» А сейчас украинцев по стигло новое горе: в последних числах февраля скончался в Петербурге поэт и живописец, недавний ссыльный, а ныне — академик в искусстве гравирования, опальный, гонимый, но уже прижизненно признанный Великим Кобзарем своего народа — Тарас Шевченко. Островский познакомился с ним в Петербурге. Свернули на Арбат, тускло озаренный керосиновыми фонарями. Лихо промчались до тесной площади, отделявшей Пречистенский бульвар от Никитского. В начале Пречистенского бульвара, против Малого Афанасьевского, поднимался легкий парок над искусственным бассейном, там, где некогда красовалось легкое и стройное здание Арбатского театра. Оно сгорело при французах. Бассейн же на месте сгоревшего театра учинили ради украшения площади и для снабжения жителей москворецкой водой, накачиваемой в бассейн паровым насосом… У «Бориса и Глеба» — белого храма на углу Воздвиженки, Малого Кисловского переулка и Никитского бульвара — звонарь мерно и печально отбивал большим колоколом часы. Этот колокол некогда, в 1611 году, возвещал москвичам победу над мальтийским рыцарем Новодворским — тот спешил на помощь полякам, осажденным в Кремле, а годом спустя, в 1612-м, колокол вместе с другими трезвонил в честь победы войск Минина и Пожарского над интервентами-шляхтичами… Драматург Островский, равно как и историк Костомаров, был в те годы лучшим, едва ли не единственным подлинным знатоком этих страниц русской истории, связанных с освобождением Руси от шведских и польских войск… А там, на противоположной стороне бульвара, во флигеле, обращенном в темноватый дворик, восемь лет назад, в феврале 1852-го, горели листы второго тома «Мертвых душ» и в нравственных муках умирал их автор. Тогда, на погребении Гоголя, может, впервые в их совместной судьбе дружески разговорились Островский и Косицкая. На пути к Даниловскому монастырю и кладбищу Островский, часто покидавший экипаж, чтобы помогать нести гроб в паре с Хомяковым, так промочил ноги в ростепельной слякоти, что, как сам он считал, с того-то дня и началась у него ревматическая боль в суставах. Ему казалось, что с Любовью Павловной завязал он в те часы крепкую ниточку духовной связи, постиг ее натуру, увлекся рассказом о нелегкой ее судьбе и… может, с тех-то пор и лишился сердечного покоя!.. Высокая колокольня Страстного монастыря, снизу подсвеченная фонарями, мелькала впереди как маяк в просветах между голызинами ветвей… Вот и снова Мамоновский переулок, и гром аплодисментов при появлении их двоих на пороге столовой залы, и тосты, и острые реплики Прова Садовского, никогда не упускавшего случая метнуть стрелу остроумия в своего лучшего друга — Александра Островского… Дребезжащим голосом, изображая стряпчего Рисположенского из «Своих людей» и обращаясь к хозяину стола, артист Василий Живокини подал реплику из второго действия комедии: «— Это водочка у вас? Я, Лазарь Елизарыч, рюмочку выпью. Что-то руки стали трястись по утрам, особенно вот правая; как писать что, Лазарь Елизарыч, так все левой придерживаю. Ей-богу! А выпьешь водочки, словно лучше…» Тут Живокини с его милым, полным лицом и живым взглядом исчезает, и начинается то чудо, всегда поражающее даже самых привычных к нему людей искусства… Начинается тайна творчества, и к этой тайне тотчас подключается сам хозяин дома — Пров Михайлович. Застолье мгновенно превратилось в сцену. За столом… Подхалюзии и Рисположенский! Подхалюзин. Отчего же это у вас руки трясутся? Рисположенский. От заботы, Лазарь Елизарыч, от заботы, батюшка. Подхалюзин. Так-с! А я так полагаю от того, что больно народ грабите. За неправду бог наказывает. Рисположенский. Эх, хе, хе… Лазарь Елизарыч! Где нам грабить! Делишки наши маленькие. Мы, как птицы небесные, по зернышку клюем. Подхалюзин. Вы, стало быть, по мелочам? Рисположенский. Будешь и по мелочам, как взять-то негде. Ну еще нешто, кабы один, а то ведь у меня жена да четверо ребятишек. Все есть просят, голубчики. Тот говорит — тятенька, другой говорит — тятенька, дай. Одного вот в гимназию определил: мундирчик надобно, то, другое. А домишко-то эвоно где!.. Что сапогов одних истреплешь, ходимши к Воскресенским воротам с Бутырок-то. …Еще через несколько минут приспела реплика Тишки. Ее подал 14-летпий Миша, Михаил Провыл, сын хозяина, уже обозначаемый на афишах Малого как «Садовский 2-й»… И потек великолепный диалог двух старух — Елена Матвеевна Кавалерова, давно поседевшая в этом амплуа, мгновенно превратилась в ключницу Фоминишну, а Евгения Васильевна Бороздина стала разбитной свахой Устиньей Наумовной… Так, разгораясь все ярче, запылал за этим столом неугасимый огонь артистического вдохновения. Растроганный автор комедии только головой качал, приговаривая: — Милые мои, что же это вы со мной делаете!.. И тут, заметив, что за столом нет Щепкина, сыгравшего роль Большова, Островский спросил: — Здоров ли Михаил Семенович? Хозяин пояснил, что Михаил Семенович не очень хорошо себя чувствует, а к тому же и у него нынче собираются гости. — И притом одни западники! — важно присовокупил юный хозяйский сын Миша, вызвав взрыв хохота. Гости почувствовали в этом замечании некий намек. Ведь мальчик, верно, слышал от взрослых, что отец его, Пров Михайлович, недавно чуть не поссорился с Михаилом Семеновичем и его гостями, действительно принадлежащими к кружку западников, близких друзей артиста Щепкина и несколько критически, как и он сам, настроенных к некоторым пьесам Островского. Кто-то в присутствии Прова Садовского стал жаловаться, что если поверить комедиям Островского, то вся Русь состоит только из плутов и мошенников. Гости Щепкина этот тезис поддержали. — Ну, так прощайте, господа плуты и мошенники! — спокойно сказал Садовский и покинул компанию. После Мишиного намека застольная беседа коснулась недавних споров между литературными группировками Москвы. — А ты, Любовь, — обратился хозяин через стол к Косицкой-Никулипой, — кем определилась: в западницы или в славянофилки? — Я, милый мой, — медленно, будто выходя из задумчивости, отвечала артистка, — на всякое доброе дело гожусь. Мне лишь бы правда была! Ты, Пров Михайлов, сам-то какой веры? Славянофильской? Стало быть, и мне с тобой по дороге. С тобой — на край света! А вот Сережа Шумский у нас западник! Уж не знаю, чья вера лучше, твоя или его, только бы… — тут она лукаво улыбнулась, — был бы он от нас по далее! — Ну, об отсутствующих не говорят, — внес умиротворяющую ноту Островский. — Мы вот тут с Любовью Павловной решили, что по нынешним временам не грех бы мою «Воспитанницу» из-под спуда вызволить! — Давно ли она под запретом? — спросила Софья Павловна Акимова, добродушная, уже сильно располневшая исполнительница роли Липочкиной матери, Устиньи Наумовны. С первых ее реплик: «Ни свет, ни заря, не поемши хлеба божьего, да уж и за пляску тотчас!» — зрительный зал содрогался от смеха… — Может, и мне там какую-нибудь няньку сыграть доведется? — Роль там для вас отменная, милейшая моя Софья Павловна! — стал уверять ее Островский. — У меня все роли-то хорошие… Опять развеселился весь стол. Хозяин дома встал с бокалом в руке… — Так пиши в Петербург своему Феде Бурдину, проси похлопотать в III отделении. Запретили ее два года назад, а времена нынче уже другие. Давайте содвинем бокалы в честь его «Воспитанницы» на нашей сцене! Ибо все мы здесь его воспитанники и воспитанницы! За здравие Александра Островского! Многая ему лета!
ГЛАВА ПЯТАЯ «НЕВОЗМОЖНО!»
С грустью задумываешься над участью А. Н. Островского. Во Франций две три пьесы, написанные Дюма и Сарду, обеспечили навсегда авторов, а наш единственный драматург, давший русской сцене целый театр, всю жизнь нуждался и, давая хлеб всем русским театрам в провинции и сотни тысяч — дирекции, сам не только ничего не нажил, но никогда не выходил из долгов!Артист Ф. А. Бурдин.Из воспоминаний об А. Н. Островском, 1886
1
Осенью того знаменательного 1861 года в петербургском журнале «Время», издававшемся братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими, была опубликована третья часть трилогии о Бальзаминове, комедия «За чем пойдешь, то и найдешь». Островский попросил Федора Михайловича: «Когда прочтете эту вещь, сообщите мне в нескольких строках Ваше мнение о ней, которым я очень дорожу… Вы меня крайне обяжете, если выскажете свое мнение совершенно искренне и бесцеремонно…» (А. Островский — Ф. Достоевскому, 19–20 августа 1861). Вот как ответил Достоевский на просьбу драматурга: «Что сказать Вам о ваших сценах? Вы требуете моего мнения совершенно искреннего и бесцеремонного. Одно могу отвечать: прелесть! Уголок Москвы, на который вы взглянули, передан так типично, как будто сам сидел и разговаривал с Белотеловой. Вообще, эта Белотелова, девица, сваха, маменька и, наконец, сам герой, — это до того живо и действительно, до того целая картина, что теперь, кажется, она у меня ввек не потухнет в уме… Из всех Ваших свах Красавина должна запять первое место. Я ее видел тысячу раз, я с ней был знаком, она ходила к нам в дом, когда я жил в Москве лет десяти от роду; я ее помню… Кстати: некоторые из слушателей и слушательниц Вашей комедии (Островский читал ее в Петербурге, на квартире Достоевского. — Р. Ш.) уже ввели Белотелову в нарицательное имя…» (24 августа 1861, С.-Петербург, Ф. М. Достоевский). Как же встретил Театрально-литературный комитет новую пьесу «За чем пойдешь, то и найдешь», столь горячо одобренную Достоевским и им опубликованную? «За отсутствием художественных достоинств комедию к представлению не допустить». Первым узнав об этом решении, артист Иван Горбунов сообщил Островскому: «Против пьесы шли Краевский с компанией; Федоров… и нашим, и вашим, как всегда». Этот новый укол больно поразил драматурга все той же осенью 1861-го и надолго вывел из душевного равновесия. Главе комитета П. С. Федорову Островский написал так: «Милостивый государь Павел Степанович! Давно я слышал, что пьеса моя «За чем пойдешь…» забракована Комитетом, но не верил этому… Теперь эти слухи подтвердились… Моя вещь не пропущена, а бездна вещей, совершенно никуда не годных, пропускается Комитетом… У меня остается только одно: отказаться совершенно от сцены и не подвергать своих будущих произведений такому произвольному суду… На днях я оканчиваю «Минина», который мне стоит многолетних трудов и которого я мечтал видеть нынешней зимой на сцене. Вы согласитесь, что со всем этим расстаться нелегко, нелегко отказываться от дела, которому исключительно посвятил себя! Но иначе я поступить не могу…» Таким-то образом под запретом оказались три опубликованные в журналах пьесы Островского: «Доходное место», «Воспитанница» и «За чем пойдешь, то и найдешь». Особенно оскорбительно было обставлено снятие «Доходного места». Драматическая цензура, хотя и подрезала кое-где эту комедию, все-таки допустила ее к постановке. Малый театр в Москве приготовил спектакль к бенефису Садовского. По городу расклеили афиши, объявившие спектакль на 16 декабря 1857 года. Все билеты были распроданы заранее. Запрет спектакля последовал… чуть ли не перед поднятием занавеса! Министр внутренних дел своей властью, невзирая на цензорское дозволение, решил не допустить на сцену пьесу, ибо усмотрел в ней «оскорбление чиновников, представленных в пьесе казнокрадами и взяточниками». По этому поводу Некрасов написал Островскому из Петербурга: «В настоящее время дело это едва ли можно поправить. Надо подождать…» Легко сказать: подождать! Сколько израсходовало душевных и физических сил, жизненного опыта, знаний и наблюдений! Притом автор возлагал на эти вещи свои материальные расчеты и снова остался без средств. Был у драматурга старинный товарищ, московский купец, страстный театрал, Сергей Семенович Кошеверов. …Александр Николаевич обмакнул гусиное перо в орешковые чернила и написал Кошеверову такое письмо: «Милостивый государь Сергей Семенович. Пьеса моя «За чем пойдешь, то и найдешь» не оправдывает своего заглавия: я написал ее затем, чтобы получить деньги, а денег за нее не получаю. Получил только задаток. Месяц тому назад Достоевский обещал выслать деньги на другой день; а теперь уж другой месяц пошел. Я вчера написал ему, чтобы он не забывал должного, что этого не должно делать! А пока у нас с Ганей ни копейки, и оба мы нездоровы. Одолжите, уже никак не более как на неделю рублей 50. Я надеюсь, что к тому времени Достоевский почувствует угрызения совести и пришлет деньги. Тогда я возвращу Вам с величайшей благодарностью. Душевно преданный Вам Л. Островский. 7–8 ноября 61». Но заботы тревожили не только собственные. Болела душа и о тех, кто зависел от допуска его пьес на сцену, кого считал он своими учениками и воспитанниками… Вот Варя, Варвара Васильевна Бороздина, или «Бороздина Первая», в афишах Малого… Незабываемая Варвара в «Грозе», замечательная Липочка в «Свои люди — сочтемся», сварливая и мелочная Пульхерия Андреевна в «Старый друг — лучше новых двух»… Сейчас Варваре Бороздиной уже тридцать три, скоро выйдет из амплуа инженю, перейдет лишь на характерные, так удающиеся ей роли, где, по словам самого драматурга, важнее всего «не выйти из пределов грации и приличия». Ее стройная фигура, выразительное лицо и звучное контральто памятны всем видевшим ее в спектаклях. И как раз теперь на носу ее бенефис! Он намечен уже в декабре… Почти одновременно с письмом Кошеверову Островский пишет своему однокашнику и соседу по замоскворецкому жилью, а ныне — артисту Петербургского Александринского театра, члену Театрально-литературного комитета и обычно удачливому ходатаю по всем цензурным делам драматургу Федору Алексеевичу Бурдину… «Ты, вероятно, слышал о моих делах с вашим комитетишком и о письме моем к Федорову, который, между нами будь сказано, уже успел нажаловаться Сабурову (директор императорских театров. — Р. Ш.) и вооружить его против меня. Все бы это — наплевать; да дело вот в чем. Варваре Васильевне Бороздиной нужна для бенефиса непременно моя пьеса; так нельзя ли выхлопотать «Доходное место» или «Воспитанницу». Похлопочи, милейший Федор Алексеевич! Намекни Федорову, что этим он может примириться со мной, чего ему, должно быть, очень хочется, да только мешает гордость и енаральский чин… Бенефис Бороздиной 20 декабря, она погибла, если у нее не будет моей пьесы, да и время коротко» (ноябрь, 1861, Москва)…2
Шли последние дни декабря 1861 года. Нева, мосты, стрелка Васильевского острова, недавно вызолоченная шапка Исаакиевского собора теряли очертания, казались зыбкими в свитках серо-голубого тумана, наплывшего с моря. В такие дни в Петербурге зябко, сыро и грустно. Артист Александринки и член ТЛК Федор Алексеевич Бурдин собирался нынче посетить генерала Александра Львовича Потапова — главу III отделения его императорского величества канцелярии. В отношении «Воспитанницы» Бурдин кое-какие предварительные меры уже принять успел. Съездил к важному чиновнику — секретарю государственной канцелярии Владимиру Петровичу Буткову. Тот близко дружил с Потаповым и согласился написать письмецо в защиту пьесы. Это письмецо Бурдин вез с собою… Федя Бурдин в отличие от большинства своих коллег по искусству получил недурное образование, много читал, страстно любил театр и сам играл с огромным (по мнению Островского, явно излишним) пафосом. Кучер, получив приказание седока: «К Цепному мосту! В III отделение!» сразу сделался молчалив и сумрачен. Опушенные инеем деревья Михайловского сада вокруг замерзшего пруда заслоняли длинную колоннаду великокняжеского дворца — будущего Русского музея. От Инженерного замка круто свернули к Цепному мосту и степенно подъехали к самому крыльцу Кочубеева дома на набережной Фонтанки. Двухэтажный по фасаду, облицованный серым гранитом, в 16 нижних окон, глядящих на Инженерный замок за Фонтанкой, дом этот уходил в самую глубину квартала. В начале века владельцем его был князь Виктор Павлович Кочубей, близкий друг Александра Первого. При Николае Павловиче дом перешел в казну и вместил все службы и тайны грозного III отделения. Помещалась здесь и следственная тюрьма, и секретные «экспедиции», ведавшие внутренней и иностранной агентурой, а заодно и ведомство цензуры… У чугунных столбиков главного подъезда дежурил жандарм. Приложил руку к козырьку кивера и приоткрыл гостю входную дверь в тамбур. Следующий жандарм встретил Бурдина уже в вестибюле, около статуй и светильников. Вызвал дежурного офицера. Из вестибюля вправо и влево отходили коридоры со служебными комнатами. А прямо вверх, на второй этаж, вела парадная мраморная лестница в два марша, украшенная бронзой, позолотой и зеркальным стеклом. Дежурный офицер, увидев пакет от Буткова, адресованный непосредственно «самому», сделался весьма вежливым, попросил подождать и, получив дозволение, проводил гостя наверх, до самого порога потаповского кабинета. Генерал Потапов, рослый, уже тучнеющий мужчина с нафабренными усами, сидел за большим письменным столом. Кожаное тяжелое кресло было чуть отодвинуто, словно бы генерал собирался привстать навстречу гостю. Бурдин бывал в этом кабинете, обширном, как танцевальная зала, и слегка мглистом… Чудилось, будто невские туманы окутали эти лепные потолки и дальние углы. Огромные шкафы, таящие прошлые, настоящие и будущие судьбы многих деятелей России, закрывали почти до потолка стены начальственного кабинета. Генерала Потапова за служебным столом Бурдин видел впервые — ранее он имел здесь аудиенции у вкрадчиво-вежливого генерал-лейтенанта Дубельта и у старавшегося подражать предшественнику генерала Тимашева… Несколько наигранным, искусственно бодрым тоном Федор Бурдин приступил к делу. Генерал сразу нахмурился. Он уже успел осведомиться о сути дела… — Пьеска, я бы сказал, легонькая, — говорил Бурдин, — опубликована в журналах, заслужила похвалу критиков… — Каких критиков? — усмехнулся Потапов многозначительно. — Ив каких журналах? Насколько я осведомлен, вышла она в издании весьма либеральном, а одобрил ее крайне левый критик красного журнала «Современник» господин Добролюбов… Давно был у нас на замечании! — Ваше превосходительство, господин Добролюбов уже месяц как на Волновом кладбище… 17 ноября богу душу отдал… — Прослышаны-с! Прибрал господь! Иначе… неизвестно, где и чем сей господин мог бы окончить свой земной путь! Да царствие ему небесное! А вот благонамеренные критики, Федор Алексеевич, напротив, нашли, что господин Островский сгущает все темные краски и рисует персонажей в карикатурном виде. Сие произведение полно, мол, грубых преувеличений. Так что, милейший Федор Алексеевич, не извольте полагать, будто мы, люди ответственной государственной службы, вовсе чужды литературным интересам и ничего не смыслим в красотах словесности. — Помилуйте, ваше превосходительство, Александр Львович! Где же вы усмотрели в пьесе «Воспитанница» что-либо неблаговидное? Вот, к примеру, совсем другой критик, господин Писарев в «Русском слове» еще летом писал: «Как много говорит эта небольшая драма, какие живые личности и положения выступают перед воображением…» Генерал Потапов шумно вздохнул и покачал головой. — Федор Алексеевич! Меня огорчает, что вы, наш известный артист, собираетесь для вашего бенефиса избрать столь сомнительное произведение! У нас ведь редко случается, чтобы сам начальник III отделения занимался лично рассмотрением пьесы. Редакции, издательства, театры буквально заваливают нас грудами произведений всех жанров. Вещи драматические поступают к нашим опытным цензорам — камергеру Гедерштерну, статскому советнику Нордстрему и другим сотрудникам. Учитывая заслуги господина Островского, сам генерал Тимашев читал «Воспитанницу». И нашел произведение столь вредным, что запретил ставить его в театрах. Я обязан быть последовательным, относиться с уважением к мнению предшественника, не так ли? — Александр Львович! Глубокоуважаемый наш высокопревосходительпый генерал! — Бурдин пытался взять шутовской, бодряцкий тон; в прошлом перед генералом Дубельтом нехитрый этот прием иногда выручал. — В чем же вы, следом за Александром Егорычем Тимашевым, смогли усмотреть в «Воспитаннице» вредное направление? Ведь это простенькая бытовая пьеска для чувствительных сердец! Не более как картинка нравов — и только! Смею предположить, ваше превосходительство, что сами вы… не изволили читать пьеску! — И ошибаетесь, Федор Алексеевич! Напротив, читал-с, и притом безо всякого удовольствия! И вы еще можете спрашивать, в чем вредное направление пьесы? Да, разумеется, в насмешке над российским дворянством. Именно сейчас, когда дворянство наше песет на алтарь отечества свои потомственные права, действует свято патриотически, жертвует кровными интересами во имя высокой цели освобождения крестьян по мановению державной руки обожаемого монарха, господин Островский потешается над благородным сословием, к коему сам принадлежит! — Ваше превосходительство! Извольте еще раз непредвзято пересмотреть, просто перечитать пьесу. В ней вы не найдете ни крестьянского вопроса, ни осуждения благородных целей и чувств дворянства! — Эх-хе-хе, батенька вы мой! Конечно, напрямую там ничего не говорится, всё в намеках! Но, извините, мы, дворяне потомственные и люди государственные, не так уж просты, чтобы не понимать тайных намерений автора и не уметь читать между строк… Пет, перечитывать пьесу мет надобности, я отлично помню ее содержание. Молодой дворянин, изображенный легкомысленным шалопаем, соблазняет крепостную девицу, воспитанницу злой и своевольной старухи помещицы. По навету другой дворянки, завистливой и корыстной, озлобленной приживалки, этот тайный роман раскрыт, и дворянка-мать окончательно толкает девушку в пропасть, отдает ее замуж за пьяного негодяя… Нет уж, извините меня, Федор Алексеевич, дворянство наше сейчас и без того оскорблено, прямо-таки заколочено! В Москве как раз предстоят дворянские выборы, наша земельная знать съедется в старую столицу, а мы им такой театральный сюрприз с императорской-то сцены? Пет уж, увольте! Решительно отказываю в вашей просьбе! Уж не обессудьте!..3
В январской книжке журнала «Современник» за 1862 год впервые появилась в печати только что закопченная историческая драма Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук». Она стоила драматургу пяти-шести-летнего труда. Редактор «Современника» Н. А. Некрасов давно ждал это новое произведение Островского и выплатил автору гонорар, позволивший ему не только расплатиться со срочными долгами, по и осуществить давнишнее желание Александра Николаевича — побывать в Западной Европе. Тем более что одновременно с крестьянской реформой русское правительство облегчило условия заграничных путешествий: иностранный паспорт стал стоить много дешевле и получение его упростилось. А Островскому хотелось не только повидать другие страны и призанять чужого опыта, но и просто рассеяться, отдохнуть от театральных треволнений и обид, пережить на чужой стороне свою любовную неудачу и утишить сердечную тоску. Вместе с Александром Николаевичем отправились два его близких друга: университетский товарищ Островского Макар Федорович Шишко, заведовавший осветительной частью императорских театров в Петербурге, и артист Иван Федорович Горбунов, догнавший Островского уже в Берлине и проделавший с ним до конца все это немаловажное для драматурга странствие «по Европам»… В этой поездке трое деятелей русского театра — драматург, осветитель и артист — почувствовали себя веселыми школьниками, вырвавшимися из душного класса на свободу. Александр Островский и Макар Шишко — оба на исходе четвертого десятка; Иван Горбунов лет на восемь моложе своих спутников… …В марте 1862 года шли последние приготовления к отъезду. В московском николо-воробинском домике Агафья Ивановна, с заплаканными глазами, заботливо собирала мужа в дальнюю, на этот раз довольно сложную дорогу. Любимые его костюмы, белье, пледы, плащи и шляпы, мелочи туалета, несессеры, портсигары — все это дорожное имущество она собственноручно перебирала, освежала, гладила, чистила и укладывала в объемистые чемоданы и портпледы. Она до топкости знала все его привычки, вкусы, потребности. Например, попавшуюся под руку курительную трубку, к которой поначалу было пристрастился Александр Николаевич, она отложила и комод: страстный «курец», Островский вскоре нашел, что трубка вредна для горла, и перешел на сигарки и папиросы собственной набивки. Агафья Ивановна засадила сына Алешу за набивку папирос любимым мужниным табаком керченской фабрики… В предвесенней Москве было еще по-зимнему холодно и снежно. Агафья Ивановна с сестрой и сыном провожали отъезжающего на Николаевском вокзале. Переждали под вокзальным сводом сигналы к отправлению, минуту шагали вместе со всеми провожающими рядом с вагоном, где в окне Александр Николаевич махал им рукой… Агафья Ивановна заплакала вслед удаляющимся хвостовым фонарям поезда, перекрестила их… Перед самым отъездом брат Михаил Николаевич успел из Петербурга уведомить Александра, что тот удостоен неожиданной царской милости: оказывается, министр народного просвещения Головнин доложил царю Александру II о повой пьесе Островского «Минин». Выслушав доклад, император приказал… наградить писателя Островского бриллиантовым перстнем стоимостью в полтысячи рублей. Известие об этой награде подействовало на Александра Николаевича удручающе. Со свойственной ему сдержанностью в выражениях он ответил брату, что уж никак не ожидал столь пошлого «поощрения». Михаил вполне согласился с мнением брата, однако прибавил, что при столкновениях с цензурой или театральной дирекцией ссылка на знак царского внимания может сослужить полезную службу! 2 апреля 1862 года Островский и Шишко выехали из Петербурга в Остров, на другой день с интересом бродили по красивым улицам Вильно, а 5 апреля, миновав Ковно, пересекли за Вержболовом прусскую границу… Островский сразу начал свой путевой заграничный дневник. Его первые записи о прусских впечатлениях, после виленских и пограничных, констатируют: «Поля кое-где зеленеют, пахано загонами (то есть всплошную, общим заходом, без межей, — Р. Ш.); местность ровная, большею частью песчаная. Поля возделаны превосходно, унавожены сплошь, деревни все каменные и выстроены чисто, на всем довольство. Боже мой! Когда-то мы этого дождемся», И тут же, сразу — строки о чувстве неприязни, вызванном всем обликом и поведением молодого прусского офицера: «Синий мундир, голубой воротник, штаны с красным кантом, маленькая фуражка надета набекрень; волосыпричесаны с аглицким пробором, рябоват, белокур, поднимает нос и щурит глаза…» Всем троим доставляло большое удовольствие, как говорится, «мерить все на русский аршин». Островский записывал в дневнике: «Улица Под липами нечто среднее между Тверским бульваром и Невским проспектом, весь Берлин есть помесь старого немецкого города с Петербургом…» Вот беглые, характерные своим лаконизмом штрихи Островского о западных его впечатлениях — как тут явственно ощутима постоянная, заинтересованная дума о родине… В Берлине, запись 22 апреля: «Вечером были в театре Виктория, давали Альпийского Короля, мы недосмотрели представления; но как здесь все стараются» (в этом, не понравившемся ему спектакле Островский отмечает актерскую дисциплину, которой, по его мнению, так недостает дома). Запись 24 апреля: «В Потсдаме видели только прудок с хорошеньким фонтаном. Я не люблю смотреть дворцов, меня что-то жмет… Все зеленеет, все обработано, погода — наш май…» Запись 25 апреля: «Поехали, быстрота страшная!.. На станциях перезванивают, когда отправляется поезд, совершенно как у нас, когда поп идет к вечерне…» Запись 26 апреля: «Напились чаю. Чай здесь прескверный. Если наш самый дурной чай да посолить, так будет очень похоже…» Несколько страниц дневника посвящены поездке на пароходе «Шиллер» по Рейну. Трое русских по-мальчишески затянули тут же сочиненную ими песню: «Вниз по батюшке, по Рейну, от Майнца до Кобленца»… Запись 28 апреля. Майнц: «Мальчики бьются крашеными яйцами, так же, как у нас… Прошли гусары, точно наши ряженые…» Запись 29 апреля: «Приехали в Лейпциг… Природа и станции победнее, зелени меньше, много березы, сосновые рощи; кабы не тополи, совсем наша Владимирская губерния… Риза. Постройка крестьянских домов похожа на наши деревенские каменные постройки, много крыш соломенных… Дрезден. Много зелени, но город кажется закопченным… Обедал на Брюлловской террасе, потом слушали музыку, тут я познакомился с Галаховым (сыном), пили много шампанского. Как было не вспомнить Добролюбова…» (с мая 60-го по июль 61-го года Добролюбов лечился за границей от туберкулеза. — Р. Ш.). После недолгого пребывания в Праге и Вепе Островский со спутниками гостили в Италии и Франции. Париж так охарактеризован Александром Островским и его друзьями: «Париж называется новым Вавилоном, так опо и есть, и русскому жить в Париже оченно способно. Только зазевайся немного или хоть на минутку позабудь о деле, ну, и увидишь, как целый год проживешь… Завтра едем в Лондон…» …Однако о деле Островский, видимо, не забывал и «на минутку»! Еще перед отъездом из Петербурга, в последних числах марта, Александр Николаевич имел беседу, о которой, вероятно, думал во все дни своего веселого, насыщенного эмоциями странствия по Европе. Николай Гаврилович Чернышевский попросил Островского о встрече наедине, и беседовали они с глазу на глаз. Содержание этого разговора Островский, как и обещал, сберег в тайне, а просьбу повидаться в Лондоне с изгнанником Искандером решил исполнить, несмотря на немалый риск: тайные шпики следили за гостями Герцена из России!.. Тихая, осененная старыми платанами улочка в аристократическом пригороде Лондона привела обоих русских писателей к двухэтажному коттеджу с мезонином. Этот лондонский дом носил название «Орсет-хауз» и был хорошо известен, увы, не только друзьям Александра Ивановича! Присматривались к дому и агенты III отделения! У издателя «Колокола» и «Полярной звезды» перебывали здесь сотни российских и западноевропейских посетителей, от Льва Толстого и Тургенева до отставных армейских чипов и восторженной молодежи, еще неосмотрительной и неопытной. Одному из таких молодых людей, купеческому сыну Павлу Ветошникову, служащему торговой фирмы, пришлось всего месяцем позже, в июле того 1862 года, на горьком опыте испытать последствия неосмотрительности: оказалось, что проникший в число герценовских гостей сыщик выследил Ветошникова и донес по начальству, что тот повез в Петербург письмо из Лондона… Последовавшие события повлекли за собою арест Чернышевского и других революционеров по делу о «связи с лондонскими пропагандистами». И почти в те же самые майские дни, когда Островский с Горбуновым посетили Орсет-хауз, побывал здесь и драматург Николай Потехин, автор популярной тогда комедии «Мертвая петля»… Забегая чуть вперед, нетрудно понять тревожное настроение Александра Николаевича, когда тот уже по возвращении в Москву услыхал от друзей, что Потехина в Петербурге арестовали, посадили в Петропавловскую крепость и подвергали допросам го поводу его лондонской встречи с Герценом! К суду Потехина, правда, решили не привлекать, во ощущение опасности, пережитое Островским в его лондонские дни, было отнюдь не преувеличенным! Он, разумеется, не знал тогда этих подспудных обстоятельств, а просто интуитивно их чувствовал, о них догадывался и поэтому был очень осмотрителен в переписке и дневниках: ни одного намека нет в его заграничных записках о встрече с «лондонскими пропагандистами». Однако имя Чернышевского невольно все же проскользнуло на одной из страничек дневника — Островский ссылался на рекомендацию Николая Гавриловича поближе присмотреться к некоему недюжинному земляку-россиянину, служащему в одном из русских консульств в Германии… Что же до поручения Чернышевского, которое Островский, видимо, взялся передать Герцену, то об этом ни одного прямого намека в документах Островского нет. Можно лишь смутно догадываться, о чем могла идти речь между Чернышевским и Герценом, — вероятнее всего, что о каких-то совместных действиях в области печатного слова: ведь журналу «Современник» грозило наказание за слишком смелые статьи. Можно полагать, что Чернышевский обсуждал с Герценом целесообразность выпуска статей, приостановленных петербургской цензурой, в зарубежном издательстве, печатавшем «Колокол»… — …Годы спустя после поездки в Лондон опубликовал свои воспоминания о встрече с Герценом Иван Федорович Горбунов — к тому времени Александра Николаевича уже не было в живых. Тогда и узнала читающая Россия, о чем беседовал лучший драматург России с «самым острым пером Европы». Горбунову запомнилось, что Герцен горячо одобрял пьесу «Гроза» и обсуждал ход крестьянской реформы. Он негодовал по поводу безземелья крестьян, когда огромные латифундии оставались в помещичьем владении. Выражал уверенность, что крестьяне землю получат!.. Вспоминали, разумеется, Москву. С любовью Герцен говорил об университете и его студентах, некогда членах герценовского кружка и посетителях знаменитых лекций Грановского. Очень горько поминал Александр Иванович дальнейшую судьбу этих прекраснодушных идеалистов, да и самой московской «альма-матер». «Университет, — угрюмо проговорил Герцен, — превратился в частную лавочку, а друзья молодости… погребены! Я схоронил Грановского в прямом смысле, схоронил Кетчсра и Корша, так сказать, заживо, психологически, с грустью гляжу на дряхлеющего Тургенева…» Оживляясь, он снова возвращался к делам завтрашним в полной уверенности, что еще приведет его судьба на родину и западные европейцы увидят на примере революционной России, что она ближе к социализму, чем сытый обуржуазившийся Запад… «Дьявольским остроумием» поразил Герцен своих собеседников. Оба писателя — Островский и Горбунов расстались с хозяином Орсет-хауза убежденными в том, что старый «революционный лев» полон силы и решимости, боевого задора и глубокой веры в творческую мощь своего народа, малопонятного для западных соседей. На прощание Иван Горбунов исполнил несколько своих юмористических миниатюр, приведших Александра Ивановича в неописуемый восторг. Образ отставного генерала Дитятина, созданный наблюдательным автором-юмористом, особенно понравился хозяину, а сценка у квартального надзирателя живо напомнила Герцену его собственные переживания перед арестом и ссылкой. Александр Иванович подарил гостям по крупно отпечатанной фотографии, где изображен был вместе с Огаревым, и расстался с гостями растроганно и сердечно… Без особенных новых приключений Островский со спутниками воротился через Берлин и Петербург в родную Москву. Вопреки опасениям лондонская встреча никаких неприятностей для них не принесла…* * *
Но дома подстерегала драматурга очередная, уже становящаяся привычной беда: вновь довелось пострадать от цензорского запрета самому капитальному и зрелому творению Островского — драматической хронике в пяти действиях, с эпилогом, в стихах, — «Козьма Захарьин Минин-Сухорук», в первой, полной редакции опубликованной в журнале «Современник». Цензор Нордстрем, кое-где поурезав и «смягчив» острые места, согласился допустить пьесу к постановке, но этот положительный рапорт вызвал сомнения генерала Потапова. «Генерал от безопасности» не рискнул собственным решением дозволить Александрийскому театру инсценировать «Минина». Дело пошло на рассмотрение царедворца графа Лдлерберга, старого недоброжелателя Александра Островского. И, как зафиксировал в своем рапорте цензор, «вследствие словесного объяснения с г. Министром императорского двора» — пьесу признали несвоевременной для сценического воплощения: народный дух пьесы показался опасным в дни, когда крестьяне без того взволнованы и недовольны… Было у Александра Николаевича в обиходной речи одно излюбленное выражение, обозначавшее крайнее неудовольствие и раздражение: невозможно! Это слово срывалось у Островского с языка то и дело, пока в инстанциях разбиралась судьба «Минина» — пьесы, как-никак все же отмеченной царским перстнем за ее патриотическое направление. Общество терялось и догадках: как же так? Автор награжден за патриотическое сочинение, а ставить его… боятся двор и цензура? Но тут, как говорится, блеснул на Островского сквозь тучи и солнечный луч. Осторожный шеф III отделения генерал Потапов ушел в отпуск. Замещать его назначили генерала более либеральных взглядов и несколько более смелого. Федор Бурдин и Иван Горбунов сумели ловко использовать временную замену генерала Потапова генералом Анненковым и подсунули тому… запрещенную ранее «Воспитанницу»… К радости ходатаев, генерал Анненков разрешил исполнять ее в императорских театрах, и 21 октября 1863 года, в бенефис актрисы Карской, пьеса с большим успехом прошла в Малом театре, а месяцем позже — на сцене Александрийского, где роль развращенного, порочного дворового мальчика Гриши блестяще исполнил Иван Горбунов. А в Москве среди исполнителей вышла на сцену совсем юная, 18-летняя выпускница театральной школы Машенька Васильева, или, по сцене, «Васильева Вторая». Она сыграла служанку Лизу, волнуясь и робея. Сыграла не совсем такую Лизу, какую представлял себе автор, но… была очень мила, застенчива и трепетна, глядела на драматурга с испугом и преклонением, и тот с улыбкой, снисходительно отнесся к ее сценическим промахам и даже приободрил за тщательно выученный текст роли… Едва ли он тогда догадывался, какую роль сыграет в его дальнейшей жизни эта миловидная смуглая девушка, урожденная Бахметьева.ГЛАВА ШЕСТАЯ СЕРДЦЕ РОССИИ
Москва — патриотический центр государства, она недаром зовется сердцем Россий. Там древние святыни, там исторические памятники… Там, в виду Торговых рядов, на высоком пьедестале, как образец русского патриотизма, стоит великий русский купец Минин… Москва — город вечно обновляющийся, вечно юный…А. И. Островский
1
В мартовскую слякоть вдавливались окованные железом колеса похоронных дрог. Александр Островский вместе с друзьями, сыном Алексеем и свояченицей Натальей понуро провожали в последний путь Агафыо Ивановну. 6 марта 1867 года поутру он сам навсегда закрыл ей веки. Уходило с чела выражение скорби и страдания. Резче проступили морщинки, прежде сглаженные отечностью. Он то усаживался в сани, то опять шагал за дрогами в глубоких калошах, и непривычно было ему сознание, что в доме некому больше тревожиться о его ревматизме в ножных суставах, некому оберегать его от простуды и воспаления. Агафья Ивановна давненько стала прихварывать, хозяйством занималась через силу, но беззаветно обихаживала самого Александра Николаевича: собирала в дорогу, когда предстояла ему поездка в Петербург; следила, чтобы дворник приносил в кабинет самую большую охапку березовых поленьев и растапливал печь пожарче. Дом в Николо-Воробинском давно обветшал, плохо держал тепло. В сильные морозы хозяин сиживал за письменным столом в валенках, накинув шубу на плечи. Покачивалась длинная рессора над левым колесом, и четкий след оставался в талом снегу от железной колесной шины. Нигде и никогда не удается так углубленно и неторопливо оценивать мыслью собственную жизнь, как на проводах к могиле ближайшего тебе человека на земле. Чиста ли его совесть перед покойницей? Она была ему верной, любящей женой на протяжении почти двух десятилетий, самых трудных для него. Вместе перестрадали всю полосу непризнания, почти голодного существования. И хотя не стояли они под венцами перед алтарем, ее преданность мужу и другу была безгранична. Друзья драматурга, особенно артисты Малого театра, любили ее, нередко навещали, смеялись ее шуткам в народном духе и добродушным, очень сердечным и незлобивым повествованиям о крестьянских девушках, о мастерицах-белошвеях из родной ее Коломны. Трудные времена для нее настали с осени рокового 1859 года, когда начались репетиции «Грозы» в Малом театре… Агафья Ивановна поняла, что тихая семейная жизнь с той поры кончилась. Александр замкнулся, стал неразговорчив, элегантно одевался и на долгие вечера уезжал из дому. Ведь он сделал Косицкой предложение и не мог не сказать об этом Гане. А Косицкая-Никулина, поверившая в силу его любви и не испытывая столь же сильного ответного чувства, привела важный довод против их союза: «Я не хочу отнимать любви вашей ни у кого» — это было прямое напоминание Островскому о его семейном долге, об обязанности перед Агафьей Ивановной… Все это Ганя вынесла молча, по-прежнему заботясь о муже как о малом дитяти, а глухая внутренняя боль не утихала ни днем, ни ночью. Островский испытывал к ней такую глубокую жалость, что радости встреч с артисткой омрачались и положение порой казалось безвыходным. Огромным усилием воли Островский заставил себя наконец отдалиться от любимой актрисы, погасить любовь. Возникшую сердечную пустоту со временем заполнило новое чувство… Узнав, что Александр Николаевич полюбил Машу Бахметьеву, сама Агафья Ивановна предложила мужу узаконить эти отношения, предоставляла ему полную свободу от всяких обязательств по отношению к ней самой. «Только Алешеньку не обижайте», — просила она уже незадолго перед концом. Но Островский и слышать не хотел ни о какой «свободе», и чем слабее становилось здоровье жены, тем тревожнее делались его письма к брату Михаилу Николаевичу, Феде Бурдину и другим близким людям. То его мучает страх: «Агафья Ивановна плоха», «Агафье Ивановне хуже», то звучит в этих письмах воскресшая надежда: «Агафье Ивановне полегчало», «Здоровье Агафьи Ивановны удовлетворительно»… Весь поглощенный своим трудом над новыми пьесами и постановкой прежних, Островский работает через силу и тяжело озабочен болезнью Агафьи Ивановны. Ее состояние с сентября 1866 года врачи признали безнадежным. И вот в этих-то трудных условиях переживает он, однако, необычайный творческий подъем. После возвращения из-за границы, одолевая все невзгоды, он добивается будто вовсе невозможного! Все новые замыслы обретают плоть и кровь под его пером. Он учит артистов углубляться в смысл пьесы и отдельных образов, сам читает им свои произведения, чего до него никто не делал в русском театре! Он достигает более строгой дисциплины в театре, точнее выявляет актерские амплуа в соответствии с характерами и личностями исполнителей. Островский сумел внушить им, что театр — это особенное, волшебное зеркало реальной жизни, своего рода художественная школа для народа. Все это чем далее, тем более становилось азбукой, и в нашем XX веке «театр начинается с вешалки», а режиссура, в которой непременно участвуют и ведущие актеры (Бабочкин, Ильинский, Хмелев, Яншин), становятся на один творческий уровень с драматургией. Но нам, людям XX века, надо помнить, что именно Островский стал первым вводить эти принципы на русскую сцену, поднимая тогдашних малообразованных актеров и актрис до уровня собственных творений! В этом он, бесспорно, пионер в русском театре!2
Может показаться странным, что поездка по Европе, глубокое чувство наслаждения, сердечного трепета, испытанное им перед полотнами мастеров итальянского Возрождения в Венеции, Флоренции, Римс (особенно потрясло Островского творчество Рафаэля), нашло прямое отражение только в дневниках и письмах. Что же до художественного воплощения этих глубинных душевных переживаний русского драматурга, то в его пьесы эти впечатления вошли лишь косвенно, оставив в них все же приметный след. Случайно ли, что именно в Италии, стране горных пиний и мировых шедевров искусства, родились и «Мертвые души», писались целые части «Былого и дум», возникали лучшие страницы тургеневской прозы? Произведения эти — истинно русские, глубоко национальные и по краскам, и по духовной сущности, и по настроению. Вещи, проникнутые любовью к российскому отечеству, острой тоской по нему и болью за пего! Видно, самый воздух свободолюбивой Италии помогал вдохновению! Такой же порыв к творчеству, притом именно «о своем» и «для своих», испытал, воротившись в Россию, и Александр Островский. Он как бы обрел на берегах Тибра, а затем Сены и Темзы ту уверенность, которую еще не полностью ощущал в себе на берегах Яузы и Невы. Там, на Западе, он познакомился воочию с работами десятков европейских театров и убедился, что лучшим актерам Запада «далеко до Мочалова», а миланская онера по убранству намного уступает московской, что сценической серятины, скуки и пошлости на Западе побольше, чем у нас. Об этом с увлечением говорил драматургу Александр Герцен в дни пребывания Островского в Орсет-хаузе: — Вы, Александр Николаевич, проникли в глубочайшие тайны неевропеизированной русской жизни и внезапно бросили луч света в неведомую душу русской женщины, этой молчальницы, задыхающейся в тисках неумолимой, полудикой жизни патриархальной семьи! А здесь, в Европе, особенно во Франции, еле-еле пробиваются ростки сценической правды, соотносимой с правдой подлинной жизни. И Островский, радуясь одобрению такого критика, охотно соглашался, что русская драматургия стоит на верном пути… В 1862 году в Петербурге был обновлен плафон Александрийского театра. Вокруг потолочного люка, куда уходила главная люстра перед началом сценического действия, живописец изобразил четыре портрета лучших российских драматургов. Первые три — Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Четвертым стал Александр Островский. Этот акт признания подчеркивал, что между тремя покойными классиками и живым драматургом проведена как бы черта равенства. Так отметили газеты повое оформление театрального плафона в императорском Александрипском. Драматург воротился в Щелыково, где делил с ним целительное одиночество старый актер Иван Егорович Турчанинов, спокойный и привычный Островскому компаньон по рыбной ловле. Опа, как известно, требует тишины, не терпит разговоров, любит полную сосредоточенность и самоуглубление. Поэтому, верно, так много отличных прозаиков, от Аксакова до Паустовского, посвящали целые дни, недели, а то и месяцы этому философическому занятию. Близкие к Островскому люди свидетельствуют, что замыслы пьес рождались у него не над чистым листом бумаги, не над блокнотом или тетрадью. Не было у него ни записных книжек, ни заметок — иначе они, хотя бы частично, дошли до нас… Сюжет, сценарий, действующие лица, их язык — все сидело полностью внутри, до самого написания пьесы. Брат драматурга Петр Николаевич Островский вспоминал: «Сижу я как-то раз возле него на траве, читаю что-то, вижу, сильно хмурится мой Александр Николаевич. «Ну, что, — спрашиваю. — Как пьеса?» «Да что, пьеса почти готова… да вот, концы не сходятся!» Выношенные за лето «про себя» замыслы ложились на бумагу в осенние месяцы. Так, летом 1862 года обдумывал он сюжет пьесы «Грех да беда на кого не живет». К работе за столом драматург приступил 25 октября и ровно за один месяц закончил пьесу. 26 ноября он поставил точку. С необычной быстротой пьеса прошла цензурные препоны. И понадобился Малому театру всего-навсего двухнедельный срок, чтобы разучить, отрепетировать и выпустить спектакль на сцену! Подготовленный самим драматургом и режиссером Богдановым, он был впервые сыгран 21 января 63-го года, то есть между началом работы писателя за столом и премьерой спектакля промелькнуло всего три месяца! Спектакль вызвал восторг Льва Толстого, в августе того же 63-го года принес Островскому Уваровскую премию, присужденную Академией наук, а 7 декабря 1863 года Александр Николаевич Островский был избран ее членом-корреспондентом.
Той же осенью 1863 года окончена и появилась в журнале «Современник» пьеса «Тяжелые дни»… В начале зимы она пошла в Алексапдринском. Годом позже драматург окончил пьесу «Шутники», а в январе следующего, 1865 года читал в доме у Некрасова «Сон на Волге», или «Воеводу»… В том же, 65-м окончена комедия «На бойком месте», а в Мариинском театре Петербурга триумфально прошла премьера «Воеводы» с шумным чествованием автора… Зимой Островский окончил «Пучину» — вещь многоплановую и трудную, — она увидела свет рампы в Малом театре… К весне 1866-го драматург закончил историческую драму «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»… Вот так российская публика, читающая журналы и посещающая театры в обеих столицах, прямо-таки привыкла, стала считать за должное ежегодное появление в печати новой пьесы Островского, а нового спектакля на сцене Малого и Александринки… Мало того: драматургу и его друзьям удавалось со временем одолевать цензурные трудности в отношении прежних вещей. Подошла и очередь «Минина». Судьба этой хроники была нелегкой: Островскому пришлось сильно переработать драму, смягчить сцены народного протеста против боярства, убавить мотивы религиозно-философские, дописать еще несколько эпизодов, например картину битвы в Москве и возвращения рати в Нижний Новгород с победой. Несколько монологов, которыми автор дорожил, пришлось сократить ради большей сценичности пьесы… И «Минин» вышел на петербургскую сцену в декабре 66-го… Тяжелая болезнь Агафьи Ивановны помешала Островскому присутствовать на премьере, и спектакль прошел без его режиссуры. Это неблагоприятно отразилось на постановке: Бурдин, игравший Минина, по общему суждению критики, с ролью главного героя не справился. Вот как брат Михаил Николаевич писал об этом Александру в Москву: «Я указывал ему на необходимость отказаться от обычных его слезливых нот и завывания. Вообще репетиции шли недурно: он играл довольно сдержанно. На представлении же, подобно райской птице Сирин, сам себя забыл, и пошла писать. Не говоря уж о том, что он сам себе верен не был: являлся то грубым мужиком, то слезливой бабой, то восторженным героем, — в некоторых местах он до того завывал, что превосходил сам себя… Я ему указал все наиболее слабые места: он выслушал со смирением и обещал в следующий раз играть согласно с моими заметками». …Агафья Ивановна была уже почти без сознания, когда в московском Малом театре прошли две важнейшие для Островского премьеры, потребовавшие от автора неимоверного напряжения сил: 20 января 1867 года москвичи увидели драму «Минин» с Провом Садовским в главной роли, десятью днями позже театр показал историческую хронику «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». Пьесу эту Островский называл «самым решительным своим произведением» и придавал ему значение программное… В торопливо-кратком письме Федору Бурдину в Петербург он описывал премьеру; «Самозванец» в Москве имел огромный успех. Меня вызывали даже среди актов, в 3-м после сцены с матерью…» Вот как поставил Островский эту сильную сцену встречи царицы Марфы с Дмитрием Самозванцем на берегу Яузы у села Тайнинского: На переднем плане — роскошный царский шатер с распахнутыми полами. Выстроены двумя рядами стрельцы, за ними — толпы народа. Вдали — деревянный путевой дворец — царская резиденция в дни поездок. Островский точно датирует каждую сцену — данная происходит 18 июля 1605 года… Идет занавес… Несколько минут зрители любуются широким подмосковным пейзажем. Шатер на переднем плане еще пуст. Но вот из-за сцепы молодой боярин Скопин-Шуйский, сторонник Самозванца, почтительно выводит царицу Марфу (артистка-бенефициантка Е. И. Васильева)… Царицу-монахиню только что привезли сюда из монастырской кельи. В широкой нерпой рясе и монашеском клобуке она медленно бредет за своим провожатым, опираясь на высокий черный посох… Она пострижена с тех самых дней, когда сын ее, царевич Дмитрий, погиб, по-видимому, от ножа дьяка Битяговского и двоих Качаловых 15 мая 1591 года, то есть лет 14 назад… Эти 14 лет монастырского затвора состарили царицу-мать, превратили в безвозрастную, молчаливую монахиню… Между тем по годам она не старше актрисы, исполняющей эту роль (бенефициантке исполнилось 40). Васильева всей силой своего таланта смогла воплотить этот образ Островского, стать на сцене внутренне как бы опустошенной, безжизненной… Будто разбуженная в темноте и неожиданно выведенная на яркий свет, появляется она перед зрителями, смущенно оглядывается, садится на приготовленный для нее стул, робко произносит, обращаясь к спутнику-боярину, Скопину-Шуйскому (артист Александров):
…Зачем меня, старуху,
Ты вытащил из монастырской кельи?
От суеты мирской давно отвыкла,
Ох, я давно отвыкла!
Ну, пусть идет! О, господи, помилуй!..
Что говорить? Что делать? Где набраться
Мне разума? Ну, буди власть господня!
Ужли холопа Петьку позабыла?
Ты, Петя, встань! Ты молод был тогда.
Я в Угличе его похоронила…
…Вот если б вы в то время догадались,
Как я в слезах, обрызганная кровью
Царевича, по Угличу металась,
Безумная, звала людей и бога…
На месть Борису, если бы тогда
Восстала Русь, Литва и вся Украйна…
…И надо было, чтоб царевич ожил,
Воскрес убитый, — я тогда бы сыном
Подкидыша паршивого признала,
Щенка слепого детищем родным!
Басманов
Замкни — уста… Душа моя не стерпит,
Не вынесет она позорной брани…
Царица Марфа
Пугать меня! Жену царя Ивана,
Того Ивана, перед кем вы прежде
Как листья на осине трепетали!
Я не боялась и царя Бориса,
Не побоюсь тебя, холоп!
— Постой-ка! Ничего-то
Ты не похож (отворачивается).
Моя душа горит к тебе любовью…
..А ты взглянуть не хочешь на меня
И гонишь прочь, как недруга?!
Царица Марфа
Молиться
Всю жизнь мою за милости твои
И чтить в тебе царя, рабой, коль хочешь,
Служить тебе я с радостию буду;
Но матерью!.. Нет! Сердца не обманешь!
…Пусти меня опять в мою обитель —
Не сын ты мне.
Дмитрий (открывает полу палатки)
Смотри сюда…
От нашей царской ставки
До стен Кремля шумят народа волны
И ждут тебя. Одно лишь только слово!
И весь народ, и я, твой сын венчанный,
К твоим стопам, царица, упадем.
Царица Марфа (поднимая его)
Ты мой! Ты мой!
Народ
Царица! Мать родная! Ты сиротам,
Рабам твоим, покров и заступленье!..
3
Под наблюдением хозяйственной и куда более рачительной второй жены николо-воробинский дом писателя заботливо починили, окрасили наново и приспособили для жизни новой семьи. Александр Николаевич нежно любил Марию Васильевну, детей называл «своими лучшими произведениями»! А их у него было шестеро. Относился он к ним заботливо и ровно, избегал наказаний, но старался и не баловать, уделял им немало времени, приучал к ручному труду, радовался самым малым стараниям и успехам, сильно пугался, если дети заболевали. Терял тогда сон и покой, утрачивал работоспособность, мог просиживать без сна целыми ночами у постельки, впадал в отчаяние, если усиливалась лихорадка, звал в дом лучших врачей Москвы и запрещал матери «лечить детей домашними средствами». И подрастали все шестеро здоровыми, ухоженными, на чистом воздухе, особенно с тех пор, как братья Александр и Михаил выкупили у мачехи Эмилии Андреевны Щелыково. Управляла имением на патриархальный лад небогатая соседка, Ирина Андреевна Велихова, приглашенная на роль управительницы еще прежней владелицей. Старушке Велиховой было нелегко привыкать к пореформенному, новому укладу, и Островскому приходилось мягко растолковывать ей все перемены в правах и обязанностях. Сказала она однажды летом Островскому, что, по ее мнению, следует наказать розгами крестьянина-мельника за нечестность и упущения в работе мельницы. Эту щелыковскую мельницу на речке Куекше крестьянин снимал в аренду у хозяев поместья. Когда Островский стал объяснять управительнице, что крепостным порядкам пришел конец, старушка в полном недоумении воскликнула: — Да батюшка, Александр Николаевич, при чем тут новые порядки?! Я же этому мельнику крестная мать! Кто же его образумит, как не я! В 1870 году И. А. Велихова скончалась, и управление имением перешло к молодому крестьянину Любимову, человеку, понимавшему значение Щелыкова как творческой лаборатории великого драматурга. Семейная жизнь писателя упорядочилась, стала более устойчивой, по и более сложной, сделалась и куда дороже! Увеличился штат людей, занятых хозяйством имения и обслуживающих дом. Материальное положение драматурга с возрастанием количества идущих в театрах пьес улучшилось, но единственным средством заработка было по-прежнему перо! Доходы по имению из года в год оказывались ниже расходов. Семейство Островского существовало на журнальные гонорары и поспектакльную плату из театров, крайне низкую. Все попытки выхлопотать пенсию или какое-то постоянное вспомоществование терпели неудачу. Поэтому до самой старости Александр Островский бился с нехваткой средств, влезал в долги, работал всегда с перенапряжением сил; мог об отдыхе только мечтать. Тем временем приближалась дата, казавшаяся Островскому весьма значительной в истории русской культуры, — день 30 октября 1872 года. Двести лет назад, в 1672 году, при царе Алексее Михайловиче официально открылся в Москве первый русский театр. Этому событию драматург решил посвятить новую пьесу. Вот в каком состоянии душевной сумятицы трудился Островский над задуманной пьесой «Комик XVII столетия»… Островский — Бурдину, январь 1872 …«У меня у самого горе. Сережа захворал опасно: к тому же и сам нездоров и нервы мои слабы до крайности. Как я расстроен, ты можешь судить по тому, что я так испугался… что у меля вдруг пропал голос и я целый вечер говорил шепотом. Во мне всякая жилка дрожит, руки и ноги трясутся… …Я и запят очень сильно новой пьесой и расстроен донельзя… От Николая Савича я получил интересные материалы[4]…» А работа над пьесой была сложна даже для такого знатока Москвы, как Александр Островский! Ведь два столетия отделяли событие от времени Островского! Для примера того, как трудился драматург над своей новой комедией, всего одно письмо из целой переписки: Островский — другу своему, Н. А. Дубровскому, археологу и историку (Щелыково, 12 сентября 1872) «Миленький, хорошенький Николенька! Сходи к Ивану Егоровичу Забелину и поклонись ему в ноги (а после я тебе поклонюсь), а проси его вот о чем, чтобы он начертил тебе на бумажке постановку декораций для Постельного крыльца, так, чтобы та часть его, которая выходила к нежилым покоям, приходилась к авансцене, далее, чтоб видна была каменная преграда, место за преградой и ход на государев верх. Мне это очень нужно для комедии, которую я кончил и которая пойдет у Митоса в бенефис» (Митос — прозвище Дм. Живокини. — Р. Ш.)… Начатая весной и оконченная осенью 1872 года, комедия «Комик XVII столетия» пошла в Малом театре 26 октября, а опубликована была в «Отечественных записках» в начале следующего, 73-го года. Много лет спустя, по свидетельству современников, русская поэтесса Марина Цветаева, обладавшая особенной чуткостью к глубинным явлениям нашего литературного языка, высказала мнение что именно в этой комедии Островский достиг вершины языкового и стилистического мастерства и создал настоящую жемчужину русской драматической поэзии…ГЛАВА СЕДЬМАЯ ХОЗЯИН РУССКОЙ СЦЕНЫ
Это — чуть не пятидесятое мое оригинальное произведение, и очень дорогое для меня во всех отношениях: на отделку его потрачено труда и энергии: оно писано после поездки на Кавказ, под впечатлением восторженного приема, какой оказывала мне тифлисская публика… Повторения такого счастливого настроения едва ли уж дождешься.А. Н. Островский — о своей комедии «Вез вины виноватые»
1
Осень 1883 года… Паровой катер вышел из просторной бакинской бухты и лег на курс зюйд-ост, чтобы круче обойти камни у Тюленьева мыса, которым обрывается в Каспий песчаная Шахова коса Апшеронского полуострова. От городской набережной катер отвалил перед вечером, когда спала дневная жара и море совсем успокоилось. Днем оно слегка парило. Братьям Островским, Александру и Михаилу, здешнее октябрьское солнце показалось горячее, чем оно бывает в летний полдень над Невою или Москвою-рекой. Морскую увеселительную прогулку устроил для братьев Островских бакинский губернатор барон Гюбш фон Гросталь, высокий и тощий немец, фигурой, бородкой и усами похожий на Дон Кихота Ламанчского. Он почтительно отвечал на сухо-деловые вопросы Михаила Николаевича — министра государственных имуществ, члена Государственного совета, прибывшего сюда с правительственным поручением в инспекционных целях. Своего брата-драматурга он пригласил в эту инспекционную поездку, чтобы показать ему Кавказ, познакомить с деятелями российской коммерции и промышленности и дать брату возможность отдохнуть на юге от столичной суеты. Пока Островский-министр беседовал на борту с губернатором, Островский-драматург разговорился со смуглым и неторопливым черноглазым человеком в полуевропейской одежде, сафьяновых сапожках и легкой барашковой шапочке на слегка вьющихся и уже чуть поседелых волосах. Это был миллионер Тагиев, сын азербайджанского бедняка ремесленника. Смолоду он работал каменщиком, а ныне стал партнером и соперником знаменитого шведского инженера и предпринимателя Нобеля… — А сами вы часто встречаете этого человека? — осведомился Александр Николаевич у Тагиева. — Людвига Эммануиловича? Частенько видимся! Сейчас он в отъезде и потому вчера не присутствовал, когда вам и его превосходительству, вашему брату, показывали промысел нобелевского товарищества… Ведь как раз к вашему прибытию подготовили открытие новой скважины… Каковы ваши впечатления? Островский жестом показал, как он зажимал уши от грохота и рева вырвавшейся из скважины газовой струи. — Этот фонтан из недр земных меня просто потряс! Когда скважину при нас отомкнули, оттуда рванулся сначала газ с такой неистовой силой, словно тысячи пушек загрохотали сразувместе. Я это видел с расстояния в тридцать сажен и то попятился. Да и на лицах остальных зрителей застыли страх и удивление: уж очень велика и неистощима сила природы! Потом, следом за массой невидимого газа, рванулась из скважины черная кровь земли. Поразительное, незабываемое впечатление! Только повидавши промыслы, можно понять, что это за баснословное богатстве! Притом дело ваше, господин Тагиев, самое молодое и свежее; можно сказать, для нашей России — новорожденное! Скажите, как удалось нам, бакинцам, выиграть соперничество с американцами? Чем такой успех достигнут? — Это важный, по долгий разговор. Если желаете коротко, то извольте. Как раз глава товарищества братьев Нобель, Людвиг Эммануилович Нобель, поставил все дело здесь на новый лад. Ввел в обиход нефтеналивные суда и цистерны, внес много улучшений в самую технологию добычи, улучшил хранение товара, построил перегонные заводы, удешевил в несколько раз стоимость фотогена… Сейчас он даже в розничной продаже идет по 30–40 копеек за пуд, а производят его у нас в год до 20 миллионов пудов… Вот и вытеснили американцев с российского рынка. — Фотоген? — переспросил Островский. — То есть «рождающий свет»? Не слышал такого слова. — Приблизительно то же, что керосин, продукт перегонки нефти… Лучше скажите мне, сударь, что вы с братом успели посмотреть в Баку? — У брата слишком много служебных забот. Я же здесь птица вольная. И показывали мне чудесный дворец Ширван-шахов. Он чуть постарше новых стен нашего Московского Кремля. Я несколько часов бродил по его крытым галереям, каменным переходам и плоским крышам, читал арабские и персидские изречения на стенах, и мне все время казалось, что ожили передо мною сказки из «Тысячи и одной ночи». Видел в городе Девичью башню, тоже дивился мощи этой средневековой постройки. Да и дворец Кокорева, где нас с братом поместили, на диво хорош! Терраса, где мы завтракаем, выходит прямо на море, а вокруг, в саду, неимоверное великолепие растительности. — Вас, Александр Николаевич, и сейчас ждет зрелище довольно редкое. Пожалуй, единственное в своем роде на всем земном шаре… Извольте присмотреться к воде! За бортом стемнело. Мыс Тюлений остался позади, слева. Впереди была бескрайность, дальние звезды над горизонтом, густеющий мрак. Сзади слабо сияли звездной россыпью огни города и промыслов. Катер замедлил ход… Островский заметил, что здесь, на каком-то ограниченном морском участке, из глубины обильно подымались пузырьки газа, как в сельтерской воде… Матрос выглянул из машинного отделения, перегнулся через борт катера, зажег спичкой тряпицу, смоченную керосином. И идущий из моря газ вспыхнул синеватым, загадочным пламенем. Газ просачивался со дна из мелких трещин и щелей в скальном грунте, вырывался из волн морских в виде пузырьков и вспыхивал от горящей на воде тряпицы… Казалось, что горит сама вода или ее таинственные испарения! Катер смело маневрировал среди голубых вспышек подожженного газа, входил на мгновения в эти призрачные огненные купели, охватывавшие маленький корабль холодным пламенем со всех сторон. Подувший ночной бриз потушил этот диковинный фейерверк. — Тут у вас недолго и огнепоклонником стать! — засмеялся драматург. — Ведь картина для ума неискушенного загадочна и прекрасна! Тагиев его поддержал: — Во времена совсем недавние были целые селения, где жители поклонялись огню как богу. Жрецы проклинали первых нефтяников, особенно разведчиков нефти, приезжих геологов. Когда промыслы распространились, вера эта постепенно угасла… Но еще встречаются и сейчас старики, предсказывающие общую гибель Земли за то, что потревожили ее недра и злоупотребили «силой бога», извлекли ее из недр земных, жгут в топках и продают на людскую потребу… Катер возвращался в Баку. Вода шелестела у бортов, машина мерно дышала в ночи, подгоняемая «силой бога», таинственной кровью земли — нефтью. Лопасти винта взрывали легкую волну, а берег сиял навстречу тысячами светлячков. Островскому вспомнился Марсель, к которому он так же приближался ночью. Но здесь, на Каспии, все было как-то шире, таинственнее, а главное — роднее! И даже в этом собеседнике, полуевропейце-полуазиате, есть нечто близкое, что-то от… осташковского головы, купца Федора Савина, выдумщика и силача, с его «американской» гичкой на русский лад… Селигер… и Каспий — два конца великой Волги, исток и устье… Таков размах Руси, таковы ее необозримые пределы… Велика честь быть их народным певцом!* * *
День 19 октября выдался пасмурным, но намеченную поездку в Мухранскую долину, в гости к князю Ивану Константиновичу Багратиони-Мухранскому, строители не отменили: у перрона Тифлисского вокзала уже был подготовлен экстренный поезд, да и свита собралась порядочная! Встреча с князем, слывшим образцовым руководителем крупного сельскохозяйственного производства, особенно интересовала министра Островского: правительство предусматривало поощрительные меры, чтобы помогать таким успешным хозяйствам. Поезд доставил всю группу гостей на станцию Ксанка (ныне, в советское время, станция Ксани, по названию речки)… Далее горными дорогами в экипажах и в сопровождении военного эскорта одолели горный перевал, спустились в долину Мухрани. 73-летний хозяин встречал гостей на террасе дома-дворца, еще не окончательно достроенного. Заслуженный генерал николаевских времен, с Георгиевским крестом за крупную победу над Омар-пашой в русско-турецкой кампании 1854–1855 годов (под местечком Озургети), вышел после войны в отставку и посвятил себя сельскому хозяйству. Стал исподволь скупать земельные участки в Тифлисском, Душетском, Горийском, Телавском районах. Михаила Николаевича особенно интересовало то обстоятельство, что этот крупный сельскохозяйственный предприниматель стал одним из первых применять заграничные машины и орудия и пригласил на службу весьма толкового и образованного французского агронома Одана. Под его опытным управлением в Мухрани построили и пустили в ход крупный винный и спиртоводочный заводы, бондарную мастерскую, пивной завод, а к югу от Тифлиса, на принадлежащих генералу пастбищных угодьях, завели не менее крупное молочное хозяйство, выделывали сыр, масло, мясные деликатесы. Чистый годовой доход от сельскохозяйственного производства достигал подчас трехсот тысяч. Забегая, однако, вперед, приходится признать, что сыновья и наследники старого князя не проявили ни организаторского таланта, ни хозяйственных интересов. Став владельцами отцовского богатства, сыновья поддались соблазнам… Светские красавицы, балы, крупная карточная игра… Все это быстро привело хозяйство к упадку. И по прошествии всего нескольких лет, уже в 90-х годах, министр М. Н. Островский, лично знавший эти владения, рекомендовал удельному ведомству приобрести их в казну. Что и было исполнено в конце века… А читателю сегодняшнему небезынтересно будет узнать, что роскошный дом князя Багратиони-Мухран ского, где хозяин оказывал гостеприимство русскому драматургу и его брату, в наши дни служит сельскохозяйственной науке: там размещен известный сельскохозяйственный техникум. Винный завод работает успешно, земля князя принадлежит совхозу. Его чудесные виноград ники занимают большие площади в долине речки Ксани, вдоль автомобильного шоссе Тбилиси — Гори… …Слово для застольного величания гостеприимного хозяина произнес Михаил Николаевич Островский: — Сегодня нам нельзя не оценить, что мы находимся здесь под гостеприимным кровом славного грузинского князя, являющегося отпрыском царственного рода Багратионов. Великие представители этого рода сыграли выдающуюся роль в судьбах не только родной Грузии, но и всего государства Российского. С большим удовлетворением я услышал в Тифлисе, что грузинская интеллигенция, городские круги Телави, Мцхеты, Сухума и Кутаиса совсем недавно, всего месяца два назад, чествовали столетие со дня заключения судьбоносного Георгиевского трактата между Россией и Грузией. Он был подписан в городе Георгиевске, на Северном Кавказе, 24 июля 1783 года. Справедливо стремясь уберечь свою страну — Восточную Грузию от посягательств со стороны Персии и Турции, грузинский царь Ираклий Второй из рода кахетских Багратионов, — при этих словах оратор поклонился хозяину дома, а присутствующие поднялись с мест с бокалами в руках, — поручил великой северной державе и ее войскам защиту Грузии от нападений извне… Это был мудрый и дальновидный шаг грузинского царя, и, как мы помним, вскоре, уже при Павле Первом, вся Грузия, включая и ее западную часть, вошла в состав Российского государства, дабы полностью избавиться от угрозы порабощения недружественными и воинственными соседями. Поднимаю бокал в честь всех выдающихся Багратионов, политиков я вой нов, способствовавших процветанию Грузии — драгоценной жемчужины в российской короне!.. …Возвратившись в Тифлис под осенним дождем, в полной темноте, Островский узнал, что на завтра назначено представление грузинской труппы в театре Арцруни в честь гостя из Москвы…* * *
Вечер… 20 октября 83-го. Островский поздно воротился в отведенный ему покой у брата жены, Александра Бахметьева. Писателя переполняло чувство радости. Нынче и он мог сказать: «И назовет меня всяк сущий в ней язык…» …Все было необычайно. Сочетание театра и караван-сарая; еще не облетевшая, хотя подсохшая листва чинар, тополей; нарядная Дворцовая улица между дворцом кавказского наместника[5] и Эриваиьской площадью[6]. Расположенный здесь (на месте нынешнего театра имени Грибоедова и универмага) театр Арцруни поразил Островского своим экзотическим обличьем, совершенно непохожим на театры российские или западные. Днем провожатые показывали ему другой караван-сарай, близ Сионского собора, и тоже связанный с именем Арцруни. И тот и этот караван-сараи имели в архитектуре своей нечто персидское, роскошное, несвойственное гостиным дворам других городов, В арцруниевских караван-сараях были видны двух-трехъярусные галереи для лавок и складов, духанов и деловых контор. В магазинных витринах, застекленных или открытых вовнутрь здания, блистали всеми красками азиатские шелка, тончайшие шерстяные ткани, выставлены были костюмы на любой вкус. Сверкало дорогое оружие. Спутники наперебой объясняли братьям Островским (все эти подробности имели большую ценность именно для Островского-министра), что караван-сарай Арцруни на Дворцовой строился в начале века и уже в 1847 году здесь организовалось «Закавказское товарное потребительское общество», то есть нечто вроде крупного кооператива — форма, для тех времен новая и интересная. В середине века пристроили левое и правое крыло этого коммерческого здания, а в 1858 году был сооружен и вместительный театральный зал. …Доступ к театральному залу открывался через караван-сарай, богато украшенный гирляндами свежей зеле-пи. Вход в караван-сарай освещали огни цветных фонариков и иллюминационных плошек. Прорезной щит-транспарант с грузинской надписью: «Привет могучему драматургу», сплошь убранный редкостными для позднего осеннего сезона розами, олеандрами и рододендронами, ярко светился навстречу гостям. Вдоль галерей, на всех ярусах грудился живописными толпами народ. Встречали гостей «отцы города» во главе с предводителем дворянства Луарсабом Магаловым. Едва Островский со спутниками поднялись на первую ступеньку лестницы у входа в караван-сарай, по знаку Магалова вспыхнули бенгальские огни на всех галереях. Под холодными струйками этого голубоватого мерцающего огня гости прошли вдоль галерей к помещению театра, а оркестр народных грузинских инструментов играл величальный марш Мравалжамнер. Положивший его на музыку композитор Декер-Шенк (его опера «Хаджи-Мурат» позднее шла в С.-Петербурге) сам дирижировал оркестром. У гостя повлажнел лоб. Такого чествования он еще не удостаивался ни в родной Москве, ни в невской столице. В средней ложе для Островского поставили у самого барьера обитое бархатом кресло. Царский министр Михаил Островский уселся сзади — здесь он был на втором плане. Занавес пошел под звуки сазандари, игравших «айран», восточный гимн радости и веселья. Вся труппа выстроилась на сцене нарядным полукольцом. Известный комик и режиссер Васо Абашидзе прочел по-русски приветственный адрес: «Дорогой наш учитель! Новое товарищество грузинской драматической труппы с восторгом празднует незабвенный день посещения грузинского театра творцом русской национальной драмы. Знакомя нашу публику с Вашими бессмертными творениями, мы постоянно сознавали, что она рукоплещет не нам, не нашей игре, а великому драматургу, сумевшему осветить и оживить свои дивные произведения вечною общечеловеческою идеей гуманности и правды, одинаково дорогой всем народам. Пионеры искусства на Востоке, мы убедились и доказали воочию, что чисто русские, народные создания Ваши могут трогать сердца и действовать на ум не одной только русской публики, что знаменитое имя Ваше столь же любимо у нас в Грузии, как и у Вас в России. Мы бесконечно счастливы, что на нашу скромную долю выпала высокая честь послужить при помощи Ваших творений одним из звеньев моральной связи между двумя этими народами, имеющими столько общих традиций и стремлений, столько взаимной любви и симпатий». В антракте актеры принесли адрес и лавровый венок в ложу (ныне адрес хранится в Пушкинском доме Академии наук СССР). Герой торжества нашел, что адрес этот написан умно. В его устах это было высокой похвалой. Недаром в июне 80-го года в знаменитой речи по случаю открытия памятника Пушкину в Москве Островский назвал главной заслугой Пушкина то, «что через него умнеет все, что может поумнеть»… Вечером на банкете драматург благодарил за удивительное проникновение в дух его пьесы, «составленной не из ваших нравов». Он нашел очень интересной и пьесу своего грузинского коллеги Авксеития Цагарели. На этом вечере писатель познакомился с публицистом-шестидесятником, другом Н. Г. Чернышевского и Герцена Нико Николадзе, драматургом Давидом Эристави, общественным деятелем Георгием Туманишвили… На другое утро, не дожидаясь своего спутника, писатель выехал в Батум (Михаила Николаевича дела задержали в Тифлисе на лишний день). В хорошо отделанном, двухосном, мягком вагоне было три отделения. На первых порах Островскому портил настроение сосед но вагону, жандармский полковник де Лазари, пытавшийся веселить гостя сальными анекдотами и историями. К счастью, жандарм ехал только до Кутаиси. Вторым лее соседом оказался русский моряк, кого писатель запомнил еще по своим бакинским встречам. Островский сразу по чувствовал в нем личность незаурядную… Флигель-адъютант, капитан 1-го ранга, георгиевский кавалер, участник последней русско-турецкой войны 1877–1878 годов, он и внешне походил на былинного богатыря северного типа: крупного роста, белокурый, в цветущем возрасте 32 лет, исколесивший, однако, уже чуть не весь белый свет, служивший и на Балтике, недавно топивший турецкие броненосцы под Батумом и атаковавший это турецкое укрепление с моря, — Степам Осипович Макаров любил, оказывается, и театр, и отечественную драматургию. И как любил!.. …Они стояли у вагонного окна, любуясь редкостным по красоте ландшафтом Сурамского перевала. Тогда еще не было предусмотренного проектом тоннеля, а участок от Самтредия до Батуми вступил в эксплуатацию всего месяцы назад, на только что освобожденной из-под власти турок земле. У села Пони, на самой макушке перевала, два паровоза еле управились с подъемом. И паровозы, как пояснял Макаров, были здесь особые, системы «Ферли», с двумя трубами и двумя топками по концам, чтобы не поворачивать локомотив для обратного хода. Крутизна спусков и подъемов была предельная: поезд шел так тихо, что можно было бы, казалось, прямо с подножки нарвать цветов… Водопады, монастыри, широколиственные леса, древние замки — все это в раме вагонного окна проплывало перед взволнованным писателем. В окружении «величественной, дикой, адской красоты» беседовали целую ночь двое русских людей — состарившийся и больной Александр Николаевич Островский и будущий адмирал, создатель ледокольного корабля «Ермак» и кругосветный путешественник Степан Макаров, двадцать два года спустя безвременно разделивший вместе с экипажем крейсера «Петропавловск» роковую судьбу этого корабля. — Бог привел, дорогой Александр Николаевич, к этой встрече с вами, на что никогда и не надеялся. Между тем вы сыграли в моей жизни немалую роль! — Как же так? — удивился заинтересованный драматург. — А вот как! Помню, примерно семнадцатилетним морским кадетом, на пороге выпуска в гардемарины, очутился я впервые в новом Мариинском театре. — Совершенно верно! В 1860-м. Здание построено было для императорского цирка, потом горело, и наконец архитектор Кавос, тот же, кто восстанавливал и московский Большой после страшного пожара 53-го года, переделал бывший петербургский цирк под оперную сцену… Там у меня в 1865-м прошла премьера «Воеводы»… — Так именно этот спектакль и разбередил мне душу! Я о нем-то сейчас и заговорил. Тогда я впервые видел вас, как говорится, вживе! Вы раскланивались из ложи, а я, безусый кронштадтский кадетик, все ладони себе докрасна отбил… Сколько русской души в вашем «Воеводе», сколько удали, но и сколько печали!.. — Как говорится, спасибо на добром слове! Помните, у Пушкина: «когда бы все так чувствовали силу гармонии…» Но я, кажется, помешал вам закончить вашу мысль? Какую же роль мог сыграть мой «Сон на Волге» в судьбе российского моряка? — Представьте себе, немалую! Там старуха на постоялом дворе поет у вас колыбельную песню малому дитяти. За душу меня эта песня взяла. Уж и раньше приходилось задумываться о том, кто у нас, у морских офицеров, под началом служит, как сыны крестьянские к нам в матросы попадают. И почему-то именно эта песня колыбельная, тоскливая и горькая, заставила меня матросскую судьбину понять. Будто эта старуха ваша — крестьянская мать на нынешней Руси, а сын, над которым она причитывала, сегодня у меня на корабле вахту держит и свою мужицкую думу думает… Читал я в «Морском сборнике» ваши статьи, выписал себе полное собрание ваших сочинений и по сей день переношу эти книги с корабля на корабль, и экипажи мои играли «Бедность не порок», «Свои люди — сочтемся», «Бедную невесту» и отдельные отрывки из других пьес, под всеми широтами. И в Сингапуре, и в Рио-де-Жанейро, и у мыса Доброй Надежды. Думается, и впредь будем поддерживать русский дух на кораблях российских с вашей помощью!.. Хотите, я вам эту вашу «Колыбельную» наизусть напомню?
— Извольте! Сам-то… давно не вспоминал. Минуту помолчав и напрягая память, Макаров тихо начал:
Баю-баю, мил внучоночек!
Ты спи-усни, крестьянский сын!
Допрежь деды не видали беды,
Беда пришла да беду привела
С напастями да с пропастями,
С правежами беда, все с побоями.
Баю-баю, мил внучоночек!
Ты спи-усни, крестьянский сын!
Нас бог забыл, царь не милует,
Люди бросили, людям отдали,
Нам во людях жить, на людей служить,
На людей людям приноравливать.
Баю-баю, мил внучоночек!
Ты спи-усни, крестьянский сын!
Беду нажили, как изжить будет?
Изживем беду за работушкой,
За немилой, чужой, непокладною,
Вековечною, злою-страдною…
2
Островский вернулся с Кавказа в Москву в свою новую, уже полюбившуюся ему за шесть лет квартиру, на улице Волхонке, против белой громады достраиваемого храма Христа Спасителя, в доме (ныне № 14), принадлежавшем князю Голицыну. Островскому сразу понравился здесь кабинет, хорошо обставленный и теплый, с уютным камином, лепными потолками и огромными книжными шкафами, вместившими всю рабочую библиотеку драматурга. Управляющий домом назначил весьма умеренную плату — сам Островский считал, что тысяча рублей в год составляет полцены за эту большую, удобную, отлично меблированную квартиру. Она его очень радовала, тем более что из прежнего скромного жилья перевезти в новую квартиру пришлось почти одни книги да обиходные вещи — старая мебель, правда, частично замененная после кончины Агафьи Ивановны, совсем не подходила к голицынской, княжеской обстановке… Улица была продолжением Пречистенки и отделяла голицынский дом от белокаменного собора, строившегося в память победы над Наполеоном. Более сорока лет москвичи с любопытством следили, как постепенно росли и возвышались над городом белокаменные степы и золотые купола храма, рассчитанного вмещать десять тысяч человек. Один из близких друзей Островского, скульптор Рамазанов, положил много труда вместе с другими ваятелями, живописцами и чеканщиками на украшение собора, уступавшего в России только петербургскому Исаакию в величии и богатстве. За год до кавказской поездки Островского, то есть в 1882 году, собор был наконец освящен и открыт. Глядя на него, Островский томился из-за невозможности забраться на смотровую площадку собора или взглянуть вниз из подкупольных оконцев-слухов. Хороша, верно, оттуда панорама Москвы! Ведь совсем недавно поднимался он под купол святого Петра в Ватикане, забирался и на миланское архитектурное чудо, и на колокольню Петра и Павла в Лондоне, а тут, у себя дома, уже не хватает сил для похода под крышу нового собора: слишком частыми стали тяжелые, острые приступы грудной жабы. Замысел новой вещи, о которой бурной кавказской ночью шла у пего беседа с моряком Макаровым, окончательно прояснился. Еще с самой весны он прикидывал сцепы, обдумывал ситуации, представлял себе героев ив знакомой, родной ему артистической среды. …Если судить не по отдельным, исключительным случаям, например не по житейским судьбам артистов — фаворитов столичной сцены, вроде Щепкина, Мартынова, Садовских, Никулиной-Косицкой, Струйской (которую, кстати, Островский ценил не очень высоко за ее холодность), то и в кончавшемся 1883 году положение рядовых, прежде всего провинциальных, актеров оставалось таким же, как в пьесе «Лес». Трагичнее всего складывались судьбы молодых актрис. В памяти драматурга оживали вновь и вновь рассказы Любови Павловны о ее нижегородской, ярославской и рыбинской жизни. А сколько таких повестей довелось ему слышать от других, менее удачливых! Аркашка Счастливцев в ответ на замечание трагика: «Вот бы нам найти актрису драматическую, молодую, хорошую…» — горестно вздыхает: «Да их теперь и нигде нет-с…» Остальных-то, мол, подобрать легко! Когда Аксюша в отчаянии пытается покончить с собой и ее удерживает на берегу Геннадий Несчастливцев, спасенная соглашается пойти в артистки после горячих уговоров трагика, обнаружившего в ней сценический талант, способность к сильным чувствам, «красоту в движениях». «Торжествуй, Аркагока, — кричит он товарищу, — у нас есть актриса! Мы с тобой объедем все театры и удивим всю Россию». Можно верить этому герою пьесы «Лес»: если бы судьба девушки не изменилась (благодаря великодушию Несчастлипцева), актриса из Аксюши, вероятно, действительно получилась бы. А ее учителем, режиссером и наставником сделался бы какой-нибудь добрый товарищ по провинциальной сцене. Значит, личные драмы, семейные беды и сердечные травмы вели молодых женщин либо к роковому пределу — обрыву, либо на русскую провинциальную сцену! А дальше беззащитная и лишенная средств девушка-артистка, конечно же, не могла существовать без «покровителя», «мецената», то есть богатого «друга»… Массу споров вызвал в печати девически нежный образ молодой, высокоодаренной актрисы Негиной из «Талантов и поклонников». Критика, как это случалось почти со всеми вещами Островского, разделилась: передовые журналы и демократически настроенные зрители радовались спектаклю, правонастроенная пресса и менее либеральные критики недоумевали или бранились: мол, Островский перегнул палку! Первой исполнительницей роли Негиной была великая Ермолова, тогда, в 1881 году, 28-летняя актриса императорского Малого… Ее Негина была не слабой и не переменчивой, она не изменяла своему чувству любви к бедному студенту Мелузову, уходя к богачу и «меценату» Великатову во имя будущей театральной судьбы. Ермоловская Негина была не овцой и не волком, не хищницей и не продажной жалкой тварью, как понимали ее иные исполнительницы. У Ермоловой Негина принадлежала к той же сильной и самоотверженной породе русских женщин, что и Мария Андреевна из ранней пьесы Островского «Бедная невеста». Ермолова играла молодую, малообразованную, но способную на высокую жертву женщину-актрису, решившую всецело посвятить себя служению искусству. Снисходит она и к слабостям своей недалекой, житейски хитрой и податливой на подкуп матери Домны Пантелеевны. Жизнь этой старухи благодаря жертвенному поступку дочери, «становящейся на горло» своей любви, теперь потечет в таких условиях, о каких она до встречи дочери с Великатовым и мечтать бы не посмела!.. А главное — Негина освобождается от унизительных, мелочных забот о хлебе насущном, ей открывается творческий простор… В своих «Талантах и поклонниках» Александр Островский ставил, таким образом, перед зрителем две проблемы: с одной стороны, он ясно давал понять, что материальное положение служителей сценического искусства буквально бедственное (вопреки мнению критиков, будто взят лишь некий «частный случай»). А с другой стороны, драматург предоставляет зрителю решить проблему нравственную — в чем, мол, состоит нравственный долг одаренного мастера сцены, когда он самой жизнью поставлен перед выбором: отречься во имя любви от своего искусства (ибо служить ему в нищете невозможно) или же во имя искусства отречься от своей любви и даже преступить фарисейские законы буржуазной морали. И вот в новой своей пьесе, за которую он принялся сразу но приезде с Кавказа, Островский решил еще острее поставить несколько нравственных проблем, связан-пых с жизненной и творческой практикой в русской актерской среде… «Итак, — думалось Александру Николаевичу, — господам критикам не по душе судьба неимущей артистки Негиной? Что ж, может быть, эти господа подсказали бы, на какие же средства должна одеваться, содержать родных, разъезжать по городу молодая артистка, если ее жалованье ничтожно да еще задерживается антрепренером? Ну, хорошо! Допустим, что материальная нужда как-то миновала или обошла артистку стороной. У нее нет прямой необходимости жертвовать собою, превращаться в «хозяйскую вещь» (ибо всякая вещь должна ведь иметь хозяина, владельца! — к этому горькому вы воду приходит в «Бесприданнице» красавица Лариса). Итак, пусть эта проблема «хозяина» для артистки снята. Но и тут сразу же встают новые, даже более сложные нравственные проблемы. Артисты — живые, любящие и страдающие люди, ничто человеческое им не чуждо. Как же быть, например, с чувством материнства, с материнской ответственностью в условиях кочевой, неустроенной актерской жизни?» Из этих то раздумий Островского рождается сцена откровенной беседы «известной провинциальной актрисы Кручининой» с «богатым барином Нилом Стратоновичем Дудукиным» в гостиничной комнате. Кручинина рассказывает, как она поспешила к своему заболевшему ребенку, помещенному с няней в другом доме, упала там в обморок, заразилась его дифтеритом и лишь много времени спустя узнала из телеграммы, что сын умер (телеграмма была ложной. — Р. Ш.). На вопрос Дудукина о дальнейшей жизни актрисы Кручинина поясняет: «Я с теткой много странствовала, жила и за границей, и довольно долго; потом тетка умерла и оста вила мне значительную часть своего наследства, Я стала довольно богата и совершенно независима, что от тоски не знала, куда деться. Подумала, подумала и пошла в актрисы… (по воспоминаниям современников известно, какое впечатление именно эта реплика Ермоловой производила на зрителей: в Малом публика вставала и аплодировала стоя, как бы выражая сочувствие судьбам актерским. — Р. Ш.). Вот теперь заехала сюда случайно и вспомнила живо и свою юность, и своего сына… …Дудукин. Да вы воображаете его ребенком, а ему теперь, если бы он был жив, было бы двадцать лет… Вы представляете себе улыбающееся, ангельское личико с беленькими шелковыми кудрями… И вдруг вваливается растрепанный шалопай, вроде Незпамова, небритый, с букетом дешевых папирос и коньяку…» Развязка комедии «Без вины виноватые» счастлива: мать и сын узнают, что были жертвами злонамеренного, эгоистического обмана, Кручинина приходит в себя из глубокого обморока, у Незнамова вырываются слова: «Господа, я мстить вам не буду, я не зверь. Я теперь ребенок…» А на испуганную реплику Дудукина: «Я думал, что вы умерли» — следует заключительная фраза актрисы: «От счастья не умирают…» Императорские театры, Малый в Москве и Александрийский в Петербурге, поставили комедию почти одновременно в январе 1884 года, и тогда же в первом номере «Отечественных записок» она была напечатана. Недоброжелательные критики упрекали драматурга в банальности ситуаций, мелодраматичности, а главное, в том, что автор, мол, «совершенно оставил в тени общественную сторону». Этот несправедливый приговор отчасти можно объяснить тем, что первоначальные постановки затушевывали «общественную сторону», упирая на бытовую, будто бы личную драму… Критика нравов и порядков приглушалась. Лишь последующие, более поздние постановки, как это произошло и с пьесой «Лес», да и с «Грозой», «Бешеными деньгами», «Бесприданницей» и «Волками и овцами», более глубоко раскрыли истинный, критический и обличительный, замысел всех этих великих творений российского драматурга. И тогда перед зрителем проходили не просто Шмага-циник или Аркашка-подонок, а живые, измученные и искалеченные жизнью люди, обладавшие недюжинными талантами, юмором и способностями, загубленными и пропитыми на самом дне закулисной горькой жизни. И вековечный острейший вопрос: кто виноват? — во всю ширь вставал перед потрясенным зрительным залом!3
Наступивший 1886 год принес драматургу и большие радости, и новые, уже почти непосильные при его пошатнувшемся здоровье труды и хлопоты. Теперь он впервые в жизни смог вздохнуть от заботы материальной: благодаря неустанным хлопотам брата-министра и влиятельных заступников увенчались наконец успехом давнишние старания поручить Островскому руководство театральными судьбами Москвы… Все прошлое лето 1885 года в своем Щелыкове, больной и расстроенный, он трудился за письменным столом. Заканчивал вторую редакцию «Воеводы» к бенефису Константина Рыбакова (сын Н. X. Рыбакова), написал целый проект переустройства театральной школы, составлял полноценный репертуар для московских театров, словом, готовился вот-вот взять в руки обещанное ему управление театральным делом в старой столице. Сильно страдал от приступов легочной болезни… Тут еще и лихорадка какая-то злая прилипла, измучивая и без того усталое сердце. Надежды сменялись разочарованиями, а силы неприметно таяли. Готовясь к должности, он уже пригласил к себе в секретари молодого энтузиаста, начинающего драматурга Н. А. Кропачева и обсуждал с ним будущие театральные события. Вдруг выяснилось, что для намеченной должности требуется чин… генеральский! А свое служебное поприще в судах Александр Николаевич оставил 34 года назад в чипе губернского секретаря! Брат Михаил сообщал, что назначение, видимо, состояться но может. Эта весть чуть не убила Островского… «Для меня теперь уж нет ничего другого: или деятельное участие в управлении художественной частью в московских театрах или — смерть» — так он ответил брату 9 сентября 1885 года из Щелыкова. Однако в скрипучем государственном механизме Российской империи опять повернулся какой-то маховичок, и… Александра Островского спешно вызвали в Питер — представляться министру двора и принимать почетную и важную должность — заведующего репертуарной частью московских императорских театров. Действительно, тут требовался… штатский генерал! Необходимое повышение до генеральского чина обещали к пасхе, а пока предложили приступить к обязанностям с 1 января 1886 года. …Незадолго до рождественских и новогодних праздников, 14 декабря, группа артистов Малого встречала на Николаевском вокзале своего нового главу, старого учителя, общего любимца! Кто-то кстати вспомнил: четырнадцатое число для него заветное!.. На старости лет он воспрянул духом: пожизненная пенсия, солидное по должности жалованье, гонорары издательские и театральные наконец-то обеспечивали его жизнь, освобождали от долгов, позволяли вздохнуть… Увы, все это благополучие наступило… слишком поздно! Тем более что в повой должности Островский не только не «вздохнул», а буквально завалил себя работой. На службу он приезжал строго по расписанию, никогда не опаздывал, принимал в установленные часы посетителей, уставал все больше, приступы удушья повторялись чаще… На приемах у него порой бывало более пятидесяти человек подряд, и для каждого он находил либо доброе слово, либо старался реально помочь, устроить, как-то обогреть и утешить. Угнетали текущие, насущные заботы, жуликоватые театральные постановщики и подрядчики, недобросовестные чиновники театральной конторы. Мучили взяточники (оба брата вели с ними войну не на жизнь, а на смерть — об этом ярко свидетельствует их переписка), а более того— бездарные искатели протекций и покровительств… — Боже мой, амикус, — говаривал он верному Кропачеву, — в какой омут я окунулся!..* * *
Долгожданный бенефис Рыбакова-младшего в роли Дубровина, удалого разбойника, героя «Воеводы», прошел в воскресный день 19 января 1886 года. Малый театр вывесил аншлаги. Цепы взвинчены. Публика — купеческая аристократия, по выражению самого Островского. Но… архаических сюртуков, сапог, шаровар и увесистых часовых цепочек в палец толщиной уже в этом зале не увидишь! Фраки… Строгие прически… Англизированные пиджаки… Декольтированные дамы с соболями на плечах. Только наверху, в райке, шумно, тесно и весело. Там студенты, чиновничья мелочь, приказчики. Даже старики — их в партере немало — одеты свободнее, хотя и не по сиюминутной моде. Большинство в длиннополых пиджаках на вкус прошлого десятилетия… В русской же одежде, столь обычной прежде даже на спектаклях 20–30 лет назад, уже никого! Думается, это было последнее, творчески радостное событие в жизни драматурга Островского. О таком составе исполнителей… только мечтать! Вошла в историю отечественной сцепы Ольга Осиповна Садовская, жена Михаила Провича. Сыграла сразу две роли — Недвиги и Старухи с ее знаменитой «Колыбельной». Такое искусство перевоплощения показала Садовская, что иного слова, как «очаровательна», счастливый автор и подбирать не стал… Вот что годы спустя писал о спектакле, подготовленном под прямым руководством самого драматурга, артист МХАТа Е, П. Велихов: «Спектакль «Воевода» производил на сцене Малого театра потрясающее впечатление. Это была сказка, но сказка, полная глубокого смысла, раскрывающая душу русского народа и его истории. Спектакль передавал не только народные страдания, но прежде всего стихию вольницы и мятежа»… Кстати, во второй редакции пьесы впервые у Островского прозвучало имя Разин, которого не было в первой редакции. Но силы мастера таяли день ото дня. Даже в служебные часы случались тяжкие приступы удушья. В дневнике среди записей ежедневных трудов, спектаклей, экзаменов чаще мелькает жутковатое: болен. Он, впрочем, и в больном состоянии роздыху себе не давал: трудился над переводом «Антония и Клеопатры» Шекспира. Из-за соображений денежных Островский расстался со своей удобной квартирой на Волхонке. По штату ему полагалась большая казенная квартира. Ее должны были подыскать и отделать в течение лета. В мае 1886 года Островский освободил голицынские хоромы: отправил жену и детей в Щелыково, сам переехал на Тверскую, в гостиницу «Дрезден»; там служил управляющим старый друг Минорский. Озабоченный состоянием здоровья Александра Николаевича, всеми силами он старался сделать ему жизнь в гостинице покойнее, удобнее. Но Александра Николаевичанеуклонно тянуло в Щелыково. Он устал и на этот раз страшился трудностей пути: тряского вагона, бездорожья, непогоды… Манило общество детей, рыбные речки Куекша и Сендега, щемящие душу щелыковские закаты над лесами, омуты, Ярилина долина, Святой ключик… В письмо своей нижегородской приятельнице, поэтессе Анне Мысовской, чьи литературные опыты он одобрял и направлял, Островский писал: «Я бросился в омут, из которого едва ли выплыву… С ужасом ощутил, что взятая мною на себя задача мне не по силам. Дали белке за верную службу целый воз орехов, да только тогда, когда у нее уж зубов не стало. Вы не подумайте, пожалуйста, что я сожалею о том, что у меня недостает зубов на такие орехи, как молодые танцовщицы кордебалета: это бы горе еще небольшое. Нет, я чувствую, что у меня не хватает сил и твердости провести в дело, на пользу родного искусства, те заветные убеждения, которыми я жил, которые составляют мою душу. Это положение глубоко трагическое» (10 января 1886 года). 29 мая поездом Москва — Кинешма Островский, сопровождаемый сыном Мишей и его товарищем Сергеем Шаниным, прибыл снова на берег Волги и добрался на чужих, нанятых в Кинешме лошадях (со своими что-то не получилось!) в свое заволжское Щелыково. И…принялся за перевод из Шекспира! Ни минуты не жить впустую! Да полегчало как будто в родном углу. Дома и стены лечат!.. …Троицын день с крестьянским гуляньем на «Стрелке» — расчищенной от леса площадке между селами Лобановом и Сергеевом — пришелся на солнечное, теплое воскресенье 1 июня. Островский смолоду любил этот народный праздник с хороводами и песнями, закладывал нехитрый экипаж — долгушу и с детьми, или «цыплятами», как он называл их, отправлялся вместе с крестьянами на «Стрелку». Свои, щелыковские, гуляли порою и около Святого ключика в самом имении. Сюда заглядывали разносчики-коробейники с праздничным угощением на лотках. …В этот раз Александр Николаевич остался дома. Мария Васильевна, хоть и готовилась к празднику, убирала дом свежими березовыми ветками и велела посыпать пол свежескошенной травкой, покинуть мужа остереглась и в церковь не поехала; ее отделял от господского дома глубокий овраг, и попасть к храму можно было только в объезд либо пешком, по деревянным лестницам, а на той стороне оврага — еще и лесной тропою. Случись что дома — скоро не прибежишь!
А в понедельник, в духов день, тоже солнечный и теплый, Александру Николаевичу стало будто не по себе, но он сам послал жену в Николо-Бережок ради соблюдения обычая и народной традиции. — Там за меня и помолись! — с таким шутливым напутствием он проводил жену до двери, постоял на открытой террасе и вернулся в кабинет к столу. Окликнул дочку Машу, 19-летнюю красавицу, — мать оставила ее дома прислушиваться, как будет чувствовать себя отец. По дому гуляли легкие сквознячки раннего лета. Из открытых кое-где окон слышны были дальние колокола — верно, из села Покровского. Шелестела неокрепшая, неотвердевшая садовая листва, неуловимо шушукались пихты у ворот… Он вспомнил, что привез с собою из Москвы несколько новых, еще не просмотренных журналов. Взял номер «Русской мысли» — журнал этот он любил, пока редактором был Сергей Андреевич Юрьев, добрый приятель, страстный театрал, недавно настигнутый бедой: перенес удар с частичным параличом. У Сергея Юрьева в соседней, Тверской губернии есть небольшое имение, где он устроил хороший любительский театр для окрестных жителей — крестьян. Там Островскому случалось гостить. Ставили «Грозу» силами друзей-артистов Малого и одаренных любителей из окрестных сел. Деловых бумаг Островский из Москвы не брал — обещал отдыхать да и… не ровен час! Он стал было читать журнал, а в глазах… страницы будто посерели, и в комнате сделалось темно. Под ключицей, в левой стороне груди, что-то оборвалось. Он поднялся, чтобы вздохнуть, и смог еще крикнуть… Потерял равновесие, ударился о столешницу… Но боли уже не ощутил. И шагов вбежавшей дочери не слышал… Люди тут же подняли его в кресло. Еще одна попытка вздохнуть… Сердце не выдержало. Наступил мрак… Конный нарочный поскакал за Марией Васильевной. Тело супруга уже остывало… …Хоронили на погосте, в четверг, 5 июня. Успел прибыть из столицы Михаил Николаевич. Поспел и Кропачев, привез венок, сказал речь над могилой. Потеря сразила его, он чувствовал себя осиротевшим. Коллеги-писатели, ученики-актеры, близкие друзья на панихиде не были: гастроли, отпуска, недосуг. А Щелыково не под боком! Провожали крестьяне, соседские учителя, чиновники кинешемские. Совсем недавно, в 1883-м, петербургские художники и писатели собрали в честь 25-летнего юбилея творческой деятельности Островского крупную денежную сумму для подарка юбиляру. Получив эти деньги, Островский пожертвовал их земству на школу. Ее открыли в селе Папарьине и присвоили ей имя драматурга. Учителя и ученики тоже провожали своего земляка и шефа… Россия издавна плохо умела беречь своих певцов и пророков, мудрецов и летописцев. Рановато, до времени, ушел и великий ее подвижник в искусстве драматической поэзии, незабвенный Александр Островский! Друживший с ним Александр Урусов, знаменитый судебный оратор и крупный общественный деятель, потрясенный потерей, писал артистке Надежде Никулиной, одной из лучших учениц Островского: «Смерть Александра Николаевича поразила всех нас чувством невозвратимой потери. Но это мы потеряли, а не он. Он весь высказался, весь перешел в художественные создания, из которых многие бессмертны. Он был в этом отношении — да и в других тоже — счастлив. И умер без мучительной агонии. И это счастье… Никто не владел московской речью, как он. Никто не изучил, как он, москвича…»
* * *
Пишущий эти строки — старый москвич, смолоду почитавший Островского. Долго жил в семье профессора Н. П. Кашина, основоположника научного изучения Островского; знал лучшие времена Малого театра, хоронил Ермолову и слушал речь Луначарского на открытии андреевского памятника… А в 1922 году впервые побывал в Щелыкове. То был засушливый голодный год в Нижнем Поволжье, уже под конец гражданской войны. Отец, служивший в Красной Армии и впервые получивший отпуск на пятом году гражданской войны, пытался растолковать мне, юпцу, всю ее трагическую героику. Он прочитал мне «Минина». И юнец, кажется, что-то понял… …Пароходный свисток на Волге бывал тогда, редок — армия белых безжалостно сожгла под Уфою целую флотилию речных красавцев. А жили мы в Решме, пониже Кинешмы. Нам повезло, ждали не более суток, и «Князь Пожарский» доставил нас в этот город. Оттуда в непогоду по галичскому тракту мы шагали… в гости к Островскому. По моим воспоминаниям, ухабистая дорога еле угадывалась между сжатыми нолями, хмуро притихшими деревушками, лужками и осенними лесными пустошами… Увидели развилку… Ждали, что вот-вот должны здесь сойтись оба актера, шагавших «из Вологды в Керчь» и из «Керчи в Вологду». Еще некоторое время путались среди перелесков, влажных луговин, извивов речки в поисках заветного дома. Помнится, привели нас к деревенскому домику, где жил, как выяснилось, бывший управляющий имением Островских, Николай Николаевич Любимов, сын того Коли (то есть Николая Алексеевича Любимова), что служил управляющим при жизни драматурга. Наш собеседник Н. Н. Любимов, на вид 40-летний, очень озабоченный человек, в старой военной шинели, с костромским говорком, сразу повел нас к ограде, где за восьмью высокими пихтами прячется дом писателя. О щелыковских пихтах Любимов сказал, что, по рассказу отца, деревья эти посадил здесь хозяин, Николай Федорович, отец драматурга, как память о своих восьми чадах от двух супружеств. В дом нас, однако, не пустили, да и смотреть там, похоже, в то время было нечего: занят он был под приют для беспризорных детей, а вещи писателя по большей части увезены были в распоряжение местного уездного Совдепа. Обширная библиотека частично распределена между учреждениями, частично сложена (впоследствии оказалась вывезенной в Иваново-Вознесенск). Сам Любимов кое-что сохранил из личных вещей Александра Николаевича. Полученные от него письма выпросила библиотека в Иванове. Кое-что осталось в доме, например лампы и фортепиано Марии Васильевны, по беспризорники расстроили инструмент. В Ивашевском волисполкоме люди новые, пришлые, забот у новой власти много, детей беспризорных девать некуда, а уцелевшие строения усадьбы для этой цели подошли — ведь в уезде большинство помещичьих усадеб сожжено… — Как же уцелело при этом Щелыково? — Чудом уцелело! Парк, дом и строения отстаивали сами крестьяне от попыток пустить красного петуха. Особенно много таких попыток было в июле — августе 1918 года, когда после белого мятежа в Ярославле окрестные леса полны были белогвардейцев, озлобленных неудачей восстания. …Долго стояли у могилы с тремя памятниками — скромным черным обелиском самого Александра Николаевича с датами: «31 мая 1823 — 2 июня 1886», — и двумя беломраморными крестами над обеими Мариями — женою писателя и его старшей дочерью, вышедшей замуж за академика Шателепа. Теперь что ж скрывать! Унесли мы тогда с отцом гнетущее чувство тревоги. Свежи были недавние потери: гибель блоковского Шахматова, пушкинского Михайловского и Петровского, где сгорели и хозяйственные и жилые постройки. Многим тогда казалось: не хватит у революции рук, глаз и сил, чтобы и в самом деле отстоять столпы русской культуры, не допустить их падения. Передавали фразу Блока: «Революцию в белых перчатках не делают!» Но уже в 1923 году услыхали и прочитали, что к столетнему юбилею писателя дошли руки и до Щелыкова. Начался кое-какой восстановительный ремонт в усадьбе, изъятой у местных властей и переданной Наркомпросу. Позднее под председательством большого артиста и личного друга Островского, Сумбатова-Южина, тогдашнего директора Малого театра, начал работать комитет содействия Щелыковскому музею. В состав комитета вошел и профессор Н. П. Кашин. Музей создавался с большим трудом — и лишь к 1936 году удалось освободить в доме Островского всего две комнаты под мемориальную экспозицию… Последний раз побывал я в Щелыкове в начале 80-х. Верно, при маменьке, Эмилии Андреевне, Щелыково выглядело грустнее! Блестяще реставрирован мемориальный дом, воссозданы детали обстановки, собраны личные вещи-уникумы. Кругом охранная зона, заповедник. Действует Дом творчества ВТО. Это хороший хозяин для Щелыкова… Тысячи красочных буклетов и брошюр с гордостью знакомят гостей Щелыкова с его красотами. Мы идем сюда нынче на поклон, кладем цветы у черного обелиска и благодарим тружеников музея. Дела их благородны, и прекрасны, и успешны! Но приезд сюда — эго не траурное шествие на поминки! Это счастливые часы общения не с умершим, а с живым писателем Островским! У того человека, кто пройдет аллеями Щелыкова, осмотрит комнаты его дома, постоит у Святого ключика (где будто погружена вглубь делая часовня), подышит целебным воздухом ближайших окрестностей, побывает в новом Театральном музее, выстроенном здесь в сказочно-русском стиле, сами собой возникнут в душе будто декорации к сцепам из «Леса», «Воспитанницы», «Волков и овец», «Дикарки», «Светит, да не греет»… Кстати, соавторы этих двух пьес тоже живали в Щелыкове, под кровом их великого наставника. И если вам посчастливится углядеть светлый девичий облик где-то там, у воды и ветвей, знайте: это вовсе не отдыхающая здесь артистка из столичного ВТО! Нет, нет! Это сама воскресшая Снегурочка прилетела навестить свой родной уголок!INFO
Штильмарк Р. А. Ш91 За Москвой-рекой. А. Н. Островский: Страницы жизни. — М.: Мол. гвардия, 1983. — 190 с., ил. — (Пионер — значит первый; Выв. 76). В пер.: 40 коп. 100 000 экз.
Ш 4803010102—078/078(02)—83*263—83 ББК 83.3 Р1 8Р1
…………………..
FB2 — mefysto, 2022
О серии
«Пионер — значит первый» — серия биографических книг для детей среднего и старшего возраста, выпускавшихся издательством «Молодая гвардия», «младший брат» молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». С 1967 по 1987 год вышло 92 выпуска (в том числе два выпуска с номером 55). В том числе дважды о К. Марксе, В. И. Ленине, А. П. Гайдаре, Авиценне, Ю. А. Гагарине, С. П. Королеве, И. П. Павлове, жёнах декабристов. Первая книга появилась к 50-летию Советской власти — сборник «Товарищ Ленин» (повторно издан в 1976 году), последняя — о вожде немецкого пролетариата, выдающемся деятеле международного рабочего движения Тельмане (И. Минутко, Э. Шарапов — «Рот фронт!») — увидела свет в 1987 году. Книги выходили стандартным тиражом (100 тысяч экземпляров) в однотипном оформлении. Серийный знак — корабль с наполненными ветром парусами на стилизованной под морские волны надписи «Пионер — значит первый». Под знаком на авантитуле — девиз серии:«О тех, кто первым ступил на неизведанные земли, О мужественных людях — революционерах, Кто в мир пришёл, чтобы сделать его лучше, О тех, кто проторил пути в науке и искусстве, Кто с детства был настойчивым в стремленьях И беззаветно к цели шёл своей».
Всего в серии появилось 92 биографии совокупным тиражом более 9 миллионов экземпляров.
В 1981–1982 ГОДАХ В СЕРИИ «ПИОНЕР — ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ» ВЫШЛИ КНИГИ:
Г. Голубев ВСКОЛЫХНУВШИЙ МИР (Дарвин) С, Житомирский УЧЕНЫЙ ИЗ СИРАКУЗ (Архимед) В. Почудоминский «ЖИЗНЬ, ТЫ С ЦЕЛЬЮ МНЕ ДАНА!» (Пирогов) А. Старостин АДМИРАЛ ВСЕЛЕННОЙ (Королев)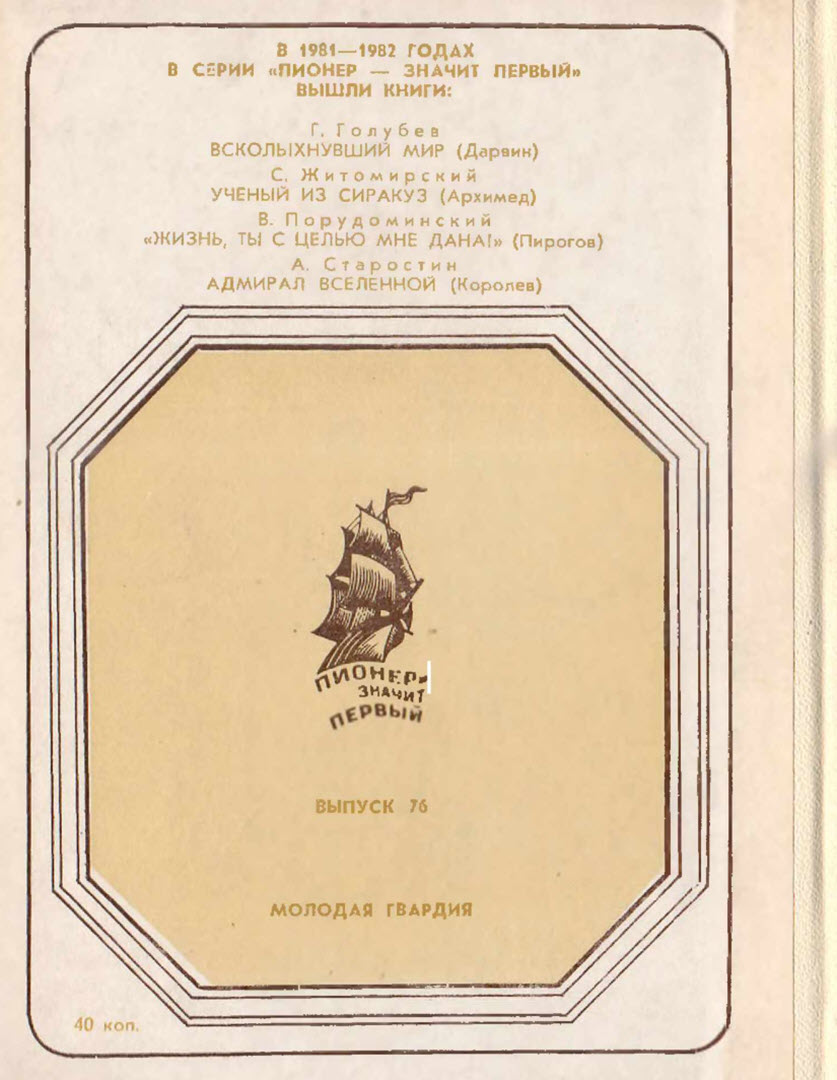
Последние комментарии
13 часов 20 минут назад
17 часов 34 минут назад
19 часов 53 минут назад
21 часов 42 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 3 часов назад