Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья Средняя Азия в раннем средневековье
Предисловие (Г.А. Брыкина)
Средняя Азия расположена в центре Евразии и простирается от Каспийского моря на западе до Тянь-Шаня на востоке и от пустынных, полупустынных и степных районов Казахстана на севере до горных хребтов Копетдага и отрогов Гималаев на юге. Эта огромная территория включает ряд ландшафтных зон. Различие природных условий способствовало тому, что в разных ландшафтных зонах развивались разные типы хозяйства. Такое разнообразие в хозяйственной деятельности населения приводило к установлению прочных связей между отдельными районами, а ее специализация — к формированию экономических районов, центром которых становился город или селение, где находился базар. Одна из важнейших особенностей исторического развития Средней Азии — взаимодействие кочевых племен и оседлых земледельцев. Кочевники жили как на периферии, так и внутри земледельческих оазисов. Между земледельцами и скотоводами существовала органичная связь. Шел постоянный обмен опытом и хозяйственными навыками. Это привело в конечном счете к созданию комплексного хозяйства, что, в свою очередь, сыграло большую роль в сложении культуры области и оказало влияние на сложные этногенетические процессы, происходившие здесь. Том посвящен оседло-земледельческому населению Средней Азии в эпоху раннего средневековья — IV–VIII вв. Начало этого периода совпало с трагическими событиями в жизни народов Средней Азии. Распад Кушанского царства повлек за собой нарушение экономики и упадок хозяйственной и культурной жизни области. Это усугублялось еще и постоянными внешними вторжениями, разрушением городов и ирригации. Но этот период не был длительным. Уже в середине V в. начинают складываться феодальные отношения. Намечается подъем экономики. Развиваются ремесла. Именно к этому времени может быть отнесено формирование среднеазиатского феодального города. В этот период в Средней Азии были сложившиеся культурно-исторические области и государства, известные по письменным источникам. Но сведения древних авторов отрывочны и часто противоречивы. Поэтому для решения важных исторических проблем большое значение имеют археологические материалы. В настоящее время мы располагаем десятками полностью раскопанных памятников с прекрасной архитектурой. На некоторых памятниках ведутся многолетние раскопки, которые позволили выявить структуру городов, их стратиграфию. Анализ материалов из стратифицированных слоев с применением статистических методов позволит нарисовать объективную картину динамики развития культуры в области. Большое разнообразие погребальных памятников свидетельствует о принадлежности людей, оставивших некрополи, к разным религиозным конфессиям или же к разным этносам. Особое место среди открытых памятников принадлежит культовой архитектуре. Это буддийские храмы в Чуйской долине, в Фергане, на юге Таджикистана, храмы местных религий и культов в Согде, Фергане, Хорезме, Чаче (Ташкент). Первоклассные памятники искусства (живопись, глиняная скульптура, терракота) обнаружены не только в храмах, но и в жилых домах. Это свидетельствует о высокой культуре населения Средней Азии. Другой, не менее важный показатель культуры области — распространение письменности. Известна письменность Хорезма, Тохаристана. Наиболее многочисленны памятники письменности в Согде. Это прежде всего архив, обнаруженный в за́мке на горе Муг и содержащий многочисленные документы (хозяйственные, юридические) и частично переписку. Настенная живопись и надписи на ней расчищены во многих помещениях Пенджикента. Фергана также имела свою письменность, ведущую начало, как полагает В.А. Лившиц, от арамейского письма (Лившиц, 1968). Широко распространяется тюркская эпиграфика, сложившаяся на основе согдийского письма. Находки тюркской эпиграфики особенно многочисленны в восточных районах Средней Азии — в Фергане и Семиречье. Средняя Азия в силу своего географического положения являлась важным узлом исторических процессов. Через Среднюю Азию с древнейших времен пролегали караванные пути. Эта область была важнейшим транзитом в международной торговле между Востоком и Западом. Через Среднюю Азию неоднократно прокатывались волны иноземных завоевателей, часто центральноазиатского происхождения, и отдельные районы попадали под власть эфталитов, тюрок, арабов. Все это не могло не отразиться на сложности процессов, протекавших в области, на сложении культуры. Детальный анализ всех материалов из разных районов Средней Азии позволяет выявить локальные варианты культуры этих регионов, устойчивые признаки культуры, присущие определенным местностям, что проявилось прежде всего в бытовых предметах (керамика, орудия труда, украшения). В силу различных географических условий в регионах складываются разные способы ведения хозяйства, формируются специфические особенности топографии оазисов (типы городов и отдельных сооружений). Именно в этот период окончательно формируются историко-культурные области с определенными чертами духовной и материальной культуры (тип жилищ, хозяйство, язык, письменность, искусство). Эти признаки сохраняются на протяжении длительного времени. Отдельные элементы культуры средневекового населения Средней Азии прослеживаются и в культуре современных народов этой области. В это время начинают складываться элементы культуры, которые легли в основу цивилизации современных народов области. Поэтому изучение средневековой истории Средней Азии крайне важно для воссоздания истории современных народов этой области, для изучения этногенетических процессов. Авторский коллектив тома включает авторитетных специалистов в области истории и археологии Средней Азии из научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и государств Средней Азии. В написании разделов тома принимали участие Б.В. Андрианов, Е.Е. Неразик (Институт этнологии и антропологии РАН), Г.А. Брыкина, Г.А. Кошеленко, В.А. Гаибов (Институт археологии РАН), В.И. Распопова (Институт истории материальной культуры РАН), Е.В. Зеймаль, Т.И. Зеймаль, Н.Г. Горбунова, Б.И. Маршак (Государственный Эрмитаж), Г.В. Шишкина (Государственный музей Востока), А. Губаев (Институт истории Академии наук Туркменистана), К.М. Байпаков (Институт археологии Академии наук Казахстана), В.Д. Горячева (Институт истории Академии наук Киргизстана), М.А. Бубнова, Н.Н. Негматов (Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана), Э.В. Ртвеладзе (Институт искусствознания Академии наук Узбекистана), Ю.Ф. Буряков, М.И. Филанович (Институт археологии Академии наук Узбекистана). Редколлегия тома благодарит Б.Х. Матбабаева (Институт археологии Академии наук Узбекистана), предоставившего малоизученные и почти неопубликованные материалы для раздела «Фергана». Важным компонентом тома является иллюстративный материал. Таблицы выполнены художниками Института археологии С.А. Суджаевой, Е.Ф. Маракулиной, А.В. Голиковой, Н.С. Сафроновой, В. Ленивкиным. Карты регионов составлены картографом Н.Ф. Федоровой. Всем им авторский коллектив выражает глубокую благодарность. Авторский коллектив тома считает своим приятным долгом поблагодарить рецензентов академика Академии наук Таджикистана Б.А. Литвинского и доктора исторических наук Г.А. Кошеленко, взявших на себя труд ознакомиться с рукописью тома и сделавших ценные замечания при ее обсуждении. В процессе работы над томом большую помощь авторскому коллективу и редактору оказали сотрудники отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН, в рамках которого велась работа, и его заведующие М.Г. Мошкова и В.А. Башилов.Введение
Природные условия.
(Б.В. Андрианов)
Среднеазиатско-Казахстанский регион расположен в центре Евразии. С исторической точки зрения это единая культурная область. Живущие здесь теперь народы — туркмены, узбеки, таджики, киргизы, каракалпаки и казахи объединены общностью исторических судеб, близостью многих черт культуры и хозяйственных традиций оседлого земледелия на искусственно орошаемых землях и пастбищного скотоводства. Природа всей этой обширной области полна контрастов и разнообразия — от сияющих снегами высоких горных цепей на юге до бескрайних степей на севере. Главная черта природных условий — засушливость климата. Эта область удалена от океанов и крупных морей, лежит в самом центре обширного аридного пояса Евразии, южнее путей движения влажных атлантических циклонов. Среднеазиатско-Казахстанский регион отличается большой континентальностью климата, малым количеством осадков, резкими колебаниями температур, обилием солнечных безоблачных дней и высокой испаряемостью на поверхности земли. На равнинах количество осадков не превышает 200 мм в год, а в песчаных пустынях оно даже менее 100 мм. Там, где нет влаги, жаркое солнце выжигает растительность, поэтому земледелие здесь основано преимущественно на искусственном орошении. Вся жизнь земледельцев проходила в заботах о поддержании оросительных систем. Равнины Средней Азии — это царство пустынно-степных ландшафтов с преобладанием песчаных и глинистых пустынь. С востока и юга поднимаются горные хребты Тянь-Шаня с белоснежными шапками, скалистые ущелья и высокогорные равнины Памира, безлесные опустыненные горы Копетдага. Горы Средней Азии стоят на пути влажных западных ветров, что способствует увеличению в предгорьях и горных долинах годового количества осадков. Многие горные системы веерообразно расходятся на запад и юго-запад, что благоприятствует проникновению в горы насыщенных влагой воздушных масс. Поэтому на склонах гор развито неорошаемое богарное земледелие. В горных районах Средней Азии встречаются сухие степи, альпийские луга, хвойные леса, рощи грецкого ореха, а также горные степные и пустынные ландшафты. Высоко в горах находится область «вечных» снегов и ледников. Здесь берут свое начало такие крупные реки Средней Азии, как Амударья, Сырдарья, Зеравшан и многие другие. В рельефе четко выделяются три высотных комплекса: горы, предгорья и равнины. Последние лежат на разных уровнях, преимущественно от 200 до 400 м над уровнем моря (Мурзаев, 1957). По характеру поверхности одни участки представляют собой депрессии, заполненные песками, песчано-глинистыми отложениями; другие — возвышенные плато, края которых часто обрываются уступами (чинками). На равнинах различаются четыре типа пустынь: песчаные, глинистые, солончаковые и каменистые. Общая площадь песчаных пустынь в Средней Азии и Южном Казахстане составляет примерно 700 тыс. км2. Наибольшие площади песков расположены в Каракумах, центральном и юго-западном районах Кызылкумов, к северу от Аральского моря — в Больших и Малых Барсуках, к востоку от Аральского моря — в Муюнкумах, в южной части Прибалхашья. Менее крупные песчаные массивы встречаются в Ферганской долине и в Южном Таджикистане. Формы рельефа в песчаных пустынях разнообразны: грядовые, ячеисто-грядовые, барханные, котловины выдувания и др. Самый распространенный тип рельефа — грядовой. Песчаные гряды вытянуты вдоль направления господствующих ветров. Глинистые пустыни также широко распространены на территории Средней Азии. Большие площади их имеются в Кызылкумах (Голодная степь, Каршинская степь, низовье р. Зеравшан и др.). Площади солончаковых пустынь в Средней Азии довольно значительны и располагаются в бессточных впадинах, там, где грунтовые воды залегают в непосредственной близости от поверхности. Каменистые пустыни встречаются в горах, а также на равнинах в северной зоне. Среди горных районов наиболее крупную систему представляет собой Тянь-Шань. Это горная страна со сложным рельефом. Протяженность некоторых хребтов, главным образом широтного направления, достигает 600 км. Хребты разделены широкими понижениями, которые весьма удобны для занятия скотоводством и земледелием. Все окраинные и большинство внутренних хребтов поднимаются выше границы снеговой линии. Расположенная на самом юге Средней Азии территория Памира представляет собой высокое нагорье, поднимающееся с высоты 1600 м над уровнем моря на западе до 3800–4000 м на востоке. Восточный Памир — это высокогорная пустыня с плоскодонными, засыпанными щебнем, как правило, бессточными долинами. Повсюду наблюдаются следы оледенения. Земледелие здесь невозможно, а скотоводы разводят яков. Западный Памир характеризуется обилием многоводных рек, протекающих в узких и глубоких каньонах, где на крутых склонах местами развито орошаемое земледелие. Оценивая в общем рельеф и геоморфологические условия Средней Азии, необходимо отметить, что многообразие ландшафтов этой территории не препятствовало с давних времен развитию сельского хозяйства. Здесь есть и обширные низменности, и плодородные долины, и плато, где рельеф благоприятствует развитию орошаемого земледелия и животноводства. Особенности климата заключаются в том, что Средняя Азия — область самой большой интенсивности солнечной радиации на территории бывшего СССР. Радиационный баланс земной поверхности достигает 45–55 ккал/см2. Температурный режим и распределение осадков на равнинах, в предгорьях и в горных районах существенно различаются. Для равнин характерны жаркое лето и часто холодная зима, большие годовые и суточные амплитуды температур, незначительное количество атмосферных осадков, малая облачность и большая сухость воздуха. Климатические условия несколько меняются при движении с севера на юг, поэтому и пустыни делятся на северные и южные. Северные пустыни — Устюрт, Бетпак-Дала, Муюнкум, Прибалхашские пески, или Сары-Ишикотрау. Они характеризуются сравнительно низкими среднемесячными температурами и относительно равномерным распределением осадков в течение года. Общая сумма осадков невелика (в среднем до 200 мм, а в засушливые годы до 100 мм), что препятствует развитию земледелия без орошения. Летняя температура в северных пустынях обычно не превышает +27°, зимой -10° и ниже. К южным пустыням относятся Каракумы, Кызылкумы, Голодная степь, низменности Западного Тянь-Шаня и высокогорные равнины Памира. Осадки здесь выпадают в основном в зимне-весенний период, с максимумом в марте-апреле. С мая по октябрь осадков либо не бывает вообще, либо количество их ничтожно мало. В это время наблюдаются большая сухость и очень высокая температура воздуха. Зимой среднемесячные температуры обычно не опускаются ниже 0°. Абсолютный максимум температур достигает +47 °C, абсолютный минимум -23 °C. Среднемесячные температуры резко повышаются в апреле и понижаются в сентябре. В северных районах низовья Амударьи безморозный период продолжается от 190 дней, на юге (Сурхан-Шербадская долина) — до 200 дней. Обилие тепла и света, получаемых равнинными районами Средней Азии, — важный ресурс для развития сельского хозяйства. Как уже отмечалось, на равнинной территории Средней Азии выпадает очень мало осадков, в среднем 100–200 мм. Количество осадков в горах значительно возрастает, однако только до определенных высот. Так, в низкогорной и среднегорной областях оно увеличивается до 500–600 мм/год, на некоторых наветренных склонах достигает 1000–1500 мм/год. В высокогорной области количество осадков опять снижается до 200–350 мм/год, а на подветренных склонах еще меньше. Низкогорные и среднегорные районы обладают более благоприятными агроклиматическими условиями для земледелия. Своеобразный рельеф, климат и растительность Средней Азии обусловливают пестрый почвенный покров этой территории. Подсчитано, что в пределах Средней Азии почвы пустынных равнин занимают 57 % общей площади, почвы пустынно-степной предгорной полосы — 12 % общей площади, почвы годных районов — 25 % общей площади. Для пустынных почв характерны малое содержание гумуса, незначительная мощность почвенных горизонтов, большое скопление гипса в нижней части почвенного профиля, засоленность и солонцеватость почв (следствие сухости климата). Серо-бурые почвы преобладают на плато Устюрт, в Кызылкумах и Каракумах. В верхних горизонтах этих почв содержание гумуса лишь 0,3–0,7 %, в нижних горизонтах, на глубине 0,3–0,5 км, оно достигает 40–80 %. Такыровидные почвы и такыры занимают значительные площади в низовьях Амударьи, Сырдарьи, Мургаба и Теджена. Содержание гумуса в такыровидных почвах колеблется от 0,4 до 1 %, в такырных — от 0,3 до 0,8 %. Значительные площади этих почв засолены. Песчаные пустынные почвы распространены на древнедельтовых равнинах рек Амударьи, Кашкадарьи, Сурхандарьи и в некоторых районах Каракумов. По сути, это закрепленные пески со слаборазвитым профилем. Содержание гумуса колеблется от 0,3 до 0,6, иногда до 1 %. Лугово-такырные и такырно-луговые почвы развиты в умеренно влажных понижениях, в местах, где такыры граничат с лугами. В основном они встречаются в низовьях Амударьи в Каракалпакии, в долинах рек Кашкадарьи, Сурхандарьи и в некоторых районах Кызылкумов. Содержание гумуса колеблется от 0,7 до 1,5 и даже до 3 %. Грунтовые воды залегают здесь на глубине 3–5 м. Почвы этого типа местами засолены. Луговые и болотно-луговые пойменно-аллювиальные почвы распространены по долинам рек. Содержание гумуса в них изменяется от 0,6 до 2 %. На водораздельных участках оно падает до 0,7–0,9 %. Почвенный покров предгорных и горных районов Средней Азии характеризуется четко выраженной вертикальной зональностью: в районах низкогорий — в основном сероземы, в среднегорьях — коричневые и бурые почвы, в высокогорьях — лугово-степные светло-бурые и пустынные (на Памире). В целом почвы этих районов отличаются большим содержанием гумуса, хорошей структурой и плодородием. Сероземы в основном распространены на предгорных равнинах, сложенных суглинками. Они протягиваются причудливой полосой у подножия горных систем Средней Азии от Ашхабада до Алма-Аты, отделяя песчаные пустыни, серо-бурые и такырные почвы равнин от собственно горной территории, и образуют особый пояс в предгорной зоне. Содержание гумуса в них колеблется от 1 до 1,5 %. На речных террасах развиты гидроморфные лугово-сероземные почвы. Они характеризуются повышенным содержанием гумуса (2,5–3 иногда до 4–5 %). Коричневые горно-лесные и горно-степные почвы обычно располагаются в горах на высотах от 1200–1600 до 2500–3000 м. В среднегорной полосе Северного и Центрального Тянь-Шаня развиты плодородные каштановые и черноземные почвы. В целом почвенные условия Средней Азии благоприятны для развития орошаемого земледелия. Почвы предгорий и горных территорий более плодородны, чем почвы равнин. Водные ресурсы Средней Азии слагаются из поверхностных и подземных вод. Это крупные и мелкие реки, временные потоки (саи), ручьи. На равнинах речная сеть развита слабо; в горных районах с высотой она становится гуще. Здесь насчитывается 10–12 тыс. рек, которые, сливаясь, питают основные водные артерии. Горные реки отличаются большой скоростью течения, огромным количеством взвешенных и влекомых по дну продуктов эрозии и разрушения горных пород. Многие реки, начинаясь высоко в горах, не доходят до крупных водоемов, иссякая в песках на равнинах. Это реки Зеравшан, Теджен, Мургаб, Сарысу и др. Большинство рек относится к бассейну Аральского моря, часть — к озерам Иссык-Куль и Балхаш, некоторые реки принадлежат к бессточному бассейну р. Тарим. Основную массу стока дают талые воды снегов (сезонных и «вечных»), а также ледники, дожди, подземные воды. Суммарный сток рек Средней Азии, по некоторым оценкам, изменяется в пределах 136,06-140 км3/год. В том числе по Амударье и Сырдарье 100–110 км3/год. Но большая часть воды Аральского бассейна разбирается на орошение. Реки Средней Азии по источникам питания и режиму стока можно подразделить на ряд типов. Самая крупная по водоносности река Средней Азии — Амударья образуется слиянием рек Пянджа и Вахша. В горах Таджикистана эта река имеет притоки только на протяжении первых 176 км, а потом она течет 1270 км по равнине, теряя воду на испарение и фильтрацию. Общий сток с горной области составляет 2500 м3/с. Режим Амударьи исключительно благоприятен для поливного земледелия, так как период максимального подъема полностью совпадает с периодом вегетации культурной растительности. Начало вегетационного периода относится к марту, в 20-х числах которого начинается первый паводок, называемый в Хорезме «паводок зеленого камыша». Второй паводок («паводок белорыбицы») приходится на середину апреля. Третий проходит в середине мая. Самый продолжительный — четвертый паводок, связанный с таянием ледников в верховьях Вахша. Он начинается во второй половине июня и кончается в начале августа. Расход воды осенью достигает минимума. Вторая после Амударьи по объему стока, но первая по протяженности река — Сырдарья, впадающая также в Аральское море, образуется слиянием рек Нарына и Карадарьи. Ее длина свыше 2200 км. Почти 300 км река течет по Ферганской долине, принимая большое число притоков, стекающих с гор. После выхода из Ферганы Сырдарья принимает ряд рек (Архангаран, Чирчик, Келес, Арысь). Вместе с Нарыном длина реки до впадения в Арал достигает 2790 км. Весенний паводок на Сырдарье проходит в марте-апреле, формируясь от таяния снегов в предгорьях. Второй — самый значительный — достигает максимума в июле. В своем низовье Сырдарья течет по пологому возвышению из собственных наносов, из-за чего даже при небольшом поднятии уровня реки воды переливаются через береговые валы, затопляя обширные пространства. Стихийные разливы реки, особенно значительные в прошлом, происходят как в летнее половодье, так и зимой во время заторов льда. Наиболее многоводный приток Сырдарьи — р. Чирчик начинается в горах Западного Тянь-Шаня двумя реками — Чаткалом и Аскемом. Чирчик имеет длину 161 км, а средний многолетний расход по выходе из гор 224 м3/с. Он орошает Ташкентский оазис. В южных горах Тянь-Шаня в зоне ледников начинается р. Зеравшан. Ее длина 877 км. В верховьях река течет почти 300 км по узкому ущелью. Течение воды быстрое и бурное. Ниже Пенджикента река не принимает ни одного притока и заканчивается ниже г. Каракуля в соленом пересыхающем озере Денгизкуль. Когда-то воды реки достигали Амударьи. Ежегодно Зеравшан несет в среднем 4,5 млн т наносов в виде разнообразных мелких и средних твердых частиц. Мутность воды увеличивается в нижней части, где приходится очищать каналы дважды в год. По своему химическому составу зеравшанская вода лучше вод Амударьи и Сырдарьи. Земли в бассейне р. Зеравшан засоляются гораздо медленнее, чем на Амударье или Сырдарье. Река Или в бассейне оз. Балхаш имеет длину в пределах Казахстана 802 км. Она протекает по широкой долине и образует при впадении в озеро обширную дельту. Объем среднегодового стока у с. Илийского 464 м3/с. Имеет паводки в мае и июне. Из крупных рек следует отметить р. Чу. Ее протяженность свыше 1000 км. Еще недавно Чу была связана поверхностным стоком с Сырдарьей, теперь же, теряя свою воду на испарение, заканчивается в понижении оз. Ащиколь, куда доносит свои воды и пустынная река Сарысу, берущая начало в низкогорьях Центрально-Казахстанского мелкосопочника. Сарысу — немноговодная река длиной около 800 км, имеет половодье весной. На западе равнинной части Средней Азии протекают только две значительные реки — Мургаб и Теджен. Мургаб имеет общую длину свыше 780 км, но в пределах республики его длина составляет около 350 км. Средний расход реки у Тахта-Базара 52 м3/с. Теджен, так же как и Мургаб, берет начало в Афганистане, но режим этих рек однороден: они получают максимум воды весной от таяния снегов в горах и обильных дождей, но летом в них воды очень мало. Подземные воды — важная составляющая приходной части водного баланса Средней Азии. Для сельского хозяйства их значение очень велико, так как здесь имеются обширные области, где подземные воды являются единственным источником водоснабжения. Суммарная величина естественных запасов пресных и слабоминерализованных подземных вод в горных районах, по оценкам, равна 39,4 км3/год. Общая величина динамических запасов подземных вод на равнинах составляет около 15 км3/год. Водные ресурсы трех главных природных зон Средней Азии — равнин, предгорий и гор во многом определяли характер и технологию использования воды: 1 — рек с постоянным стоком; 2 — озерных и речных разливов; 3 — поверхностного стока, формировавшегося на склонах гор и в низинах за счет осадков; 4 — подземных источников воды в пустынях и пустынных предгорьях. В целом же надо отметить, что имеющиеся водные ресурсы способствуют развитию орошаемого земледелия в данном регионе. Засушливые аридные условия климата установились на равнинах Средней Азии и Казахстана еще с конца третичного периода. В течение плейстоцена и в голоцене наблюдались неоднократные колебания степени увлажненности вследствие вековых перемещений центров атмосферы, климатических фронтов и путей циклонов, что отражалось как на сухих пустынных ландшафтах равнин, так и особенно на степно-луговой растительности предгорьев. Когда атлантические циклоны проходили севернее, захватывая лесную и лесостепную зоны, уровень воды в Каспийском море поднимался, а среднеазиатские равнины иссушались, уровни внутренних бассейнов (Арала и Балхаша) понижались. Напротив, со смещением циклонов к югу пустыни увлажненность равнин и особенно предгорья увеличивалась. Уровень воды в Каспийском море понижался, а в Арале и Балхаше нередко поднимался. Исследования почвоведов показали, что, по-видимому, в период 12-6 тыс. лет назад на равнинах Средней Азии средняя увлажненность была несколько выше, чем в настоящее время (среднегодовая сумма осадков 2250 мм, температура на 2–3° выше современной). Осадков в горах выпадало больше, чем теперь (800-1600 мм, тогда как сейчас 600–700 мм в год). Именно тогда сформировались на подгорных равнинах черноземовидные высокогумусные почвы. Позже, около 6–4 тыс. лет назад, начался процесс аридизации. Исследования Южных Кызылкумов выявили аналогичную картину: усиление аридизации климата и возникновение условий, близких к современным, относится, вероятно, к рубежу III–II тысячелетий и к первым векам II тысячелетия до н. э. В плювиальный период («лявляканский плювиал»), который предшествовал усилению аридности, в Южных Кызылкумах выпадало в среднем осадков от 250 до 400–500 мм (теперь 120–140 мм в год), а средняя температура июля составляла 21–23°. Эти более благоприятные условия для хозяйственной деятельности населения существовали в неолитическое время на значительной территории равнин. Определенная фаза увлажнения 3–4 тыс. лет назад, совпадающая с «лявляканским плювиалом», была зафиксирована и в Ферганской долине. Смена сухого климата влажным, а влажного — сухим на протяжении голоцена в центре Азиатского континента охватила широкую зону. Так, в Северо-Западной Индии смена сухого климата влажным произошла на рубеже плейстоцена и голоцена, время максимального увлажнения приходится на предхараппское и хараппское время (3000–1750 гг. до н. э.), а в первой половине II тысячелетия до н. э. началась аридизация. Возможно, что от этого процесса особенно пострадали относительно развитые раннеземледельческие очаги Южной Туркмении, где быстрому оскудению водных ресурсов (горных ручьев, рек, временных водотоков, саев) активно содействовала разрушительная деятельность населения по вырубке лесов, которые впоследствии так и не были восстановлены. Как бы ни было заметно влияние климатических изменений на судьбы древнего населения, эти изменения коренным образом не меняли характера главных ландшафтных зон — гор, предгорий и пустынных низменностей Средней Азии и Казахстана. Более важное значение, особенно на равнинах, имела историческая динамика гидрографической сети среднеазиатских рек. В древности и особенно в средние века вся Среднеазиатско-Казахстанская историко-культурная провинция являлась ареной взаимодействия и взаимного приспособления двух хозяйственных зон — кочевников-скотоводов и оседлых земледельцев, что определялось территориальным разделением труда, торговым обменом между земледельческими оазисами и обширными пастбищно-животноводческими территориями пустынь и степей. Эти своеобразные экономические формы взаимного приспособления зависели не только от естественно-географических факторов, но и от соотношения политических сил феодально-племенных группировок, враждующих между собой феодальных владетелей. В средние века достиг зенита своего развития хозяйственно-культурный тип кочевников-скотоводов, начало формирования которого восходит еще к эпохе бронзы. «Номадный» способ производства сыграл огромную роль в исторических миграционных процессах хозяйственного освоения широкой зоны евразийских степей и полупустынь. Большое развитие эти процессы получили в I тысячелетии н. э., когда, по мнению С.И. Вайнштейна, материальная культура кочевников достигла самого высокого прогресса, широкое распространение получили легкое разборное жилище с решетчатым остовом, жесткое седло со стременами, различные виды легкой и прочной утвари из кожи, дерева, металла и войлока (Вайнштейн, 1973, с. 9). На севере региона — в Казахстане, в зоне кипчаково-полынных степей ведущая роль принадлежала овцеводству и коневодству, с длительными меридиональными перекочевками и круглогодичным содержанием скота. Южнее, особенно в долинах рек, преобладало полукочевое и отгонное скотоводство (преимущественно овцеводство) в сочетании с поливным земледелием. В среднеазиатском междуречье, в низовьях Амударьи и Сырдарьи, в местах зимовок в средние века сохранялись архаические традиции комплексного полуоседлого хозяйства скотоводов, земледельцев, рыболовов (Итина, 1981, с. 9; Андрианов, 1985, с. 14). На юго-востоке (в Туркмении) в составе стада преобладали верблюды, овцы и козы. Характер сезонных миграций был обусловлен расположением не столько пастбищ, сколько колодцев. В зоне гор перекочевки со скотом носили вертикальный характер. В условиях большого разнообразия горных ландшафтов формировались различные виды выпасов скота: отгонно-пастбищные, стойлово-выгонно-яйлажные и др. (Кармышева, 1982; Андрианов, 1985, с. 234). В южной части Среднеазиатско-Казахстанского региона в долинах рек и в зоне предгорий с глубокой древности формировался хозяйственно-культурный тип пашенных земледельцев с ирригацией. Археологическое изучение древних и средневековых памятников и форм ирригации выявило большое разнообразие в соотношении скотоводства и земледелия в пределах трех основных природных зон — равнин, предгорий и гор (Андрианов, 1989). В зоне предгорий и на берегах небольших равнинных рек начало орошения связано с лиманами и подпрудным регулированием паводков рек и ручьев. Обитатели земледельческих оазисов накопили большой опыт в орошаемом земледелии. Навыки ирригации проделали большой путь — от болотного или лиманного земледелия через регулирование паводков с помощью обваловки и сооружений плотин и дамб к сложным оросительным системам, регулированию сезонных разливов рек в масштабе крупных речных бассейнов. Большого прогресса ирригационная техника достигла в средние века, когда были созданы эффективные водорегулирующие устройства, широкое распространение получили водоподъемные колеса-чигири, что сократило объем трудовых затрат по очистке каналов. Высокого развития достигла культура земледелия, возделывались пшеницы (мягкая, круглозерная, карликовая), ячмени, просо, джугара, косточковые (абрикосы, персики, яблоки, груши, гранаты и др.), виноград, овощи, различные технические культуры, в том числе хлопчатник (Вавилов, 1929, с. 1–91). В зоне предгорья был накоплен богатый опыт орошаемого земледелия на горных покатых террасированных склонах, конусах выноса горных рек. Там, где выпадало в горах достаточно зимне-весенних осадков, широкое развитие получило неполивное, богарное земледелие (Андрианов, 1989, с. 76). Еще Н.И. Вавилов отмечал, что «неполивное земледелие в горных районах Центральной Азии — Афганистане и сопредельных областях Таджикистана существовало в двух формах — озимые посевы (терамаи) и весенние (богаре)» (Вавилов, 1929, с. 219). В бассейне Вахша, Кафирнигана и Сурхандарьи культивировались как высокосортные сорта хлопчатника, так и субтропические культуры — сахарный тростник, гранат, хурма, а также сахаристые сорта винограда, самые разнообразные плодовые. В Дарвазе и на Ванче выращивали шелковицу и тут. Мука из ягод этих деревьев составляла в средние века повседневную пищу горных обитателей. В соседних районах важнейшую роль играл абрикос, а также яблоня, груша, грецкий орех (Саушкин, 1947, с. 395). На протяжении столетий в Среднеазиатско-Казахстанской историко-культурной провинции складывались взаимные отношения не только двух преобладающих хозяйственно-культурных типов — оседлых пашенных земледельцев с ирригацией и скотоводов-кочевников, но и целого ряда переходных форм. В древности и в средние века эта динамическая историко-географическая система меняла свои границы. В эпоху бронзы и раннего железа эти границы соединял сако-скифский мир от причерноморских степей до центральноазиатских нагорий. В античности границы продвигались далеко на юг (при Ахеменидах, Кушанах и позже, в период арабского завоевания), вплоть до Северной Индии и Афганистана. Культурные и торговые взаимоотношения то связывали в тесный узел евразийские торговые коммуникации Великого шелкового пути от Китая до Европы, Византии, то заходили далеко на север и северо-запад, объединяя в средние века Среднюю Азию и Казахстан с Поволжьем и Западной Сибирью (племенные союзы огузов, кимаков, кипчаков, хазар и др.). Установление в XIX в. государственной границы Российской империи на юге (от устья Атрека, верховьев Пянджа, Памира и Джунгарского Алатау) способствовало превращению этого государственно-политического рубежа в очень важный историко-культурный рубеж нового времени.Общие сведения о Средней Азии в эпоху раннего средневековья.
(Г.А. Брыкина, Г.В. Шишкина)
Начало эпохи раннего средневековья (IV–V вв.) — наиболее темный период в истории Средней Азии. Процессы, связанные с изменением социально-экономических отношений, привели к крушению крупных государств, нарушили сложившиеся связи. Это ослабило экономику и вызвало кризис во всех культурно-исторических областях региона. К началу IV в. прежде могущественное Кушанское царство сильно сократилось и в значительной степени утратило свое влияние, что было обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. Широкая экспансионистская политика Сасанидской династии во многом способствовала экономическому ослаблению этого государства, что в конечном счете привело к его распаду на множество больших и малых самостоятельных владений. Археологические исследования подтверждают почти полное прекращение жизни многих крупных городов Средней Азии, запустение целых оазисов, сокращение орошаемых земель (Толстов, 1962; Мандельштам, 1964, с. 53; Массон М., 1949, с. 52–53). Сокращение городской территории прослежено в Согде (Афрасиаб) (Шишкина, 1973, с. 99), Ташкентском оазисе. В Фергане затухает жизнь крупнейшего города — Мархаматского городища, которое А.Н. Бернштам отождествлял со столицей области г. Эрши (Бернштам, 1951, с. 10; 1952, с. 252). Период IV–V вв. во всей Средней Азии характеризуется изменением многих форм материальной культуры: типа расселения и жилищ, топографии городов и оазисов, технологии изготовления и отделки поверхности керамики. В свое время С.П. Толстов на основании материалов из Хорезма убедительно показал, что причину этих перемен нужно искать в коренных изменениях социально-экономического строя (Толстов, 1948). К этому же мнению пришли впоследствии и другие исследователи (Дьяконов М., 1953, с. 292; Давидович, Литвинский, 1955, с. 159; Мандельштам, 1964, с. 53; Массон В., 1968, с. 100). А.Н. Бернштам был склонен связывать это со сменой общественных отношений. Он писал, что после ликвидации усадеб кушанского времени на смену им в сельскохозяйственных районах предгорья приходят сильно укрепленные за́мки и крепости, которые играют двоякую роль: с одной стороны, они служат резиденцией феодального владыки, а с другой, — являясь крепостью, форпостом, защищают оазис от внешних вторжений (Бернштам, 1952, с. 248). Волна передвижения кочевых народов, охватившая Среднюю Азию, имела важное значение для судеб народов этой области. Кочевники (кидариты, хиониты, эфталиты), в IV–V вв. оказавшиеся на территории Средней Азии, были частью той волны кочевых племен, которая в истории Восточной Европы известна под названием Великого переселения народов. Кидариты — название союза племен, данное по имени их предводителя Кидары (в китайских источниках — Цидоло), провозглашавшего себя «царем Кушан», а по некоторым источникам — «царем Инда». Эти племена жили в Прикаспии. Сведения о них в письменных источниках достаточно скупы. Больше сведений в источниках о хионитах. С походами хионитов связан целый ряд эпизодов политической истории Средней Азии во второй половине IV — середине V в. Они вели войны с Сасанидами, а в V в. развернули наступление на восток и дошли до Бактрии. Известны монеты хионитов, подражавшие сасанидским дирхемам начала V в. О победах хионитов во время их похода в Восточный Прикаспий писал Аммиан Марцеллин: «Их новый царь Грумбат был уже прославлен „множеством побед“. Но, несмотря на победы, хиониты не смогли создать сколько-нибудь прочное государственное объединение» (Аммиан Марцеллин, с. 20). О «белых гуннах», или эфталитах, сообщают византийские, индийские, китайские, арабо-персидские, армянские и другие письменные источники. Несмотря на обилие сведений, ряд вопросов истории созданного эфталитами государства рассматриваются учеными с различных и нередко противоположных точек зрения. Хорошо осведомленные авторы китайских хроник называют родиной эфталитов районы Восточного Туркестана (Турфан). Согласно этим сведениям, эфталиты были вытеснены оттуда в результате столкновения с соседними племенами жуань-жуаней. Время создания государства эфталитов на территории Средней Азии определяется 50-ми годами V в. Эфталиты с большим успехом выдержали неоднократные нападения на их владения сасанидского царя Пероза (454–484 гг.), который сам пал во время последнего похода. Его преемники обязались выплачивать царю эфталитов дань. Приблизительно к середине VI в., при Хосрове I (530–579 гг.), Иран, восстановивший экономическую и военную мощь, вновь переходит к агрессии против эфталитов, власть которых к концу V в. распространилась на большинстве областей Восточного Туркестана. К началу VI в. они создали огромную империю, в которую, помимо Восточного Туркестана, вошли значительные территории Средней Азии (Тохаристан, Чаганиан, Самарканд, Бухара, Кеш, Фергана, Чач). Б.А. Литвинский полагает, что с Ферганой связана одна группа эфталитов — «красные хионы». Он считает, что хионы, видимо, могли жить в горных районах Средней Азии, именно в предгорьях Ферганы (Литвинский, 1976, с. 55). Наиболее интересную заметку об эфталитах оставил византийский историк Прокопий Кесарийский. Он писал: «Хотя эфталиты — народ уннского племени, но они не смешаны и не сносятся с известными нам уннами… они не кочевники, подобно другим уннским племенам, но издревле населяют плодоносную страну… Изо всех уннов они одни белы телом и не безобразны лицом» (Прокопий Кессарийский. 1880). По сведениям китайских источников, «владетельный дом Иеда» (китайская передача имени эфталитов) происходит от одного рода с большим Ю-эчжи, хотя в этой же заметке хроники говорится: «…другие сказывают, что Иеда есть отрасль гаогюйского племени» (Бичурин, 1950, т. II, с. 268). Несмотря на то что проблема происхождения эфталитов занимает исследователей не одно десятилетие, пока еще остается открытым вопрос о месте сложения этого народа. С.П. Толстов считал эфталитов выходцами из Приаралья. Он полагал, что дельты Сырдарьи и Амударьи были тем регионом, где «на древнем сако-массагетском субстрате „с сильной примесью восточных гунно-тюркских элементов“ сложилось государство хионитов-эфталитов» (Толстов, 1953, с. 159; 1962, с. 244). А.Н. Бернштам отмечал два центра, где, по его мнению, происходило формирование этногенеза эфталитов и складывалась их государственность, — средняя и нижняя Сырдарья и верховье Амударьи (Бадахшан). Он считал, что в этногенезе эфталитов ведущее место принадлежит центрально-азиатским элементам: «…скрещение центральноазиатских элементов с местными сакскими на почве Припамирья дало эфталитскую среду» (Бернштам, 1952, с. 192). Более поздние арабские авторы пишут о широком распространении эфталитов в Мавераннахре, называя этот народ хайталами, а область, где они жили, — хайтальской стороной. Якут дал более конкретные сведения: «Хайтал — это название области Мавераннахра, а это Бухара, Самарканд, Ходжент и (то), что между ними» (Мандельштам, 1964, с. 58). Из этого следует, что эфталиты широко распространились в земледельческих областях Средней Азии и занимали там прочные позиции. Известно, что правителем Чаганиана был эфталит. Видимо, эфталитская династия сменила местную при завоевании этой области. Значительное количество эфталитов жило в Бухаре и других районах Зеравшанской долины. Известно, что один из кварталов и за́мок в Самарканде имели название, сходное с именем последнего царя эфталитов, — Гатифар. Эфталиты делились на две группы — белые хионы и красные хионы. Последние обязаны своим названием красным головным уборам, красным доспехам и красному знамени. Пока еще неясно, были ли эти группы различными племенами, входившими в конфедерацию, или же это какие-то этнические разновидности, входившие в единый племенной союз. Эфталиты были ираноязычным народом. Их язык принадлежал к восточноиранской группе, но несколько отличался от языка других ираноязычных народов. В тохаристанских владениях официальным государственным языком эфталитов был бактрийский. В легендах эфталитских монет читаются бактрийские титулы. Эфталитская письменность развилась на основе кушанской. Сохранилось немного памятников письменности эфталитов. К их числуотносятся надпись на черепке из Зангтепе, граффити из Карадепе, надписи из Афрасиаба и Кафыркалы Колхозабадской. У нас нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о резких противоречиях между оседлым населением и эфталитами. Возможно, переход власти в руки вождей эфталитских племен произошел при поддержке, оказанной им аристократией земледельческих оазисов. Известно, что при эфталитах во многих владениях Ферганы и Бухары продолжали править местные династии. Эфталитское государство просуществовало немногим более пятидесяти лет. Но оно сыграло значительную роль в истории народов Средней Азии. Именно это государство обеспечило Средней Азии в I тысячелетии н. э. самостоятельный путь развития. Объединение разрозненных владений в рамках одного государства привело к восстановлению экономических и культурных связей, существовавших ранее. При эфталитах было положено начало экономическому и культурному подъему во всех историко-культурных областях Средней Азии. Этому способствовала политическая устойчивость относительно сильной власти. К середине VI в. на землях Северной Монголии образуется новое государство, созданное алтайскими тюрками, — Тюркский каганат (551–744 гг.). Это была вторая после гуннов степная империя, распространившая свою власть на огромную территорию от границ Китая до южнорусских степей. В результате совместных военных действий Хосрова и Хакана между 563 и 565 гг. эфталитское государство было уничтожено и его территория разделена между Ираном и каганатом. Граница проходила западнее Балха, восточнее Мургаба. В начале VII в. (в 600–603 гг.) в результате междоусобных войн каганат распался на две части — на Восточнотюркский и Западнотюркский. Земледельческие области Средней Азии попали под власть Западнотюркского каганата, сыгравшего огромную роль в судьбах среднеазиатских народов. Несмотря на то что они были вынуждены выплачивать тюркам дань, некоторые владения обрели политическую самостоятельность и свободу внешних сношений. Тюрки же после разгрома эфталитов ушли на северо-восток, в степные районы. Значительная часть тюрок поселилась в Северной и Восточной Фергане, в районах, тяготевших к Ташкентскому оазису, и в Семиречье. В южных и центральных районах — Согде и Тохаристане их влияние было незначительным. Переселение тюрок в земледельческий район повлекло за собой переход некоторой их части к оседлости. Изменив образ жизни и характер ведения хозяйства, они восприняли от оседлого населения некоторые формы материальной культуры, строительную технику, способ хранения продовольственных запасов в хумах, приемы гончарного производства. Проникновение тюрок в VII в. в земледельческие области, в первую очередь в Чач и Фергану, привело к постепенному отюречиванию местных племен, с которыми тюрки смешивались. В период господства Западнотюркского каганата тюрки установили союзные отношения с Византией, способствовавшие оживлению торговли между последней и Дальним Востоком. Основным предметом торговли являлся шелк. По данным Пэй Цзюя, крупного китайского чиновника, один из караванных путей пролегал через Кашгар-Памир-Фергану-Уструшану на Зеравшан и далее в Персию. В эти годы оживляется торговая деятельность согдийцев (начало ее исследователи относят к V в.), в результате которой они все более проникают в Семиречье. Вслед за торговцами в эту область направлялись свободные общинники. Они основывали поселения, которые становились центрами ремесла и торговли и постепенно превращались в города. Тюркский каганат распался в VIII в., но это не уменьшило влияния тюркских племен в Средней Азии. Сразу же после распада каганата возникли крупные политические объединения кочевых и полукочевых племен, подчинившие своей власти обширные территории. Семиречье, Тянь-Шань и дельта Сырдарьи были главными районами их расселения. С начала VIII в. долину р. Чу занимают тюргеши, населявшие до этого горные районы Тянь-Шаня. С этого времени устанавливаются еще более тесные контакты с земледельческими районами Средней Азии. К моменту прихода тюргешей в Семиречье на месте согдийских факторий уже возникли города, бывшие ремесленными и торговыми центрами. Согдийская колонизация, начавшаяся в V в. и особенно усилившаяся в VII–VIII вв., почти на полтысячелетия определила развитие Семиречья и сыграла большую роль в жизни тюркского населения восточных районов Средней Азии. Тюргеши были одним из наиболее культурных тюркских племен. Они в большей степени подверглись влиянию высокой согдийской культуры. Значительная часть тюргешей жила в городах и занималась ремеслами. Тюргешские правители чеканили свои монеты, прототипами которых послужили китайские и согдийские образцы. Монеты были круглые и имели квадратное отверстие в центре (Кызласов Л., Смирнова, Щербак, 1958). В 760 г. власть в Семиречье переходит к карлукам, пришедшим сюда с Алтая. Это было одно из многочисленных тюркских племен. Они, как и тюргеши, жили в городах и селениях, занимались ремеслами и земледелием, кочевым скотоводством и охотой. Значительная часть карлуков жила в Фергане и южных районах Согда. Восточными соседями карлуков были тюрки чигили и ягма. Первые жили южнее Иссык-Куля, в горах. Они владели городами и содержали огромные стада. Тюрки ягма тоже жили южнее Иссык-Куля. Это было воинственное племя, наименее культурное по сравнению с карлуками и тюргешами, что, однако, не помешало им впоследствии стать во главе Караханидского государства. Огузы и печенеги — самые западные тюркские племена. Они были северными и северо-восточными соседями Хорезма и находились под его постоянным культурным воздействием. Огузы с VII в. начинают фигурировать в исторической литературе. Этнический состав их был сложен. С.П. Толстов считал, что огузы сформировались в низовьях Сырдарьи. Этот народ сыграл большую роль в этногенезе туркмен, казахов, каракалпаков. Тюрки, пришедшие в Среднюю Азию как завоеватели и расселившиеся в ее земледельческих оазисах, способствовали ускорению темпов развития этой области. Значительная их часть перешла к оседлости и занялась ремеслами и сельским хозяйством. Тюрки принимали активное участие в международной торговле и как посредники и как купцы. Они известны как хорошие ремесленники, особенно искусные в изготовлении оружия и конской упряжи. Среди тюрок было, видимо, много грамотных людей, о чем свидетельствуют надписи на бытовых сосудах. Тюрки вступали в браки с местными жителями (известны браки тюрок с высокопоставленными особами) и занимали высокие должности. Так, например, тюрок по имени Тархун был правителем Согда. От его имени чеканились монеты. Одна такая монета, чеканенная в начале VIII в. (700–710 гг.), найдена в Фергане, на Актепе, в Баткенском районе (Баруздин, Брыкина, 1963, с. 96). История завоевания Средней Азии арабами, освещенная во многих источниках, достаточно хорошо исследована. Хронология событий этого периода известна с точностью, недоступной для более ранних эпох. В VII в. начинается наступление арабов на земли Средней Азии. В 651 г. был взят Мерв, где от руки местного мельника погиб последний сасанидский шах Ирана Иездигерд III. С начала VII в. народы Средней Азии ведут наиболее упорную борьбу с арабами, походы которых в эту область участились и стали крайне жестокими, особенно когда арабское войско возглавил хорасанский наместник Кутейба ибн Муслим. Встретив серьезное сопротивление, арабы только в первые десятилетия VIII в. овладели Хорезмом и центральными областями Согда. Против арабов объединились тюрки, ферганцы и чачцы, однако их соединенное войско было разбито, и в 712 г. Кутейба ибн Муслим занял Самарканд; после этого он организовал карательные походы против Чача и Ферганы, в одном из которых погиб, так и не подчинив эти области. Для прочного утверждения своей власти арабам пришлось почти целое столетие преодолевать упорное сопротивление и частые восстания в уже завоеванных землях. Усмирять ферганцев им приходилось еще в IX в. Арабское завоевание включило Среднюю Азию в обширный круг высокоразвитых государств от Средиземноморья до западных пределов Китая. Во многом сильно изменив уклад местной жизни, особенно в связи с принятием (поначалу вынужденным) новой религии — ислама, внедрение арабов в среднеазиатское общество тем не менее не стало ни рубежом, ни толчком к новому социально-экономическому строю, основы которого складывались на протяжении трех-четырех предшествующих столетий. В конце V–VI в. во всех областях Средней Азии намечается подъем экономической жизни. Этот процесс шел быстрее в экономически более развитых областях, к каковым относится долина Зеравшана. Характерная черта этого времени — изменение облика материальной культуры, которое можно объяснить только серьезными переменами в социально-экономическом строе общества. В VI–VII вв. начинают складываться феодальные отношения, о чем свидетельствуют распад больших государств и образование мелких владений, формируется дехканство, внутри которого существует социальная дифференциация, образуется класс зависимых от дехкан людей — слуг. Во время войны дехкане составляли отборную конницу. Изменяется характер расселения. Укрепленные селения сменяются за́мками и укрепленными усадьбами. Существовали также укрепленные селения с цитаделями. Крупный землевладелец обладал большим за́мком, находившимся у головного канала. Таким способом он контролировал распределение воды. Намечается подъем в сельском хозяйстве, восстанавливается ирригация. Процветает садоводство. Состав сельскохозяйственных культур очень близок к современному. Данные письменных источников свидетельствуют о том, что основная масса населения жила в деревнях. В записках Сюань Цзяна и в Таншу говорится о городах некоторых областей: в Бухаре было сорок больших и около тысячи малых городов, в Фергане насчитывалось шесть округов и около сотни малых городов. Город этого периода предполагает наличие крепостных стен. Начало формирования феодального города, видимо, относится к V–VI вв. Город являлся экономическим и политическим центром небольшой округи и объединял земледельческие поселения, располагавшиеся в непосредственной близости от него. Со времен В.А. Жуковского и В.В. Бартольда в науке установилось мнение, что для средневекового города характерно трехчастное деление (цитадель, шахристан, рабад). Эти ученые полагали, что цитадель и шахристан свойственны раннесредневековому, дофеодальному городу (Жуковский, 1894; Бартольд, 1963, с. 120; 1966, с. 173). Позже А.Ю. Якубовский писал, что основные черты застройки города отражали его социальную структуру. Рабад, по мнению этого автора, характерен для феодального города (Якубовский, 1951, с. 18). Эти положения высказаны А.Ю. Якубовским в 40-х годах. Они были основаны на сведениях письменных источников. Работы последующих десятилетий показали, что наиболее объективным источником для изучения структуры средневекового города является археологический материал, по мере накопления которого вносились коррективы в схему развития города, предложенную В.В. Бартольдом и А.Ю. Якубовским. Исследования подтвердили, что нет единой схемы. Трехчастное деление города, как полагает О.Г. Большаков, «не имело безусловной связи с социальной структурой общества. Появление рабада является результатом территориального роста города» (Большаков, 1970, с. 96–99). Конкретная историческая обстановка, в которой развивались города, отражалась на их топографии. По мнению С.П. Толстова, города, сложившиеся в эпоху феодализма, не имели цитадели. Они состояли из шахристана, вокруг которого складывался рабад. Для города были характерны стихийность застройки и нерегулярность плана (Толстов, 1948, с. 240). На топографию города большое влияние оказывала окружающая географическая среда. Особенно ярко зависимость топографии поселений от географических условий проявляется в горных районах: поселения и города здесь занимают наименее пригодные для возделывания земли, а их очертания подчинены рельефу местности. Большим своеобразием характеризуется топография городов Юго-Западного Семиречья. Оно заключается в наличии длинных стен, окружающих пространство вокруг центральных развалин. Структура центральных развалин четкая: здесь выделяются цитадель, укрепленный шахристан и часто неукрепленный рабад. Территорию, огражденную длинными стенами, занимала сельскохозяйственная округа города. Здесь же находились храмы, некрополи, отдельные за́мки (Кожемяко, 1959, с. 65 и сл.; Кызласов, 1959, с. 156 сл. 230, 233). Функциональное назначение длинных стен Семиречья отличается от такового стен в Согде и Фергане, ограждавших территорию рустаков-округов. Важнейший экономический фактор этого периода — расцвет мировой внешней торговли, к которой тюркские каганы неизменно проявляли живейший интерес. Наиболее заметный вклад в торговлю, проходившую по издавна проложенному Великому шелковому пути, внесли согдийцы. Купцы согдийских городов стали едва ли не главными посредниками в мировой торговле того времени. Именно согдийской торговле обязана своим появлением цепь городов-колоний, которая протянулась от северных границ Средней Азии через Семиречье, Восточный Туркестан и Монголию до Великой Китайской стены. Общекультурное значение этих городов для Восточного Туркестана трудно переоценить. Именно тогда недалеко от главной переправы через Амударью, на западной окраине Согда, вырос «город купцов» Пайкенд, экономический расцвет которого зависел от караванной торговли. В это время прославился согдийский купец самаркандец Маннах, получивший от тюркского кагана почетный титул тархана. Выполняя дипломатические поручения кагана, Маннах ратовал за интересы согдийской торговли в столицах Византии и Сасанидского Ирана. Помимо Согда, в международную торговлю были вовлечены и все другие области Средней Азии. Но одновременно с большим значением, которое приобретают международная торговля и ее проводники — купцы, владельцы караванов, в рассматриваемое время в социальной структуре общества возвышаются землевладельцы — дехкане, жившие преимущественно в за́мках. Они возглавляли свои дружины — военные формирования княжеств. Дехкане напоминают средневековых рыцарей Западной Европы, но в отличие от Европы в Средней Азии отношения между феодально-землевладельческой аристократией и купечеством были мирными, до столкновения дело не доходило. Главной особенностью идеологически-религиозной обстановки в стране является то, что в Средней Азии не было единой официальной, государственной религии. Этот факт необходимо особо отметить в связи с тем, что в соседнем Иране именно в это время зороастризм стал государственной религией, политика которой отличалась непримиримостью ко всякого рода отклонениям от канонов учения и одновременно враждебностью к другим религиям. То же самое происходило и в христианской Византии. В Средней Азии ситуация была иной. И хотя письменные источники свидетельствуют о том, что зороастризм (религия магов) был распространен здесь довольно широко, тем не менее в отдельных областях исповедовали буддизм, существовали и общины христиан. Кроме того, в Средней Азии находили приют сторонники таких еретических с точки зрения официального зороастризма сект, как манихейство, а затем и маздакитство (крайне дуалистические учения, привлекавшие, особенно последняя, на свою сторону широкие народные массы). Такая обстановка оказалась весьма благоприятной для появления различных синкретических культов, что и имело место в действительности. Таким образом, послекушанский период истории Средней Азии охватывает фактически около четырех столетий, с середины IV до середины VIII в. Хотя с начала археологического изучения древностей Средней Азии прошло уже столетие, к целенаправленным систематическим исследованиям археологи практически приступили лишь в начале 30-х годов текущего столетия. С этого времени исследования ведутся как по линии первичной фиксации памятников, так и их раскопок. Общее количество таких памятников весьма велико. Их насчитывают сейчас многие десятки. Речь идет в первую очередь об остатках оседлых поселений различного типа. Это в основном руины более или менее крупных поселений городского типа или же остатки построек, которые археологи именуют различно — «сельские поселения», «отдельные здания» и, чаще всего, «замки». Руины крупных городов (но не всех) отождествлены с их древними названиями. Что касается за́мков, то их наименования в подавляющем большинстве случаев — недавнего происхождения. Общие результаты археологических работ последних трех-четырех десятилетий подтверждают сведения письменных источников, содержащих впечатления очевидцев-современников, согласно которым Средняя Азия была страной с развитой городской культурой. Исследование городов — занятие весьма трудоемкое, требующее больших материальных затрат, физических усилий и опыта. В предвоенные годы и особенно после войны начали работать экспедиции археологического надзора на крупных стройках в Чуйской долине, в Фергане и в других регионах. Вот уже шестьдесят лет ведет работы Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, созданная С.П. Толстовым. Пятидесятилетие отметили исследователи Пенджикента. Хорезмская экспедиция первой начала комплексное изучение региона с привлечением ученых разных специальностей (биологов, географов, картографов). Были открыты и раскопаны полностью десятки памятников. Полученные результаты позволили по-новому осветить многие вопросы истории региона. Раскопки Пенджикента позволили составить реальные представления о структуре раннесредневекового города, о быте горожан, о разнообразных искусствах, процветающих в городах.Глава 1 Северный Хорасан (Г.А. Кошеленко, В.А. Гаибов, А. Губаев)
Раннее средневековье в истории Южного Туркменистана — это время, когда его территории входили в состав государства Сасанидов, которое включало в себя также Иран и Месопотамию. Только в самом конце эпохи территории Южного Туркменистана оказались под властью арабов. Арабское завоевание этих земель произошло в середине VII в., т. е. значительно раньше, чем остальной части Средней Азии. Именно этот район, в частности крупнейший город его — Мерв, стал базой для дальнейших завоеваний арабами Средней Азии.
Карта 1. Северный Хорасан. а — крупный город; б — малый город; в — средний город; г — культовые места; д — депе; е — за́мки и крепости; ж — могильники; з — стена, окружающая оазис; и — древнее русло и протоки р. Мургаб. 1 — Гяуркала/Эрккала; 2 — Чильбурдж; 3 — Хароба-Кошук; 4 — Дуе-Чокен; 5 — Топдепе; 6 — Мунондепе; 7 — Атлыдепе; 8 — Гёбеклыдепе; 9 — Чанглыдепе; 10 — Дурнали; 11 — Койне Кишман; 12 — Улы Кишман; 13 — Куртлы; 14 — Гечигран; 15 — Абайджош; 16 — Одынчидепе; 17 — Акчадепе; 18 — Байрамалийский некрополь.
В эпоху Сасанидов вся территория государства делилась в военно-административном отношении на четыре больших региона. Один из них назывался Хорасаном. В состав его входили территории современного Северо-Восточного Ирана и Южного Туркменистана. При этом прохождение восточной границы Хорасана зависело от успехов сасанидских войск: в период наивысших успехов Сасанидов в состав этого региона включались Балх и Бухара (Колесников, 1970, с. 95). Из территорий Южного Туркменистана в состав наместничества Хорасан, управляющего спахбедом, как это явствует из географических сочинений, безусловно, входили следующие провинции: Мерв, Мерверуд, Бадгис, Серахс. Труднее определить, входили ли в состав Хорасана более западные части северных предгорий Копетдага. Несомненно, что самая западная часть (район Гургана) административно принадлежала к «северному наместничеству» и входила в провинцию Гурган (Gyselen, 1989, p. 84). Более восточные районы (начиная примерно с Ашхабада вплоть до современной Каахки включительно) входили в состав провинций Абавард и Шахр-Рам-Пероз (Gyselen, 1989, p. 84), которые были каким-то образом связаны с Абаршахром (район Нишапура) и тем самым могли считаться включенными в состав «восточного наместничества», т. е. Хорасана. Во всяком случае, в момент арабского завоевания Ниса (городище Новая Ниса у с. Багир) входила в состав Хорасана (Бартольд, 1965, с. 127). Абавард (Абиверд) являлся центром одноименной области, отвечавшей парфянской Апаварктикене. На территории Туркменистана эта область покрывала подгорную полосу от Баба-Дурмаза до Меана и Чача (Логинов, 1985). Мерв, как правило, являлся столицей всего Хорасана, хотя в исключительных случаях ставка правителя могла переноситься и в другие города. Соответственно в данной главе будут рассматриваться проблемы археологии раннесредневекового времени территорий, которые составляли северную часть исторической области Хорасан с III по VIII в., т. е. оазисы к северу от Копетдага вплоть до Серахса и расположенный в сердце Каракумов Мервский оазис.
История изучения.
Археологическое изучение как подгорной полосы Копетдага, так и Мерва началось только с 80-х годов XIX в., когда эти территории были присоединены к России, хотя некоторые сведения о них просачивались в Европу благодаря немногочисленным путешественникам (русским, англичанам, французам), побывавшим здесь (Массон М., 1949; 1980, с. 10 и сл.). После присоединения Мерва и особенно после завершения строительства железной дороги число таких путешественников увеличилось, и соответственно возросло число сообщений о здешних памятниках (Массон М., 1980, с. 19 и сл.). Первые научные исследования на территории Мерва провел востоковед В.А. Жуковский (Жуковский, 1894). Хотя ученый интересовался главным образом историей и памятниками Мерва поры послеарабского завоевания, он уделил некоторое внимание и памятникам раннесредневековой поры. Проводились небольшие раскопки на территории Эрккалы. Позднее в оазисе работала американская экспедиция под руководством Р. Пампелли. В ходе ее исследований было заложено несколько шурфов на Гяуркале и Эрккале, а в северной части оазиса было открыто несколько памятников, как позднее выяснилось, сасанидского времени (Exploration in Turkestan, 1905–1908). И методы, и результаты исследований этой экспедиции были резко критически оценены В.В. Бартольдом (Бартольд, 1966в, с. 141–153). Раскопки на городищах древнего Мерва (главным образом в Эрккале) были осуществлены только в 1937 г. (под руководством А.А. Марущенко, при участии Б.Б. Пиотровского). Однако масштабы их были невелики, а публикация материалов — очень краткой (Пиотровский, 1949). После окончания Великой Отечественной войны основные исследования в Мервском оазисе проводила ЮТАКЭ, в особенно больших масштабах начиная с середины 50-х годов. Слои раннесредневекового времени исследовались на Гяуркале (основные итоги см.: Филанович, 1974) и Эрккале (основные итоги см.: Усманова, 1963, 1969). Кроме того, в ходе разведочных поездок по территории оазиса были зафиксированы памятники, относящиеся к этой эпохе (Массон М., 1966). Важнейшие результаты первых лет работ ЮТАКЭ отражены в монографии Г.А. Пугаченковой (Пугаченкова, 1958). В эти же годы небольшие по своим масштабам исследования в оазисе проводили и археологи, работавшие в АН Туркмении (Ершов, 1959; Дурдыев, 1959). В 70-е годы активность ЮТАКЭ резко упала, но с 1980 г. начала свою деятельность объединенная экспедиция ИА АН СССР и Туркменского государственного университета, которая проводила раскопки ряда городищ и занялась составлением археологической карты оазиса. В конце 80-х годов в работу по созданию этой карты включились и итальянские археологи из ISMEO. Сейчас работа завершена, и публикация карты ожидается в ближайшее время. С 1993 г. на территории Гяуркалы в Эрккалы проводит свои исследования англо-туркменская экспедиция, предварительные отчеты о работах которой публикуются ежегодно в журнале «Iran». Исследования в предгорной полосе не имели столь интенсивного характера, как в Мервском оазисе. Крупнейшее городище этого района Новая Ниса, в сущности, не подвергалось серьезному археологическому изучению, а при небольших по масштабам раскопках слои раннесредневекового времени почти не вскрывались (Вязьмитина, 1949, 1953). Стратиграфический шурф показал, что в сасанидское время Ниса находилась в запустении, но не ясно, можно ли этот вывод перенести на все городище, или это черта, характеризующая только его часть. ЮТАКЭ в данном районе исследовала городище Старая Ниса и памятники гораздо более раннего времени (эпохи неолита и бронзы), не уделяя практически никакого внимания сасанидскому периоду. Совершались только разведочные поездки и предварительное обследование памятников (Массон М., 1953). Несколько более активны были сотрудники Института истории, археологии и этнографии АН ТССР, которые в 50-е годы проводили раскопки Хосровкалы (Марущенко, 1956) и Серахса (Марущенко, 1956а). Ими были вскрыты слои раннесредневекового времени. В очень небольших масштабах исследовалось городище Куня-Каахка (Дурдыев, 1959б). В дальнейшем было продолжено изучение Серахса (Оразов, 1973) и определенное внимание уделялось ирригационной системе оазиса (Оразов, 1972). Большое внимание было обращено на один из за́мков предгорной полосы — Акдепе (Губаев, 1967, 1968, 1971, 1977; Губаев, Кошеленко, 1968, 1972). Основные результаты еще не опубликованы. Значительные по масштабам разведочные работы были произведены в конце 70-х — первой половине 80-х годов по составлению археологической карты Каахкинского района, однако результаты опубликованы только частично (Пилипко, 1982; Логинов, 1991).Основные события политической истории.
В первые века н. э. Мервский оазис и подгорная полоса Копетдага входили в состав Парфянского царства, но пользовались широкой автономией. Мерв и восточная часть предгорий входили в состав вассального царства Мерва и управлялись собственной династией (видимо, одной из боковых ветвей Аршакидского дома) (Кошеленко, 1966, с. 67 и сл.; Пилипко, 1980). Западная часть предгорной полосы, видимо, входила в состав такого же автономного царства Гиркания. После падения власти Аршакидов и перехода власти к персидской династии Сасанидов Мерв и подгорная полоса оказываются под властью последних. Это происходит во время царствования Ардашира I, когда он совершил большой поход на восток (Frye, 1984). Иногда высказывается предположение, что в конце парфянской эпохи Мерв был захвачен кушанами, что и стало причиной похода Ардашира на восток (Бивар, 1991, с. 7–8). В списке приближенных этого царя, содержащемся в накши-рустемской наскальной надписи, упоминается Ардашир, царь Мерва (Frye, 1984, p. 372). Однако автономия Мерва уже в период царствования Шапура I была утрачена, и он вошел в обычную административную структуру государства Сасанидов. Правда, вполне вероятно, что какое-то время Мерв был частью кушанского наместничества. Во всяком случае, известно, что некоторые кушано-сасанидские монеты чеканились на мервском монетном дворе (Carter, 1990). О положении районов подгорной полосы в составе государства Сасанидов серьезной информации нет. Мерв стал одной из основных опорных баз сасанидского государства на востоке, и правитель его приобрел титул марзбана (Колесников, 1970, с. 95 и сл.). Однако при обострении конфликтов с восточными соседями Мерв иногда оказывался под ударами врагов. Такие периоды отмечаются отсутствием чекана на местном монетном дворе. Особую роль сыграл Мерв в судьбе последнего сасанидского шаха Иездигерда III. Когда началось завоевание государства Сасанидов арабами, именно Мервский оазис был последним убежищем этого шаха, и здесь он в 651 г. нашел свой конец (Колесников, 1982, с. 131–146). В истории его гибели много неясного, поскольку в событиях принимало участие много политических сил (сам шах со своим окружением, марзбан Мерва Махуйе, жители города, тюрки, призванные из-за Амударьи то ли Иездигердом, то ли Махуйе, арабы), а сообщения историков об их деталях очень различаются. Районы подгорной полосы практически одновременно с Мервом оказались под властью арабов. Переход власти к арабам в первые десятилетия мало сказался на характере общественных отношений и культуры населения региона. Только с IX в. можно заметить серьезные изменения. Первым существенным знаком перемен стало запустение старого города (городище Гяуркала) и обживание новой территории — к западу от прежней (современное городище Султанкала).Основания стратиграфии.
До недавнего времени считалось, что стратиграфия и периодизация памятников Мервского оазиса (а также и памятников подгорной полосы) сасанидского времени хорошо установлены. Основой стратиграфии служили материалы шурфов Эрккалы (их обобщение см.: Усманова, 1963, 1969) и Гяуркалы (их обобщение см.: Филанович, 1974). Однако сравнительно недавно выяснилось, что стратиграфические наблюдения для раннесасанидского времени основывались на неточных нумизматических данных, так как М.Е. Массон, определявший монеты, систематически ошибался, принимая монеты царя Шапура II за монеты Шапура I (Логинов, 1990; Loginov, Nikitin, 1993а, p. 226). Только в последнее время были предприняты усилия для установления надежной стратиграфии этого времени. Наиболее надежными в этом отношении стали материалы Гёбеклыдепе (северная часть оазиса), где четко различаются слои парфянского и раннесасанидского времени, а последние не выходят за пределы IV в. (Кошеленко, Никитин, 1991); правда материал из раскопок этого памятника опубликован только частично. Для подгорной полосы «стратиграфическая колонка» составлена на базе исследований за́мка Акдепе (периоды Акдепе I–V — от II по первую половину VII в.), но она, к сожалению, не опубликована.Система расселения.
В сасанидскую эпоху происходили большие изменения в системе расселения в Мервском оазисе. В эллинистическое время заселены были только территория Гяуркалы (с Эрккалой) и непосредственные окрестности города. В парфянский период осваивались территории к северу от Гяуркалы. Был создан ряд небольших укрепленных населенных пунктов, имевших строго геометрическую планировку (Губаев, Кошеленко, Новиков, 1990; Gubaev, Koshelenko, Novikov, 1991; Bader A., Gaibov, Koshelenko, 1993/4): Дурнали (Bader A., Gaibov, Koshelenko, 1996), Чанглы (Koshelenko, Bader A., Gaibov, 1992), Койне-Кишман (Koshelenko, Bader A., Gaibov, 1993), Кыркдепе (Дурдыев, 1959a) и др. В сасанидское время освоенная территория не увеличивалась, но возросло число населенных пунктов. На территории Мервского оазиса в это время существовало несколько десятков населенных пунктов разного характера. Главным центром оазиса по-прежнему оставался Мерв, состоявший из городской цитадели (Эрккала) (Усманова, 1963) и собственно города (Гяуркала) (Филанович, 1974). Город и цитадель имели укрепления. За городскими стенами располагался пригород. Основная застройка занимала центральную часть Гяуркалы, в углах оставалось достаточно много незастроенного пространства. Город имел четверо городских ворот. Главные улицы шли от них и пересекались в центре (табл. 1, 1). Сохранялись некоторые следы регулярной планировки, восходящей к моменту основания города. Цитадель имела овальный план, в нее вел только один вход — со стороны города, где находился длинный пандус. В центре цитадели располагались здания административно-официального назначения, а на гребне ранних стен с южной стороны находился за́мок-форт, видимо резиденция мервского правителя. Изменения в системе расселения проявляются по-разному в разных частях оазиса. В районе Дурнали (Bader А., Gaibov, Koshelenko, 1996) созданный при парфянах небольшой городок сохранял свой характер до IV в. Позднее вокруг него вырос неукрепленный пригород площадью до 7 га. В начале арабского периода укрепленный город был полностью покинут, а неукрепленная часть его выросла и достигла площади 15 га. На его окраине в конце VII или начале VIII в. был построен укрепленный лагерь для арабов — рабат (табл. 1, 2). В районе Чанглы (Koshelenko, Bader A., Gaibov, 1992) эволюция имела несколько иной характер. В парфянское время здесь была создана круглая в плане крепость, которая просуществовала примерно до IV в. В это время она была покинута, и на ее руинах построен за́мок, вокруг которого выросло неукрепленное поселение площадью до 15 га. В начале арабского периода старый за́мок и поселение были оставлены, и рядом возникло новое поселение площадью до 60 га. Также был построен и рабат. Улы-Кишман (Bader A., Gaibov, Koshelenko, 1993/4, p. 58–60) начинает свое существование в виде небольшой прямоугольной в плане крепости, построенной в позднепарфянское время. Ее характер не меняется и в раннесасанидский период. Однако в конце сасанидского периода крепость была оставлена и на ее руинах строится за́мок, к югу от него возникает небольшое поселение со скромными укреплениями. Рассмотрев этот материал, мы можем прийти к выводу, что в начале сасанидской эпохи в системе расселения в оазисе практически не произошло никаких серьезных изменений. Основным типом населенного пункта по-прежнему оставалось небольшое укрепленное поселение прямоугольной в плане формы. Только с V в. начинаются существенные перемены. Появляется новый тип сооружения, который обычно определяется как за́мок. Старые поселения пустеют, а вокруг за́мков вырастают новые, как правило неукрепленные (хотя иногда вокруг них строятся достаточно слабые укрепления). Арабское завоевание приносит новый тип сооружения — укрепленный лагерь (рабат), строящийся обычно на окраине поселения. Некоторая информация о системе расселения имеется и для оазиса Серахса. В сасанидское время здесь существовал только один город — сам Серахс (Оразов, 1973, с. 21 и сл.). Он занимал только ту территорию, которая позднее стала цитаделью города эпохи развитого средневековья и был окружен пахсовой стеной. Вокруг него уже сложился неукрепленный пригород. Цитадель в плане имела форму неправильного многоугольника (поперечник 280–300 м) (Марущенко, 1956а, с. 166). Основным типом населенного пункта в оазисе были поселения, имевшие в центре мощный бугор (обычно определяемый как за́мок) и неукрепленное поселение вокруг него (Яссыдепе I, Яглыдепе, Геокдепе и др.). За́мок и поселение часто разделялись рвом (Оразов, 1973, с. 22 и сл.). Самый крупный из за́мков имел площадь около 2 га. Имеется несколько типичных за́мков (Ходжамураддепе, Ганлыдепе и др.), вокруг которых нет следов поселений. Зафиксированы также и небольшие отдельно стоящие крестьянские усадьбы (например, Учдепе 2, северный холм). В собственно подгорной полосе бесспорно крупнейшим населенным пунктом было городище Куня-Каахка, которое практически не исследовано (Дурдыев, 1959б, с. 12). Сейчас общепринятым является мнение, что именно это городище представляло собой центр области Апаварктикены, который в раннесредневековое время стал называться Апаварт (название засвидетельствовано надписью на булле из раскопок Акдепе, см.: Губаев, 1971а, с. 47; Луконин, 1971, с. 50), а после арабского завоевания — Абиверд (Баверд) (Массон М., 1953, с. 27 и сл.; Логинов, 1985, с. 66). Город возник в парфянское (может быть, даже в эллинистическое) время, но наивысшего расцвета достиг в сасанидское. Он был обнесен стеной и представлял собой в плане прямоугольник, вытянутый с северо-востока на юго-запад (размеры стен: юго-восточная 737,5 м, северо-западная 675 м, северо-восточная 587,5 м, юго-западная 487,5 м). Город имел двое ворот. В центре городища находилась цитадель. Имелся также неукрепленный пригород, но время его существования не определено (Дурдыев, 1959б, с. 12). Еще один город на территории подгорной полосы — городище Хосровкала (Марущенко, 1956). Город возник очень рано, существовал и в парфянскую эпоху, но наивысшего расцвета достиг в сасанидское время. Отличительная особенность его устройства — двухчастное деление: собственно, город и цитадель представляют собой изолированные комплексы, разделенные рвом. Цитадель имеет форму неправильного шестиугольника (поперечник примерно 170 м), собственно город имеет форму прямоугольника (260×160 м). Город и цитадель разделены свободным пространством площадью около 20–30 м2. Имеется также и неукрепленный пригород, но время его существования не определено (табл. 1, 4). На территории предгорной полосы засвидетельствовано значительное количество за́мков (некоторые из них раскапывались). Как правило, вокруг за́мка или рядом с ним находилось поселение (иногда укрепленное). Так, рядом с за́мком Акдепе располагалось большое поселение, продолжавшее существовать и после гибели за́мка.Строительная техника.
Строительная техника сохраняла свой традиционный характер. В качестве основных строительных материалов использовались сырцовый кирпич и пахса (битая глина). Сырцовые кирпичи обычно были квадратными (около 40 см в стороне и толщиной примерно 10 см). С течением времени проявляется тенденция к постепенному уменьшению их размеров. Связующим материалом служила жидкая глина. Очень часто конструкции создавались из чередующихся слоев пахсы и сырцового кирпича. Жженый кирпич использовался редко, главным образом для всякого рода вымосток. Достаточно широко были распространены сводчатые перекрытия и даже купола простейшего типа, перекрывавшие небольшие квадратные помещения. В качестве покрытия стен использовалась глиняная штукатурка, иногда ганч. В некоторых случаях стены расписывались, но росписи сохранились только в виде мельчайших фрагментов, не позволяющих представить их характер.Фортификация.
Характер фортификации населенных пунктов Мервского оазиса в сасанидскую эпоху только недавно стал более или менее ясен. Дело в том, что во время первичных разведочных исследований на севере оазиса было открыто большое количество памятников, у которых достаточно хорошо сохранились стены и башни, и эти памятники были определены как крепости парфянского времени (Пугаченкова, 1952; 1958, с. 45–47; Кошеленко, 1963). Позднее в результате более углубленных исследований стало ясно, что сохранившиеся части фортификационных систем относятся к более позднему времени, и поэтому можно более точно определить характер укреплений на каждом из исторических этапов. Сейчас в той или иной степени изучены укрепления сасанидского времени Гяуркалы (Ташходжаев, 1963; Филанович, 1974, с. 36 и сл.). Эрккалы (Усманова, 1989), Чильбурджа (Gaibov, Koshelenko, Novikov, 1990), Гёбеклыдепе (Губаев, Кошеленко, Новиков, 1990; Gubaev, Koshelenko, Novikov, 1991) (табл. 1). Во всех этих случаях стены сасанидского времени строятся на руинах стен парфянского времени, превратившихся к тому моменту в валы. Для создания стен используются как сырцовые кирпичи, так и пахса. Чаще всего слои пахсы и кирпича чередуются. Все известные стены имеют внутренний коридор, который делится на отсеки выступами стен, так что из одного отсека в другой можно пройти через узкую дверь. Основными узлами обороны являются башни, которых обычно довольно много. Внутрибашенные помещения квадратные или прямоугольные. Сами башни обычно прямоугольные, но со скругленными углами. Особое внимание уделяется обороне ворот. Ворота узкие, они фланкируются двумя башнями. Исследованные за́мки сасанидского времени показывают, что их тоже необходимо рассматривать как укрепления. Все они расположены на высоких платформах, имеют один вход, мощные стены. Нижний этаж лишен окон. В сасанидское время была построена и стена, охватывавшая оазис с севера. Ранее эту стену считали построенной при Селевкидах, в начале III в. до н. э., однако более внимательное изучение проблемы показало, что селевкидская стена располагалась гораздо ближе к центру оазиса, данная же стена, проходившая именно там, где кончались освоенные в период Сасанидов земли, возведена была, по всей вероятности, при царе Хосрове I (Bader A., Gaibov, Koshelenko, 1995а). Система фортификации, существовавшая в подгорной полосе, изучена недостаточно, однако некоторые материалы, характеризующие ее, все же имеются. К сасанидскому времени относятся, видимо, укрепления города Абиверда (городище Куня-Каахка). Автор раскопок полагал, что городские стены построены из сырцового кирпича на глинобитном цоколе (Дурдыев, 1959б, с. 12), но более правильно, по-видимому, считать (на основании аналогий с памятниками Мервского оазиса), что глинобитный цоколь — это остатки пахсовой стены парфянского времени. Характерная особенность памятника — очень частое расположение башен (на расстоянии 6,5 м одна от другой). Башни также имеют своеобразную «килевидную» форму. Внутрибашенное помещение — треугольное в плане, из башни ведет проход в город (шириной 0,8 м). В каждой из башен — три стреловидные бойницы, в стенах между башнями — четыре такие бойницы. Стены Хосровкалы также выполнены из сырцового кирпича, однако никаких данных о характере стен и башен не сообщается. Отметим только, что особенность данного населенного пункта состоит в следующем: его цитадель и собственно город имеют самостоятельные системы укреплений. Ворота цитадели устроены в наименее опасном месте — они обращены в сторону города (Марущенко, 1956). Укрепления за́мков лучше всего изучены на примере раннего (III в. н. э.) за́мка Дашлы I (Логинов, 1991, с. 8–9). Здание представляло собой в плане прямоугольник (47×50 м) с четырьмя прямоугольными башнями по углам и над входом (через прямоугольную же башню). Любопытна фортификационная структура за́мка Акдепе у Артыка (Губаев, 1977). Он имел достаточно мощную сырцовую стену с округлыми башнями по углам. Затем эта стена была усилена и, наконец, вдоль всей внешней северной стены за́мка был построен ряд дополнительных помещений, что резко снизило его оборонительные возможности. Если предположить, что вал Мерв имел не ирригационное, а фортификационное предназначение (Дурдыев, 1959б — на основании исследований А.А. Марущенко), то можно будет считать, что оборона оазисов Хорасана в сасанидское время строилась на одних и тех же принципах.Архитектура.
Архитектура изучена еще недостаточно. Особенно плохо известна рядовая жилая застройка. Для раннесасанидского времени наилучший материал дает так называемый квартал мукомолов, расположенный в северо-восточной части Гяуркалы, рядом с городской стеной (Кацурис, Буряков, 1963). Ранее его датировали парфянским временем, но после пересмотра определений монет, найденных приего исследовании (Логинов, 1990), стало ясно, что он относится к раннесасанидскому периоду. Здесь зафиксировано несколько отдельных домохозяйств, разделенных небольшими внутриквартальными переулками. Стены домов очень значительной толщины. Дворики не являются организующим элементом планировки жилища — они находятся обычно на краю застройки. Четко выдержана специализация отдельных помещений — производственных, складских и жилых, во всех имеются глинобитные суфы (табл. 1, 6). В районе Тургайдепе было зафиксировано несколько домов позднесасанидского времени, однако они не раскапывались, их план был зафиксирован только по гребням стен, возвышавшихся над песком. Характерны большие размеры отдельных домохозяйств, чем они отличаются от городских жилищ Мерва. Характерно наличие двух дворов: жилого — в центре дома и хозяйственного — с краю (Пугаченкова, 1958, с. 139). К числу за́мков обычно относят такие памятники, как Большая и Малая Кызкала (Пугаченкова, 1958, с. 135–139). Эти два памятника находятся в непосредственной близости от Мерва и впервые зафиксированы еще В.А. Жуковским (Жуковский, 1894, с. 165–167). Здания построены на мощных платформах, имеют очень толстые стены, украшенные снаружи гофрами. Здания были двухэтажными, с большим центральным залом, видимо перекрытым куполом. Боковые помещения украшены своеобразной кирпичной выкладкой. Однако, поскольку здания не раскапывались, существуют сомнения в их датировке, некоторые исследователи предлагают датировать их более поздним временем — вплоть до XII в. (Пилявский, 1947, 1950). Очень похожи на них Большая и Малая Нагимкала, находящиеся в северо-западной части оазиса (Пугаченкова, 1958, с. 132–134) (табл. 1, 13). Сооружения общественного назначения в Мерве зафиксированы как на Эрккале, так и на Гяуркале. На центральном бугре Эрккалы находилось здание, видимо, административного назначения — очень простого устройства, с помещениями прямоугольной формы, перекрытыми сводами, лишенными всякой парадности (Пугаченкова, 1958, с. 131). К сожалению, почти ничего не известно о резиденции правителя на гребне стен Эрккалы (Усманова, 1963, с. 52 и сл.). Здание парфянского времени было целиком забутовано и превращено в мощный форт. Новые помещения строились на этом монолите, но они почти не сохранились. Можно только отметить наличие частично сохранившейся стены — контрфорса с ложными декоративными стрельчатыми бойницами. Эти строительные работы были произведены в начале сасанидского периода, а в его конце был предпринят ремонт, имевший задачей усиление внешних стен (табл. 1, 6). В пределах Гяуркалы было построено так называемое Овальное здание, которое исследователи обычно называют монастырем Дресвянская, 1974), что, однако, совершенно неправильно, так как несторианские монастыри располагались обычно вне городских стен и имели совершенно иное устройство (Бадер А., Гаибов, Кошеленко, 1996). Здание представляет собой в плане овал с единственным входом (по пандусу), внутри вдоль стен располагаются отдельные помещения, лишенные окон. В каждое из них ведет одна дверь. Центральная часть почти незастроенная, в ней имеются три объединенных в блок помещения (табл. 1, 8). По всей видимости, данное сооружение представляло собой какой-то склад, вероятнее всего принадлежащий местной администрации. Этим назначением его объясняется, с нашей точки зрения, отсутствие всякого рода бытовых находок и чрезмерно скромное убранство его. В пределах Мервского оазиса зафиксировано несколько сооружений явно сакрального назначения. На территории Гяуркалы находилось буддийское святилище (Пугаченкова, Усманова, 1994; Pugachenkova, Usmanova, 1995). Оно состояло из монументальной ступы, имевшей почти квадратное основание (13×14 м), монолитную круглую в плане башню (диаметром 10 м) и лестницу на северной стороне. Ступа пережила четыре периода функционирования. К югу располагалось монументальное здание — сангарама — с большим двором и серией помещений вокруг него. Из двора вел проход на север — к главной ступе. В южной части двора находилось помещение, перекрытое куполом, в центре которого располагалась квадратная платформа (предназначенная для небольшой ступы, реликвария или статуи). Здание пережило два этапа. Весь комплекс построен в IV в. из сырцового кирпича, жженый использовался только для вымосток (табл. 1, 11). За пределами городских стен с восточной стороны города располагалась еще одна ступа (Ртвеладзе, 1974). Поскольку сооружение разрушено при земляных работах, сейчас трудно сказать, была ли это изолированная ступа, или рядом с ней имелись еще какие-либо сооружения. Ступа состояла из платформы (размером 15,6×15,4 м) и цилиндрической башни (диаметром до 11 м). Сложена она была из кирпича-сырца. Возможно, ступа возведена в VI в. Считается, что на территории Мерва находились еще два здания, имевшие сакральное назначение. Одно из них располагалось в южной части города (Филанович, 1974, с. 93 и сл.; 1989, с. 96). Оно было построено на платформе, на которой ранее стояло здание парфянского времени (также, видимо, религиозного назначения), сложено из сырцового кирпича. Судя по опубликованному плану и описанию, авторы раскопок не смогли найти дверей и все здание представляет собой комплекс из четырех глухих помещений с очень толстыми (до 2,5 м) стенами. Любопытные находки, сделанные в одном из помещений (рука алебастровой статуи и мелкие фрагменты алебастра с красной краской и позолотой), заставили высказать предположения: сначала — об общественном характере здания (Филанович, 1974, с. 93), а затем более определенно — о храмовом (Филанович, 1989, с. 96). Другое здание расположено в северо-восточной части городища (Филанович, 1974, с. 69 и сл.; 1989, с. 96). Здесь также на руинах здания парфянского времени (зафиксированы небольшие остатки скульптуры и цветные штукатурки) в III в. н. э. возводится комплекс сооружений общественного назначения. В его состав входят монолитная башня и частично сохранившиеся три помещения. М.И. Филанович считает возможным сравнивать это здание с «Домом огня» на Джанбаскале (Хорезм) и с храмами Пенджикента, хотя сама же отмечает, что никаких следов огня в здании не обнаружено. Вне пределов Мерва засвидетельствованы два памятника общественного назначения. Прежде всего это Хароба-Кошук (Пугаченкова, 1954; 1958, с. 126 и сл.). Здание сложено из сырцового кирпича и ориентировано главной осью с северо-запада на юго-восток. Его размер 51×13 м. Оно перекрыто сводом, внутри разделяется на несколько частей небольшими выступами. Северо-восточное окончание оформлено полукруглой нишей. Исследователями отмечалось его сходство с некоторыми церквами более западных регионов. Видимо, справедливо его определение в качестве христианской церкви (табл. 1, 3). На центральном бугре городища Гёбеклыдепе в раннесасанидское время было создано своеобразное сооружение (Губаев, Кошеленко, Новиков, 1990; Gubaev, Koshelenko, Novikov, 1991). Ядром его является монолитная платформа грубо шестиугольной формы, окруженная с пяти сторон узким обводным коридором и открытая на свободную площадку (на юг). За этим ядром по периметру располагаются несколько помещений хозяйственного назначения. Сооружение явно необычное по устройству, но не имеющее никаких аналогий в памятниках Ирана и Средней Азии (табл. 1, 10). В Серахском оазисе полностью была вскрыта рядовая крестьянская усадьба, состоявшая из двора и двух помещений (размеры 9,5×4,3 м и 9,5×4,5 м) (Оразов, 1973, с. 25). В предгорной полосе исследовались некоторые из за́мков (укрепленные усадьбы). Дашлы I представляет собой прямоугольную в плане структуру (размером 47×50 м), на углах находятся прямоугольные башни, вход в за́мок оформлен также в виде прямоугольной башни. Центральную часть комплекса занимал двор (25×25 м), все помещения хозяйственного и жилого назначения располагались по периметру стен (Логинов, 1991, с. 7). Подобное устройство за́мка указывает на сохранение в начале сасанидской эпохи традиций парфянского времени. За́мок Акдепе, видимо, имел аналогичное устройство, но в нем сказались уже веяния времени: башни округлые, а вокруг стен вырос еще ряд помещений (Губаев, 1977). В предгорной полосе исследовались два памятника, которые имели явно сакральный характер. На поселении, расположенном рядом с Акдепе, был раскопан зороастрийский храм огня (Gaibov, Koshelenko, Novikov, 1991, p. 88–90, fig. 8–9). Основное помещение храма имеет вход с севера и двумя устоями делится на две части. Во второй части помещения располагался типичный ступенчатый алтарь, предназначенный для возжигания огня, имеющий форму усеченного конуса. Храм датируется VI–VII вв. (табл. 1, 9). Еще один сакральный объект представляет собой святилище у Баба-Дурмаза (Марущенко, 1930; Губаев, Логинов, 1984). Здесь на вершине скалы располагаются руины сооружения, в которых, видимо, можно видеть остатки монументального алтаря; к нему вела вырубленная в скале лестница, начинавшаяся у источника, вытекавшего из-под скалы.Экология, ирригация, сельское хозяйство.
Несмотря на всю важность историко-экономических проблем, первые исследования в этом направлении в применении к Мервскому оазису были произведены только в самые последние годы (Кошеленко, Губаев, Гаибов, Бадер А., 1994; Бадер А., Гаибов, Губаев, Кошеленко, 1995; Кошеленко, Гаибов, Бадер А., 1997). В результате их выяснилось, что ахеменидский и аршакидский периоды в истории Мерва (как и всей Средней Азии) прошли в рамках плювиального периода. Благоприятная экономическая ситуация способствовала резкому расширению территории оазиса в северном направлении. Относительно благоприятные условия сохранялись и в начале сасанидского времени, хотя постепенно нарастали факторы, показывавшие приближение ксеротермического периода. Его настоящее начало — V в. н. э. Продолжался этот период до VIII в. н. э. (включительно). Как в самом оазисе, так и в районах, примыкавших к нему, наступление его сказалось самым неблагоприятным образом на экономической ситуации. В это время перестает функционировать Узбой, замирает жизнь в районе Сарыкамышской дельты Амударьи, прекращает существование Келифский Узбой, что связано с недостатком воды в Амударье. Видимо, аналогичной была ситуация и с Мургабом. Во всяком случае, именно на это время падает некоторое (хотя и не очень значительное) сокращение освоенной человеком территории оазиса. Мы имеем в виду прекращение жизни в районе Гёбеклыдепе. Во всех остальных районах территория оазиса не сокращалась, несмотря на неблагоприятные экономические условия. Вполне вероятно, что это было результатом усовершенствования ирригационной системы, существовавшей в оазисе. Первая плотина на Мургабе была построена еще при Ахеменидах. Видимо, какие-то усовершенствования имели место и позднее. Сложная ирригационная система оазиса, восхищавшая арабских географов, вероятнее всего, была создана в сасанидское время (Лившиц, 1971). Эта ирригационная система была своего рода ответом населения оазиса на ухудшение природных условий. Как и в парфянское время, на Мургабе имелось несколько плотин. Одна плотина, прототип позднейшей Султанбентской, давала начало каналу, который орошал земли непосредственно вокруг Гяуркалы и Эрккалы. Другая плотина, предшественница позднейшей Каушутбентской, была создана в парфянское время (Ляпин, 1986, с. 15 и сл.). У нее было две задачи. Первая-дополнительно снабжать город Мерв и его окрестности водой. Во всяком случае, как показывают старые планы, тот канал, остатки которого еще сейчас видны между городищами Султанкала и Гяуркала и который снабжал водой сам город, получал воду благодаря Каушутбентской плотине (Ляпин, 1986, с. 18). Эти земли были высоколежащими, и плотина здесь была необходима. Вторая задача — снабжать водой земли на севере оазиса. Хотя земли этого района были низколежащими по сравнению с землями вокруг Гяуркалы, но и для их орошения необходима была плотина, так как основное русло Мургаба этого времени (а им, как и в парфянское время, был Джар — самое западное из старых русел Мургаба) очень глубоко врезалось в рельеф. Помимо Каушутбентской, существовала еще одна плотина. Остатки ее зафиксированы в 30-е годы. А.С. Кесь у городища Геоктепе (на полпути между Байрам-Али и Мары, в 700 м к югу от современной железной дороги). От этой плотины, которую назвали Верхнеджарской, отходили четыре канала (Кесь, 1933). В районе действия этой плотины находились такие крупные населенные пункты, как Сулыдепе (Сувлыдепе). Ниже по Джару была еще одна плотина, возле городища Нагимкала (Хорава). Ее остатки возвышались над дном водотока на 3 м. Здесь также зафиксирован ряд каналов и арыков. Наконец, еще одна плотина на Джаре располагалась на расстоянии 25 км к северу от железной дороги. В сасанидское время, видимо, не создавали новых плотин, но поддерживали и усовершенствовали старые, а также, что очень важно, осваивали новые земли в зоне командования ирригационных систем. Поскольку в пределах одной и той же территории число населенных пунктов возрастало, необходимо было увеличивать и число каналов и рационально распределять воду между ними. К сожалению, остатков мелкой распределительной ирригационной сети практически не сохранилось. В подгорной полосе основные источники воды — небольшие речки и ручьи, имевшие свои истоки в горах. Соответственно здесь не создавались сложные ирригационные системы. Поселения в результате этого располагались на очень узкой полосе орошаемых земель вдоль гор, в районах конусов выноса. Можно полагать, что в сасанидское время орошенная площадь несколько уменьшилась по сравнению с таковой в парфянское (Логинов, 1991, с. 15). Особую проблему составляет так называемый вал Мерв. Одни исследователи считают его ирригационным сооружением (Логинов, 1985а), а другие допускают что он представлял собой стену, ограждавшую населенные территории от набегов с севера, подобную другим стенам, строившимся в сасанидское время (Дурдыев, 1959б, с. 13). Некоторые материалы по истории ирригации получены и в районе Серахса (Оразов, 1972). Ирригационные системы здесь возникают в ахеменидскую эпоху. В эллинистическое и парфянское время площадь орошаемых земель, кажется, уменьшается. В сасанидское время происходит дальнейшее развитие и усложнение системы. К двум ранее существовавшим магистральным каналам (Кичиагаяп и Атаяп) добавляются два новых (Ханяп и Караманяп). В результате этого резко возрастает количество орошаемых земель. В районах, где проходят эти каналы, возникает значительное число новых населенных пунктов. Естественно, что основой экономики Мерва и подгорных районов было сельское хозяйство, основанное на ирригации. О сельскохозяйственных культурах, использовавшихся здесь, свидетельствуют как археологические находки, так и данные письменных источников, которые могут быть использованы для освещения этого вопроса. Они распадаются на три категории: 1) письменные источники, говорящие обо всем государстве Сасанидов, не выделяя специально Хорасан; 2) письменные источники более позднего, арабского, времени, говорящие о Хорасане (и иногда конкретно о Мерве или о районах, расположенных рядом с ним); 3) китайские источники, рассказывающие о стране Босы (Сасанидское государство), относящиеся к интересующему нас времени, но, к сожалению, очень краткие. Сопоставление этих данных позволяет более или менее отчетливо представить тот набор культур, который характерен для Мерва (и Хорасана в целом) (Лившиц, 1971, с. 84–91). Основными зерновыми культурами были, несомненно, пшеница и ячмень. По-видимому, уже в сасанидское время различались по крайней мере две группы сортов пшеницы — возделываемые на поливных и неполивных землях. Видимо, определенную роль играли просо и хлебное сорго (дурра), известное сейчас под названием джугара. Кроме того, широко распространены были всевозможные виды бобовых: бобы, различные сорта гороха, фасоль, чечевица. Среди кормовых бобовых растений первое место занимала, несомненно, люцерна. В числе технических культур известны шафран и хлопок. Среди масличных растений первое место занимал кунжут, культивировалась и конопля. Бахчевые и огородные культуры были представлены дынями, огурцами, тыквой, репой, перцем, морковью, луком, тмином, чесноком, кориандром. Среди плодовых деревьев первое место занимали яблони и груши, кроме того, выращивались айва, персик, слива, тутовое дерево, грецкий орех. Естественно, что широко распространена была культура винограда. При раскопках Эрккалы найдены зерна риса, косточки винограда, вишен, семечки дыни, арбуза, огурцов, крупные косточки персика (Усманова, 1963, с. 80). Позднее находили остатки зерновых (пшеницы, ячменя), хлопка (Herrmann, Masson V., Kurbansakhatov, 1993) и почти всех растений, известных по письменным источникам (Herrmann, Kurbansakhatov, Simpson, 1995).Ремесло.
Лучше всего документировано археологическими материалами керамическое ремесло. В Мервском оазисе серия изученных горнов охватывает практически весь период: от III в. вплоть до времени после арабского завоевания. Печь, раскопанная на городище Гяуркала (Ахраров, Усманова, 1980) технологически полностью продолжает традиции печей предшествующего периода: круглая в плане, двухкамерная. Из заглубленной в землю топочной камеры горячий воздух поступал через продухи в поде в надземную обжигательную камеру. Новшеством по сравнению с предшествующим временем является только двойная стена верхней камеры, чтобы лучше сохранять тепло. Керамическое производство V–VI вв. лучше всего представлено керамическими печами, исследовавшимися на Мунондепе (Мережин, 1962). Эти печи по-прежнему круглые в плане, двухкамерные, но происходит изменение в соотношении размеров топочной и обжигательной камер. Топочная становится много меньше, соотношение ее диаметра с диаметром обжигательной равно 1:5. Появляются печи, в которых топочная камера имеет вид узкого и высокого коридора. В VII–VIII вв. целый ряд керамических печей был построен на оплывах стен Гяуркалы, которые утратили свое оборонительное значение. Здесь зафиксировано несколько типов горнов (Заурова, 1962). Основная масса их — традиционно круглые в плане, но печи фактически однокамерные, с одним радиально идущим длинным жаропроводящим каналом, который одновременно служил топкой. Открытое пламя из нее поступало в обжигательную камеру, посуда, предназначенная к обжигу, устанавливалась вдоль стен на сплошном поде. Имеется также печь с двумя камерами. Обжигательная камера почти квадратная, топочная — несколько уже. Под поддерживается тремя арками со щелевидными каналами (для поступления горячего воздуха) между ними. Именно печи этого типа наиболее характерны для последующего времени в оазисе. Другие ремесленные производства в оазисе археологически документированы гораздо хуже. С III в. до н. э. невдалеке от северных ворот Гяуркалы возникает квартал мукомолов, существующий и в IV в. Здесь обнаружено около 10 отдельных домохозяйств, в состав которых входили достаточно большие по размерам производственные помещения, в них устанавливались жернова ручных мельниц и очень большие хумы для хранения зерна. При раскопках этого квартала найдено более 50 жерновов, что явно превышает потребности самих жителей. На этом основании был сделан вывод, что здесь жили и работали мастера-мукомолы, снабжавшие мукой местный рынок. Жернова имеют различные размеры (от 6 до 35 см в диаметре) и были изготовлены из гранита, кварцевого песчаника, гнейса. Для конца сасанидского периода характерно появление водяных мельниц. Известно, что последний сасанидский царь был убит именно на мельнице, стоявшей на канале. Видимо, в Мерве существовало прядение и ткачество. Можно также говорить и о некоторых других видах ремесел. Источники, относящиеся ко времени вскоре после завоевания Мерва арабами, свидетельствуют, что в городе существовало производство шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей (Филанович, 1989, с. 117), которое, естественно, было развито в предшествующее время. Остатки тканей были найдены при раскопках за́мка на Эрккале (Усманова, 1961; Федорович, 1969). Среди них зафиксированы ткани из хлопка, кенафа, шерсти, шелка. Часть тканей была окрашена. Имеются, хотя и очень незначительные, свидетельства о наличии и других ремесел: металлообработка, косторезное дело, изготовление украшений — металлических и из полудрагоценных камней (Ханмурадов, 1989). На территории подгорной полосы, бесспорно, были развиты керамическое ремесло (на городище Акдепе у Артыка найдена керамическая печь), металлообработка (в сасанидских слоях Хосровкалы имеются крицы) (Марущенко, 1956, с. 115).Керамика.
В эволюции керамики достаточно четко выделяются два периода. Первый из них охватывает III–IV вв. (может быть, самое начало V в.; табл. 1а, 25–43). Можно, видимо, говорить о некотором изменении технологии производства, результатом чего стало ухудшение качества изготовляемой продукции: черепок часто порист и обожжен неравномерно (Филанович, 1989, с. 94 и сл.). Изменился и цвет теста сосудов. У большинства из них цвет черепка серовато-зеленый. Для этого периода характерно уменьшение количества чаш; почти совершенно исчезли небольшие тарелочки и бокалы. Взамен резко возрастает число кувшинов, как узкогорлых, так и широкогорлых. Существует огромное разнообразие их вариантов и размеров, начиная от вытянутых, грушевидных, яйцевидных и кончая шаровидными. Появляются амфоровидные сосуды с двумя изящно изогнутыми ручками и кувшинчики с вычурно профилированной закраиной горловины. Наиболее распространены кольцевые поддоны с шишечкой посредине, но есть и плоские. В конце этого периода появляются утяжеленные поддоны, выступающие за стенки кувшина, с продолжением в них емкости сосуда. Новым типом можно считать конусовидные поддоны с валиком-перехватом, целые и сплошные. Распространены также широкогорлые кувшины с шароподобной раздутой горловиной и двумя изогнутыми массивными ручками. Ручки самые разнообразные — от кольцевидных и напоминающих «ослиное ухо» до витых вертикальных и горизонтальных с вмятинами и налепами. Широко распространены глубокие тарелки с пельменеобразными налепами и орнаментированным широким бортиком. Бытуют горшки с клювовидным и треугольным в сечении венчиком, украшенные по стенкам волнистым орнаментом. Так же украшены массивные сосуды типа ступок. Можно полагать, что на формы керамических сосудов, особенно кувшинов, повлияли формы металлической посуды. Следующий период в развитии керамики охватывает время с середины V до середины VII в. (Филанович, 1989, с. 108 и сл.) (табл. 1а, 44–56). В это время улучшается качество выделки и обжига сосудов. Они изготовляются из хорошо отмученной глины, обжиг равномерный, цвет серый и кремовый. Преобладают сосуды закрытых форм: кувшины, вазы, горшки. Сократился набор открытых форм, особенно столовой посуды. Чаши и миски довольно простых очертаний. В это время постепенно выходят из употребления тарелки с орнаментированным широким бортом и пельменеобразными налепами, им на смену пришли глубокие миски близких форм, но без налепов. У них часто имеются полосы волнистого процарапанного орнамента на боку. Очень разнообразны горшки с характерными шаровидными очертаниями с подтреугольной в сечении закраиной, иногда со сливом, а так же сосуды с подчеркнутой шейкой и расходящимся венчиком типа закрытых ваз, в рельефно выступающий поддон которых переходит емкость сосуда. Среди кувшинов очень много таких, которые в керамике повторяют формы металлической посуды. Отмечаются (Филанович, 1989, с. 109 и сл.) следующие характерные особенности этого типа керамических сосудов: эллипсовидная и грушевидная форма тулова; кольцевой или расширяющийся книзу конусовидный поддон; полая высокая ножка с перехватом; раструбообразная горловина с бортиком; навершие ручки в форме шишечки; витая форма ручки; овальный слив с бортиком. Керамика Серахского оазиса, насколько можно судить по имеющимся материалам, не имела сколько-нибудь серьезных отличий от керамики Мерва (Марущенко, 1956а, с. 183). Что касается керамики подгорной полосы, то при целом ряде мелких отличий от мервской в своих основных формах и технологии она практически идентична последней (Логинов, 1991, с. 11–12).Монетный чекан и денежное обращение.
Основной материал для суждения относительно монетного чекана и характера денежного обращения в данном районе дают сами монетные находки, сделанные в оазисе. В парфянское время основу денежного обращения здесь составляли бронзовые монеты, чеканенные на местном монетном дворе. Видимо, переходную стадию от парфянского к сасанидскому чекану в Мерве представляют монеты с изображением всадника на оборотной стороне, в то время как на лицевой представлен бюст правителя вправо (Логинов, Никитин, 1984, 1986). Чекан царя Ардашира на мервском монетном дворе представлен только бронзовыми монетами традиционного для этого правителя типа: на лицевой стороне — бюст царя вправо, на оборотной — алтарь огня, надписей нет. Все монеты относятся к концу его царствования (Loginov, Nikitin, 1993а). Много сложнее картина деятельности монетного двора Мерва при Шапуре I. Здесь выпускались золотые динары: известен уникальный экземпляр в коллекции ГЭ, впервые опубликованный В.Г. Лукониным (Луконин, 1969, с. 169; 1977, с. 161). Считается, что он был отчеканен в начале царствования этого царя. Здесь выпускались также серебряные драхмы, а также бронзовые монеты различных номиналов (Loginov, Nikitin, 1993а, p. 228 sq.). Из других сасанидских царей раннего периода только Варахран II (276–293 гг.) использовал монетный двор Мерва: известны две драхмы этого царя, относящиеся к раннему периоду его царствования (Loginov, Nikitin, 1993а, p. 230). Видимо, очень активен данный монетный двор был в период царствования Шапура II (309–379 гг.). Выпускались золотые динары, серебряные драхмы и бронзовые монеты (Loginov, Nikitin, 1993b). Непосредственный преемник Шапура II Ардашир II (379–383 гг.) не чеканил монет в Мерве, но при Шапуре III (383–388 гг.) деятельность монетного двора возобновилась (Loginov, Nikitin, 1993с, p. 271 sq.). Работал монетный двор и при Варахране IV (388–399 гг.), и при Иездигерде I (399–420 гг.). Своеобразна ситуация с монетами следующего царя — Варахрана V. Судя по монограммам, указывающим монетный двор, почти половина монет, выпущенных во вторую половину его царствования, являлась продукцией мервского монетного двора. Возможно, это объясняется тем, что в то время шла война с эфталитами и Мерв был главной базой сасанидских войск, для потребностей которых и выпускались монеты (Loginov, Nikitin, 1993с, p. 272). При Иездигерде II (438–457 гг.) активность монетного двора снижается. При Перозе I (457–484 гг.) здесь выпускаются только бронзовые монеты, и в небольшом количестве. Однако в очень значительном числе присутствуют монеты чекана Табаристана, что заставляет предполагать, что сюда были переброшены войска, расквартированные ранее в Табаристане (Loginov, Nikitin, 1993с, p. 274). В первый период царствования преемника Пероза Кавада I в Мерве практически не выпускались серебряные монеты, но после 20-го года его правления они стали чеканиться регулярно (наряду с бронзовыми монетами). Эта практика продолжается при Хосрове I (531–579 гг.) и при Хормизде IV (579–590 гг.). Монеты самого конца существования Сасанидского царства изучены еще плохо, и какие-либо заключения о них пока сделать невозможно, хотя среди монетных находок имеются также монеты, выпущенные при Хосрове II (590–628 гг.). Есть также некоторое количество монет, выпущенных местными мервскими правителями, находившимися в зависимости от арабов, в период от середины VII до начала VIII в. (Loginov, Nikitin, 1993d). В подгорной полосе монетное обращение изучено еще недостаточно. В начале сасанидского периода использовались как бронза мервского чекана, так и местные подражания этим монетам (Логинов, 1986; 1991, с. 12; Gubaev, Loginov, Nikitin, 1993, p. 72). Позднее в монетном обращении участвовали монеты, выпущенные как на мервском, так и на других сасанидских монетных дворах (Рей, Стахр, Гай, Бишапур). Кроме того, здесь же были найдены имитации монет Иездигерда I и Варахрана V, выпущенных на мервском дворе (Gubaev, Loginov, Nikitin, 1993, p. 12–1 А). Аналогичная ситуация наблюдается в раннесасанидское время в монетном обращении Серахского оазиса. Относительно позднего времени информации не имеется.Религия.
Религиозная ситуация в Мерве сасанидской эпохи была достаточно сложной. Первоначально здесь господствовал какой-то вариант зороастризма. Об этом свидетельствуют погребения, совершенные по оссуарному обряду еще в парфянское время (Кошеленко, Оразов, 1965). Этот обряд и позднее был здесь достаточно широко распространен (Ершов, 1959; Кошеленко, Десятников, 1966; Обельченко, 1972; Сусенкова, 1972; Дресвянская, 1989), что подтверждает существование здесь этой религиозной системы, как государственной, в Сасанидском Иране. В конце сасанидского периода последний «царь царей» перенес в окрестности Мерва один из «великих огней» зороастризма, вывезенный из Рейя (древний город Раги) (Колесников, 1982, с. 132). В конце парфянского периода в Мерве распространяется буддизм (Koshelenko, 1966). Здесь найдена ступа с сангарамой в юго-восточном углу городища Гяуркала, еще одна — за пределами городских стен, к востоку от города (Пугаченкова, Усманова, 1994; Pugachenkova, Usmanova, 1995; Ртвеладзе, 1974). Хотя найденные в Мерве памятники буддийского культа не могут быть датированы временем ранее IV в. н. э., тем не менее китайская буддийская традиция совершенно определенно свидетельствует о том, что уже во II в. н. э. буддизм занимал заметное место в жизни населения и что в состав общины входили представители различных его слоев (купцы, члены правящей династии) (Кошеленко, Гаибов, Бадер А., 1994). Можно полагать, что буддизм сохранял позиции до самого конца сасанидской эпохи. В III в. н. э. в Мерве начинает распространяться христианство (Бадер А., Гаибов, Кошеленко, 1996; Bader А., Gaibov, Koshelenko, 1995). Очень скоро мервская церковь начинает играть важную роль. Именно из Мерва отправляются миссионеры далее на восток, вплоть до Китая. Мервский епископ приобретает ранг митрополита, участвует в Синодах несторианской (Восточной) церкви, иногда решительно вмешивается в сложные вопросы высшей церковной политики (Древний Мерв…, 1994, с. 76–80). Письменные источники свидетельствуют о существовании в оазисе ряда церквей, а на его окраине — монастырей (там же, с. 73–75). Из христианских памятников археологически зафиксирован только один — Хароба-Кошук, который определяют как церковь (Пугаченкова, 1954) (табл. 1, 3). Видимо, определение «Овального здания» на территории Гяуркалы как монастыря (Дресвянская, 1974) надо признать ошибочным (Бадер А., Гаибов, Кошеленко, 1996). Эта постройка вероятнее всего, должна быть определена как здание складского характера. В мервском некрополе значительная часть погребенных — христиане (Дресвянская, 1968; Усманова, 1993, с. 30–31). Предметы, связанные с христианским культом, неоднократно находились на Гяуркале. Важнейшим свидетельством совершенно особого места, которое занимало христианство в Мерве, является чеканка монет на местном монетном дворе со знаком креста на оборотной стороне (Loginov, Nikitin, 1993с, p. 271–272). О большой роли христианского клира в жизни Мерва свидетельствуют и сообщения о погребении последнего сасанидского царя в специальном сооружении в саду митрополита (Колесников, 1982, с. 139–141). В период арабского завоевания мервским митрополитом был Илья — один из самых крупных деятелей всей церкви Востока, который получил почетное прозвище «апостол тюрок» (Древний Мерв…, 1994, с. 95–96). Во второй половине III в. н. э. Мерв стал одним из важнейших центров возникшей тогда новой религии — манихейства (Древний Мерв…, 1994, с. 46 и сл.). После казни основателя этой религиозной системы Мани и начала массовых гонений на ее приверженцев масса манихеев и руководители церкви устремились на восток. Некоторое время Мерв, как показывают письменные источники, был резиденцией преемника Мани по руководству церковью манихеев (там же, с. 55 и сл.). Однако о роли этой религиозной организации говорят только письменные источники, археологически она никак до сего времени не зафиксирована. В подгорной полосе, видимо, религиозная ситуация была более простой. Во всяком случае, наличие двух зороастрийских святилищ и отсутствие каких-либо данных об иных культах заставляют предполагать, что этот район на протяжении всего рассматриваемого периода оставался главным образом зороастрийским. Материалов относительно религиозной ситуации в Серахском оазисе в настоящее время не имеется.Погребальный обряд.
В сущности, до сего времени изучен (хотя и недостаточно) только один некрополь на территории оазиса, расположенный недалеко от Мерва (Ершов, 1959; Кошеленко, Десятников, 1966; Обельченко, 1972; Сусенкова, 1972; Дресвянская, 1989). Некрополь в данном месте возник еще в парфянский период. В это время существовало несколько небольших зданий (игравших роль склепов), в которые помещали умерших в могилы, обложенные сырцовыми или жжеными кирпичами. Несколько позднее умерших стали укладывать прямо на пол без устройства специальных могил. Эта практика существовала и в начале сасанидского времени (возможно, вплоть до IV в. включительно). Начиная, видимо, с V в. совершается переход к оссуарному обряду погребения. В специально изготовленные из обожженной глины оссуарии укладывались предварительно очищенные кости (табл. 1а, 21–22). Кроме оссуариев, для этой цели использовались также и обычные типы сосудов, как правило амфоровидные или одноручные кувшины больших размеров (табл. 1а, 23). Иногда приспосабливали большие кобуры, закрытые с двух сторон мисками. Эти сосуды-оссуарии либо устанавливались в сохранившихся помещениях, либо закапывались в землю. В оссуариях в небольшом количестве имелся сопроводительный материал: бусы (сердолик и халцедон), бронзовые колокольчики, монеты, резные камни. Наконец, в самом конце рассматриваемого периода вновь стали совершаться погребения по обряду ингумации в тех холмиках, в которые превратились руины сооружений. Никаких закономерностей в положении умерших не наблюдалось. Они, как правило, лежали на спине, руки иногда перекрещены на груди. Подобные захоронения существовали здесь, видимо, и в самом начале арабского времени. Вопрос о культовой принадлежности людей, погребенных в некрополе, остается до сего времени не до конца решенным. Высказывалось предположение о принадлежности ранних погребений христианам, что, несмотря на привлекательность этой идеи, кажется несколько сомнительным по хронологическим причинам. Обычно погребения, совершенные в оссуариях, считаются зороастрийскими. Однако на трех из оссуариев, найденных при раскопках С.А. Ершовым, были еврейские надписи (Дресвянская, 1989, с. 157). Кроме того, необходимо резко возразить против предположения, что в мервском некрополе совершались массовые захоронения христиан, ставших жертвами гонений. Среди крайне многочисленных свидетельств о гонениях и огромного числа «деяний мучеников» нет ни одного свидетельства о гонениях на христиан в Хорасане. Недалеко от некрополя находилось сооружение, частично исследовавшееся. Высказывалось предположение, что оно представляло собой дахму (Пилипко, 1980а). Надежных материалов по погребальной практике в подгорной полосе и в Серахском оазисе в настоящее время не имеется.Искусство.
Искусство Мерва сасанидской эпохи известно еще недостаточно. В целом ряде пунктов зафиксированы остатки настенных росписей, но во всех случаях они столь плохой сохранности, что ничего определенного о них сказать (кроме самого факта их существования) нельзя. Зато мы имеем некоторое представление о мервской вазописи этого времени. Самый яркий пример ее — расписная ваза из буддийского святилища на территории Гяуркалы (Кошеленко, 1966а). На ней представлен сюжетный цикл: царская охота, свадьба, болезнь и погребение. С точки зрения художественных особенностей ваза входит в общий круг сасанидского искусства, напоминая некоторыми особенностями произведения торевтики. Среди оссуариев мервского некрополя имелось несколько, также украшенных росписями, но неизмеримо более низкого уровня: известно изображение птицы (видимо, орла) (Ершов, 1959, табл. 6) и женщины с ребенком (Кошеленко, Десятников, 1966, рис. 1). В дальнейшем при раскопках продолжали встречаться небольшие фрагменты оссуариев с остатками росписей. В сангараме буддийского комплекса Гяуркалы был найден фрагмент с профильным изображением мужского лица (Пугаченкова, Усманова, 1994, с. 166, рис. 19). Встречались и совсем маленькие фрагменты с изображением, главным образом птиц. Наиболее распространенный вид произведений искусства — небольшие терракотовые статуэтки. Как известно, коропластика была широко распространена в Мервском оазисе в эпоху бронзы, но совершенно исчезла в период раннего железного века. Только после завоевания Мерва Александром Македонским и появления здесь греков-колонистов коропластика переживает в оазисе второе рождение. Небольшие терракотовые статуэтки широко распространялись в парфянское время и продолжали существовать и в сасанидскую эпоху. В III–IV вв. н. э. основным типом терракотовых статуэток являются по-прежнему два варианта изображения женского божества (Пугаченкова, 1959, с. 135 и сл.; 1962, с. 138 и сл.; Филанович, 1989, с. 97–98). Как и ранее, основная масса статуэток изготовлялась путем оттискивания в штампе и последующего обжига. Первый из вариантов, который обычно называют изображением «богини-матери», представлял собой изображение женской фигуры, закутанной в складчатую одежду, в мягком «двурогом» головном уборе, прижатые к груди руки держат зеркало (табл. la, 1). Второй вариант — «богиня-дева». Она без головного убора, на одежде представлены многочисленные нашивные бляшки (табл. 1а, 2–3). Изображения стали гораздо схематичнее, чем ранее. Распространились в это время и мужские изображения. В частности, появилось изображение обнаженного юноши с медальоном на шее и поднятыми руками (табл. 1а, 4). Еще один тип мужского изображения — бородатый мужчина на коне с булавой или мечом в руках (табл. 1а, 5). Фигурка всадника оттискивалась в штампе, конь лепился от руки. Наконец, в это же время появились достаточно многочисленные фигурки лошадей с нанесенными на них черной краской или процарапанными знаками солнца, луны свастики и т. д. В V–VII вв. н. э. искусство коропластики постепенно утрачивается. На смену разнообразию типов приходит однообразие — в сущности, единственным типом является примитивное, сделанное от руки изображение мужчины на лошади (Филанович, 1989, с. 111). Скульптура Мерва известна недостаточно. В буддийском святилище на Гяуркале имелась гигантская глиняная скульптура Будды (Пугаченкова, Усманова, 1994; Pugachenkova, Usmanova, 1995), возведенная в IV в. и несколько раз ремонтировавшаяся. При исследовании других памятников Мерва находили небольшие фрагменты глиняной и ганчевой скульптур (в одном случае — руку) (Филанович, 1989, с. 96). Видимо, на местное буддийское искусство оказывали определенное воздействие и привезенные из Индии паломниками небольшие каменные скульптуры и рельефы гандхарского стиля, которые были найдены в ступе, расположенной за пределами города (Ртвеладзе, 1974; Пугаченкова, 1968; Pugachenkova, Usmanova, 1995, p. 77–81, fig. 37–43). По всей видимости, иногда привозились в Мерв и такие объекты, которые служили моделями для создания здесь произведений искусства. При раскопках ступы, расположенной на Гяуркале, найдены глиняные пластинки с изображением бодисаттвы, ступы и донатрисы. Вокруг — надпись на одном из индийских языков (табл. 1а, 24). Исследователи справедливо подчеркивали, что глиняные таблички слишком хрупки, чтобы привозить их издалека, они явно изготовлялись на месте, но матрица, конечно, была привезена из какого-то буддийского центра (Пугаченкова, Усманова, 1994, с. 164). Найденные в Мервском оазисе резные камни ничем не отличаются от тех, которые встречены в большом количестве в различных центрах сасанидского государства. Резали изображения главным образом на полудрагоценных камнях, чаще всего на сердолике (Ершов, 1959, с. 178, табл. 23; 23а; Пугаченкова, 1957, 1963). Своеобразным видом искусства Мерва сасанидского времени являются оссуарии и курильницы, воспроизводящие архитектурные формы. Наиболее яркие образцы оссуариев происходят из мервского некрополя (Ершов, 1959, табл. 3, 4). Анализ их (Пугаченкова, 1963а) показал, что более ранние воспроизводят круглое здание с куполом и зубчатым парапетом. Позднее более распространенными становятся квадратные в плане, с куполом же и четко выделенным порталом. Некоторые из них украшены налепными изображениями человеческих головок, оттиснутых в формах, другие украшены росписью. Характерны воспроизведения окон в виде стреловидных бойниц. С III в. получают распространение курильницы в виде башен круглых или квадратных в плане, со стреловидными бойницами и расчленением внешней поверхности на горизонтальные ярусы (Филанович, 1978; 1989, с. 98). С V в. наряду со старым типом курильницы появляется новый — чаша на простой высокой конусовидной подставке. Материалов для суждения о характере искусства Серахского оазиса в раннесредневековое время пока нет. Отметим только, что в оазисе практически полностью отсутствует терракотовая пластика. Для подгорной полосы материалы, позволяющие судить об искусстве, очень ограниченны. Здесь не находят терракотовых статуэток. Единственной достойной рассмотрения категорией произведений искусства являются оттиски печатей на глине (буллы) (табл. 1а, 6-11, 14–19). Буллы в значительном количестве (несколько десятков экземпляров) были встречены при раскопках за́мка Акдепе у Артыка (Губаев, Лелеков, 1970; Губаев, 1971а; Луконин, 1971). На многих буллах сделано по нескольку оттисков. Основная часть булл имеет изображения, а некоторые — также и надписи. Большая часть изображений традиционна для сасанидской глиптики: верблюд, цветы, помещенные в развороте крыльев, герой (или царь), который поражает льва, бараны в паре и поодиночке, крылатый конь, нешаны и т. д. Вместе с тем среди этих изображений имеются и достаточно редкие: конь вправо перед отнесенным на задний план деревом и некоторые другие. Особенно интересно нетрадиционное изображение бога Митры на колеснице в фас (Сердитых, 1986). Вцелом эти буллы датируются VI — первой половиной VII в. н. э.Памятники письменности.
На территории Мервского оазиса встречены различные виды текстов. Две рукописи найдены при раскопках буддийских памятников Мерва. Одна из них была обнаружена при исследовании разрушенной ступы, находившейся за пределами Гяуркалы. Текст написан на берестяных листах. Рукопись состоит из двух частей, по-разному оформленных и написанных разным почерком, имеет проклейки из старых рукописей. В ней содержатся три буддийских текста: 1 — конспект притч (джатак и авадам) и рассказов из сутр и «Винаи»; 2 — компиляция из текстов «Винаи» сарвастивадинов; 3 — конспекты не дошедших до нас сутр с цитатами. Текст — на брахми, наиболее вероятная дата — VI–VII вв. (Воробьева-Десятовская, 1983, с. 69–85). Вторая рукопись (из ступы на городище) — также на берестяных листьях, написана тем же самым письмом и представляет собой пачку слипшихся листов, до настоящего времени не отреставрированных и не определенных. Предполагаемая дата — V–VI вв. Здесь же найдены глиняные таблички с буддийскими изображениями и текстом на брахми. По палеографическим соображениям они могут быть датированы V–VI вв. Самые ранние остраки открыты при раскопках Гебёклыдепе в слоях раннесасанидского времени (III–IV вв.). Они нанесены черной краской на сосуды. В большинстве случаев это собственные имена, на одном из сосудов — довольно пространная надпись, представляющая собой формулу благоположения, но в своеобразной форме, не встречавшейся до сего времени. Самое главное, что эти надписи выполнены на парфянском языке и парфянским письмом, а это показывает, что по крайней мере до IV в. население оазиса продолжало говорить на парфянском языке (Лившиц, Никитин, 1989). И в самом Мерве в начале сасанидской эпохи продолжает употребляться парфянский язык. На сосуде, найденном в Эрккале и датируемом II–III вв., имеется надпись: «Собственность Пакура, сына Исы». В.А. Лившиц обращает внимание на то, что отец хозяина сосуда носит типичное еврейское имя Иса (т. е. Иосиф) (Лившиц, 1990, с. 37). К IV или V в. относится черепок с надписью на парфянском языке, видимо являвшийся черновиком письма (Лившиц, 1990, с. 37–38). Позднее, однако, ситуация изменяется, и в конце сасанидского периода население переходит на среднеперсидский язык. В пределах буддийского комплекса на территории Гяуркалы было найдено 18 остраков, датируемых на основании палеографических особенностей VI–VII вв. Они написаны на среднеперсидском языке, очень короткие, как правило, содержат только собственное имя или патроним. Все имена иранские, они могли принадлежать зороастрийцам (Никитин, 1992; 1993, с. 191–192). Не совсем ясно отношение этих остраков к святилищу. Высказывалось предположение, что они появились в руинах здания, когда последнее уже было разрушено (Никитин, 1992, с. 95). Здесь же встречен фрагмент сосуда с изображением лица мужчины в профиль, и рядом с ним — небольшая часть надписи арамейским шрифтом (Pugachenkova, Usmanova, 1995, p. 72), но В.А. Лившиц считает данный текст согдийским (Лившиц, 1990, с. 38). Среднеперсидские остраки из других раскопов прочитаны сравнительно недавно. В ходе работ американской экспедиции начала века под руководством Р. Пампелли были найдены две бараньи лопатки со среднеперсидскими надписями и два острака (Лившиц, 1984). Бараньи лопатки, к сожалению, утрачены. Из остраков прочитан один — это или школьное упражнение, или черновик судебной жалобы (Никитин, 1993, № 1). Второй острак утерян. При раскопках А.А. Марущенко в 1937 г. Была найдена целая коллекция разнообразных остраков в слое второй половины VII — начала VIII в.: из двух остраков со среднеперсидскими надписями один опубликован В.Г. Лукониным (Луконин, 1969а, с. 40. прим. 1; Никитин, 1993, № 3), второй не читается. Из двух согдийских остраков опубликован также один (Фрейман, 1939; см. также: Согдийские документы с горы Муг, 1962, с. 68). Кроме того, здесь встретились арабские остраки (Певзнер, 1954) и семь фрагментов большого острака, начертанного разновидностью тюркского рунического письма (Лившиц, 1984, с. 19). Во время работ ЮТАКЭ остраки были обнаружены на ряде раскопов. На Эрккале один из них представляет собой черновик какого-то делового документа, возможно манумиссии (Никитин, 1993, № 5), а другой — список выплаченных сумм (Никитин, 1993, № 6). Несколько черепков с надписями были найдены при раскопках «Овального здания». Все прочтенные остраки имеют хозяйственный смысл: упоминаются, например, какие-то продукты (сухие сливки, сорго), должностные лица (начальник канцелярии) или списки личных имен (Никитин, 1993, № 7-13). Среди случайных находок необходимо указать острак, найденный у поселка Мургаб (Никитин, 1993, № 32), представляющий собой список имен. К этой же категории находок необходимо отнести и клейма на керамике, имеющие надписи (Никитин, Согомонов, 1987). На территории крепости Старый Кишман был найден фрагмент сосуда с практически нечитаемой среднеперсидской надписью, оттиснутой эпиграфической печатью. На поселении возле крепости Дурнали был обнаружен венчик сосуда с оттисками двух клейм. Размеры и форма оттисков говорят о том, что они были сделаны не с помощью инталий, а специальными штампами, предназначенными для нанесения клейм на керамические сосуды. Надписи в обоих случаях среднеперсидские. В первом случае, видимо, упоминается имя мастера, произведшего сосуд, — Шапур (?), во втором — формула благоположения, должность («хамбарбед», т. е. начальник амбаров) и имя — Михрасвар. Клеймо относится к VI–VII вв. Необходимо указать, что подобная практика клеймения тарной керамики не засвидетельствована ни в Сасанидском Иране, ни в Средней Азии. В подгорной полосе парфянские (Livshits, 1993) и среднеперсидские остраки находились только на Акдепе (Никитин, 1993, № 33–35), в надписях упоминаются личные имена, представитель зороастрийского клира (рат), какие-то просьбы, обращенные к администрации. Здесь же были найдены буллы, с традиционными надписями на пехлеви: имена, должности, в том числе жреческие, географические названия (Луконин, 1971). Буллы датируются VI — первой половиной VII в. В Серахском оазисе до сего времени эпиграфические находки не зафиксированы.Глава 2 Хорезм в IV–VIII вв. (Е.Е. Неразик)
В эпоху раннего средневековья в Хорезме, как и в других государствах Средней Азии, закладывались основы нового, феодального общества и формировалась культура, отличавшаяся большим своеобразием. Вместе с тем в типах расселения, чертах архитектуры, изделиях ремесел можно найти и ряд общесреднеазиатских черт. Постоянно на протяжении многих лет проводившиеся исследования хорезмийских раннесредневековых памятников (хотя и в небольших масштабах) позволили проследить развитие этой культуры и полнее охарактеризовать ее два этапа. Обратимся к истории этих исследований.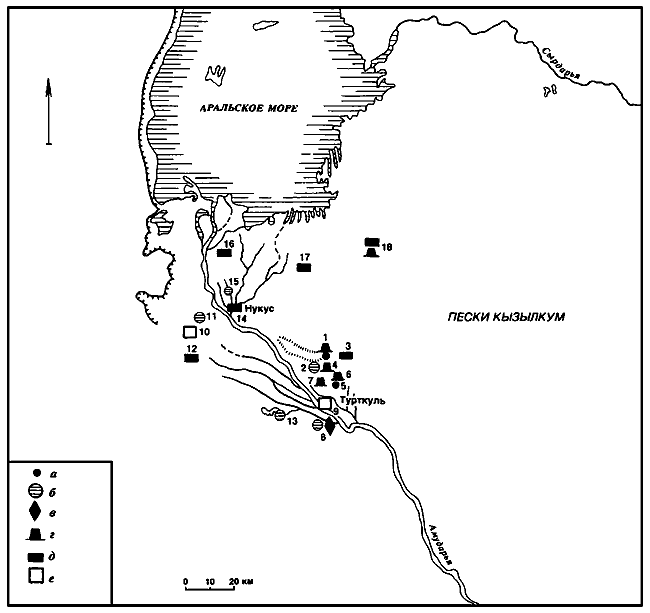
Карта 2. Хорезм IV–VIII вв. а — малый город; б — средний город; в — культовые места; г — за́мки и крепости; д — поселения; е — крупный город. 1 — Аязкала; 2 — Топраккала; 3 — Большая Кырккызкала; 4 — Якке-Парсан; 5 — Беркуткала; 6 — Тешиккала; 7 — за́мок 92; 8 — за́мок 2; 9 — Ал-Фир (более позднее название Кят); 10 — Гургандж (Куня Ургенч); 11 — городище Гяуркала; 12 — Турпаккала; 13 — Хива; 14 — Токкала; 15 — Хайванкала; 16 — Кукжкала; 17 — Курганчакала; 18 — Барак-Там.
Они начались в 1937 г., когда была создана Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция ИЭ АН СССР под руководством С.П. Толстова. А.И. Тереножкин, будучи тогда аспирантом ИЭ, открыл в Турткульском и Шаббазском районах (ныне Турткульский, Бирунийский и Элликкалинский) Каракалпакской АССР руины огромного, занесенного песками Беркуткалинского оазиса, где он обследовал одну из усадеб (34) (Тереножкин, 1940, 1940а, б). В последующие годы изучение оазиса продолжалось, причем сравнительно большой размах получили стационарные работы: раскопкам подверглись усадьбы 4 и 36, а также один из крупнейших за́мков оазиса, Тешиккала. Одновременно была проведена глазомерная съемка всего этого обширного поселения. Маршруты по левому и правому берегам Амударьи, дальнейшее углубленное изучение раннесредневековых памятников позволили создать первую, еще схематичную археологическую карту Хорезма, а весь огромный, накопленный в предвоенные годы материал был обобщен С.П. Толстовым в его замечательной монографии «Древний Хорезм» (Толстов, 1948). В созданной им классификации археологических культур Хорезма две — кушанско-афригидская (IV–VI вв.) и афригидская (VII–VIII вв.) относятся к раннему средневековью и подытоживают его основные черты. В экскурсах книги, посвященных вооружению, культам, событиям политической истории, результаты исследований памятников IV–VIII вв. введены в широкий круг проблем истории и культуры древнего Востока, поставленных ярко и масштабно. Изучение этих памятников в послевоенные годы показало, что созданная С.П. Толстовым классификация в основном выдержала испытание временем, хотя новые данные и внесли в нее определенные коррективы. Весьма плодотворной явилась сама организация работы экспедиции в эти годы, когда раскопки памятников производились на фоне сплошного обследования ирригации и топографии целых оазисов. При этом использовались аэрофотосъемка и современная методика ее дешифровки. С помощью данной методики специальный археолого-топографический отряд экспедиции под руководством Б.В. Андрианова составил подробную карту ирригации Хорезма с нанесением на нее памятников разных эпох. В ходе этой работы были открыты многие ранее неизвестные памятники раннего средневековья, уточнены планы оазисов того времени (Андрианов, 1969, с. 137–140). В 1953–1964 гг. продолжалось обследование Беркуткалинского и Якке-Парасанского оазисов, были предприняты раскопки более десяти усадеб и за́мков, в том числе самых крупных — Беркуткала и Якке-Парсан (Неразик, 1959, с. 96–127; 1963, с. 3–40). С 1958 г. сотрудники Каракалпакского филиала АН УзССР занимаются историей низовьев Амударьи, где, согласно арабоязычным авторам, локализуется область Кердер, тесно связанная с Хорезмом. Ее называют Северным Хорезмом, что не вполне точно. Здесь проведены раскопки Токкалы (Гудкова, Ягодин, 1963, с. 249–263; Гудкова, 1964), Курганчи (Ягодин, 1973), Куюккалы (Неразик, Рапопорт, 1959; Ягодин, 1963, с. 9) и Хайванкалы (Ягодин, 1981, с. 78–101). Во время раскопок Токкалы сделаны замечательные открытия памятников раннесредневековой письменности (более 100 хорезмийских надписей на оссуариях, покрытых интереснейшей росписью) (Гудкова, 1964, с. 74–106). Вслед за этим новым успехом были найдены оссуарии с росписью при раскопках обширного некрополя близ Гяуркалы — Миздахкана (Ягодин, Ходжайов, 1970, с. 129–155). В итоге работ в низовьях Амударьи значительно пополнились сведения о направлении культурно-исторических связей населения Хорезма, его календаре, социальной структуре общества, были поставлены интересные проблемы по его этнической истории (Толстов, 1962, с. 244–252; Гудкова, Ягодин, 1963, с. 267; Гудкова, 1964, с. 80–84 и др.). В 1977 г. началось сплошное археологическое исследование Якке-Парасанского оазиса, на территории которого раскапывались шесть усадеб. Рядом, возле Аязкалы 2, с 1985 по 1990 г. исследовался большой раннесредневековый комплекс построек, где почти целиком вскрыт дворец V (а может быть, и IV)-VI вв. н. э. Получены важные материалы, касающиеся проблем формирования кушано-афригидской культуры. Особенно большое значение в данном аспекте имеют раскопки городища Топраккала (1965–1969 и 1972–1975 гг.), которое С.П. Толстов считал эталонным памятником для этой культуры. На городище вскрыто около 5000 кв. м многослойной застройки, уточнены общие принципы планировки в IV–V вв., собрана большая коллекция предметов из глины, кости, металла, впервые извлеченных из слоя. Прежде экспедиция располагала только подъемным материалом. Обобщение полученных сведений не только расширило характеристику указанной культуры, но и позволило иначе взглянуть на отдельные ее аспекты. Кроме того, появились первые данные о городе IV–VI вв., а также о культовых постройках того времени, прежде совсем неизвестных. Вместе с тем сведений о важном и интересном периоде IV–VI вв. пока еще недостаточно. Мало того, нечетко выделяются и его хронологические границы (IV–VI вв.? IV–X вв.?). В последующем тексте мы придерживаемся первой, хотя VI век пока трудно «уловим» в археологии Хорезма. Лишь памятники VII–VIII вв. четко датированы хорезмийскими монетами, встречающимися вместе с согдийскими.
События политической истории.
В политическом отношении Хорезм IV–VIII вв. представлял собой, согласно Бируни, государство, где на протяжении указанных столетий правили представители одной династии. В литературе она получила название Афригидской по имени своего первого представителя — Африга, пришедшего к власти в 305 г. н. э. (Бируни, 1957, с. 47, 48). Бируни приводит список имен правителей этой династии, часть из них читается на монетах, найденных в памятниках Хорезма. Однако эти совпадения немногочисленны и относятся главным образом к VIII в. н. э. В целом же многие имена из списка Бируни на монетах еще не выявлены (Гудкова, Лившиц, 1967, с. 10, 11; Livshits, 1968, p. 441–444; Вайнберг, 1977, с. 81, 82), не зафиксировано в нумизматическом материале пока и имя родоначальника династии Африга. Как полагал С.П. Толстов, этому правителю пришлось столкнуться, видимо, с политической децентрализацией в стране, проявившейся в появлении медных монет с разными тамгами (Толстов, 1948а, с. 209). Есть и другое объяснение данного явления: несколько серий монет могут относиться к чекану одного правителя (Вайнберг, 1977, с. 81), однако это маловероятно. На нумизматическом материале могла отразиться и сложная внешнеполитическая ситуация в Средней Азии: имеются в виду хионито-эфталитские войны, а также походы первых Сасанидов — правителей Ирана на Хорезм и возможное завоевание ими этой страны (Henning, 1965, p. 169, 170). Что же касается тюркско-хорезмийских взаимоотношений, то пока они остаются в тени из-за отсутствия сколько-нибудь определенных сведений по этому поводу, хотя некоторые ученые и полагают, что в VI–VII вв. Хорезм вошел в состав тюркского государства (Гумилев, 1967, с. 35). Сравнительно хорошо освещены письменными источниками лишь события 711–712 гг., когда Хорезм был завоеван арабским полководцем Кутейбой. Табари сообщает о совете, на который хорезмшах созвал царей (мулюк), дехкан и ахбар — ученых (Табари, 1987). Это первые важные сведения о социальной структуре хорезмийского общества в начале VII в. н. э. Данные письменных источников, нумизматические и археологические материалы позволяют полагать, что Хорезм в это время состоял из нескольких удельных владений. Предполагается, что это область Кердер в низовьях Амударьи, южная часть страны — правобережье с центром в ал Фире и Ургенч на левом берегу Амударьи (Вайнберг, 1977, с. 99). Упоминаемая в источниках область Хамджерд отождествляется как с Кердером, так и с Ургенчем (Гудкова, 1964, с. 119, 120; Вайнберг, 1977, с. 99)[1]. Соперничество хорезмшаха с его братом Хурразадом, которого поддерживал царь Хамджерда, и привело первого к необходимости призвать на помощь арабов. Кутейба разгромил Хурразада, уничтожил памятники письменности Хорезма и разогнал его ученых (Бируни, 1957, с. 48). В стране появился арабский наместник, и с тех пор до 995 г., когда был убит последний представитель династии Афригидов, власть в стране делилась между Кятом — столицей хорезмшахов — и Ургенчем, где сидели арабские эмиры. Однако хорезмийцы долго не могли примириться с арабской оккупацией, о чем свидетельствует восстание 728 г., вспыхнувшее в Кердере. Борьба с арабами возобновлялась и позже, и лишь в самом конце VIII в. позиции арабов несколько укрепились, в связи с чем в Хорезме стал укореняться ислам. На монетах того времени появились арабские надписи, а имена хорезмшахов стали мусульманскими. Все эти политические события и этнические перемещения не могли не найти отражения в археологическом материале.Хорезм в IV–VI вв.
По археологическим данным, в IV–V вв. в Хорезме прослеживаются определенные явления (запустение обширных земледельческих районов и ряда городов на окраинах страны, распространение лепной посуды, сокращение импорта), которые могут рассматриваться как признаки упадка жизни в стране. Однако, пока не исследованы приамударьинские оазисы, где в средневековье расцветают многочисленные города, время возникновения которых зачастую не установлено, трудно определить масштабы и причины этого кризиса, а также его протяженность. Так, раскопки Хазараспа показали наличие в городе слоев IV–V вв., но размеры города неизвестны. Сходные, но неодновременные явления отмечаются и на других территориях Средней Азии в IV–V вв. или несколько раньше: в Бухарском оазисе (Шишкин, 1963, с. 230; Адылов, Мухаммеджанов, 1986, с. 8), в Тохаристане (Аннаев, 1977, с. 88; Пугаченкова, 1967, с. 87; Массон В., 1973, с. 39), в Северном Хорасане (Массон М., 1951, с. 101; Филанович, 1974, с. 22, 23), в Согде (Шишкина, 1973, с. 100; Распопова, 1986, с. 90). Однако если раньше большинство исследователей уверенно связывали эти явления с кризисом социально-экономического строя, то теперь часть из них усматривают возможность и других причин упадка, например, военные действия в связи с вторжением кочевого населения, политические события, указывая на незначительность и кратковременность кризиса, а в некоторых случаях и отрицая наличие его следов (Аскаров, 1986, с. 9; Распопова, 1986, с. 90; Седов, 1986, с. 105). Несомненно, что, рассматривая эту проблему применительно к Хорезму, не следует недооценивать роль сасанидских завоеваний, губительно сказавшихся на развитии поселений левобережного Хорезма в первую очередь. Большое значение имело и нарушение традиционных, складывающихся веками, связей со скотоводческим окружением страны, имевшее место в IV–V вв. (Неразик, 1997). Только накопление нового материала поможет, видимо, приблизиться к пониманию сущности кризиса IV–V вв. н. э.Городские и сельские поселения. Жилища.
Сведения об облике хорезмийского города IV–VI вв. практически отсутствуют. Отдельные находки монет, керамики и других предметов позволяют считать, что в это время в каком-то виде существовали Садвар и Джигербент, однако неизвестно, следует ли их относить к категории городских поселений. Есть некоторые основания полагать, что жизнь в них замыкалась в рамках небольших укреплений, из которых впоследствии выросли городские цитадели (Вактурская, 1974, с. 498, 499; Гулямов, 1957, с. 141). На месте будущего важного средневекового узла Дарган на пути из Амуля в Хорезм в рассматриваемое время существовала сильная крепость (или небольшой городок?) площадью 7,5 га, разделенная стеной на две части (Гулямов, 1957, с. 117). Хива, уже в древности занимавшая площадь 26 га, в IV в. переживала упадок, и ее крепостные стены были засыпаны барханным песком. Лишь раскопки Топраккалы дают некоторое представление о хорезмийском городке IV–VI вв., в который превратилась былая святыня хорезмшахов. В итоге раскопок городища особенно наглядно проявилось то, что в культуре Хорезма еще очень много традиционного, восходящего к эпохе античности. Город в этот период продолжал существовать в обводе древних стен, сохраняя первоначальные градостроительные принципы планировки. Напомним, что городище прямоугольником очертаний (500×350 м) возникло у подножия трехбашенного «Высокого дворца» и было окружено двойной стеной с многочисленными башнями (табл. 2, 1). Центральная улица, подходившая к единственному входу в середине южной стены, делила его пополам, причем сетка боковых улиц очерчивала кварталы, симметрично расположенные по обеим сторонам этой центральной артерии города. Таким образом, в планировке Топраккалы нашла отражение древняя схема правильно распланированного города, получившая широкое распространение в странах древнего Востока начиная с эпохи Хараппы в Индии. Наслоения на улицах Топраккалы росли вместе с наслоениями в кварталах и выражены на поверхности городища не в рельефе, а более темным цветом. В северо-западном углу городища, внутри большой, огороженной мощной стеной цитадели, возвышался огромный трехбашенный дворец, в IV–VI вв. уже утративший свое культово-мемориальное значение. Городские крепостные сооружения этого времени отличались от ранних в результате существенной перестройки. Древние стены, декорированные лопатками, с двухэтажной стрелковой галереей и стрельчатыми бойницами в стенах верхнего этажа, были закрыты новой кирпичной обкладкой. Срубленные или разрушившиеся башни и стены вошли в сплошной мощный сырцовый массив — цоколь, на который теперь была поднята одноэтажная стрелковая галерея. В стенах ее сделаны щелевидные бойницы. Сходным образом были перестроены крепостные стены Хивы, Гяуркалы Султануиздагской и некоторых других крепостей (Рапопорт, Трудновская, 1958, с. 354; Мамбетулаев, Юсупов, Ходжаниязов, Матрасумов, 1986, с. 38), и, таким образом, это явление не было единичным. Датировку этой реконструкции еще предстоит уточнить, но по особенностям строительства и фортификации топраккалинские стены уже вполне отвечают позднейшей системе фортификации афригидского Хорезма. Установлено, что близ Аязкалы 2 на площади около 25 га в IV–V вв. начал складываться небольшой городок, первоначальным ядром которого было несколько крупных усадеб с возвышавшейся над слитной застройкой двухэтажной частью. Они возникли возле дворца хорезмшахов, соединявшегося пандусом с крепостью Аязкала 2 (табл. 2, 2), которую, видимо, можно рассматривать в качестве цитадели формирующегося города, территориально выросшего уже в последующие столетия. Сельские поселения IV–VI вв., перекрытые, как и городские, позднейшими напластованиями или уничтоженные на протяжении последующих столетий, малоизвестны, за исключением Турпаккалинского поселения в левобережном Хорезме, датированного IV в. н. э. Оно может быть отнесено к поселениям рассредоточенного типа без какого-либо укрепленного центра. Примером поселений с центральным укреплением являются оазисы, сложившиеся вокруг раннего Якке-Парсана или раннесредневековой усадьбы Дингильдже, а также вокруг Ангкакалы. Оба варианта типологически находят соответствие в поселениях предшествовавшего времени. Старые традиции чувствуются и в архитектуре укрепленных центров, имевших вид правильного прямоугольника или квадрата, с двухэтажным стрелковым коридором, башнями вдоль стен и укрепленным входом. Раскопки на городище Топраккала и Турпаккалинском поселении дают возможность сравнить синхронные городское и сельское жилища. На городище вскрыта примерно треть жилой застройки квартала, в результате чего изменилось сложившееся ранее представление о нем, как о доме-массиве, состоявшем из многочисленных взаимосвязанных помещений, чередовавшихся с открытыми дворами. Полагали также, что над каждым из них возвышалась на кирпичном цоколе башня главы родового коллектива, обитавшего в доме (Толстов, 1948а, с. 174). Теперь выяснилось, что квартал состоял из нескольких больших домовладений, а по его сторонам, обращенным на улицы, на протяжении всей истории города, видимо, существовали лавочки и ремесленные мастерские, в частности костерезные. Традиционно сохранялись и центры хозяйственной жизни кварталов, например, большие хранилища, сплошь заставленные хумами, где найдено больше всего монет, а также металлическая гирька. На протяжении IV–VI вв. застройка жилого квартала сократилась и стала менее регулярной, причем ощутима тенденция к дроблению крупных домохозяйств. Каждое из них включало теперь не 10–20 помещений, как раньше, а шесть-семь жилых комнат и несколько подсобных, в том числе складских. Наиболее выразительным элементом интерьера жилых комнат (их площадь около 20 кв. м) являлась большая угловая суфа размером 2,2 (2,4) × 2,2 (2) м, сложенная из сырцовых кирпичей. В ней или же в углу помещения устраивали очаг в виде углубления диаметром 35–40 см, иногда с коротким поддувалом-дымоходом. Но наиболее распространены открытые очаги-кострища. К концу периода появляются помещения с суфами вдоль двух или трех стен, характерные уже для жилья последующих двух столетий. Площадь парадных помещений рассматриваемых домохозяйств была больше (около 30–40 кв. м), а их кровлю поддерживали две колонны, основанием которых служили четырехугольные вымостки из сырцовых кирпичей. В некоторых таких залах делали угловую суфу. Турпаккалинские жилища также представляли собой крупные дома (800-1000 кв. м) из сырцовых кирпичей, выстроенные в той же строительной технике, что и топраккалинские. Они включали жилые и хозяйственные помещения, кухню, парадные залы, украшенные многоцветной росписью. В доме 5 открыт четырехколонный зал с центральной кирпичной обожженной выкладкой и нишей в стене против нее. Он мог служить домашней молельней. Не исключено, впрочем, что эта постройка целиком являлась небольшим сельским храмом, тем более что рядом с залом находилось большое помещение с суфами и столовой посудой, где могли происходить коллективные трапезы. Подобное сочетание двух помещений наблюдалось и в других культовых комплексах Хорезма. Оформление крупных залов отличается от такового залов, зафиксированных на Топраккале: нет такого важного элемента планировки, как большая угловая суфа, различаются и очаги. Иной была общая взаимосвязь помещений в доме, неправильностью конфигурации и отсутствием какого-либо композиционного центра напоминающих жилища рядовых горожан Дальверзина в Бактрии (Пугаченкова, Ртвеладзе, 1978, с. 69). Напрашивается вывод, хотя для серьезных заключений пока материала недостаточно, что городское и сельское жилища Хорезма в IV–V вв. принадлежали к разным типам построек.Культовые и дворцовые постройки.
К моменту появления обобщающих работ С.П. Толстова, включая и его последнюю монографию «По древним дельтам Окса и Яксарта» (Толстов, 1962), культовые сооружения эпохи раннего средневековья были практически неизвестны. Имелись лишь неотчетливые сведения о храме внутри Тешиккалы, так и оставшемся нераскопанным. Теперь известны храмы и святилища разных категорий и облика, стоявшие внутри городской застройки и священного участка (Топраккала), входившие в состав жилищ или же располагавшиеся в виде отдельных сооружений на территории сельских оазисов. На территории священного участка («храмовый квартал») городища Топраккала три разновременные культовые постройки возвышались на мощных платформах, включавших остатки более ранних построек. Постройки отличались толщиной стен и, скорее всего, были перекрыты сводами. Все три здания воспроизводят одну и ту же схему, видимо традиционную. Это цепочка вытянутых с запада на восток помещений, соединенных широкими, лежащими на одной оси проходами, которые образовывали как бы центральный коридор (Неразик, 1981, с. 41–55). Благодаря такой особенности они обнаруживают некоторое сходство с древнемесопотамскими храмами, в которых как известно, целла, пронаос и двор располагались на одной оси (Frankfort, 1951, p. 54). Культовые постройки, близкие по времени, относятся к IV–V вв. Особенно интересна первая, в центральном помещении которой найдены огромные рога горного архара, пышно украшенные бронзовыми позолоченными и орнаментированными пластинками-обоймами и наконечниками (табл. 9, 22, 23). К этому объекту поклонения складывались приношения в виде множества разнообразных предметов, которые почти сплошным слоем покрывали пол помещения, сгоревшего, как и весь храм, в огне пожара. В проходах между помещениями сохранились обуглившиеся деревянные балки и плахи сложного двухтамбурного дверного проема. В жилом квартале города на боковую улицу выходили два помещения, в меньшем из которых, расположенном в глубине, находилась большая вымостка из сырцовых кирпичей, сильно опаленная (Неразик, 1981, с. 31, рис. 16, пом. IV1 и IV2; с. 35, 141, 142). Ее можно рассматривать как подиум для неугасимого огня. Пол помещения вымощен сырцовыми кирпичами и покрыт плотной обмазкой с цементирующим слоем наподобие обмазки в храме I священного участка. Во втором помещении открыты кирпичные вымостки — основания двух колонн, а вдоль стены, судя по ямкам от столбиков, находился какой-то помост. Возможно, здесь происходили ритуальные действа, в то время как священный огонь горел в глубине этого небольшого квартального храмика. По своему типу он продолжает традицию двухчастных (или с ядром в виде двух поставленных рядом помещений) культовых построек, которые закономерно сопоставляются с поздними зороастрийскими храмами парсов, исследованными М. Бойс (Рапопорт, 1987, с. 145; Филанович, 1987, с. 154). В последнее время обнаружен и еще один объект монументальной культовой архитектуры — святилище огня в окрестностях Якке-Парсана (Неразик, 1989, с. 52–58). Оно представляет собой отдельно стоящее небольшое купольное здание (7×7 м), выстроенное из крупноформатных сырцовых кирпичей размером (38–40) × (38–40) × 10 см не позже начала IV в. н. э., поскольку в подстилающем слое найдены хорезмийские монеты III в. н. э., а керамика, обнаруженная там, мало отличается от найденной в здании. Просуществовав несколько столетий, оно в VIII в. было включено, как футляр, в цоколь нового здания и сохранялось как святыня. Купол святилища выложен кольцами сырцовых кирпичей, опиравшихся на тромпы в виде перспективно уходящих арочек. Барабан расположен низко над полом, что является отличительной чертой ранних среднеазиатских куполов. Однако в данном случае диаметр купола не превышал поперечника здания, как это зафиксировано в других постройках (Воронина, 1952, с. 99). На полу святилища точно в центре обнаружен круглый (диаметром 0,5 м) ярко-красный от обжига отпечаток, вероятно, стоявшего здесь жертвенника, где сохранялся священный огонь. Вдоль двух стен в VI в. были устроены суфы из сырцовых кирпичей (табл. 9, 1–6). Эта постройка является одним из древнейших купольных зданий в Средней Азии, причем представленный ею архитектурный тип имеет глубокие местные традиции. Подобные постройки воспроизводят своеобразные башенные хорезмийские оссуарии, относящиеся к III–IV вв. н. э., причем они закономерно сопоставимы с некоторыми погребальными зданиями, известными в Хорезме и на его периферии, во всяком случае, с IV в. до н. э. (Рапопорт, Лапиров-Скобло, 1968, с. 148–152). Среди них были и купольные помещения, например, Баланды 2 (Толстов, 1962, с. 174–178). Теперь, следовательно, установлено, что аналогичный архитектурный тип был присущ и иным культовым постройкам, в данном случае — святилищу огня. Благодаря работам на развалинах раннесредневекового комплекса возле Аязкалы 2 появились сведения о хорезмийском дворце рассматриваемого периода и о дворцовом святилище. Здесь целиком раскопано большое здание (65×65 м), включавшее более 40 помещений и выстроенное из крупных сырцовых кирпичей античного стандарта. Дворец сгорел, но хорошо сохранившиеся помещения затем дважды использовались под жилье, что затрудняет датировку первоначального сооружения. Находки характерной посуды позволяют, однако, считать, что оно было воздвигнуто не позднее VI — начала VI в., хотя, возможно, эту дату следует удревнить до IV в. н. э. Важно упомянуть в связи с этим находки в здании монет хорезмшаха Бравика, имя которого более других из списка Бируни сопоставимо с именем Африта, основавшего новую династию и построившего дворец в ал Фире (а под этим названием можно подразумевать и город, и область этого города). Отличительными чертами планировки здания являются: 1 — наличие поднятых на цоколь парадных покоев; 2 — расположение помещений вокруг большого двора или зала, не являвшихся, впрочем, геометрическим центром плана; 3 — наличие больших многоколонных залов, расположенных в один ряд; 4 — обвод по периметру несообщавшимися коридорами; вдоль восточной стороны коридор был поднят на цоколь; 5 — наличие большого культового комплекса в юго-западном углу дворца. В общей композиции здания, его строительных особенностях еще чувствуются традиции древнехорезмийского дворцового зодчества, но вместе с тем уже заметны черты, сближающие дворец с другими зданиями этого ранга, относящимися к VII–XIII вв. В частности, отметим сходство культового комплекса дворца со святилищами, открытыми в раннесредневековых среднеазиатских дворцах (Филанович, 1987, с. 149–152). Аязкалинский культовый комплекс состоял из пяти помещений, обведенных Г-образным коридором. Основными в данной группе были два больших смежных, но непосредственно не сообщавшихся между собой помещения 14, 15 с суфами вдоль стен. В одном из них, шестиколонном, в торцевой стене устроена большая ниша, а против нее, на полу находилась кирпичная, сильно опаленная выкладка, где, вероятно, возжигался ритуальный огонь. В соседнем помещении с очагом и множеством различных отпечатков на полу, надо полагать, происходили ритуальные трапезы (Неразик, 1997, с. 49, рис. 3).Керамика, изделия из металла и другие предметы.
В свете раскопок городища Топраккала нашло подтверждение существовавшее ранее предположение, что наряду со светлоангобированной посудой, наиболее характерной для раннесредневекового Хорезма, в IV–V вв. изготовлялась и красноангобированная, которая часто покрывалась полосчатым и сетчатым лощением. Однако ангоб становится тусклым, буро-красным или коричневатым. К концу периода красноангобированная керамика почти полностью вытесняется светлоангобированной. Для первой особенно характерны кувшины с подтреугольным или профилированным венчиком и двумя ручками на плечиках (табл. 2, 14), чаши и миски (табл. 2, 8, 9). Среди светлоангобированной посуды получают распространение безручные кувшины, тулово которых покрыто прочерченным волнообразным орнаментом (табл. 2, 20), и кувшины с отогнутым утолщенным венчиком. Появляются эйнохоевидные кувшины с примятым сливом. Симптоматично, что многие формы посуды этого времени воспроизводят старые хорезмийские образцы, но огрубевшие и видоизмененные. К концу периода становится много лепной светлоангобированной посуды. Это крупные кувшиновидные хумчи с утолщенной закраиной, орнаментированной пальцевыми защипами и вдавлениями (или вовсе без венчика), и яйцевидным туловом, иногда покрытым прочерченными пересекающимися полосами, образующими сетку; миски с плоским выступающим бережком, украшенным насечками; одноручные кувшины с покатыми плечиками и вытянутым туловом (табл. 2, 5, 13, 17, 18). Постепенно меняется и ассортимент керамики. В конце рассматриваемого периода мало чаш, много кружек, распространяются одноручные лепные горшки (табл. 2, 10, 12), в то время как в начале периода преобладали двуручные (табл. 2, 16). Хорезмийский керамический комплекс этого времени достаточно своеобразен. Вместе с тем при его исследовании обнаруживаются те же черты, что и в керамике из других районов Средней Азии. Наиболее близкими в этом отношении оказываются Бухарская и Кашкадарьинская области Согда, где в IV–V вв. отмечаются сходные явления: полное исчезновение яркой красноангобированной керамики, заменяющейся темно-красной и темно-коричневой; уменьшение общего количества красноангобированной посуды и возрастание числа сосудов с прочерченным волнообразным орнаментом. Можно отметить и ряд аналогий формам хорезмийской керамики (Исамиддинов, Сулейманов, 1984, с. 20–22, 24, 34, 60), но их немного. Значительно больше сходства между хорезмийской керамикой IV–V вв. и посудой населения средней Сырдарьи (Неразик, 1981, с. 89), причем особый интерес в этом отношении представляет находка в помещениях Аязкалинского дворца большого количества хумчей, по форме и способу обработки поверхности воспроизводивших эту категорию посуды из памятников указанной области (устное сообщение Л.М. Левиной). Этот факт дает основание предполагать определенные этнокультурные, а может быть, и политические контакты между данными областями в IV–V вв. н. э. Еще большую близость, вплоть до полного совпадения форм, обнаруживает керамика из Одейтепе близ Чарджоу на Амударье (Пилипко, 1979, с. 48, рис. 10, 2, 3, 13, 15, 16, 18, 25–27), что может найти объяснение в тесном соседстве местного и хорезмийского населения и присутствия последнего в Одейтепе. Привлекают внимание и другие аналогии, позволяющие думать о каких-то формах взаимодействия населения. Так, в курганном комплексе Чаштепе, расположенном на северо-западных окраинах Хорезма, встречаются сосуды, обнаруживающие близкое сходство по характерным технологическим особенностям, например по окраске темным ангобом по светлому[2], с сосудами из верхнего слоя городищ Топраккала и Куняуаз и сельских поселений Якке-Парсанского оазиса IV в. н. э. Возможно, курганные группы Чаштепе окажутся разновременными, но часть из них, несомненно, относится к IV–V вв., и именно в них и найдены упомянутые сосуды. Есть и другие свидетельства внешних влияний на хорезмийское гончарство IV–V вв. Аналогии очень выразительному прочерченному орнаменту, украшавшему в основном толстостенные сосуды, ведут в степное окружение страны (Неразик, 1959, с. 231, 232). Поэтому можно думать, что сложение керамического комплекса рассматриваемого времени происходило в известной степени и под воздействием культуры соседних кочевых и полукочевых племен, тесно сосуществовавших с оазисами Хорезма. С раскопками Топраккалы появились и первые сведения о вооружении, предметах быта и украшениях описываемой эпохи. В жилом квартале найдены костяные накладки от сложносоставного лука и крупный трехлопастной наконечник стрелы (табл. 2, 46, 49, 50). Среди металлических предметов содержатся ножи с прямой спинкой и горбатые, виноградарские, округлые бесщитковые пряжки и маленькие, видимо обувные, с овальной рамкой и подвижным язычком (табл. 2, 31–34, 47, 48). Имеется и редкая для этих мест костяная пряжка с треугольным щитком (табл. 2, 30). Упомянем также бронзовые ложечки (табл. 2, 44, 45), весьма обычные в кочевой степной среде. Есть подобные бронзовые ложечки из кости (табл. 2, 42, 43) (Трудновская, 1981, с. 108–109). Украшения представлены большим числом бусин, но многие из них происходят из «храма с рогами» и могут относиться к более раннему времени. Это бусы из пирита и стеклянные различной формы. Для IV–VI вв. более характерны крупные каменные бусины из халцедона и сердолика (есть с содовым орнаментом) сфероидальной и боченковидной формы (табл. 2, 23–28). Есть подвески из коралла и других материалов (табл. 2, 38). Из числа стеклянных бусин отметим четырехгранную призматическую и 14-гранную с оранжевыми глазками. Среди многочисленных стеклянных вставок имеются с подкладкой из золотой фольги, типичные для эпохи «великого переселения народов». Кроме того, встречаются бронзовые серьги калачиком, в виде кольца с заходящими концами, а также серьга «аланского типа» из рифленой проволоки. Браслеты круглопроволочные, с утолщенными концами, украшенные выгравированными личинами, относятся также к поре «великого переселения народов». По-прежнему изготовлялись костяные булавки (или стили?) со сложным резным навершием в виде короны, которые находят обычно в слоях широкого круга памятников древнего Востока.Верования.
Изображения на многих из перечисленных предметов, орнамент на керамике, а главное — раскопки храмов вводят нас в сложный мир верований населения Хорезма IV–VI вв., его воззрений, распространенных в стране культов. Находки оссуариев, храмы и святилища огня обычно рассматриваются в качестве убедительных свидетельств существования зороастрийских верований. О форме оссуариев того времени можно судит по находкам в некрополе Миздахкана. Это глиняные и алебастровые, реже каменные ящики на четырех низких ножках или без них, с гранями, украшенными налепными полосками с поперечными вдавлениями. Верх часто оформлен ступенчатыми выступами, а иногда фигурками птиц, блоковидными ручками. Некоторые оссуарии, видимо, воспроизводят форму реально существовавших построек с шатровым перекрытием (Рапопорт, 1971, с. 99). Боковые плоскости одного из миздахканских оссуариев украшены изображениями растения с крупным плодом и идущих львов (табл. 10, 2). В.Н. Ягодин видит в этом идеологическое воздействие Ирана (Ягодин, Ходжайов, 1970, с. 132). Захоранивались очищенные кости и в сосудах, специально изготавливавшихся для этой цели или использовавшихся ранее в быту (Ягодин, Ходжайов, 1970, с. 61–62 и сл.). Однако у нас еще пока недостаточно оснований, чтобы судить, насколько в рассматриваемый переходный период сохранился тот пантеон, который столь красочно запечатлен в росписи и скульптуре грандиозного дворца Топраккалы, а также те культы, которые были распространены в Хорезме в предшествовавшую эпоху. В этой связи показательно, что на данный период приходится замена антропоморфных оссуариев ящичными, форма которых в это время еще только начинает вырабатываться (Рапопорт, 1971, с. 97). Еще более показательно полное исчезновение на протяжении данного времени антропоморфных терракотовых фигурок — изображений божеств, столь распространенных в античный период. И в этом отношении исследование городища Топраккала очень важно наряду с другими его аспектами еще и потому, что позволяет проследить, как вместе с упадком дворцов и превращением Топраккалы в заурядный небольшой городок проступали народные верования и обряды, скрытые в имперский период государственными культами и ритуалами. В этой связи чрезвычайно симптоматично распространение зооморфных сосудов (табл. 2, 37), глиняных и алебастровых идольчиков (табл. 2, 39–41). Они могли быть изображениями покровителей домашнего очага, дома, личными оберегами, могли служить важными атрибутами культа предков, а также производственных и погребальных культов (Брыкина, 1982а, с. 96–113). Всю толщу этих идеологических наслоений венчает Топраккалинский храм, где фетишем являлись бараньи рога — концентрированный символ оберега, пережитки которого дожили в Средней Азии до недавнего прошлого. Вместе с тем пока трудно сказать, не слились ли тут народные верования с культом божества Хварены, символом которого в Иране, а также, как полагает Б.А.Литвинский (Литвинский, 1968, с. 87 и сл.), в кочевой и полукочевой среде чаще всего является баран. Так или иначе, приведенные данные позволяют предполагать какие-то серьезные перемены в верованиях населения Хорезма в IV–VI вв., суть которых пока еще недостаточно ясна. В заключение этого обзора следует подчеркнуть, что культура Хорезма IV–VI вв., или кушано-афригидская в классификации С.П. Толстова, — это традиционная хорезмийская культура, особенно на первом ее этапе (IV — середина V в.), но уже на стадии упадка, это еще хорезмийская античная эпоха, но уже на исходе. Она предстает как преддверие следующего этапа — времени сложения афригидской культуры VII–VIII вв., к рассмотрению которого мы и переходим.Хорезм в VII–VIII вв.
Города.
От этого периода на территории бывшего хорезмийского государства сохранилось много развалин поселений, в основном сельских. Облик городов VII–VIII вв. почти не выявлен. Известно, что в это время продолжали существовать некоторые старые города, стоявшие на важных торговых трассах и крупных каналах (Хазарасп, Хива и др.). Строились новые, причем последние часто возникали у стен крупных за́мков (например, Беркуткала, Кумкала). Археологическое обследование Кята — столицы Хорезма до X в. (возле нынешнего районного центра Бируни) — показало, что изучению доступны лишь участки городских слоев XII–XIV вв. и более позднего времени (Манылов, 1966). Цитадель Кята в X в. еще видел посетивший город ал Истахри, но к тому времени она уже запустела, а древний город был смыт Амударьей, разрушившей позднее и цитадель (МИТТ, т. I, с. 172). В текстах Табари, Белазури и ибн ал Асама сохранились сведения о раннесредневековой столице, называвшейся ал Фир или, по названию страны, Хорезм. Согласно этим сведениям полагают, что город в VII–VIII вв. состоял из трех частей — «трех городов», окруженных общим валом. Самым укрепленным был Мадинат ал Фир (Большаков, 1973, с. 171; Гоибов, 1983, с. 132–134). По мере роста города его древнейшая часть превратилась в цитадель, а город авторы X в. называли Кятом. В Хазараспе, который, по Белами, являлся одним из наиболее укрепленных городов Хорезма (Zotenberg, 1867, т. IV, p. 176), были раскопаны участки мощных крепостных стен, что свидетельствует о возможности существования крупной цитадели, возникшей именно в VII–VIII вв. (Воробьева, Лапиров-Скобло, Неразик, 1963, с. 162, 199). Однако городские слои на раскопанных участках не сохранились из-за более позднего строительства. Думается, впрочем, что застройка в тот период вряд ли выходила за пределы крепостных стен и город не превышал размеры более раннего (10 га). Видимо, крупным городом был Миздахкан, по крайней мере так позволяют думать большие размеры некрополя того времени. К сожалению, раскопки города не велись, исследовался только некрополь (Ягодин, 1970, с. 57–97). Несколько полнее сведения о небольшом городке, выросшем в конце VII — начале VIII в. у подножия за́мка Беркуткала. Занимая площадь 6,2 га, он складывался в два приема, благодаря чему получил неправильную конфигурацию. Частично город выстроен на развалинах древнего поселения, запустевшего в IV в. Обе части города, так называемые пристройки — южная и восточная — окружены стенами. Восточная имела, по-видимому, ремесленный характер: на ее поверхности обнаружены следы железоплавильного, костерезного и других ремесел. Посредине располагалась обширная площадь. Южная часть города плотно застроена, причем в застройке выделяются два квартала, разделенные узкой извилистой улицей (табл. 3, 3). Кое-где здесь также замечены следы производства. В за́мке площадью 100×100 м, который можно рассматривать как цитадель этого небольшого городка, были сосредоточены крупные здания, располагавшиеся возле его южной стены. Посредине стены находился вход, к которому со стороны города подводил пандус, поднимавшийся к широкой площадке, откуда спускались по широкой лестнице. Юго-восточный угол цитадели занимал донжон площадью 15×15 м, воздвигнутый на четырехметровом цоколе из сырцовых кирпичей. Часть донжона занимало углубленное в цоколь помещение — скорее всего, большое хранилище. Само же здание вряд ли могло служить жилищем владетеля за́мка, так как в нем практически отсутствуют жилые помещения, а убранство комнат очень скромное. Скорее оно являлось чисто оборонительным или складским сооружением, а правитель жил в одном из крупных зданий в за́мке. В северо-западном углу цитадели находился большой бассейн — городское водохранилище, что особенно существенно в случае осады. Следует отметить, что и возле других крупных за́мков правобережного Хорезма в конце VII–VIII в. росли поселения — зародыши будущих городов (Кумкала, Наринджанкала). Другой небольшой городок у Аязкалы 2, о котором уже упоминалось, несмотря на гибель дворца, продолжал развиваться. В VII–VIII вв. на его территории появляются двух-трехкомнатные жилые секции, подобные открытым в за́мке Якке-Парсан. Многие постройки были двухэтажными. Однако какая-то катастрофа остановила рост города: крепостные стены и большое крестово-айванное сооружение внутри города остались недостроенными.Сельские поселения.
Сельские поселения VII–VIII вв. исследованы несравненно подробнее более ранних, однако только в правобережном Хорезме, поскольку на остальной его территории они практически не сохранились. На правом берегу Амударьи поселения тянулись на многие десятки километров вдоль каналов, выведенных из реки вплоть до отрогов Султануиздага, замыкавших сельские оазисы на севере. Типологически это все те же поселения рассредоточенного (иначе — разбросанного, дисперсного, а также хуторского) типа, которые характерны для Хорезма во все времена его истории. Однако облик их на протяжении VI–VII вв. существенно меняется. Неукрепленные жилища почти полностью исчезают, а сельский пейзаж теперь определяется усадьбами и поселениями, окруженными толстыми пахсовыми стенами с укрепленным входом, расположенным между двумя башнями или имевшим вид Г-образного сооружения. По-видимому, в некоторых усадьбах, по крайней мере крупных, сохраняющих свой прежний облик, существовали отдельные здания, одноэтажные или двухэтажные. Нижний этаж последних составляли сводчатые или плоскоперекрытые помещения, однако облик этих зданий неясен. На рубеже VII и VIII вв. в большинстве построек оазисов появляются донжоны на высоком цоколе. На этом этапе среди археологических памятников хорошо исследованного Беркуткалинского оазиса выделяются шесть типов. К первому относятся за́мки с поднятым на высокий цоколь донжоном — кешком и мощными пахсовыми стенами, в большинстве случаев снабженными башнями (Тешиккала, за́мки 10, 11, 82 и др.). Площадь их, тяготевшая к квадрату, колебалась от 40×40 до 100×100 м (табл. 3, 2, 17; 4, 2, 3, 5). Второй тип — отдельно стоявшие кешки, иногда — с примыкавшими к ним немногочисленными неукрепленными постройками, видимо подсобными (табл. 4, 6). К третьему типу относятся укрепленные усадьбы площадью от 200 до 1000–2000 кв. м (усадьбы 18, 19, 28, 72, 74 и др.). Учитывая их плотную застройку, самые мелкие могут быть названы укрепленными домами (18, 19, 28, 64, 66 и др.). Самые крупные (16, 30, 72) типологически не отличаются от поселений (табл. 3, 1, 7, 14). Четвертый тип — укрепленные поселения площадью 1,4–2 га и менее. Крупные расположены на значительном расстоянии друг от друга (Кум-Басканкала, Большая Кырккызкала, Уйкала, за́мки 32, 40, 60 и др.). До проведения раскопок выделение поселений условно: та же Кум-Басканкала может оказаться небольшим городком. Небольшие поселения типологически и по существу мало отличались от усадеб, будучи населенными семейно-родственными группами. Об этом свидетельствуют подобные им и сохранившие до наших дней черты большой древности афганские «кала» (Карцев, 1986, с. 65–69). Пятый тип памятников — однокамерные башни-донжоны, более всего сходные с позднейшими туркменскими дингами. Как и последние, они разбросаны среди полей и несли, по всей вероятности, сторожевые функции. Можно заметить, что значительное число их сосредоточено вблизи Беркуткалы. К шестому типу памятников относятся постройки культового назначения. Так, невдалеке от Тешиккаллы открыто однокамерное погребальное сооружение — наус (дом 50), а рядом за́мок 36 — постройка, также, скорее всего, связанная с погребальным культом. В нескольких километрах севернее Уйкалы возвышалось небольшое (дом 115) купольное святилище огня (табл. 9, 7, 8). Такое же святилище (за́мок 2) открыто и севернее Якке-Парсана. Безусловно, в обоих оазисах были и другие постройки специального назначения, например, севернее Якке-Парсана открыта усадьба А, видимо загородная вилла богатого землевладельца (табл. 3, 15). Типологически сходные с перечисленными сельские поселения — усадьбы открыты и в других среднеазиатских районах, в частности в Согде и Тохаристане (Дресвянская, 1986, с. 37, 38; Ростовцев, 1975, с. 100; Ртвеладзе, 1982, с. 105 и др.). Однако предстоит еще большая сопоставительная работа, чтобы избежать возможных ошибок. Например, кажутся лишенными основания попытки относить Якке-Парсан к типу «за́мков с бедными крестьянскими жилищами у основания» (Губаев, 1982, с. 16) или считать его за́мком внутри поселения типа Гардани Хисор в горном Согде (Распопова, 1979, с. 23–24). Остановимся на этом вопросе подробнее. Удалось установить, что в центральной части Беркуткалинского оазиса усадьбы расположены группами вдоль боковых ответвлений магистрального канала, у истоков каждого из них, как правило, находился хорошо укрепленный за́мок. Эта выразительная особенность расселения как нельзя лучше запечатлела слагавшуюся иерархическую структуру феодализировавшегося общества (Толстов, 1948, с. 134–135; Неразик, 1966, с. 49), находя соответствие в топографии оазисов других районов Средней Азии (Дресвянская, 1986, с. 37–38). Другой приметой существенных сдвигов в развитии хорезмийского общества служит появление в оазисе на рубеже VII и VIII вв. за́мков с донжоном на высоком цоколе. Эта несомненно новая и повсеместно распространенная в раннесредневековой Средней Азии архитектурная форма может рассматриваться и как отражение социальных перемен, связанных с выделением нового землевладельческого слоя дехкан-феодалов и соответственно с определенными преобразованиями внутри земельной общины, о которой пока еще мало известно. Если на территории Беркуткалинского оазиса открыты обычные для раннесредневекового Хорезма рядовые поселения, то соседний Якке-Парсанский оазис существенно отличался от него иными закономерностями. Одной из его особенностей является значительно меньшая плотность населения: так, если в зоне Беркуткалинского канала существовало не менее 100 жилых построек и поселений, то на том же протяжении в Якке-Парсанском оазисе — не более 20. Кроме того, там наблюдается иное расположение усадеб: групп нет, постройки следуют вдоль основного канала с интервалами 1,5–2 км и более. Следует учесть также, что на территории этого оазиса находился только один крупный за́мок — Якке-Парсан, в то время, как в Беркуткалинском их было несколько. Есть основания полагать, что северная часть Якке-Парсанского оазиса входила в зону влияния Якке-Парсана и что здесь могло формироваться феодальное поместье. В южной части оазиса, напротив, находились еще независимые небольшие общинные поселения типа за́мков 4 и 5, и за́мки (Айркала). Обе части отделялись одна от другой незаселенной зоной, где встречались только одиночные башни, которые, по-видимому, защищали дальние подступы к Якке-Парсану. Скорее всего, этот сторожевой дозор был направлен против упомянутых независимых поселений южной части оазиса. Так или иначе, но перед нами застывшая, статичная картина становления в стране нового социально-экономического строя.Сельское жилище. За́мки. Усадьбы.
Основные жилые и парадные покои хозяина за́мка находились в жилой башне (кешке, или, пользуясь западноевропейской терминологией, донжоне)[3]. Кешк располагался в углу или посредине одной из стен (если помещался на месте бывшего входа), но чаще всего посредине за́мка. Размеры кешков колебались от 12 до 24 кв. м, в плане, как правило, приближаясь к квадрату, причем заметно стремление воспроизвести центричную схему плана. Помещения в большинстве случаев располагались вокруг большой комнаты, своего рода «холла-распределителя», где иногда находился колодец. В Тешиккале и Якке-Парсане массивные тройные двери в стенах такого центрального помещения оформлены в виде своеобразных порталов и перекрыты арками. Особенности архитектуры центрального «холла» в донжоне Якке-Парсана подчеркнуты купольным перекрытием. Возможно, что такие залы были выше остальных помещений, являясь двусветными и приспособленными для проветривания примыкавших к ним комнат (Нильсен, 1966, с. 174–175). В квадратных, реже прямоугольных жилых комнатах стены огибали кирпичные суфы, а посредине находился открытый очаг-кострище (табл. 5, 3). В некоторых парадных помещениях огонь разводился на вымостке из сырцовых кирпичей, а в стене, противоположной входу, устраивалась глубокая ниша. Таких помещений немного, и не исключено, что в них жилые функции совмещались с культовыми. Что касается планировки самих за́мков, то, согласно первоначальной, широко вошедшей в литературу версии, там находились обширные дворы и лишь кое-где у крепостных стен хозяйственные постройки и помещения для слуг. Однако первое же вскрытие широких площадей показало, что за́мки были довольно плотно застроены. Так, в Якке-Парсане у подножия донжона дворов было мало, а большую часть территории занимали двух-трехкомнатные секции, включавшие жилую комнату и кладовую с глиняными «ящиками» — закромами. Восточная часть за́мка занята более аморфной застройкой, разделявшейся узкими коридорами. Между крепостной стеной и внешней низкой барьерной стенкой находились какие-то очень скромные каркасные строения. Сходные изолированные жилые секции открыты и в Тешиккале, и, хотя там территория за́мка лишь частично затронута раскопками, судя по микрорельефу, можно полагать, что он тоже был плотно застроен. Однако существовали за́мки и с менее плотной застройкой или почти незастроенные (Адамликала, за́мки 11, 82 и др. в Беркуткалинском оазисе) (табл. 3, 2; 4, 3). Плотная застройка Якке-Парсана рассматривается некоторыми исследователями как остатки сельского поселения у подножия за́мка. Однако Якке-Парсан, может быть, наиболее яркий пример единого за́мкового ансамбля со всеми присущими этому типу построек элементами, включая ров, оборонительные стены, перекидной мостик с донжона на специальную башенку, укрепленный вход, наконец, сам донжон. Взятые в определенном пропорциональном соотношении, эти элементы создавали неотъемлемые черты того архитектурного образа, который стал символом эпохи феодализма и прекрасно затем выражен в западноевропейском зодчестве. Важно, что уже при строительстве Якке-Парсана имелся в виду конкретный коллектив, для которого планировались секции. Сходные по типу секции, которые справедливо рассматриваются в качестве жилищ отдельных семей (Якубов, 1988, с. 68–69), открыты в Токкале (Гудкова, 1964, с. 46–50), в Безымянном за́мке Якке-Парсанского оазиса, в городском поселении возле Аязкалы 2, в байских усадьбах начала XX в. Хивинского оазиса (Сазонова, 1952, с. 186, рис. 18), а помимо Хорезма — в поселении Гардани Хисор в горном Согде (Якубов, 1988, с. 65–88), на городище Кахкаха II в Уструшане (Негматов, Мамаджанова, 1983, с. 74). Все это достаточно разнородные архитектурные памятники, и, следовательно, одно лишь наличие там сходных по типу жилых секций вряд ли дает основание относить их к похожим по существу явлениям. Требуется детальный анализ археологических данных в социологическом отношении, и прежде всего установление социального статуса обитателей секций. Трудно представить, что семья могущественного дехкана, каким был владелец Якке-Парсана, была менее многочисленной, чем топраккалинский «BYT», а последний включал, кроме семьи домовладыки, семьи сыновей и дочерей, тут были братья и сестры, племянники, зятья, внуки. Конечно, автор далек теперь от мысли, что Якке-Парсан занимала только большесемейная община владельца за́мка (Неразик, 1976, с. 221); дифференцированный состав планировки заставляет предполагать наличие там и зависимых лиц — рабов, кедиверов, о которых известно из письменных источников (Согдийские документы с горы Муг; Нершахи, 1897). Описывая жилища купцов-кашкушанов в Бухаре (быт которых вряд ли отличался от строя жизни дехкан), Нершахи говорит, что вокруг каждого кешка расположены жилища слуг, чакиров и других лиц. Сельские усадьбы рядового населения оазисов скорее можно назвать крупными домами-массивами, поскольку они состоят из помещений и дворов, подведенных под одну крышу. В отличие от за́мков их трудно считать фортификационными сооружениями: основной защитой этих построек служили толстые пахсовые стены, хотя некоторые (усадьба 28 в Беркуткалинском оазисе) были снабжены и пристенными башнями (табл. 3, 6). По характеру планировки среди крестьянских жилищ можно выделить несколько типов: 1 — строения в виде аморфного соединения разновеликих помещений и нескольких открытых и закрытых дворов, разделявшихся узкими проходами (усадьбы 19, 64, 65 и др. в Беркуткалинском оазисе); 2 — усадьбы более правильной планировки с четким делением на две половины центральным коридором. Примерно треть площади занимал двор (усадьбы 28, 136, 142 и др.); 3 — постройки с открытым двором в центре и одним, реже двумя рядами помещений вдоль стен. Усадьбы этого типа редки, чаще встречаются на окраинах оазисов. Возможно, это жилища осевших скотоводов. Впрочем, открытое пространство посредине зафиксировано и в поселениях, которые более всего напоминают иранские деревушки — «кала» (Розенфельд, 1951, с. 24). Яркий пример усадеб второго типа — Безымянный за́мок в Якке-Парсанском оазисе. Он представляет собой наиболее совершенный из известных пока прототипов позднейших усадеб-хаули узбеков Южного Хорезма. Планировка этой обширной (45×35 м) постройки отличалась строгой симметрией. Осью композиции плана служил широкий коридор с рядом столбов посредине, начинавшийся от входа, фланкированного двумя полукруглыми башнями, и сообщавшийся другим концом с большим крытым зимним двором. Всю западную часть дома занимали двухкомнатные жилые секции, в восточной находились помещения более парадного облика, в том числе четырехстолпный зал с суфами по периметру (прообраз будущей гостиной — михманханы). Тут же открыт летний дворик с навесами вдоль двух противолежащих стен. В северо-западном, наиболее удаленном от входа, углу располагалось культовое помещение с кирпичным постаментом на центральной оси и следом от жертвенного огня рядом с ним (табл. 3, 9, 10). Особняком среди исследованных памятников стоит усадьба А, которую к третьему типу можно отнести только формально. Расположенная несколькими километрами севернее Безымянного за́мка, она представляла собой квадратное строение (33×33 м), северную часть которого занимал комплекс помещений, в южной находился большой двор. Планировка застроенной части отличалась симметрией. На центральной оси, ориентированной с юга на север, находились сводчатый айван с кирпичной двухступенчатой суфой внутри, квадратный бассейн и вход в усадьбу. Такое построение должно было, видимо, лишний раз подчеркнуть значимость композиции. Айван открывался к бассейну, куда вода поступала по узким керамическим желобам (табл. 3, 15). Среди окружавших бассейн помещений отметим четырехколонный зал. Наличие таких залов в раннесредневековых постройках Хорезма установлено лишь в последние годы. Эти особенности планировки позволяют предполагать не обычную рядовую усадьбу, а «виллу» богатого землевладельца-аристократа, каким мог быть владелец Якке-Парсана. В планировке большинства раскопанных усадеб, так же как и в за́мках, выделяются двух-трехкомнатные, гораздо реже многокомнатные ячейки с одной или несколькими жилыми комнатами того же типа, что и в донжонах. Но зато несопоставимы уровень строительной техники, качество отделки, высота и размеры жилых комнат. Например, лишь в кешках-донжонах открыты санитарные устройства — водосливы, сделанные из поставленных в яму горлом вниз крупных сосудов без дна. Специальные глиняные «шкафы для посуды» известны только в Якке-Парсане. Пищу в крестьянских жилищах готовили на открытых очагах, обведенных глиняным бортиком. В некоторых случаях на поверхности полов зафиксированы ямки от треножника. Для приготовления пищи могли использоваться и небольшие тандыровидные печки, которые ставились в угол комнаты на суфу. Продукты хранили в глиняных закромах или в ямах, тщательно обмазанных глиной. Для освещения комнат использовали глиняные светильники-чираги, ставившиеся в специальные ниши в стенах. Дневной свет проникал через двери и световые люки в крышах. Полы в жилых комнатах устилали циновками и войлоком, в кешках поверх них клали ковры. Принимая во внимание площадь жилищ и наличие в них нескольких жилых ячеек для брачных пар, можно полагать, что в крестьянских усадьбах жили большие патриархальные семьи, уже дифференцированные в области потребления. С.П. Толстов полагает, что к жилищам более применим термин «кед», встречающийся в арабо-персидских источниках для обозначения более крупных построек (Толстов, 1948, с. 151), чем «бейт» — дом в узком смысле этого слова (Бартольд, 1963, с. 37). В VII–VIII вв. в крестьянских усадьбах также появились донжоны и внешне все постройки хорезмийских оазисов приобрели единообразие, благодаря чему на первых этапах исследования они определялись единым термином «замки» (Толстов, 1948, с. 132–134). Однако донжоны крестьянских усадеб сильно отличались от жилых башен феодалов. Они, как правило, были однокамерными и рассчитанными на укрытие во время нападения, но могли выдержать только кратковременную осаду, поскольку не имели колодца. Зато последний являлся неотъемлемой принадлежностью кешков феодалов. Впрочем, существовали и уникальные башни-донжоны, где в центре единственного помещения находился большой колодец, и, казалось, само укрепление было создано для его защиты. В мирное время в отличие от феодальных кешков крестьянские донжоны использовались в качестве хранилищ, и в этом случае они разительно напоминают позднейшие туркменские динги. Интересно, что в других раннесредневековых среднеазиатских районах, за исключением Мервского оазиса, такие однокомнатные донжоны как будто бы не зафиксированы.Строительная техника и некоторые черты архитектуры.
Хорезмийские раннесредневековые усадьбы и за́мки были построены из пахсы и квадратных сырцовых кирпичей размером (38–40) × (38–40) × 10 см, формат которых к концу периода заметно мельчает — (35–37) × (35–37) × 9 см. Внешние стены, цоколи донжонов и оборонительных башен возводились из толстых слоев пахсы (0,6–0,8 м), причем размеры нижних слоев превышали размеры верхних. Внутренние стены, детали интерьера делались из кирпичей. Применялся и комбинированный способ кладки, когда небольшие слои пахсы прослаивались одним или двумя рядами кирпичей (табл. 3, 5). Стены помещений толщиной 0,7–0,8 м выкладывались чаще всего из 2–2,5 ряда кирпичей. Толщина внешних стен за́мков понизу равнялась 2,5–3 м, в рядовых усадьбах — около 1,5 м. Высота помещений в донжонах достигала 3,5 м, в крестьянских жилищах она была гораздо меньше. Потолки были преимущественно плоскими, однако нижние этажи наиболее ранних зданий типа кешков перекрывались сводами. Встречаются своды и в верхних этажах донжонов, построенных в конце VII — начале VIII в. (за́мок 30). Своды делались из прямоугольных кирпичей размером 42×24(30) × (8–9) см, по-прежнему применялись для этой цели и трапециевидные кирпичи близких размеров. Очертания сводов приближались к эллипсу или параболе, но встречались и трехцентровые кривые. Техника кладки арок в это время клинчатая (табл. 3, 11–13). В некоторых случаях благодаря применению комбинированной кладки кривая арки приобретала стрельчатые очертания (Воронина, 1952, с. 102). Некоторое распространение получили в это время купола, возводившиеся из трапециевидных кирпичей. Замечено, что многие из среднеазиатских купольных построек имели культовое назначение, хотя в Хорезме так было не всегда: центральное купольное помещение Якке-Парсана культовым не являлось. Полы представляли собой утоптанные поверхности или же покрывались слоями глиняной обмазки с добавлением рубленой соломы. Исследование хорезмийских жилищ VII–VIII вв. в архитектурно-типологическом отношении значительно расширило характеристику раннесредневековой культуры Хорезма в целом, став также основой для ряда важных в историко-культурном отношении выводов. Хорезмийские жилища обнаруживают известное сходство во внешнем оформлении кешков, интерьера жилых помещений, иногда в общей композиционной схеме с синхронными жилыми постройками других районов Средней Азии. Это, безусловно, объясняется сходным уровнем социально-экономического и культурного развития, формированием общих черт раннесредневековой культуры во всем обширном регионе. Вместе с тем нельзя не заметить и некоторые различия: в интерьере жилых помещений Хорезма отсутствуют характерные, например, для Согда выступы на суфах, использовавшиеся как «почетное место». Чрезвычайно редко встречаются четырехстолпные залы, столь типичные для других районов Средней Азии, и их облик иной. Глубокие арочные или полукупольные ниши с высокой суфой внутри, напротив, как будто бы нетипичны для остальных областей. Многими чертами своеобразия отмечен сам облик хорезмийских за́мков, выдерживающих сопоставление с синхронными им пока главным образом в общетипологическом отношении. Композиционно-планировочные решения среднеазиатских кешков многообразны, и лишь со временем отчетливее смогут выделиться локальные варианты. Сейчас же можно говорить только о направлении связей. И в данном плане становится все яснее, что архитектуре хорезмийских кешков наиболее близки мервские постройки Нагимкалы, Большой и Малой Кызкалы (Пугаченкова, 1958, с. 138, рис. 141) и, в меньшей степени, некоторые термезские здания (Лавров, 1950, с. 47, рис. 103). Не исключено, что они развивают ту же центрическую схему (с центральным композиционным ядром в виде квадратного или прямоугольного помещения, двусветного, иногда купольного), что и сасанидские дворцы в Фирузабаде, Каср-и-Ширин, Дамгане, Кише (Godard, 1962, p. 226, fig. 196; Ghirshman, 1963а, fig. 136, 137), но, разумеется, в гораздо более скромном варианте. Однако нельзя не согласиться с С.Г. Хмельницким, который отметил, что это центральное композиционное ядро в хорезмийских донжонах не парадный зал, а небольшое купольное помещение — распределительный холл. Поэтому он в своей классификации среднеазиатских кешков относит хорезмийские к особому, третьему типу (Chmelnizky, 1989, p. 70). В монументальной архитектуре Хорезма VII–VIII вв. получает четкое оформление такая ведущая форма хорезмийского средневековья, как купольный киоск — предтеча мавзолеев мусульманского периода. В качестве наиболее раннего прототипа данных сооружений можно рассматривать купольное святилище огня IV–VI вв., упоминавшееся в предыдущем разделе. Его позднейшей репликой являются постройки Беркуткалинского оазиса. Таков дом 50, расположенный вблизи за́мка 36. Это однокамерная постройка (7,5×7,5 м), сложенная из сырцовых кирпичей и перекрытая куполом, покоившимся на полукуполах глубоких ниш в трех ее стенах (третья ниша предполагается). В каждой нише находилась суфа, причем центральная, двухступенчатая, расположенная против входа, была выше других (табл. 9, 9, 10). Это здание, поставленное на невысокий пахсовый цоколь, находит полную аналогию в купольной погребальной постройке, раскопанной в некрополе Мерва (но последняя как будто бы относится к более раннему времени) (Кошеленко, 1966, с. 88–89). Сходно с ним и купольное святилище VII–VIII вв. в Калаи-Кафирнигане, в Таджикистане (Литвинский, 1979а, с. 66–69). В свою очередь, все эти постройки обнаруживают безусловную близость с позднейшими мавзолеями IX–X вв. в районе Мерва и Чарджоу (Кызбиби и др.) (Пугаченкова, 1958, с. 168–179). Значение индо-буддийской традиции в формировании культовой архитектуры Средней Азии, общие черты, прослеживаемые в архитектуре указанных зданий и зороастрийских храмов огня, позволяют с большой уверенностью полагать, что архитектурная форма, легшая в основу мусульманских мавзолеев, вырабатывалась задолго до арабского нашествия (Литвинский, Зеймаль, 1971, с. 43–45). Сходный облик имело и святилище огня (дом 115), о котором пойдет речь. Дальнейшее развитие в планировке общественных построек раннесредневековой Средней Азии получают крестово-айванная и дворово-айванная композиции. Своеобразный вариант крестово-айванной композиции представляет собой упоминавшееся здание в поселении у подножия Аязкала 2. Каждый его угол занимает небольшое помещение, благодаря чему образуются попарно противолежащие айваны разной величины. Дворово-айванная композиция носит яркое воплощение в планировке усадьбы А в Якке-Парсанском оазисе.Фортификация.
Хорезмийские за́мки — это прежде всего фортификационные сооружения, построенные с учетом многих существенных древневосточных приемов обороны, сложившихся задолго до рассматриваемого времени. Основным препятствием для нападающих служили стены и жилые башни — кешки. Большое внимание уделялось укреплению входа в за́мок, защищенного предвратным сооружением или фланкированного двумя башнями. Появившиеся в конце VII — начале VIII в. донжоны на монолитном высоком цоколе часто строились на месте предвратного сооружения, замуровывавшегося в цоколь, а вход устраивали рядом под прикрытием донжона. Мощные цоколи крупнейших за́мков (Беркуткалы, Тешиккалы, Якке-Парсана) достигали высоты 6–8 м. Им придавалась усеченно-пирамидальная форма за счет наращивания дополнительных оболочек. В кирпичных стенах донжонов делались плоскоперекрытые щелевидные бойницы для ведения навесного боя, а «мертвое пространство» у подножия донжона простреливалось с его крыши или со второго этажа, существовавшего в некоторых за́мках (например, в Тешиккале и Адамликале). Второй этаж, видимо, занимал лишь часть площади нижнего. Донжон становился совершенно неприступным тогда, когда поднимался перекидной мост, соединявший его со стоявшей напротив башней и являвшийся единственной возможностью попасть в этот последний оплот обитателей за́мка в случае осады. Такие мосты стали характерной чертой частной фортификации, получившей в раннесредневековом Хорезме исключительное развитие в условиях децентрализации власти в стране и междоусобиц, сопровождавших становление там феодальных отношений. Оборонительными башнями были снабжены лишь немногочисленные за́мки оазисов Хорезма, не всегда, кстати, самые крупные. Башни стояли по углам и вдоль стен, причем куртины были достаточно короткими, для того чтобы можно было надежно контролировать все предстенное пространство. В некоторых случаях фланговый обстрел из башен сочетался с фронтальным из открытого валганга вдоль кромки внешней стены, однако чаще для этой цели, видимо, приспосабливались крыши примыкавших к стене помещений. Низкие предстенные барьеры, а также рвы увеличивали глубину обороны за́мков, поскольку, прежде чем добраться до донжона, противник должен был преодолеть несколько трудных препятствий. В использовании потайных ходов, помостов для стрельбы из бойниц, откуда простреливалось предвходное пространство, в применении многих других хитроумных приемов обороны проявилось высокое искусство хорезмийских фортификаторов, сумевших связать все звенья обороны воедино, но таким способом, чтобы в случае надобности каждое из них могло превратиться в самостоятельный узел защиты. Следовательно, условия жизни в хорезмийских за́мках были подчинены прежде всего требованиям обороны, и потому столь суров и прост был их облик. Такие элементы, как усеченно-пирамидальный контур цоколя, вертикаль кирпичных стен, украшенных полусомкнутыми колоннами — гофрами, соединенными перспективными арочками, придавали особую выразительность крупнейшим из этих зданий. В некоторых случаях кешк увенчивался куполом, возвышавшимся над плоской кровлей соседних помещений (Якке-Парсан, Кум-Басканкала). Стройные силуэты донжонов и разбросанных среди полей башен-дингов придавали сельскому пейзажу VII–VIII вв. особую специфику.Сельское хозяйство. Ремесла.
Основой экономики страны являлось ирригационное земледелие, причем в данный период отмечается определенное усовершенствование оросительных сооружений. Оно выразилось в том, что каналы делались более глубокими и узкими, а сама ирригационная система — более разветвленной. В отдельных случаях в Беркуткалинском оазисе удалось зафиксировать остатки виноградников и бахчей в виде чередования гряд и арыков, а также четырехугольные планировки полей, которые использовались под посевы злаков (Неразик, 1966, с. 93–94). Очертания полей становятся разнообразнее, что указывает на новый период в развитии системы полеводства (Толстов, 1958, с. 111). Судя по находкам в усадьбах семян и косточек растений, население оазисов выращивало просо, ячмень, пшеницу, бахчевые и некоторые огородные культуры. В садах вызревали сливы, вишни, яблоки, виноград, абрикосы, персики. Благодаря раскопкам усадеб известен и сельскохозяйственный инвентарь VII–VIII вв. Это лопаты, кетмени, наральники (табл. 6, 13, 14, 21, 28), виноградарские ножи, серпы (табл. 6, 15–17), зернотерки, жернова. Помимо земледелия, население оазисов занималось и скотоводством, причем известны две его формы — стойловое и отгонное. Стадо состояло из крупного и мелкого рогатого скота. Преобладал мелкий (Цалкин, 1952, с. 215). Развивались и ремесла. Изделия деревенских мастеров, видимо, в значительной мере удовлетворяли спрос местных жителей, обходившихся в основном без городского рынка. К тому же большую часть необходимых в обиходе предметов — одежду, обувь, ткани, часть посуды — сельские жители изготовляли сами. В оазисах занятия земледелием и скотоводством сочетались с домашними промыслами. Поэтому хозяйство имело натуральный характер, а жизнь была довольно замкнута. Об этом свидетельствует и небольшое количество монет, найденных в крестьянских усадьбах. Гораздо больше их обнаружено в крупных за́мках, особенно в слоях VIII в. Различные предметы из металла, кости, дерева, кожи и глины, определяющие уровень развития культуры населения, характеризуют также и степень развития ремесел и промыслов. Обнаружены остатки ремесленных мастерских. Они концентрировались в растущих городах (таких, как Беркуткала) и близ больших поселений, например, у стен Большой Кырккызкалы. Здесь возникла даже ремесленная «пристройка», где работали гончары и кузнецы. Гончарные печи располагались возле канала, образуя небольшой квартал, хотя мастера, видимо, жили в черте крепостных стен поселения. Число печей точно не установлено, но их было не менее 10–15. Их конструкция отличалась от более ранней. Как и прежде двухъярусные, круглой формы, они теперь имели центральный опорный столб, вокруг которого шел жаропроводный канал, куда поступал горячий воздух из расположенной снаружи топки. Следует отметить, что сходные попытки усовершенствования обжигательного процесса наблюдаются и в других районах Средней Азии (например, в Мерве). Однако строители печей не смогли добиться равномерности нагревания обжигательной камеры, что наблюдается и при обжиге в печах без опорного столба. Анализы керамики показывают, что в печах поддерживалась температура около 850–950° и создавалась окислительная среда. В больших печах обжигалась и крупная и мелкая посуда, но существовали и небольшие печи, в которых крупные сосуды не могли устанавливаться. Судя по расположению и направлению устьев топок, несколько печей обслуживались одними и теми же мастерами. О наличии железоплавильного производства у Большой Кырккызкалы свидетельствуют скопления железистых шлаков и ожелезненного песчаника. Работавшие здесь ремесленники, видимо, использовали лимонитовые руды железистых песчаников Султануиздага, что не требовало специальных горных разработок и, несомненно, было большим удобством для мелкого производства. В 3 км к юго-западу от крепости исследованы остатки железоплавильной мастерской, состоявшей из трех помещений и занимавшей площадь 12×13 м. В них открыты сыродутные горны, конструкция которых полностью не восстанавливается. Ясно лишь, что они были стационарными, а в дне плавильной камеры имелось углубление, куда стекало расплавленное железо, поступавшее из камеры по желобу в приемник (Неразик, 1966, с. 52–53). Лучше сохранившиеся сходные горны обнаружены в Пенджикенте, где расчищено несколько мастерских ремесленников-металлистов (Распопова, 1980, табл. 36). Установлено, что в печи поддерживалась температура не ниже 1200–1300°, вполне достаточная для восстановления железа и отделения его от пустой породы, превращавшейся в шлак.Металлические изделия, украшения и другие предметы.
Найденные в оазисе железные орудия труда (ножи, серпы, крючки и др.), а может быть и оружие, изготовлялись, скорее всего, в таких небольших мастерских. Этот список можно пополнить предметами из клада, открытого в одном из помещений Токкалы, памятника «кердерской» культуры в низовьях Амударьи, развивавшейся под эгидой Хорезма, причем есть основания предполагать присутствие в этой области купцов и ремесленников хорезмийцев. В числе предметов клада три топора-тесла, тесло, три кетменя и серп. Лезвия кетменей имели прямоугольную и трапециевидную форму, длина орудия 17–25 см, ширина рабочей части 11–12 см (табл. 6, 12–14). В целом же они обнаруживают большое сходство с известными орудиями труда на других территориях и вне Средней Азии в рассматриваемый и более поздние периоды. Это сходство легко объяснимо однозначностью их функций. Из немногочисленных находок металлических предметов вооружения VII–VIII вв. упомянем крупные железные черешковые наконечники стрел двух типов: трехлопастные с длиной головки 5 см и меньше (2,5 см), сравнительно широкие (табл. 6, 1, 4, 5, 7); пирамидально-призматические, квадратные в сечении (табл. 6, 3). Если справедливо наблюдение, что для Средней Азии VII–VIII вв. в отличие от Центральной Азии и Сибири были характерны узкие граненые наконечники стрел, то тогда Хорезм примыкает именно к последней зоне, поскольку имеющиеся пока находки представляют вариант сравнительно широких наконечников стрел. Как и в других районах Средней Азии, воины Хорезма пользовались сложносоставным луком длиной 80-100 см (Манылов, 1964, с. 61) (табл. 6, 22). Наборные пояса, к которым подвешивались колчаны со стрелами, украшались бронзовыми бляшками, пряжками и наконечниками. Все эти предметы литые, бляшки встречаются сердцевидной формы, фигурные и др. (табл. 7, 1-12). Ременные наконечники имели вид прямоугольной пластинки, один конец которой подрезан, а второй закруглен или, чаще, заострен (табл. 7, 13, 15, 32–40). Бляшки и наконечники были преимущественно гладкими, орнаментированных немного. При сравнении с аналогичными предметами из других оседло-земледельческих районов или же с поясным набором кочевого населения можно заметить, что они отличаются своеобразием формы и орнаментации и более всего аналогий обнаруживают с находками в погребениях Джетыасаров в низовьях Сырдарьи (Левина, 1996, рис. 129, 38–44; 154, 33–35; 155, 15), на Алтае VII–VIII вв. (Гаврилова, 1965. табл. XV, 2; XIX, 1), а также с изделиями из памятников салтово-маяцкой культуры (Плетнева, 1967, рис. 45, 9 и др.). Кроме них, имеются бляшки, сходные с найденными в Пенджикенте, но они, видимо, относятся к общераспространенному в ту эпоху типу (Распопова, 1980, с. 89, рис. 63, 7, 12, 13). Среди пряжек выделяется несколько типов: с овальной рамкой и сплошным щитком четырехугольной формы с выемкой для язычка; с четырехугольной рамкой и сплошным маленьким щитком с отверстием для язычка; сходная, но на щитке в месте крепления с рамкой имеются полукружия; щиток четырехугольный с большим вырезом, рамка овальная; щиток и рамка овальные, щиток с выемкой. Часть из них сходна с пряжками, найденными в других районах Средней Азии, например, в Пенджикенте (Распопова, 1980, с. 87, рис. 61, 34, 44), но в Хорезме, несомненно, более распространены пряжки с четырехугольной рамкой. Все пряжки литые с неподвижным в основном соединением рамки и щитка, но встречается и шарнирное (табл. 7, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 28–31). Из украшений отметим несколько вариантов бронзовых серег типа, весьма распространенного на территории Среднеазиатского региона и окружающих степей. Это — несомкнутое кольцо с утолщением и разрывом на противоположной ему стороне или, реже, сбоку. К утолщению крепилась подвеска, которая могла также подвешиваться на колечки. Подвески были разных форм: в виде двух шариков, колесика, надетого на кольцо, и др. Наиболее распространены серьги с утолщением и прикрепленным к нему длинным стерженьком, завершавшимся бусиной. В большинстве своем серьги цельнолитые. Все они несколько отличны от согдийских и больше аналогий находят в тюркских украшениях. Среди бронзовых перстней имеются экземпляры с круглым или овальным гнездом для вставок, со сквозным гнездом, со щитком гладким, плоским или выступающим, причем без изображений, может быть незаметных из-за плохой сохранности. Все перстни цельнолитые, гнезда для вставок простые, без украшений. Они являются широко распространенным типом украшений. Однако найдены и своеобразные перстни, как бы составленные из многих маленьких шариков. Браслеты делались из округлого или плоско-выпуклого в сечении бронзового прута диаметром 0,5–0,6 см. Несомкнутые концы немного утолщены. Пластинчатых браслетов в Хорезме пока нет. Не встречены также и браслеты с расширением посредине, подобные известным в Согде. Форма браслетов этого типа не является датирующим признаком (Распопова, 1980, с. 114, рис. 74). Ожерелья хорезмиек раннего средневековья заметно отличались от таковых более ранних периодов. Теперь в них больше крупных каменных — сердоликовых, хрустальных и халцедоновых бусин, преимущественно шарообразных, гораздо меньше граненых. Многие из них аналогичны тем, что содержатся в погребальном инвентаремогильников Северного Кавказа и Крыма (Деопик, 1959, с. 51, 64, 138). Среди стеклянных преобладают одноцветные шарообразные, эллипсоидальные или граненые, но уже есть и мозаичные, глазчатые и полосатые (Гудкова, 1973, с. 125–137). Особые условия, в которых оказались найденные в за́мках деревянные предметы, остатки кожи и ткани (они обнаружены главным образом в помещениях донжонов, поднятых на мощную подушку пахсового цоколя), обусловили их прекрасную сохранность. Поэтому в Якке-Парсане и Тешиккале, так же как в свое время в за́мке на горе Муг, сделаны такие редкие находки, как деревянные гребни для расчесывания шерсти при прядении (табл. 5, 10), большая деревянная лопата для провеивания зерна (табл. 6, 28), остатки веревок, плетеных корзин и даже остатки повозки. Все это находит полную аналогию как по набору предметов, так и по их виду с коллекцией из за́мка на горе Муг (Бентович, 1958, с. 364, рис. 4–6). Восстановить конструкцию сгоревшей повозки не удалось, но колесо реконструируется хорошо. Диаметр его достигал 1,7 м, ширина обода 11 см, ширина ступицы 30 см, спиц было не менее 24–25. Обод либо выгнут из одного куска дерева, либо состоял из небольшого числа крупных частей. В обоих случаях повозка по конструкции колес отличалась от современных хорезмских южноузбекских, сближаясь скорее с казахскими и исконно каракалпакскими (Неразик, 1968, с. 204–205). Эта находка как бы живая иллюстрация слов китайской летописи Таншу о хорезмийских телегах, на которых торговые люди совершали дальние путешествия (Бичурин, 1950, т. II, с. 315–316). Теперь обратимся к керамике, которая является одним из наиболее выразительных археологических мерил самобытности культуры и этнической принадлежности населения. Керамика VII–VIII вв. изготовлялась из пластичных бескарбонатных маложелезистых светложгущихся тугоплавких глин с большим количеством примесей в виде дресвы, шамота и гипса. Ангоб светлый, с желтоватым или зеленоватым оттенком. Для получения ангоба использовались те же глины с добавлением цветных глин, содержащих незначительную примесь железа, марганца и хрома (Неразик, 1966, с. 106). Красноангобированная посуда исчезает полностью (по крайней мере, в сельских поселениях). Это весьма определенный комплекс с устойчивым набором форм, почти без вариантов, встреченный в слоях того времени. В него входят огромные толстостенные хумы с яйцевидным туловом и овальным венчиком, украшенным пальцевыми вдавлениями (табл. 8, 16); сходной формы хумчи с прочерченным волнообразным орнаментом по тулову (табл. 8, 15), а также горшковидные сосуды, широкогорлые водоносные кувшины и узкогорлые, с широким туловом — для вина (табл. 8, 3, 10–14); лепные горшки и котлы (табл. 8, 1, 2, 6); подставки «шашлычницы» с завершением в виде рыбьего хвоста (табл. 2, 22); кружки (табл. 8, 4, 5, 7, 8). Эта посуда почти не обнаруживает близости к синхронной ей среднеазиатской, за исключением единичных форм, но по целому ряду признаков, и прежде всего своеобразной орнаментацией, напоминает керамику, найденную в низовьях Амударьи и Сырдарьи.Идеологические представления.
Наиболее яркие сведения об идеологических представлениях населения Хорезма в VII–VIII вв. получены в результате раскопок некрополей Миздахкана и, особенно, Токкалы. Последняя расположена в области Кердер, где было, видимо, много хорезмийских колонистов, чьи верования и нашли отражение в погребальных обрядах Токкалы. Этому способствовало, разумеется, и объединение, по крайней мере в определенные периоды, Южного Хорезма и Кердера в рамках одного государства. В указанных некрополях впервые обнаружены костехранилища с многоцветными росписями и надписями (табл. 9, 19–27; 10, 5, 7), сделанными тушью на хорезмийском языке (Ягодин, 1963а, с. 102–104; Гудкова, 1964, с. 94–106). Сразу после опубликования они привлекли внимание крупнейших лингвистов, выдвинувших свои варианты прочтения надписей. Важность этого открытия трудно переоценить: получены ценнейшие сведения не только по истории развития хорезмийской письменности, но и по истории исследования календаря хорезмийской эры. Даты на токкалинских надписях и сопоставление их с другими датированными документами и памятниками искусства Хорезма показали, что все даты отражают существование одной эры, начало которой относят к I в. н. э. (Гудкова, Лившиц, 1967, с. 8). Появилась возможность уточнения сведений Бируни, ранее бывших единственным письменным источником по затронутым проблемам, причем есть основания предполагать, что Бируни не знал об упомянутой эре, так как его данные не соответствуют выявленным по надписям и монетам датам (Livshits, 1968, p. 441–443; Вайнберг, 1967, с. 77–80). О корректировке приведенного Бируни списка хорезмийских правителей мы уже говорили. Большое значение эти надписи, в наиболее полной форме состоящие из даты, имен усопшего и его отца, и формулы благопожелания, имеют и для изучения семьи в Хорезме конца VII–VIII в. Кроме того, появились обильные сведения по погребальному обряду Хорезма VII–VIII вв., специфика которого не оставляет сомнений в его зороастрийском происхождении, что, безусловно, является еще одним важным доводом в пользу версии о существовании этой системы верований в раннесредневековом доисламском Хорезме. Сообразуясь с предписаниями Авесты не осквернять четыре священные стихии — воздух, землю, огонь и воду, хорезмийские зороастрийцы складывали очищенные кости умерших в оссуарии — костехранилища. В VII–VIII вв. они представляли собой алебастровые, глиняные или каменные четырехугольные ящики на четырех ножках или без них, с четырехскатной крышкой, часто увенчанной фигурной ручкой-налепом. В отличие от наиболее распространенных алебастровых оссуариев, форма которых была стабильной (табл. 9, 18; 10, 3, 5), среди глиняных (табл. 9, 16, 17; 10, 1, 2, 4) выделяется несколько вариантов (Рапопорт, 1962; Ягодин, Ходжайов, 1970, с. 79). Для погребений использовались и крупные сосуды, зарывавшиеся в землю, причем есть предположение, что именно таким способом в Кердере в отличие от Хорезма хоронили местных жителей (Бижанов, Мамбетуллаев, 1973, с. 59). Подобную гипотезу, однако, нельзя считать доказанной прежде всего потому, что и в некрополе Миздахкана встречаются захоронения в сосудах, а этот город находился на территории собственно Хорезма. Скорее всего, способ захоронения можно объяснить в значительной степени различием социального и имущественного положения покойников, а не их этнической принадлежностью. Оссуарии ставили в наусы — наземные или, чаще, полуподземные однокамерные постройки размерами 4×5 м, 4×4 м, внутри которых имелись суфы и ниши в стенах (Гудкова, 1968, с. 214–215). Эти родовые усыпальницы использовались длительное время: в них иногда обнаруживалось до 100 оссуариев. Последние, однако, не всегда помещались внутри построек. Так, возле кердерского поселения Куюккала существовал большой некрополь, где оссуарии ставили в ямы небольшими группами. Известны, кроме того, оссуарные кладбища в горах: Султануиздаг (Манылов, 1972, с. 9–10), Кубатау (Рапопорт, 1971, с. 108–109). Строились погребальные сооружения и в сельской местности. Например, в Беркуткалинском оазисе к за́мку 36 пристроено купольное помещение — «кат», куда клали тело умершего до того, как его вывозили на дахму для очищения костей (Толстов, 1948, с. 245–249). В качестве науса могли использовать упомянутое купольное здание 50, стоявшее по соседству (табл. 9, 9, 10). Однако в свете новейших концепций о религиозных представлениях хорезмийцев кажется вероятным и несколько иное истолкование его назначения, чем просто наус — костехранилище. Ю.А. Рапопорт показал, что погребальный обряд был тесно связан с культом предков, особенно убедительно обосновав свои выводы на материале предшествовавшего античного периода — эпохи существования статуарных оссуариев, воспроизводивших фигуры обожествленных предков, сливавшихся в представлениях живых с образами хтонических божеств — Сиявуша и Анахиты (Рапопорт, 1971, с. 81–83). В зданиях такого типа или перед ними могли совершаться ритуальные церемонии, о которых имеются сведения в письменных источниках и которые, возможно, воспроизведены на токкалинских и гяуркалинских оссуариях в сценах оплакивания покойного (табл. 9, 19–21; 10, 5, 7). Кстати, в обоих случаях оплакивание происходит на фоне какого-то здания с широкой дверью (на токкалинском оссуарии). Портал с дверью в глиптике и нумизматике Переднего Востока являлся, как полагают, символом храма божества (Goldman, 1965, p. 307–309), причем со временем дверь стали передавать схематично, прямоугольником, подобно тому как она показана на токкалинском оссуарии[4]. При этом если роспись на последнем передает реальную сцену оплакивания усопшего, то на оссуарии из Гяуркалы воспроизведены, по мнению исследователей, последовательные ритуальные действа, тесно связанные с праздником поминовения умерших, сливавшимся с культом умирающей и воскресающей природы (Ягодин, 1970, с. 140–142; Толстов, 1948, с. 203; Рапопорт, 1971, с. 115–117), упоминание о котором имеется в труде Бируни (Бируни, 1957, с. 255). Росписи на оссуариях сделаны клеевыми красками по алебастру с использованием красного, черного, голубого и других цветов. Они просты и, видимо, близки жанровой, бытовой живописи (Пугаченкова, Ремпель, 1982, с. 116). Помимо общего для оссуариев из обоих некрополей сюжета — сцены оплакивания, в них много сходных орнаментальных мотивов, а рисунки насыщены символикой. Следовательно, расписные и другие изображения на оссуариях — ручки в виде животных и птиц — имеют определенное значение для познания не только искусства раннесредневекового Хорезма, пока еще очень мало известного, но также и верований населения. Они тем более важны, поскольку памятники монументального искусства этого периода истории Хорезма пока еще не выявлены и предметы прикладного искусства являются потому первостепенным источником для исследования указанных сторон жизни хорезмийского населения в VII–VIII вв. н. э. Постепенное накопление материалов показывает, что и в этом отдаленном районе Средней Азии в рассматриваемый период были распространены те же иконографические образы, что и в других областях этого обширного региона. Мы встречаемся со сходной символикой, понимание которой значительно облегчается исследованием сюжетов пенджикентской росписи и скульптуры. Самыми популярными из распространенных в это время в Хорезме образов были птицы — петух и павлин. На деревянной печати из Якке-Парсана в клюве павлина — венок (табл. 5, 8). Этот образ восходит еще к эпохе эллинизма и претерпел известную эволюцию на протяжении многих столетий (Неразик, 1963, с. 13–14, рис. 7). Павлин, петух — символы, связанные с почитанием солнца и одного из наиболее популярных божеств хорезмийского пантеона — Митры, образ которого мог сливаться с образами легендарного героя и предка ряда среднеазиатских династий Сиявуша и Анахиты (Рапопорт, 1971, с. 101; Ягодин, Ходжайов, 1970, с. 130, 134). Вместе с тем с культом Анахиты связывают и другой, прошедший сложную эволюцию образ — четверорукой богини. Четверорукое божество выступает на оттисках печатей из Тешиккалы и за́мка 4 Беркуткалинского оазиса (Толстов, 1948, табл. 54), оно изображено на хорезмийских блюдах, где восседает на льве или тахте (Даркевич, 1976, табл. 26, 1–5) (табл. 9, 11–13). О популярности данного божества в раннесредневековой Средней Азии свидетельствуют сюжеты пенджикентских росписей и монументальное искусство Уструшаны (Беленицкий, 1973, с. 45; Негматов, 1984, с. 162). Полагают, что этот иконографически устойчивый образ был выработан уже в эпоху поздней античности. Семантика его сложна, поскольку в нем слились и индийские, и греко-римские, и местные черты. Образ прошел ряд этапов космогонического и эпического развития (Пугаченкова, Ремпель, 1982, с. 134, 141–142). С.П. Толстов отождествлял четверорукую богиню с древней Анахитой и видел в появлении этого образа свидетельство индо-буддийских влияний в Хорезме (Толстов, 1948, с. 142). А.М. Беленицкий в связи с интерпретацией отдельных сюжетов пенджикентских росписей полагал, что этот образ мог олицетворять водную стихию (Беленицкий, 1973, с. 45), но подчеркивал и его отношение к астральным культам, указывая на символику эмблем солнца и луны, с которыми часто изображалась эта богиня (Беленицкий, 1959, с. 53–61). Насыщенность изображений на оссуариях Хорезма астральными символами имеет и другое объяснение: существует предположение, что это символы Анахиты — богини плодородия, покровительницы водной стихии, благополучия (Рапопорт, 1971, с. 83; Ягодин, 1970, с. 130–131). Прочтение надписей на оссуариях и осмысление указанной символики привели также к выводу о популярности в Хорезме Фарна — божества, олицетворявшего богатырскую силу, могущество, почитание царской власти (Ягодин, 1970, с. 135–137). Поклонение Фарну (Хварне) проявлялось не только в погребальной символике, но и в именах на монетах и в надписях, например, Шаушафар — «обладающий фарном» (Ягодин, 1970, с. 137). Археологически засвидетельствовано почитание огня в Хорезме VII–VIII вв. Судя по раскопкам дома 115 в Беркуткалинском оазисе, в стране продолжалась традиция строительства святилищ огня в виде однокамерной купольной постройки. Примерно треть небольшого помещения внутри этого здания (4,2×4,2 м) была занята низкой вымосткой из сырцовых кирпичей, на поверхности которой, как и на стенах, отмечены следы интенсивного горения. Помещение (табл. 9, 7, 8) было сплошь заполнено гарью, золой, пеплом (Неразик, 1966, с. 90–91). Домашняя часовенка — святилище огня — располагалась под донжоном Тешиккалы на территории за́мка. Она отличалась очень мощными кирпичными стенами, внутри по периметру помещения шла канавка, окружавшая возвышение, где горел огонь. С.П. Толстов сравнивает эту планировку с храмом огня в Шапуре (Толстов, 1948, с. 142). Есть предположение, что и в донжоне Тешиккалы также было культовое помещение, связанное с почитанием огня (Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973, с. 33). Культовые помещения открыты теперь в Безымянном за́мке и в одной из секций застройки городка возле Аязкалы 2. В первом находилась довольно высокая кирпичная выкладка с необожженной поверхностью (постамент?), а рядом на полу — пятно от огня с ямками, заполненными пеплом, видимо, от переносного жертвенника огня. В другом случае пол помещения уступами поднимался к торцевой стене с неглубокой нишей, перед которой находилась также неопаленная, но низкая кирпичная выкладка, а ниже, против нее — пятно от огня. Похоже, что в этих помещениях огонь возжигался перед изображением какого-то божества. Однако традиция мелкой антропоморфной пластики почти совершенно иссякает в это время (правда, коррективы могут внести раскопки городов). Теперь изготавливаются почти исключительно фигурки животных — лошадки, верблюды, бараны. Единичные антропоморфные фигурки воспроизводят совсем другие образы, весьма важные для исследования этнической истории данного периода. Так, маленькая каменная статуэтка (табл. 5, 15) из верхних слоев за́мка Якке-Парсана резко отлична от хорезмийских терракот античности, с их длинными складчатыми одеяниями, и скорее напоминает бал балов алтайских степей (Неразик, 1987, с. 113–121). Другая фигурка из Большой Кырккызкалы, терракотовая, также погрудная, многими стилистическими особенностями близка к искусству степняков, но не оседло-земледельческих районов Средней Азии (Мешкерис, 1962, с. 107). Видимо, в среде хорезмийского населения, особенно на окраинах страны, продолжают сохраняться древние языческие культы, например, идолопоклонничество, свидетельством чему является крупный алебастровый раскрашенный идол, обнаруженный на городище Шахсенем (Рапопорт, 1958, рис. 6). Говоря о верованиях населения Хорезма в VII–VIII вв., нельзя не остановиться на интересной гипотезе С.П. Толстова о проникновении сюда христианства. Основанная на исследовании письменных источников о наличии колонии христиан в Ургенче в IX–X вв., она получает теперь подтверждение более ранними материалами. Так, В.Н. Ягодин обнаружил на восьми оссуариях из некрополя Миздахкана своеобразные композиции из креста, звезд и полос листьев, находящие соответствие в христианском изобразительном искусстве (Ягодин, 1970, с. 146). Это обстоятельство послужило основанием для предположения, что в наусе (а в нем открыто не менее 100 оссуариев) захоранивались члены довольно значительной христианской общины (Ягодин, 1970, с. 148). Гипотезу вряд ли пока можно считать достаточно убедительной, но она не лишена вероятности, тем более что в двух случаях на короне одного из правителей Хорезма конца VII в. или начала VIII в. изображен тот же самый крест, что и на миздахканских оссуариях. К тому же на одной из монет перед лицом правителя помещена надпись «hwt’w» (термин, обозначавший земельную знать) — явление необычное для хорезмийской чеканки данного времени (Вайнберг, 1977, с. 84, табл. X). Следует ли считать случайными отмеченные моменты? Думается, что они отражают реальные события в стране, где, может быть, на короткий срок к власти приходили правители-христиане. Что же касается столь распространенного в южных районах Средней Азии, например, в Тохаристане, буддизма, то следует признать, что пока в нашем распоряжении нет достоверных свидетельств существования этой религии в раннесредневековом Хорезме, хотя какие-то, пока неясные, индо-буддийские веяния смутно прослеживаются в стиле некоторых произведений искусства, предшествовавшего и рассматриваемого периодов (Толстов, 1948, с. 199–200).Кердер.
Кердер — область, расположенная в дельте Амударьи и именуемая некоторыми исследователями «Северным Хорезмом». Представляя, судя по нумизматическим материалам, удельное владение в составе страны и будучи тесно связанной с собственно Хорезмом в экономическом и культурном отношении, эта область отличалась большим своеобразием. Исследование археологических памятников Кердера позволило выделить весьма самобытную культуру, получившую название кердерской. Она прошла в своем развитии два этапа — раннекердерский (VII–VIII вв.) и позднекердерский (IX–X вв.) (Ягодин, 1963, с. 8). Прежде всего следует отметить три основных условия, которые способствовали формированию этой культуры. Первое условие — особый хозяйственно-культурный тип, сложившийся в правобережной части низовий Амударьи, района, по своей физико-географической характеристике существенно отличавшегося от Хорезмийского оазиса. Это была сильно увлажненная зона, густо поросшая тугайной растительностью, пересеченная многочисленными переплетающимися протоками. Все это помогало развитию здесь комплексного скотоводческо-земледельческо-рыболовно-охотничьего хозяйства, причем земледелие могло быть только каирным и вряд ли являлось основой хозяйства. Комплексность хозяйства, его нерасчлененность тормозили развитие ремесел, в частности гончарства, уровень которого был неизмеримо более низким, чем в Хорезме: здесь не пользовались гончарным кругом, посуду обжигали в кострах (Гудкова, 1964, с. 76). Широкие археологические исследования памятников Устюрта позволили установить, что в составе его населения были полуоседлые группы, занимавшиеся неполивным и примитивным поливным земледелием в сочетании со скотоводством (преобладало разведение крупного рогатого скота), и полукочевые — с отгонным скотоводством. В Кердер эти последние возвращались на зимовку. Изучение «стреловидных планировок» — своеобразных ловушек для диких животных — подчеркнуло большую роль охоты в хозяйстве кердерцев. Сделано важное наблюдение, что на Устюрте имелись определенные охотничьи территории для населения различных областей Приаралья: Кердера, Джетыасаров и «болотных городищ». Там открыты святилища (Дуана 1, 2; Сумбетимералан-куркреук и др.), где происходили специальные общеплеменные ритуалы с возжиганием ритуального огня, закланием жертвенных животных и ритуальными трапезами (Ягодин, 1992, с. 31–32, 50–52, 56–57 и др.). В таком обществе устойчиво сохранялись пережитки родового строя и патриархально-родового быта. Вторым условием, лежавшим в основе формирования кердерской культуры, стала иная этническая среда, нежели в соседнем Хорезме (или Южном Хорезме). Установлено, что в VII в. в низовья Амударьи переселилась часть племен, обитавших в Джетыасарском урочище на нижней Сырдарье, и в результате сложных этнических процессов здесь и сложилась культура, отнюдь не тождественная джетыасарской. В ней отмечаются элементы, позволяющие предполагать какие-то этнические контакты населения области с обитателями «болотных городищ» в низовьях Сырдарьи и носителями культуры Каунчи (Гудкова, 1964, с. 82–83; Левина, 1971, с. 223 и сл.). Третье условие — взаимоотношения собственно Хорезма и Кердера, с преобладающим влиянием первого. Несомненно, что в политико-административном отношении они составляли одну область, судя хотя бы по тому, что ибн Хордадбех при перечислении податных округов Арабского халифата называет уплачиваемый ими харадж общей суммой (Ягодин, 1963а, с. 67). Выявлен чекан Кердера, и есть основания полагать, что в отдельные периоды эта область могла иметь преобладающее политическое влияние в стране, а ее правитель мог узурпировать трон хорезмшахов. Возможно это случилось в 711–712 гг. (Гудкова, Лившиц, 1967, с. 6). Изучение тамг и корон на монетах правителей Кердера позволило выдвинуть версию, что население области вышло из племенного объединения кангаров — кенгересов (Вайнберг, 1973, с. 115). Исследование археологического материала показало, что культура обитателей Кердера, безусловно, развивалась под сильным воздействием культуры Хорезма. Мало того, есть веские основания предполагать, что на территории Кердера осуществлялась хорезмийская колонизация и основывались небольшие хорезмийские колонии купцов и ремесленников, чьими руками и изготавливались аналогичные хорезмийским крупные сосуды — хумы, хумчи, а также водоносные кувшины, фрагменты которых постоянно встречаются при раскопках кердерских поселений. Из Хорезма были восприняты, по-видимому, зороастризм и специфический обряд погребения в оссуарных некрополях, а также хорезмийский язык, использовавшийся в качестве письменного. Разговаривали же кердерцы, как отметил позже побывавший здесь Якут, на своем языке, не хорезмийском и не тюркском (МИТТ, т. I, с. 141). Население Кердера отличалось от хорезмийцев и антропологически (Ягодин, Ходжайов, 1970, с. 245; Ходжайов, 1973, с. 65, 78–79). Сформировавшаяся в этих условиях кердерская культура характеризуется большим своеобразием[5]. Прежде всего на территории Кердера нет ни за́мков, ни укрепленных усадеб, столь характерных для раннесредневекового Хорезма. Основным типом расселения здесь являются обширные поселения, выраставшие возле укрепленного первоначального ядра (Хайванкала, Курганчакала, Куюккала, Токкала). Они имеют неправильные очертания, разрастаясь за счет стихийного оседания полукочевого населения вокруг центрального укрепления. В условиях увлажненной дельты, там, где это было возможно, поселения располагались на возвышенностях. Например, самое крупное из них, Куюккала, превышавшее по площади 41 га, выросло вокруг двух разновременных цитаделей на возвышенности Кусханатау (табл. 11, 1). Раскопками одной из них вскрыты участок крепостной стены, а также окружавшего ее неширокого рва и несколько жилых помещений. Внутри крепостной стены заключался плоскоперекрытый коридор, сообщавшийся с удлиненно-овальными башнями по углам. Жилые помещения не отличались от хорезмийских: их стены также огибали суфы, посредине находились очаг на выкладке или же просто кострище. На территории поселения обнаружены следы незначительных по масштабу железоплавильного и бронзолитейного производств, а также остатки гончарных печей, где обжигалась посуда хорезмийского облика — хумы и водоносные кувшины. Живой иллюстрацией полуоседлого образа жизни населения является кирпичное основание юрты, открытое на территории Куюккалы (табл. 11, 4). Курганчакала, расположенная в 18 км к востоку от современного районного центра Каракалпакии Тахтакупыра, также складывалась вокруг самого древнего на этом поселении округлого центрального укрепления площадью 4 га. На двух углах его сохранились остатки башен, примыкавших к крепостной стене. Поселение отличалось регулярностью планировки и четко делилось центральной и боковыми улицами на четырехугольные кварталы. Площадь раскопанного квартала превышала 2000 кв. м; здесь вскрыты 22 помещения (табл. 11, 3). Центральная улица подводила к монументальному сооружению с цилиндрическим помещением (внутренний диаметр 6,6 м). Оно сопоставимо с мавзолеями, характерными для населения присырдарьинских районов джетыасарской культуры (Ягодин, 1973, с. 22). Четкость и симметричность планировки центральной части Курганчакалы, а также стратиграфические данные показывают, что строительство велось единовременно и по заранее задуманному плану. Восточнее этого укрепления, впритык к нему, располагался другой укрепленный участок площадью 6 га. В его северной части находился большой открытый двор, а южную занимала сплошная застройка, где вскрыто 29 помещений, объединявшихся в семь комплексов. Планировка жилых комнат, включенных в каждый из них, характеризовалась наличием суф из сырцовых кирпичей, вдоль одной, двух или трех стен, небольших тандыров, открытых кострищ. Южная часть Курганчи (около 2 га) представляла собой пониженное незастроенное пространство (Ягодин, 1970, с. 55–58). Чрезвычайно важно, что к югу от Курганчи простиралась обширная зона со сплошными выходами культурного слоя, изобиловавшего монетами, крицами и шлаками, но без следов стационарных сырцовых жилищ. Видимо, это была зона оседания полукочевого населения (Ягодин, 1963, с. 9–10). Сходным образом формировалась и Хайванкала, отождествляемая с главным городом области — Кердером (Толстов, 1948а, с. 190; Ягодин, 1963а, с. 67–69). Так же, как и в Курганчакале, в ней выделяются укрепленная часть с регулярным планом и большое неукрепленное поселение, выросшее за пределами укрепления к югу и превышавшее его по площади. Укрепленная часть (400×500 м) делилась центральной улицей на две половины, причем каждая состояла из девяти кварталов шириной 36–40 м (Ягодин, 1981, с. 79–80, рис. 1). Эта регулярность плана сближает укрепление хайванкалы с планировкой древнейшей части таких оседло-земледельческих центров, как Бухара, Хива и другие, возрождая древнюю схему некоторых городов Востока и Средней Азии. Такая планировка, несомненно, может свидетельствовать о предпринятой в данной местности централизованной градостроительной деятельности, возможно связанной с влиянием Хорезма. Токкала, расположенная на холме Токтау невдалеке от Нукуса и широко известная благодаря сделанным там замечательным находкам, состояла из нескольких разновременных частей. Вершина холма занята античным укреплением (последние века I тысячелетия до н. э. — первые века н. э.), на востоке к нему примыкало укрепленное поселение VII–VIII вв. площадью 110×85 м. На южном склоне видны остатки неукрепленного поселения IX–X вв., перекрывшего раннесредневековое. В северной части восточного склона находился некрополь площадью 4 га (табл. 11, 2). На поселении VII–VIII вв. вскрыто несколько совершенно одинаковых изолированных двухкомнатных секций, очень похожих на жилые секции беркуткалинских усадеб. В каждую из них входили жилое и хозяйственное помещения. Первое — с П-образной суфой, очагом-выкладкой в центре и тандыром на суфе; хозяйственное — с ямами и закромами. В одной из комнат обнаружен клад из 410 бронзовых монет Хосрова (начало VIII в.), перечеканенных по монетам Азкацвара I (Чегана), и нескольких железных предметов. Помимо типа расселения, другой яркой особенностью кердерской культуры является керамика. Сделанная без круга, но профессионалами-ремесленниками, использовавшими для формовки сосудов подставку, она включает ряд четко выработанных форм. Это крупные двуручные сосуды типа хумов и хумчей, двуручные столовые горшки, кувшины с широким туловом, кружки, немногочисленные чаши (табл. 11, 17–27, 30, 32–37, 39–46). Упомянем также курильницу (табл. 11, 31), вазу-трипод (табл. 11, 38), подставки под вертел. Сосуды часто украшали прочерченным и налепным орнаментом по тулову и венчику (Гудкова, 1964, с. 57–85). Большинство из них обнаруживает близкое сходство с керамикой из Джетыасарского урочища (на третьем этапе развития местной культуры, датированном VII–VIII вв.). Это сходство и привело к выводу о переселении какой-то части джетыасарцев в дельту Амударьи (Гудкова, Ягодин, 1963, с. 267; Левина, 1971, с. 242). Однако полного совпадения обоих керамических комплексов нет, что позволяет предположить участие в формировании кердерской культуры и иных этнических компонентов. Заканчивая обзор археологических материалов IV–VIII вв. н. э. из Хорезма, следует указать, что этот период в истории страны является важным этапом в этногенезе ее населения, когда закладывались основы средневековой общности — народности, сыгравшей столь существенную роль в этнической истории Приаралья. В VII–VIII вв. здесь уже формируются многие черты культуры, получившие развитие в последующие столетия и в видоизмененном виде дожившие до наших дней, в первую очередь типы расселения и жилища, т. е. те формы, которые в большей степени, чем другие, связаны со стабильным хозяйственно-культурным типом. Так называемая афригидская культура раннесредневекового Хорезма складывалась в тесном взаимодействии с окружавшими государство северными и северо-восточными районами. В ней прослеживаются и общесреднеазиатские черты — появление за́мков, распространение сходных предметов быта и вооружения, что можно связывать, как уже говорилось, со сходными путями экономического развития и торговыми контактами. Однако близость культур Хорезма и Северо-Восточного Приаралья вряд ли можно объяснить только этими моментами. Большую роль тут должны были сыграть этнические связи, ибо только тогда понятно смешение различной по происхождению посуды на всей этой обширной территории и появление в Хорезме посуды гораздо худшего качества, чем собственно хорезмийская из дельты Амударьи. Можно не сомневаться, что та этническая среда, которая наложила столь отчетливый отпечаток на афригидскую культуру (во всяком случае, в VIII в.), должна была быть связанной с печенегами и огузами, сыгравшими впоследствии важную роль и в истории хорезмийского государства, и в формировании населения Приаралья и соседних районов. Не случайно огромные поселения огузов открыты в среднем и нижнем течении Сырдарьи, где они и должны были находиться согласно описаниям многих арабоязычных авторов.Глава 3 Согд (В.И. Распопова, Г.В. Шишкина)
Политическая история.
Согд — центральная область Средней Азии. Основными землями Согда были территории в долине р. Зеравшан с центром в Самарканде. В более широком понимании в Согд включались и владения Кеш и Нахшеб в долине р. Кашкадарьи. Наряду с Самаркандским Согдом источники упоминают Бухарский, который, видимо, зависел от Самаркандского в начале VII в. (Мандельштам, 1954, с. 83). Распространение согдийского языка, письменности и культуры не ограничивалось этой территорией. В первой половине VII в. китайский путешественник Сюань Цзян отметил, что все земли от города Суяба на р. Чу до Кеша именовались Согдом и там говорили на согдийском языке (Beal, 1906, p. 26). Здесь, безусловно, речь идет не о политических границах Согда, а о пределах массового расселения согдийцев в Средней Азии. Начавшийся еще в древности процесс согдийской колонизации земель к северо-востоку от собственно Согда наиболее интенсивно проходил в раннем средневековье.
Карта 3. Согд. а — крупный город; б — многослойный город; в — средний город; г — за́мки и крепости. 1 — Самарканд; 2 — Косимкурган; 3 — Дуньетепе; 4 — Мугтепе; 5 — за́мок на горе Муг; 6 — Гардани Хисор; 7 — Кала-Мирон; 8 — Фильмандар; 9 — Батуртепе; 10 — Пенджикент; 11 — Чухкурган; 12 — Чимкурган; 13 — Тали Адай; 14 — Кеш; 15 — Карши; 16 — Еркурган; 17 — Варахша; 18 — Пайкенд; 19 — Бухара; 20 — Кафыркала; 21 — Талибарзу.
Территориально близкие к Согду Уструшана и Чач особенно тесно были с ним связаны. Обширные согдийские колонии находились в долинах рек Чу и Таласа, где еще в XI в. сохранялся согдийский язык. Во всех этих районах происходило взаимодействие согдийской культуры с местными. Согдийская письменность в эпоху раннего средневековья имела широкое распространение как в землях, где говорили по-согдийски, так и там, где господствовали другие языки. Известны согдоязычные легенды на монетах Хорезма, Тохаристана, Ферганы, не говоря уже о Чаче, Уструшане и Семиречье. Согдийский язык был языком международного общения, что объясняется как широкой торговой и колонизационной деятельностью согдийцев, так и их важной ролью в административном аппарате тюркских каганатов (Бернштам, 1940; Кызласов 1959; Кожемяко, 1959; Распопова, 1960, 1973; Кляшторный, 1964; Лившиц, 1981; Маршак, Распопова, 1983). Согдийские колонии известны на территории Восточного Туркестана, Центральной Азии и Западного Китая. Они различны по своему характеру — от целых владений до отдельных деревень. Много согдийцев жило в городах Восточного Туркестана и Китая (Henning, 1948; Чугуевский, 1971). Сведения об истории раннесредневекового Согда содержатся в письменных источниках на нескольких языках. Китайское посольство, посетившее Среднюю Азию в середине V в., упоминает государство со столицей в Самарканде. В китайских источниках идет речь также о том, что во второй половине IV в. в некоем государстве Судэ, по-видимому Согде, захватили власть кочевники, причем можно думать, что речь идет о хионитах (Enoki, 1955). Правление основанной ими династии, видимо, продолжалось в первой половине V в. Из государства Судэ, а после 479 г. из государства Самарканд регулярно направлялись в Китай посольства. После 510 г. посольства шли уже из государства эфталитов. Вероятно, все эти посольства представляли собой прежде всего торговые караваны согдийских купцов, а разные их наименования связаны с изменениями в политическом статусе Согда. К 510 г. можно отнести окончательное завоевание Согда эфталитами, центр государства которых находился южнее (Enoki, 1959; Маршак, 1971). В 60-е годы VI в. эфталиты были разгромлены тюрками и Ираном. Согд вошел в состав первого тюркского каганата, сохраняя, однако, внутреннюю автономию. Создание тюркского каганата сыграло большую роль в развитии согдийской торговли. Тюрки проникали в согдийскую среду. Известны династийные браки между тюрками и согдийцами, правители согдийских княжеств тюркского происхождения (Лившиц, 1960, 1979а), археологические свидетельства пребывания тюрок на территории Согда (Спришевский, 1951). В середине VII в. согдийские княжества стали фактически независимыми, номинально признавая суверенитет танской империи. Согд делился на несколько владений. В письменных источниках упоминаются в Самаркандском Согде, кроме Самарканда, Кобудан, Иштихан и Мамург, в долине Кашкадарьи Кеш и Нахшеб. Все эти владения в какой-то мере зависели от Самарканда. В Бухарском Согде, кроме самой Бухары, упомянуты еще Пайкенд и Вардана (Бичурин, 1950, С. 281–282). Во второй половине VII в. после завоевания Ирана арабы начали наступление на Среднюю Азию, и в том числе на Согд (Большаков, 1973, с. 143–162). В начале VIII в. арабы подчинили согдийские княжества, но власть их была непрочной. Происходили восстания, которые арабам трудно было подавлять. В результате почти непрерывных войн с 719 по 739 г. страна пришла в глубокий упадок. В середине VIII в. после новой череды восстаний начинается процесс массовой исламизации и участие местной знати в управлении халифатом. В 70-е годы VIII в. Мавераннахр снова поднялся на борьбу под предводительством Муканны. После подавления этого движения здесь окончательно утвердился ислам.
История изучения.
Археологическое изучение Согда началось еще в 70-е годы XIX в., когда были проведены первые раскопки на городище Афрасиаб в Самарканде (Якубовский, 1940а; Шишкин, 1969а; Кадыров, 1975). Работы дореволюционных исследователей, как и раскопки 20-х годов, не выделили слоев раннего средневековья из мощных доисламских наслоений. Однако были собраны богатые коллекции раннесредневековой керамики, терракотовых статуэток и оссуариев (Веселовский, 1890, 1917; Кастальский, 1909). Терракоты и особенно оссуарии стали предметом специального изучения (Trever, 1934; Бартольд, 1966а, б; Иностранцев, 1907, 1907а, 1908). Вторым направлением исследования стало изучение исторической топографии, которое основывалось прежде всего, на данных письменных источников (Tomaschek, 1877). В этой области особенно велики заслуги В.В. Бартольда, который показал на современной карте княжества, города и селения, каналы, торговые пути эпохи раннего средневековья (Бартольд, 1963, с. 114–237; 1965, с. 185–209). Интерес к археологии Согда резко возрос после 1933 г., когда в за́мке на горе Муг в верховьях Зеравшана были найдены согдийские документы начала VIII в., большая часть которых принадлежала к архиву пенджикентского правителя Деваштича (Согдийский сборник, 1934). В 1934 г. экспедиция во главе с А.Ю. Якубовским провела большие разведочные работы в Бухарской области (Якубовский, 1940). В 1936 г. Г.В. Григорьев и И.А. Сухарев обследовали окрестности Самарканда и начали раскопки на городище Тали-Барзу в 6 км от него. Раскопки Тали-Барзу заложили фундамент относительной хронологии Согда, а для периода раннего средневековья отчасти и абсолютной (Григорьев, 1940). Из выделенной Г.В. Григорьевым свиты слоев нас интересуют три последних — ТБ IV–VI. Одновременно с раскопками Тали-Барзу И.А. Сухаревым исследовалось городище Кафыркала, где обнаружены погребальные постройки (наусы) и гончарные печи, синхронные таковым слоя ТБ V (Григорьев, 1946, с. 94–103). Слои датировались Г.В. Григорьевым следующим образом: ТБ IV — II–I вв. до н. э.; ТБ V — VI–VII вв. н. э.; ТБ VI — конец VII — начало VIII в. н. э. В своих работах, особенно в кандидатской диссертации, он на основе четкой стратиграфии выделил археологические комплексы, которым дал подробную характеристику (Григорьев, 1940, с. 88–103). Для центральной части Самаркандского Согда эти комплексы до сих пор остаются эталонными. Однако абсолютная хронология, предложенная Г.В. Григорьевым, сразу же после ее опубликования была подвергнута критике (Толстов, 1946а, с. 173–177; 1948, с. 86; Тереножкин, 1939, с. 186–191; 1947, с. 128 и сл.). Работы А.И. Тереножкина на Афрасиабе, в Пенджикенте и на Актепе близ Ташкента позволили ему пересмотреть абсолютные даты слоев Тали-Барзу. Слой ТБ IV был отнесен к V–VI вв., ТБ V к VI — началу VIII в. (Тереножкин, 1950, с. 161). А.И. Тереножкин впервые выделил комплекс второй половины VIII в. на Афрасиабе (Тереножкин, 1950, с. 162, рис. 69). Работы С.К. Кабанова в Кашкадарьинской области, охватившие целый ряд памятников, подтвердили новую датировку ТБ IV. Следует отметить, что памятники долины Кашкадарьи, относящиеся к поздней древности и раннему средневековью, неоднородны. Наиболее близок к Самаркандскому Согду по архитектуре и материальной культуре за́мок Аултепе, где хронология А.И. Тереножкина подтверждена нумизматическим материалом (Кабанов, 1958, с. 150 и сл.). Другие памятники долины Кашкадарьи, хронологически близкие Аултепе, значительно отличаются от самаркандских (Кабанов, 1977, с. 90–93; 1981, с. 89, 91; Исамиддинов, Сулейманов, 1981, с. 91 и сл.). В Бухарском Согде эталонным памятником является городище Варахша, раскопки которого были начаты В.А. Шишкиным в 1937 г. и продолжались с перерывами до 1954 г. (Шишкин, 1963). Здесь первые найдены памятники согдийского монументального искусства. На городище Варахша исследовались раннесредневековые дворец, цитадель и городская стена. Удалось выделить постройки конца V–VI в.; VII — начала VIII в.; второй половины VIII в. Эти периоды приблизительно синхронизируются с тремя верхними слоями на городище Тали-Барзу. В 1936–1940 гг. небольшие раскопки на городище древнего Пенджикента были проведены В.Р. Чейлытко. С 1946 г. начинаются широкие и планомерные исследования города. Они ведутся сначала Согдийско-Таджикской, а затем Таджикской археологической экспедицией под руководством А.Ю. Якубовского. Многолетние раскопки Пенджикента, продолжающиеся и по сей день (с 1954 г. под руководством А.М. Беленицкого) охватили около двух третей территории древнего города. Особую известность Пенджикенту принесли памятники монументального искусства (настенная живопись, резное дерево, глиняная скульптура). Здесь получены обширные материалы по социальной топографии города, ремеслу, торговле и денежному обращению (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973; Беленицкий, Маршак, Распопова, 1979, 1980, 1981; Смирнова, 1963, 1981). В Пенджикенте разработана детальная хронология — керамическая шкала для периода от V до третьей четверти VIII в. По стратиграфии и находкам выделены следующие периоды: V в.; рубеж V–VI вв.; VI в.; VI — начало VII в.; середина VII в.; рубеж VII–VIII вв.; первая четверть VIII в.; 40-50-е годы VIII в.; 70-е годы VIII в. (Маршак, 1964, 1965; Большаков, 1964; Ставиский, 1964; Зеймаль Е., 1964; Распопова, 1969). Пенджикент стал наиболее изученным городом эпохи раннего средневековья на территории Средней Азии. Сопоставление с Пенджикентом позволяет понять значение разрозненных частных данных, полученных на других городищах. Работы А.И. Тереножкина 1945–1948 гг. на Афрасиабе сыграли важную роль в развитии среднеазиатской археологии (Тереножкин, 1947, 1950), они были продолжены специальной экспедицией по изучению Афрасиаба, которую в 1958–1966 гг. возглавлял B. А. Шишкин, затем Я.Г. Гулямов и Ш.С. Ташходжаев, а с 1977 г. Г.В. Шишкина[6]. Раннесредневековые слои, главным образом VII–VIII вв., были открыты на разных участках городища. Наибольший интерес представляет жилой квартал, расположенный в центре городища. В нескольких домах этого квартала обнаружены настенные росписи VI–VII вв. В одном из залов живопись замечательно сохранилась и сопровождается надписями, имеющими важное историческое значение (Шишкин, 1966;Лившиц, 1965, 1975а, 1977; Альбаум, 1975). В небольших городках Самаркандского Согда, городища которых известны под названиями «Кульдортепе» и «Чилек», были произведены раскопки (Ставиский, Урманова, 1958; Ставиский, 1960а; Маршак, Крикис, 1969). В исследованиях раннесредневекового Согда преобладает городская археология, но и здесь значительные площади раскопаны всего лишь на двух памятниках — Пенджикент и Афрасиаб (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973). В сельской местности в той или иной степени исследовано несколько за́мков: Актепе близ Пенджикента (Исаков, 1977б, с. 565–566). Батуртепе к востоку от Пенджикента (Мандельштам, 1956а, с. 57–59). Фильмандар (Исаков, 1979, с. 50–51), Калаи-Мирон и Куджраха (Исаков, 1977а, с. 48–50), за́мок на горе Муг (Васильев, 1934, c. 18–32; Якубовский, 1950, с. 24–25. табл. 5, 1, 2; Воронина, 1950, с. 190). Кафыркала близ Самарканда (Шишкина, 1961, с. 192–222; 1977, с. 67), Бад-Асия (Шишкина, 1963, с. 87–109) и др. Велись работы по обследованию сельских памятников Самаркандской области (Ростовцев, 1975), изучалась округа Самарканда (Бурякова, 1979). Исследовалась цитадель Пенджикента (Исаков, 1977). В Калаи-Муг на р. Магиан Б.Я. Стависким раскопан трехкомнатный крестьянский дом V в. (Ставиский, 1961а, с. 101–102, рис. 1). Большие работы по изучению согдийской деревни проводятся Ю. Якубовым. Целиком раскопана резиденция феодала с примыкавшим к нему поселением крестьян (Якубов, 1979; 1979а). Именно раннесредневековые памятники определяют археологический ландшафт земель, некогда входивших в состав Согда. Хотя на многих памятниках имеются более ранние и более поздние слои, заметнее всего остатки мощных крепостных стен и цитаделей городов, селений и за́мков раннего средневековья. Поэтому можно судить о размерах даже тех городов и селений, которые не раскопаны или почти не раскопаны. Основываясь на этом, О.Г. Большаков составил таблицы размеров городов и привел планы шахристанов и цитаделей доисламских городов и нескольких крупных селений (Большаков, 1973, с. 182–190).Типология населенных пунктов.
Разработка типологической схемы населенных пунктов осложняется невозможностью строгого понимания памятника без достаточно широких раскопок. Первая попытка систематизировать археологические памятники Согда была предпринята И.А. Сухаревым в 1936 г. (Сухарев, 1935–1936, с. 16–24). Им выделены четыре основных типа поселений: кешки, «бесформенные» поселения, укрепления и тепа. Автор осознавал несовершенство своей предварительной схемы, но не смог вернуться к этой теме, так как погиб в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы внимание исследователей больше привлекали вопросы стратиграфии и культурно-исторических связей. Было отмечено существенное типологическое различие в составе памятников разных частей долины Зеравшана — Бухарской и Самаркандской — со сравнительным единообразием бухарских городищ с высоким за́мком и более низкой площадкой — поселением (Кабанов, 1958, с. 146 и сл.). Более подробное рассмотрение археологических объектов Самаркандского региона обнаруживает гораздо большее их разнообразие. Населенные пункты Согда типологически делятся на четыре группы, внутри которых по топографическим, структурным или планировочным особенностям выделяются их виды. К первой группе относятся города: 1 — столичный город; 2 — значительных размеров укрепленный населенный пункт с четко выделенным административно-фортификационным центром — цитаделью (табл. 12, 1, 8, 9); 3 — неукрепленный, с цитаделью (с регулярной и с аморфной застройкой). Ко второй группе относятся неукрепленные поселения: 1 — у подножия за́мка или крепости (табл. 12, 5, 6); 2 — без каких-либо оборонительных сооружений, аморфные в плане. К третьей группе относятся крепости — регулярные по плану укрепления с незастроенным внутренним пространством (плац) и за́мком (табл. 12, 3, 4, 7). К четвертой группе относятся сельские усадьбы: 1 — за́мок домовладельца — кешк с прилегающим двором на разновысоких стилобатах (табл. 12, 2); 2 — за́мок-кешк, отдельно стоящий, подсобная застройка не выделена в рельефе. Первым в типологический ряд следует поставить столичный город, роль которого на всем протяжении истории этой части долины играл Самарканд, занимавший в V–VI вв. площадь около 75 га, а в VII в. опять достигший размеров древнего города — 219 га. Шахристан Бухары составлял около 34 га, цитадель Бухары — 3,5 га. Сравнительно небольшой город Пенджикент имел шахристан площадью 13,5 га. Города и многие селения Согда были укреплены, имели цитадели, обширные некрополи. Вокруг городов, помимо пригородов, располагались усадьбы. Город крупного масштаба, хотя и значительно уступавший по площади Самарканду, располагался на расстоянии почти 100 км от него. Здесь, возможно, была до сих пор не найденная археологами Кушания. Хотя местность сейчас не имеет ярко выраженного рельефа, но разброс средневековой керамики на поверхности позволяет определить территорию обживания примерно в 120 га, площадь же раннесредневекового города неизвестна. Входившие в сферу влияния Самарканда города занимали значительно меньшие площади — не более 20 га в пределах городского укрепления (табл. 12, 8, 9). Неукрепленное поселение, разросшееся у основания древней крепости, со временем могло приобрести статус города, примером чему может служить Кумышкент, расположенный в 19 км к северу от Самарканда (он же Бердад по средневековым источникам). Меньше всего материальных следов оставили рядовые неукрепленные и нерегулярные в плане селения. Их обилие в археологической литературе несколько преувеличено, так как за поселение часто принимается либо сельская усадьба, либо дворовая часть за́мка. О согдийских крепостях эпохи средневековья пока можно сказать немногое, поскольку они почти не изучались. Возможно, в предарабское время продолжали функционировать крепости, возведенные в предшествующую эпоху. Известны мощные квадратные в плане укрепления, окруженные широким и глубоким рвом, стенами с тремя или четырьмя башнями по фасаду с небольшим за́мком в углу и незастроенным пространством двора: Кафыркала, Культепе в Самаркандской области (табл. 12, 4, 7) и Аксачтепе в Бухарской (Абдиримов, 1979, с. 79–83). В V–VI вв. распространяются маленькие крепостцы — квадратный кешк, усиленный далеко выступающими угловыми башнями (табл. 13, 2). Сооружение настолько компактно, что пространство между башнями меньше башенного фасада и воспринимается как глубокая ниша. Судя по Актепе Чиланзарскому в Ташкенте, такие же крепостцы, но с овальными башнями, строились и в Чаче (Филанович, 1983, с. 115, 117). В наибольшем количестве до наших дней дошли памятники в виде отдельно стоящих холмов и так называемых тепе с площадкой. Это остатки сельских усадеб землевладельцев социально-экономического ранга. Сам дом (кешк) ставится на глинобитную платформу, а рядом с ним располагается двор со службами. В зависимости от того, возводились ли подсобные постройки на платформе (значительно более низкой, чем сам дом) или у подножия кешка, руины усадьбы приобретали форму округлого холма или возвышенности с прилегающей к ним более низкой площадкой. И те, и другие сельские усадьбы могли быть разных размеров, но вторые всегда значительнее (табл. 12, 2). Среди отдельно стоящих тепе, в значительном количестве ныне уничтоженных, могли быть и культовые и погребальные постройки. Известны пенджикентские наусы, дошедшие до нас в виде небольших холмов. Наусом оказался такой же холмик близ южного фаса городища Дурмен (в 19 км к западу от Самарканда).Историческая топография городов.
В первые века н. э. в судьбах многих городов происходят существенные изменения, наблюдается явный упадок городской жизни, наиболее выразившийся в особенностях городской топографии. Процесс этот, повсеместный, растянувшийся на длительное время, изучен неравномерно. Исследователи далеко не единодушны в оценке социально-экономического состояния общества в период III–IV вв. н. э. Б.И. Маршак, принимая сам факт кризисного состояния Среднеазиатского региона в это время, считает его несинхронным для разных областей (Маршак, 1987, с. 235). По-видимому, ни один из крупных центров не избежал кризисной ситуации. В Самарканде, на территории городища Афрасиаб это фиксируется организацией большого некрополя на месте прежних кварталов в юго-западной части города, а вслед за тем и возведением мощных городских укреплений, состоящих из двух рядов крепостных стен, сопровождаемых двумя кольцами рвов. Новая оборонительная линия включала только треть прежней городской территории, и за ее пределами остался упомянутый некрополь. Сокращение размеров города обусловилось оттоком горожан. Причем синхронное появление в сельской местности значительных по размерам за́мков определяет социальную принадлежность оставивших город жителей как землевладельцев довольно высокого ранга. Социально-экономические причины этого явления нельзя сводить к простому постулированию разложения рабовладельческого строя и становления феодализма. Надо думать, что они отражают изменения в структуре общества, характер которых предстоит еще исследовать. Вопреки утвердившемуся мнению о стабилизации Самарканда в пределах двойного кольца стен вплоть до арабского завоевания (Анарбаев, 1984, с. 212) археологические работы показали интенсивный рост города в VI–VII вв. Уже в VI в., опять во взаимосвязи с жизнью города, происходят изменения в структуре сельских за́мков, приведшие если не к полному исчезновению, то к сильному сокращению их числа. Становится ненужным двухкольцевое укрепление, и за его пределами заново отстраиваются большие массивы жилых кварталов, для чего уничтожаются постройки некрополя, который переносится к подножию внешней стены, на запад от городища. Квартал гончаров IV — первой половины V в. на восточной окраине города оказывается теперь здесь неуместным и прекращает свое существование. Собственно город в VII в. занял всю территорию Афрасиаба. Рост города был приостановлен арабами, когда они выселили самаркандцев за его пределы. В 60-е годы VIII в., по возвращении изгнанников, вновь осваиваются заброшенные дома, но уже не прежними их владельцами, а людьми иного, более низкого социального статуса. Дробятся на более мелкие жилые блоки дома знати, парадные залы приспосабливают для хозяйственных нужд, вкапывая в полы и суфы хумы, устраивая в них очаги и тандыры. Развитие Самарканда привело к сложению четырехчастной четко организованной структуры города: цитадель, внутренний город, внешний город, рабад, в общей сложности занимавшие немногим более 2000 га. Эта величина, вычисляемая из соотношения цифр, указанных источниками, с реальными площадями, соответствует территории, заключенной в пределы оборонительной системы, ныне полностью уничтоженной, Девори Кундаляк. Эта древняя стена округи, по всей видимости, не ограничила роста пригородов, и не позднее VIII в., но, возможно, еще до арабского завоевания, пригород приобрел двухчастную структуру благодаря сооружению, помимо уже существовавшей Девори Кундаляк, еще одной окружной линии обороны — Девори Киёмат, охватившей территорию, с селениями, садами и посевами, не менее 20 тыс. га. Поперечник этой стены средневековыми арабоязычными авторами определялся в два фарсаха, что соответствует периметру Девори Киёмат (около 25 км), еще и сейчас местами сохранившейся в виде вала. Исследования Девори Киёмат не позволили уточнить время ее возведения, но очевидно, что стена выполняла свои оборонительные функции в течение длительного времени, реконструировалась и подновлялась. На юге раскапывалось мощное двухбашенное сооружение ворот. Двух- или трехэтажные, поставленные на высокий цоколь башни возведены на расстоянии 3 м одна от другой. Между ними через двойные ворота (у внешнего и внутреннего фасадов башни) осуществлялся вход в пригород (Анарбаев, 1981, с. 119–130). Для раннего средневековья особенно показательна структура Пенджикента, поскольку он возник в V в., тогда как Самарканд, Бухара и другие города во многом сохранили свою древнюю структуру. Укрепленный шахристан Пенджикента отделен от мощной цитадели широкой и глубокой ложбиной. К югу располагался некрополь в виде цепочки мавзолеев-наусов, а с востока и юго-востока город окружали небольшие усадьбы (табл. 13, 1). Центральносогдийский город второго ранга — нынешнее городище Дурмен (табл. 12, 9), — основанный в период после походов Александра Македонского в 19 км к западу от столичного Самарканда, в первые века н. э. имел с ним общую судьбу. От первоначальной городской территории площадью 27 га отпали северный и западный участки. Раннесредневековый город приобрел прямоугольные очертания и занял площадь уже только 19 га. У подножия новых городских укреплений на северном и западном фасах широкие ложбины (быть может, рвы) уничтожили древнюю городскую застройку. На месте отмерших участков древнего города и за его пределами строятся пригородные усадьбы. Сходная судьба у городов и крупных поселений Бухарского Согда. Трудно сказать что-либо о самой Бухаре этого времени. Однако отмеченный археологами факт отсутствия оборонительных сооружений на бухарской цитадели в промежуток между концом I тысячелетия до н. э. и IV в. н. э., когда укрепления первых веков до н. э. затягиваются надувным песком, свидетельствует о серьезных изменениях в жизни города. В Варахшинском оазисе в первые века н. э. происходят большие перемены. На значительных площадях перестают возделываться орошаемые земли, в результате чего начинается наступление песков. Перестают поддерживаться оборонительные сооружения Варахши, и они начинают постепенно разрушаться. Башни крепостных стен используются как жилые помещения. Песок засыпает окрестные поля, ров и подножия городских стен. Пройдет длительное время, прежде чем город экономически окрепнет и в V в. восстановит свою обороноспособность. Возможно, только с IV в. Варахша обретает черты города. (Существует предположение, что поначалу это была крепость.) Структура города необычна: центр укрепленного подтреугольного пространства занимает высокий холм, в основании имеющий пахсовую платформу и окруженный широким рвом. Пока неизвестно, когда начали застраивать пространство между внутригородским рвом и городской стеной. Около второй половины IV в. вдоль южного фаса сооружается мощная цитадель, включающая за́мок-кешк и прилегающую к его подножию площадку, занятую дворцом бухарских правителей — бухархудатов и дворцовыми службами. В раннем средневековье с момента, когда вновь активизируется жизнь Варахши (V в. н. э.), в городе постоянно реконструируются и ремонтируются оборонительные сооружения, цитадели, дворцовые здания. Интенсивная строительная деятельность продолжается и в период борьбы согдийцев с арабскими завоевателями и миссионерами новой религии. Сохраняется структура предполагаемой крепости, однако меняется характер застройки. Укрепленный за́мок в центре городища осваивается горожанами, а на южном фасе возле оборонительной стены возводится цитадель. Город-крепость становится городом-резиденцией бухархудатов. В округе радиусом 1,5–2 км располагались за́мки землевладельцев и возделанные земли, им принадлежавшие. Историю крупного купеческого города Бухарского Согда — Пайкенда (табл. 12, 1) ученые рассматривают как последовательное развитие от небольшой (1 га) крепости III в. до н. э. до городской цитадели. На следующем этапе роста населенного пункта возле цитадели, прилегая к ней, появляется возвышенная площадка (Мухамеджанов, Мирзаахмедов, Адылов, 1984, с. 83). В V в. Уже развившееся поселение оформляется как город возведением вокруг него крепостной стены (первый шахристан, около 13 га). Рост города, вскоре (в конце V — начале VI в.) стесненного границами оборонительной линии, потребовал расширения укрепленной зоны. Строится новая городская стена. Таким образом, возникает второй шахристан, и город разрастается до 20 га. Схема простая, однако в свое подтверждение требующая дополнительных исследований. Стена, разделявшая оба шахристана, существовала еще в 715 г., когда арабами, как сообщают источники, была взята половина города. Микрорельеф этой части городища и археологические исследования показывают, что к последней трети VIII в. сохранились лишь два отрезка стены, а значительная часть ее была уже разрушена и на ее месте возведены постройки, в числе которых было квадратное здание VI–VII в. со стороной около 15 м, интерпретированное как химическая лаборатория (Мухамеджанов, Мирзаахмедов, Адылов, 1986, с. 210–220). Еркурган — городище неподалеку от Карши в низовьях Кашкадарьи — определяется как столица Боло владения Нашеболо (средневековый Нахшеб). Состоит из двух шахристанов. Внутренний шахристан имеет абрис неправильного пятиугольника, стены которого возведены в середине I тысячелетия до н. э. Стена была окружена широким рвом. Один из пяти углов разросся в широкий массив и назван исследователями бастионом (Туребеков, 1982, с. 36–43), к северному фасу стен примыкает цитадель, а несколько западнее расположен дворец. Во внутреннем шахристане около двадцати бугров, вытянутых, скрывающих жилые массивы, и компактных (под ними следует ожидать отдельно стоящие здания). На центральной городской площади располагался храм, а сравнительно недалеко от него — квартал керамистов. Внешний обвод городских стен был сооружен в связи с разрастанием городской территории в V в. н. э. На северо-западе внешнего города, возле улицы, соединявшей городские ворота, в особом квартале обосновались металлисты, на специализацию которых указывают следы горнов, обломки кричного железа и заготовки в виде железных кругов.Фортификация.
V век отмечен интенсивным градостроительством. В древних городах заново отстраиваются оборонительные стены и цитадели. В качестве строительного материала используется преимущественно пахса. Восстанавливается утраченная к тому времени обороноспособность Самарканда. На Афрасиабе возводится новая мощная оборонительная система из двух рядов монументальных стен с двумя глубокими рвами у подножия. Стены выкладывались из пластов пахсы, содержащей большое количество керамики предшествующего времени. Наиболее уязвимые южные ворота, оказавшиеся в связи с сокращением городской территории на месте старых кварталов, были защищены дополнительными оградами. Быстрое развитие города в последующее столетие не сумело целиком поглотить столь мощные сооружения, отнимающие у городской территории большие пространства. Они и сейчас отчетливо видны в сложном рельефе городища. Одновременно со строительством новых стен обновляется фортификация цитадели, несколько изменяя конфигурацию ее кешка. Наслоения предшествующего времени были снивелированы и перекрыты пятиметровой пахсовой подушкой. Приближаясь к квадрату в плане, с овальными угловыми башнями, кешк цитадели имел изломанную линию восточного фасада и дополнительные башни, защищающие въезд у северо-восточного угла. Помимо основных ворот, раннесредневековый кешк имел выход в сторону массива, занятого впоследствии соборной мечетью, в связи с постройкой которой он, возможно, и появился. Из центра кешка к подножию южной его стены вел подземный выход, служивший для вылазок и, надо думать, замаскированный снаружи. От внутренней планировки кешка сохранились квадратный зал и связанный с ним коридор. Стены зала покрывала сюжетная живопись, сохранившаяся в малых фрагментах. Помимо мощной двухрядной обороны, с VII в. оказавшейся внутри городской застройки, на Афрасиабе внутри города существовало еще одно крепостное сооружение, дополнительно укреплявшее центральную часть города и одновременно наиболее уязвимые южные ворота. Долго остававшееся спорным время возведения этого дополнительного укрепления определяется несколькими моментами. Подстилающие слои содержат характерные для IV — первой половины V в. красноангобированные вазы на высокой ножке (Анарбаев, 1984, с. 209–211, рис. а, б, в). На одном из участков пахсовые кладки третьего укрепления перекрывают стены домов центрального квартала. А ранние кладки укрепления прорезаны бадрабами и ташнау IX–XII вв. и перекрыты слоями того же времени. Все это подтверждает мысль о возведении третьего укрепления Афрасиаба арабами вскоре после захвата ими Самарканда (Массон М., 1950, с. 162). Исследователи Бухары предполагают двухчастную структуру ее шахристана, включавшую два самостоятельных укрепленных массива в виде смежных прямоугольников площадью 8-11 и 7–8 га. Стены шахристана построены не ранее второй половины V в. н. э. Северная стена города, прослеженная на протяжении 36 м, стоит на пахсовом цоколе высотой 60 см и сложена из пахсы с включением сырцовых кирпичей (32–50) × 19 × (9-11) см. Южная стена северного шахристана поставлена на такой же цоколь, до высоты 3,5 м она сложена из сырцового кирпича (40–43) × (23–25) × (8-10) см, а выше — из пахсы с включением кирпича (Мухамеджанов, Мирзаахмедов, Адылов, 1986, с. 98–113). Ромбовидная в плане цитадель Бухары возведена на естественном холме площадью около 2 га. Раскопками выявлены разновременные стены, наиболее ранние из которых, построенные в первые века до н. э., перекрыты тонкой прослойкой надувного песка, послужившей основанием для укрепления стен сооружения во второй половине IV–V в. н. э. Как и в Пенджикенте, цитадель Бухары выведена за пределы собственного города, на расстояние 120 м от шахристана (Мухамеджанов, Мирзаахмедов, Адылов, 1986, с. 98–99, 113). Укрепления Варахши периода раннего средневековья хотя и следуют ранней (первые века до н. э.) линии обороны, но построены уже после полного ее разрушения, когда даже руины первых городских стен были перекрыты культурными наслоениями. Новые стены, которыми отмечено в V в. начало возрождения города после длительного упадка, представляли собой пахсовую ограду менее 1,5 м толщиной. Вскоре она была усилена пахсовой же облицовкой. И только по прошествии некоторого времени возводятся мощные фортификационные сооружения, включившие в себя стену предшествующего времени (Шишкин, 1963, с. 110, рис. 49) и фланкированные башнями через каждые 30 м. Видимо, в это время (VI в.) сооружается новая цитадель. Стены ее, поставленные на высокое (15 м) пахсовое основание, оформлены сомкнутыми полуколоннами — гофрами диаметром 1,6 м, обработанными горизонтальными желобками, создающими впечатление кладки из дисковидных блоков. Разделка же желобками наклонных плоскостей основания имитировала крупноблочную кладку. Так же гофрами оформлены фасады прямоугольных башен, по крайней мере прилегающих к цитадели. Здесь между гофрами сохранились следы ложных бойниц. Возле дворца к городской стене пристраивается башня, от которой сохранилась так называемая южная анфилада, представляющая собой внутреннее устройство цокольного этажа, включенного в общую систему городской обороны. Вход сюда вел из коридора или с вершины городской стены по кирпичной лестнице во всю ширину одного из помещений. Все четыре комнаты анфилады, вероятно, служили кардегардией, чем и объясняется найденное здесь скопление, около 30 наконечников стрел (Шишкин, 1963, с. 53–54). Дальнейшая судьба фортификации Варахши сводилась к многочисленным ремонтам, которые проводились до той поры, пока в XII в. (?) укрепления не утратили своего оборонительного значения (Шишкин, 1963, с. 85–88). В Еркургане на всей протяженности внешнего кольца стен через каждые 60 м возвышаются двух-трехметровые холмики башен. Периметр внутренних укреплений составляет около 2 км. В юго-восточном углу возвышается бастион (Туребеков, 1981). К северному фасу в северо-восточном углу города примыкает цитадель (Туребеков, 1982). Стены внутреннего города через каждые 20 м фланкированы 60 выступающими башнями. Трое ворот располагались к северу и западу от бастиона и на южном фасе стены. Оборона усиливалась рвом. Городское укрепление внутреннего обвода заново возводилось, видимо, не ранее IV в. на пахсовом цоколе шириной более 24 м, перекрывшем древние сооружения. Укрепление состоит из коридора, заключенного между фланкированной полукруглыми башнями внешней кирпичной стеной (ширина 1,7 м) и внутренней пахсовой (ширина 1,5 м). Башни шириной 8,5 м выступают от линии фасада на 6 м. В куртине обнаружена бойница шириной 30 см. Сырцовый кирпич стены в большинстве случаев помечен клеймом в виде креста или знака «V». От последнего фортификационного строительства сохранилась только закладка упомянутого коридора характерным для V–VI вв. приемом с чередованием рядов кирпича и прослоек пахсы. Внешний обвод укреплений возник позднее внутреннего, одновременно с одной из реконструкций последнего, возможно в V в. Внешняя стена шириной 8 м, возведенная из полос пахсы высотой более 1 м, фланкировалась полукруглыми башнями диаметром 8 м, расстояние между башнями 60 м. Возможность обстрела со стены и из башен увеличивалась изломанностью оборонительной линии. Цитадель Еркургана IV–V вв. возведена на руинах древних укреплений комбинированной кладкой из разноформатного кирпича ((41–48) × (30–38) × (9-10) см) и пахсы, превращенной в стилобат. Размеры кирпича обнаруживают тенденцию перехода от квадратного формата к продолговатому и еще не утратили признака эллинистического времени — клейма. Сама стена (быть может, более поздняя, чем платформа) была выстроена из пахсы, имела внутренний коридор и фланкировалась прямоугольными башнями шириной 7,5 м, выступавшими за периметр стены на 4,5 м, с куртинами длиной 22 м. Прямоугольные помещения башен сообщались с коридором. В северной части цитадели возле городской стены располагался небольшой кешк, представлявший собой двухэтажное здание. Стены его в нижней части состоят из пахсы, вверху — из квадратного и приближающегося к квадратному сырцового кирпича (47×47×10, 50×47×10 см). Нижний этаж перекрывали своды, выложенные из трапецеидального кирпича (49–51) × (31–33), (21–25) × (9-10) см. В сводах использовалась расклинка обломками крупных сосудов (Туребеков, 1982, с. 51–60). В Тали-Барзу (периоды II, III) как цитадель, так и внешняя стена снабжены частыми прямоугольными башнями с многочисленными бойницами, расположенными в шахматном порядке. В Пенджикенте центральное здание и внешняя стена цитадели и ранняя стена шахристана (V в.) имеют такие же частые башни и короткие куртины. Для V в. мы знаем в Согде несколько за́мков в виде отдельно стоящих зданий с прямоугольными башнями. Самые маленькие из них (Фильмандар) имели четыре угловые башни и два помещения на первом этапе в центральном квадрате. В одной из башен фильмандарского за́мка был размещен пандус для подъема в помещения верхних этажей. Бойницы как в за́мках, так и в крепостных стенах городов обычно прямоугольные. На усадьбе Актепе близ Пенджикента прослежен рост за́мков, которые через какое-то время обстраивались еще одним рядом помещений с такими же башнями, а первоначальные башни и промежуток между башнями в результате превращались во внутренние помещения. В эпоху раннего средневековья укреплялись не только селения и города, но и отдельно стоящие дома, по-видимому принадлежавшие землевладельческой знати. Это явление засвидетельствовано уже для первых веков н. э. В Пенджикенте в VI–VII вв. наблюдаются значительные изменения в системе фортификации (Маршак, 1975; Семенов, 1983). Более ранние стены перестраиваются. Теперь стена не имеет многочисленных бойниц и частых башен. В VI в. возводится новая стена на востоке и на юге, захватывающая ранее не укрепленную территорию. Для VII в. характерны массивные пахсовые стены (Пенджикент, Тали-Барзу V). К этому времени относится донжон на цитадели Пенджикента. Массивные стены без бойниц в нижней части и на сплошных стилобатах характерны и для архитектуры цитаделей селений VII в., крепостей и усадеб (Актепе близ Пенджикента, Кафыркала). Весь Бухарский оазис был окружен крепостной стеной, известной под названием «Кампирак», аналогичной самаркандской Девори Киёмат (Бурякова, 1979, с. 120–126). Время возникновения их остается неясным. В.А. Шишкин относил бухарскую стену к периоду между IV и VII вв.; большие строительные работы на этих стенах были проведены арабскими наместниками во второй половине VIII в. (Шишкин, 1963, с. 16, 30, карта).Жилая застройка города. Жилища.
Жилая застройка города может быть охарактеризована на примере Пенджикента. Пенджикент — памятник многослойный, поэтому рассмотрим историю его застройки. Город с цитаделью, храмами и крепостной стеной сложился уже в V в. Наиболее ранние жилища относятся к концу V — началу VI в., но ни одно из них не раскопано полностью (Маршак, 1964, с. 184–191). Насколько можно судить по двум жилищам на объекте XII, в то время не было сплошной застройки территории города. Расстояние между двумя исследованными домами 14 м. Отдельные дома имели массивные фасадные стены (около 2 м толщиной) и тонкие внутренние перегородки (помещения площадью от 3 до 10 кв. м). В первой половине VI в. начинает складываться сплошная застройка блоками из примыкающих друг к другу жилищ. Целиком исследовано одно жилище, и частично раскопками затронуты еще шесть. Первоначально все они были одноэтажными, но еще на протяжении VI в. над ними возводят вторые этажи, в одном из домов устроены сводчатые помещения. В жилище, исследованном полностью, было шесть комнат площадью от 7 до 15 кв. м (Маршак, 1964, с. 192–198). Участок, на котором находился этот дом, занимал 90 кв. м. В двух жилищах небольшие комнаты, площадью 8 и 9,5 кв. м, имели перекрытия на четырех колоннах. Высота помещений первого этажа 1,8–2 м. К VI в. относится самое раннее жилище с росписью (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1980а, с. 216–219). Оно находится на территории, вошедшей в состав города около рубежа V–VI вв. (объект VI). Отдельные стены этого дома сохранились включенными в толщу стен более поздних помещений. В отличие от более поздних высоких комнат с живописью здесь высота стен от пола до потолка около 2 м. В этом жилище следы росписи сохранились и на остатках стены второго этажа. К первой половине и середине VII в. относятся только отдельные помещения, раскопанные на объектах XII и VII. В двух из них прослежены деревянные колонны с профилированными базами. Следует отметить, что к этому же времени относится ювелирная мастерская (объект XII), представляющая собой изолированное от жилых комнат помещение (Распопова, 1969). На объектах XXIII и XXIV целиком исследованы жилища, относящиеся ко второй половине и концу VII в. Это двухэтажные дома, входившие в кварталы сплошной застройки. Они принадлежали лицам разного социального статуса. Это как небольшие дома из трех комнат, так и обширные постройки с залами, украшенными росписями, на первом и втором этаже (табл. 20, 3). Таким образом, пенджикентское жилище с V по VII в. претерпело значительные изменения. Ранние городские дома по своим масштабам и по простоте конструкции были гораздо скромнее домов второй половины VII–VIII в. Самые ранние из исследованных домов сохраняли черты отдельных усадеб. В VI в. уже наблюдается сплошная застройка в некоторых кварталах и рост города «в высоту» — появляются верхние этажи. Это свидетельствует о том, что земельная собственность была уже распределена и для увеличения площади дома в связи с ростом семей приходилось строить вторые этажи. Город возник на новом месте, и для достижения уровня урбанизации античных городов Средней Азии ему понадобилось не менее 100 лет. На протяжении VI–VII вв. складываются те элементы жилой застройки, которые мы наблюдаем в их совокупности в городе первой четверти VIII в. Это поквартальная застройка, увеличение этажности, а также выделение парадных залов, аналоги которых в рядовых жилищах служили, очевидно, и просто жилыми помещениями, украшение частных домов росписью и выделение специализированных лавок-мастерских. На первую четверть VIII в. в Пенджикенте приходится строительство дворца Деваштича, большого количества богатых и рядовых домов, многочисленных лавок и мастерских, составлявших целые базары. К этому же времени относится широкое распространение росписей и резного дерева, причем росписи есть в домах людей разного достатка и даже в рядовых домах. Вся исследованная жилая застройка первой четверти VIII в. выполнена, за редким исключением, технически на одном и том же уровне. Дома отличались друг от друга числом и размерами комнат. В Пенджикенте не было лачуг бедноты, что свидетельствует о зажиточности горожан Согда. В 20-е годы VIII в. город был разгромлен арабами и пришел в запустение. Около 740 г. вернувшиеся жители восстанавливают свои жилища по-старому, часто с живописью и с изображениями языческих богов; некоторые дома строят заново. В отдельных домах помещения с росписью не восстанавливаются, а в других, напротив, расписывали целые залы. Однако город не достиг уровня первой четверти VIII в. В нем появились пустыри на месте базаров, многие дома стояли в развалинах. В третьей четверти VIII в., видимо с исламизацией населения, намеренно уничтожаются росписи и домашние алтари. В это время жилища знати пустеют или превращаются в рядовые дома. К концу третьей четверти VIII в. происходит окончательное запустение города. Таким образом, прослеживается развитие жилой застройки рядового согдийского города от начала и до конца его существования на протяжении всего раннесредневекового периода. При исследовании жилищ разного времени выявлены их переделы, связанные с теми или иными причинами. В некоторых случаях это можно связать с разделением семьи или с продажей дома по частям. Наблюдаются иногда сложные переделы, охватывающие до трех домовладений. Наибольший интерес с точки зрения социальной истории представляет присоединение к дому богатого горожанина жилища его рядового соседа. Пенджикентские жилища наиболее изученного времени (первой четверти VIII в.) дают прекрасный материал для выяснения социальной стратификации согдийского общества. Очень четко выделяются крупнейшие жилища земельной и купеческой аристократии и скромные жилища «работников» (ремесленников и мелких торговцев). По характеру помещений и их декору к жилищам знати близки достаточно многочисленные дома значительно меньшей площади. Основная часть этих домов, видимо, принадлежала землевладельцам и купечеству среднего достатка. На территории шахристана выделяются из общей застройки два дома, которые по размеру и составу помещений могли быть частью дворца правителя Пенджикента. Это — жилище, занимающее северо-западную часть объекта XVI, и объект XXI. Объект XXI расположен позади второго храма, а северная часть объекта XVI выходит на улицу, проходящую вдоль южной ограды первого. Площадь, занятая основным домовладением объекта XXI, 1142 кв. м, тогда как домовладение на объекте XVI занимало около 2100 кв. м (табл. 18, 1–5). Отметим, что вся территория окруженного стеной шахристана не превышала 13,5 га. Каждый из этих домов в плане делился на функционально различные части: первая — сравнительно небольшое жилище из нескольких помещений на первом и втором этаже (сюда включены и кладовые); вторая — парадная часть с квадратным (или прямоугольным с прямоугольной же апсидой) залом, коридором перед ним, помещением с пристенным очагом-алтарем и одной-двумя дополнительными комнатами; третья — выходящие на улицу лавки и мастерские (табл. 18, 2), построенные вместе с остальными частями дома, но не сообщающиеся с внутренними помещениями. Кроме этих трех частей, имеется четвертая, расположенная между входом и парадной частью. Ее функции менее очевидны. На объекте XXI в нее входят многоколонный зал площадью 177 кв. м и примыкающие к нему помещения, а на объекте XVI — зал площадью 250 кв. м и большой двор (площадью около 280 кв. м). Для сравнения отметим, что тронный зал во дворце Деваштича имел площадь около 250 кв. м. Именно дополнительные большие залы сверх обычных для богатых домов парадных залов являются наиболее специфической чертой двух самых обширных домовладений. Эти залы и двор могли служить для многолюдных собраний. Некоторые помещения четвертой, внешней части домовладения играли роль кухонь, а другие, по-видимому, роль «людских» для слуг. Три домовладения площадью 575–800 кв. м менее богаты. В них жилая и парадная части такие же, как в самых богатых, но отсутствуют дополнительные залы. В следующую группу домовладений Пенджикента первой четверти VIII в. входят семь домов. Площади их 330–350 кв. м. У них, как правило, меньше парадная часть. Самые маленькие парадные залы с живописью имеют площадь всего 30 кв. м. К ряду домов этой группы примыкают торгово-ремесленные помещения, не сообщающиеся с внутренними комнатами дома. Жилища рядовых пенджикентцев в плане представляли собой более или менее упрощенный вариант структуры (табл. 19, 1–4; 20, 1–5) богатых домов. В первой четверти VIII в. рядовое домовладение занимало среднюю площадь около 60 кв. м, хотя были и дома размером в полтора раза больше. Парадные комнаты здесь обычно были одновременно и жилыми. Только в одном таком доме с тремя комнатами на первом этаже в специальной нише открыты следы живописи. Некоторые помещения снабжены четырьмя столбами, имитируя устройство парадных залов, но они гораздо меньше и лишены декора. Более или менее богатые жилища с живописью составляют около трети исследованных домовладений. На Афрасиабе разнообразный абрис массивов застройки обусловливался неспокойным рельефом городской территории. Но эти большие массивы рассекались ортогональной сетью улочек и переулков. Однако дома центрального квартала, построенные впритык друг к другу, располагались так, что все они (или почти все) были обращены в сторону улиц, ограничивающих квартал. Как и в Пенджикенте, квартал Афрасиаба включал дома людей разного социального ранга, но все они принадлежали более или менее зажиточным горожанам. Здесь есть жилище с относительно небольшим парадным залом, с длинным коридором — кулуаром и узкими хозяйственными помещениями. Чаще коридор имел Г-образный план и огибал парадный зал. Везде прослеживаются монолитные кладки, служившие основанием для пандусного или лестничного подъема на второй этаж. Стены залов, а нередко и кулуаров были покрыты росписью, в зале одного из домов сохранились следы деревянной резьбы. И здесь, как в Пенджикенте, в оформлении зала присутствуют резные женские фигуры. В небольшой комнате или в замкнутой части коридора устраивались пристенные очаги типа камина. Заглубленные в стену, они фланкировались глинобитными полуколоннами. Многие исследователи склонны считать их культовыми очагами (Ахунбабаев, 1987; Распопова, 1981, с. 132–133; Гуревич, 1981, с. 45–47). Для раннего средневековья известны переносные жаровни, тепло которых могло быть достаточным в гостинном зале во время многолюдной трапезы. Но единственным теплым помещением в доме была комната с очагом-камином. Традиция сооружения таких очагов сохранилась, по крайней мере, вплоть до монгольского нашествия, а в Ферганской долине и до наших дней. В этот квартал входил дом, плотно примыкавший к другим его строениям, но отличавшийся и планировкой, и просторностью, и наличием двух больших залов. Вход в дом был обращен на одну из магистральных улиц. Планировка его отличается обилием широких коридоров, огибающих компактную группу хозяйственных помещений, оба зала и еще одну (или две) изолированную комнату. Именно этот дом в публикациях получил наименование дворца самаркандских правителей. Стены его главного зала площадью 11×11 м были покрыты ставшей всемирно известной живописью (табл. 35, 1–4). Сохранность настенных картин, сочность их красок, официозность сюжетов и содержание поясняющей согдийской надписи показались некоторым исследователям достойными только верховного правителя (Альбаум, 1975, с. 118). Дворец согдийского правителя, построенный лишь на несколько десятилетий позднее того времени, когда расписывался афрасиабский зал, открыт на цитадели Пенджикента. Возведенный в период завоевания страны в цитадели маленького городка, при всех претензиях его строителя на помпезность, он вряд ли мог превосходить дворцовые сооружения столичного Самарканда. Тем не менее его приемный зал отличается масштабностью и такими особенностями планировки и устройства, которых ни в малой мере нет в описываемом доме. Живопись высокого мастерства в залах и кулуарах выделяет его из ряда прочих жилых построек. Очевидно дом принадлежал одному из богатейших и влиятельных горожан (Шишкин, 1966, с. 12), возможно крупному придворному чину.Дворцовые здания.
Предполагаемый дворец IV–V вв. открыт в Еркургане. Большой зал (13 м в стороне) через возвышенный глубокий айван был связан с двумя значительно меньшими помещениями, ограниченными с двух сторон узкими коридорами. Внешняя стена здания и одновременно большого зала возле пола через каждые 1,5–1,7 м прорезана узкими (10 см) вентиляционными щелями (табл. 14, 6). Стены неоднократно белились ганчем или окрашивались в красный цвет. В одном из помещений на высоте более 1 м от пола по побелке отбита горизонтальная красная полоса. Местами сохранилась побелка полов. Зал с глубоким айваном и усиленной вентиляцией мог служить для многолюдных приемов. Варахшинский дворец VII–VIII вв. располагался у подножия цитадели на площадке, отделенной от нее узким пространством, и вплотную прилегал к городской стене. Восстановить облик дворца хотя бы в один из периодов его жизни мешают многочисленные перестройки, существенно менявшие планировку здания (табл. 14, 5). Помещения разных размеров располагались по обе стороны широкого (4,5 м) коленчатого коридора, выводившего в обширный двор с монументальным айваном в его южном торце. Айван представляет собой уникальное для своего времени сооружение, открывавшееся во двор тремя арками: центральная пролетом шириной 7,75 м, боковые по 3,25 м. Арки опирались на кирпичные колонны двухметрового диаметра и на две пристенные полуколонны. Основанием колонн и полуколонн служили квадратные кирпичные плинты высотой 35 см, со стороной 2,25 м. В расчете на большие нагрузки под колонны подведены фундаменты, превышающие ширину плинта и углубленные на 2 м, с последовательной кладкой из сырцового кирпича, и из жженого на глиняном и алебастровом растворе. (В тот период стены возводились вообще без фундамента.) От колоннады айвана во всю его ширину во двор спускались четыре ступени. Полы айвана и двора устланы жженымкирпичом размером 35×35×6 см. Колонны и стены айвана (возможно, и двора) были покрыты сюжетной и орнаментальной резьбой по алебастру. Северную часть дворцового здания занимали три обширных зала (со сторонами 10 м и более). Два из них входами были обращены к входу во дворец, третье же помещение, более западное, выходило в коленчатый коридор. Сюда же выходили помещения южной, прилегающей к городской стене части здания. Южные залы (их было не менее пяти), несмотря на значительные переделки, сохранили часть своего внутреннего убранства. По меньшей мере три из них были украшены настенной живописью, от которой дошли до нас лишь нижние регистры трех-четырехъярусных композиций. Определяется культовое назначение зала теплого красно-желтого колорита с ритмичным повтором сцены нападения хищников и грифонов на слонов с наездниками. Пространство зала, вдоль стен окаймленного кирпичными лежанками — суфами, занято двумя возвышениями — подиумами. Следы огня на одном из подиумов, признаки деревянных конструкций на другом заставляют думать, что зал выполнял функции храма с постаментом для ритуальных предметов и, возможно, действ и подиумом для жертвенника с огнем. Назначение прочих помещений загадочно, но можно считать бесспорным, что пышно украшенный просторный айван предназначался для парадных официальных приемов. На цитадели Пенджикента, отделенной от шахристана глубоким рвом и окруженной крепостной стеной, находился дворец правителя (Исаков, 1977). Раскопана парадная часть дворца: тронный зал с нишей, парадные коридоры, айваны и три квадратных четырехколонных зала (табл. 17, 1, 2). О жилых помещениях дворца судить пока трудно. Дворец отличается от богатого жилища, во-первых, тем, что он расположен в системе оборонительных сооружений цитадели, во-вторых, особенностями организации пространства тронного зала, в-третьих, наличием нескольких одинаковых по архитектурно-планировочному решению залов.Культы и верования.
В домусульманском Согде существовало множество верований: фетишизм, поклонение огню, светилам, деревьям и всевозможным изображениям. Заметную роль в религиозной жизни Согда занимал буддизм, который утратил свое былое значение еще до прихода арабов. Монастыри были разрушены, а вера Будды была практически забыта местным населением. Сюань Цзян, посетивший Среднюю Азию за 100 лет до прихода туда арабов, писал, что в стране Кан (Согд) царь и народ не верят в буддизм и почитают огонь, здесь есть здания двух монастырей, но в них нет монахов. В начале VIII в. в Самарканде, по словам Хой Чао, был один монастырь с одним монахом. Арабские историки много писали о согдийских храмах, о богатствах, которые там находились. По словам Табари, Кутейба при покорении Самарканда приказал сжечь множество храмов. Отмечались также храмы в Рамитане — небольшом городке в окрестностях Бухары, в Пайкенде. В Бухаре храм находился в арке. Впоследствии на его месте была построена мечеть. А.М. Мандельштам на основании того, что день приношения в храм Самарканда совпадал с днем поминовения усопших, полагал, что сам храм был царской усыпальницей и центром династийного культа (Мандельштам, 1964, с. 272–273). Из храмовых сооружений Согда наиболее полно изучены пенджикентские храмы. Они являются более ранними и первыми городскими постройками и занимают середину окруженного первоначальной городской стеной участка плато. Храмы представляли собой сложный комплекс архитектурных сооружений, связанных с обширными дворами (табл. 31, 2, 3). Оба храма имели по два двора — внешний (восточный) и внутренний (западный). Главные храмовые здания находились во внутренних дворах. Они возведены на искусственной платформе с узким пандусным подъемом. Оба храма, построенные по единой схеме, представляют собой открытые на восток четырехколонные залы, соединенные проходом с целлой, примыкающей к айвану с запада. В первом храме в западной стене зала расположены две ниши для статуй. Зал и целлу с трех сторон окружали обходной коридор или открытые галереи. С востока к залу примыкал шестиколонный айван. Площадь двора замыкалась стеной или постройками различного назначения. Структурно пенджикентские храмы сопоставимы с храмами огня зороастрийцев Индии. Здесь также имеются камера для хранения огня и место, куда выносился огонь для церемоний (Беленицкий, Маршак, 1976; Шкода, 1986). В пенджикентских храмах открыто огромное количество живописных памятников. Среди росписей выделяются мифологические сюжеты, культовые сцены, в которых представлены боги, донаторы, сцены пиров, сцены оплакивания усопших, всевозможные процессии. Ритуал предполагал возжигание огня и поклонение изображениям богов. В Самарканде исследовались только молельни в частных домах, где сохранились росписи с культовыми сценами, культовые очаги, в которых во время церемоний возжигался священный огонь (Ахунбабаев, 1987, с. 10–21). На северо-западной окраине Бухарского оазиса в 1972–1975 гг. Р.Х. Сулеймановым исследовался бугор Сеталак I. Здесь выявлены долго функционировавшие культовые сооружения разного архитектурного облика (табл. 15, 1–7), последовательно сменявшие друг друга (Культура…, 1983, с. 66–98). Первое по времени святилище построено на небольшом естественном всхолмлении. В основании здания лежит невысокая (несколько выше 1 м) глинобитная платформа, перекрытая двумя рядами кладки из сырцового кирпича размером (40–41) × (40–41) × (9-10) см. Квадратное в плане здание площадью 17×17 м (возможно, кубическое по объему), ориентированное по странам света, состояло всего из двух разновеликих помещений (табл. 15, 2, 3). Узкий, сильно вытянутый входной проем прорезал середину южного фаса. По его сторонам располагались по две щелевидные прорези — вентиляционно-световой проем и глубокая ниша, имитировавшая такой же проем. Переднюю часть здания занимал зал с обширной глубокой нишей напротив входа, сконструированной двумя большими выступами типа антов. Вдоль задней стены зала, соединяясь с ним боковым проходом, вытянуто узкое помещение. Стены здания, как и анты, толщиной 1,6 м, слегка суженные кверху, сложены из рядов пахсы, прослоенных сырцовым кирпичом (39–41) × (39–41) × (9-11) см, и покрыты саманной штукатуркой. Во второй строительный период это небольшое кубическое здание было целиком перекрыто новыми кладками, образовавшими по его сторонам четыре полуовальные монолитные башни. Монолитный квадрат с полуовалами был окружен квадратом стены. С юга вновь устроенный пандус вел на возвышенную площадку, а коленчатый вход возле пандуса, к востоку от него, позволял войти в пределы ограды. Южная часть пространства в ограде была занята упомянутой возвышенной площадкой, противоположные ей углы занимали коленчатые помещения, оставляя место для обхода сооружения от восточного выступа — «башни» до западного (табл. 15, 4, 5). В платформе возвышенной площадки были устроены сводчатые помещения со входами из обводного коридора, а поверхность площадки разделена переборками на отсеки разных размеров. В последующее время (третий строительный период) все сооружение было забутовано и заложено и превратилось в единый монолит, к юго-восточному углу которого было пристроено многокомнатное здание (табл. 15, 6, 7). Еще во время функционирования постройки третьего периода в проходном помещении у входа в здание был разложен костер, куда попали фрагменты керамики и кости животных. В остывшую золу был положен скелет человека в относительном анатомическом порядке, но с отдельными костями вокруг черепа. Некоторые кости отсутствовали. Все это было перекрыто пластом глины. Этим захоронением явно предварительно очищенных костей заканчивается двух-трехвековая история святилища Сеталак. На протяжении всех трех периодов функционирования сооружения все его открытые и закрытые помещения постепенно заполнялись слоями золы и угля, в меньшей степени органики, горелого песка и горелых комьев земли, по мере накопления перекрывавшимися песчано-земляными прослойками. Именно этим процессом, приводившим к отмиранию, отдельных частей здания, видимо, и следует объяснять дважды осуществленное превращение вышедшей таким образом из обихода постройки в монолитное сооружение. Причем в первый раз это произошло в момент подъема и процветания здешнего культа. Последнее же строительство (третий период функционирования) отмечено признаками упадка. В процессе этой перестройки не разрабатываются сложные конструкции. Новое здание утрачивает всякую монументальность и не имеет четко продуманного плана. Особенности планировки всех трех последовательных сооружений, обилие зольных отложений и манера хранения золы тут же в помещениях определяются культовым характером построек Сеталак I. Определить культовую принадлежность святилища Сеталак вряд ли возможно. Большая роль огня, его почитание (бережное хранение остатков горения) еще не дают оснований относить эти особенности культа к зороастрийским верованиям. Судьба святилища, на протяжении III–V вв. н. э. стоявшего в отдалении от крупных населенных пунктов, по всей видимости, отражала социально-экономическое состояние сельского района с разбросанными усадьбами землевладельцев разного ранга. Созданный ими в III–IV вв., собственный религиозный центр, через какое-то время показавшийся малозначительным, был перестроен в эффектное по архитектуре монументальное здание. Четырехбашенное здание после длительного функционирования, в процессе которого зольники начали перекрывать оплывшие кладки стен, было реконструировано без существенных изменений в планировке. Но уже на следующем этапе, в V в., когда потребовалась новая реконструкция, возможности общины снизились и конструкция святилища была сильно упрощена — до простой платформы с подсобными помещениями у ее подошвы. Святилища иного рода, возможно и иной культовой принадлежности, открыты в том же бухарском и в среднесырдарьинском ареалах. Они также связаны с ритуалом возжигания огня, но, будучи включенными в планировку за́мковых и дворцовых зданий, представляют собой зал или глубокий айван с суфами по периметру и подиумом или двумя подиумами в центральном пространстве. Во дворце бухархудатов на Варахше святилище размещалось в ряду прочих залов напротив входа в здание. К нему вел широкий длинный коридор с глухими стенами. Противоположную от входа сторону зала занимал продолговатый прямоугольный подиум со следами некогда существовавших деревянных конструкций от легкого перекрытия над ним и каких-то более основательных в виде трех балок, уложенных горизонтально и выступавших (?) в сторону задней стены (табл. 14, 5). Б.И. Маршак рассматривает деревянную конструкцию несколько иного вида в храме Пенджикента как остатки устройства, приводящего в движение фигуры богов (табл. 31, 4), но это пока только предположение. Второй подиум особой формы, в виде овала со срезанной стороной, был устроен ближе к входу и несколько смещен в сторону относительно центральной оси. По краю он ограничен низким бортиком, на его поверхности следы огня. Если роль большого продолговатого подиума не ясна, то «полуовальный», очевидно, служил местом переносного жертвенника, типа тех, что теперь хорошо известны по росписям того же Варахшского дворца и Пенджикента, по сцене на оссуарии из южного Согда (Шишкин, 1963), встречаются в Гардани Хисор (табл. 13, 3) и в памятниках Чача (табл. 38, 1, 2; 41, 3, 13). Храмовый комплекс Еркургана расположен в центре города. Его составили два тесно связанных друг с другом здания. Построенные в первые века н. э., они продолжали действовать вплоть до VI в. н. э. Западное здание (около 50×50 м) раскопано лишь частично. Здесь обнаружено открытое в сторону восточного здания-святилища П-образное помещение с оштукатуренным ганчем алтарным подиумом из сырцового кирпича, фасады которого разделены лопатками и широкими нишевидными углублениями, а верхняя площадка облицована жженым кирпичом (Сулейманов, 1986, с. 109–110; 1987, с. 135–143). Восточное здание-святилище храма стоит на платформе из сырцового кирпича. Это большой продолговатый зал (15×7 м), вытянутый по поперечной оси, плоское перекрытие которого опиралось на две мощные колонны, сложенные из жженого кирпича. Основой колонн служили выложенные из кирпича квадратный плинт и «торовидная база». Оштукатуренные ганчем, они были выкрашены в красный цвет. На стволе одной из колонн изображены черные значки, на другой — две силуэтные фигуры в длинных одеждах с какими-то атрибутами, напоминающими трилистник, и с кольцом (вероятно, венком) в руке одного из персонажей. В один ряд с ними черной контурной линией нанесены рисунки алтаря и фантастической птицы. Стены зала прорезаны нишами разных размеров, в которых некогда размещалась ганчевая и глиняная скульптура, раскрашенная и отделанная позолотой. Поверхность стены, включая ниши, была покрыта сюжетной росписью по белой подгрунтовке. Возле северной стены напротив входа в святилище возвышался прямоугольный подиум алтаря, сложенный из кирпича и оштукатуренный ганчем. На его верхней плоскости есть следы огня и золы. В какой-то из периодов функционирования здание храма дало просадку и потребовало серьезного ремонта с возведением контрфорсов. Само святилище, многократно ремонтировавшееся подпорными стенами, уменьшилось более чем вдвое (до 7×6 м). К числу культовых предметов принадлежат чашевидные курильницы на высокой полой ножке, украшенные сетчатыми насечками, пунсоном, шиповидными налепами. Одна из наиболее парадных курильниц снабжена диском, отделяющим чашу от подставки, и тремя налепными личинами (табл. 16, 18). В большом количестве в храме найдены жаровни. Круглые (до 50 см в диаметре), ограниченные бортиком высотой 3–5 см, они таким же бортиком разделены на четыре сектора. Бортики оформлены зубцами-защипами, шиловидными налепами, а в одном случае на стыках перегородок помещены лепные головки животных, обращенные внутрь резервуара. Культовые постройки были обязательной принадлежностью раннесредневекового дома. Они, как правило, находились на втором этаже дома или рядом с интимными покоями (Распопова, 1981, с. 132–133). Домашние храмы и молельни имели различную структуру. Они могли включать одну или несколько комнат, что, видимо, обусловлено значимостью культа. В богатых домах Пенджикента хорошо выделяются капеллы (табл. 31, 1), в которых были алтари и изображения почитаемых предков хозяина дома (Беленицкий, Маршак, 1976, с. 83). В большей части построек в жилых комнатах были выделены культовые места. Г.А. Пугаченкова отмечала наличие культовых мест в жилых комнатах Дальверзина. Перед нишами найдены культовые статуэтки (Пугаченкова, 1976, с. 39–40). Культовые росписи в частных домах помогают определить богов, которым поклонялись согдийцы, воспринимавшие храмы как дома обитания богов. Большое место в верованиях согдийцев принадлежало поклонению умершим предкам. Обряды поклонения предкам совершались не только в храмах, но и на кладбищах. Бируни сопоставляет согдийские заупокойные обряды с теми, что совершали хорезмийцы в Новый год Навруз в наусах.Город и деревня.
Для понимания специфики города необходимо его сопоставление с синхронной ему деревней. Редким случаем точной синхронности памятников являются Пенджикент и горное селение Мадм (Гардани Хисор). Название этого селения упоминается в одном из документов (документ Б-12) с горы Муг (Лившиц, 1962, с. 155–156). Мадмское поселение «по своей структуре было двухчастным и состояло из дворца правителя и собственно поселения, разделенных улицей. Поселение с двух сторон окружено обрывами, а с юга и запада — оборонительной стеной (табл. 13, 5) с внутренним коридором» (Якубов, 1975, с. 546). В поселении раскопаны 22 дома, но, учитывая, что часть селения не сохранилась из-за обвала, автор этих раскопок Ю. Якубов предполагает, что в поселении проживало 30–35 семей. Древний Мадм был связан с Пенджикентом, так как он входил в домен Деваштича — правителя Пенджикента. Как и в Пенджикенте, на мадмском поселении, во дворце правителя и в собственно селении, прослежены слои пожаров, связанных с событиями 722 г., времени последней войны арабов с Деваштичем. Общими для города и сельского поселения были следующие признаки: наличие оборонительных стен; сплошная застройка примыкающими друг к другу домами с выходами на улицу; и в городе, и в деревне строительным материалом служила необожженная глина; наличие цитадели, где находился дворцовый комплекс; дислокальность поселения; ни в городе, ни в деревне нет места для садов и огородов, места для содержания скота (Сухарева, 1979). Но в то же время между городом и селом выявляется больше различий, чем сходства. В селе на цитадель приходится значительная часть площади. В Мадме дворец занимает примерно треть площади поселения. Сельское поселение в полном смысле слова находится у подножия за́мка, а в городах цитадель пропорционально значительно меньше, занимает часть городской территории или стоит отдельно. Этот формальный признак, видимо, отражает существенное социальное различие между городом и селом. Мадм был владельческим селом. Документы с горы Муг содержат ясные свидетельства зависимости сельских жителей от феодалов. Сохранилось письмо мадрушкатского государства кштутскому (документ Б-7): «И, господин, (у меня) с паргарцами… распря, ибо, господин, они сюда прибыли („спустились“) и, господин, ни днем ни ночью не прекращали работы и (исполнения) приказа. Но (затем) многие из них убежали, — ты их так прикажи задержать, чтобы они тебя боялись, чтобы, господин, твоего (государя) приказа слушались. Ибо, господин, из них (почти) все убежали и, господин, здесь (сейчас) нет более чем 7 человек» (Лившиц, 1962, с. 172–173). От Мадрушката до Кштута расстояние около 150 км. Из Кштута в Мадрушкат посылались люди, подчиненные государю Кштута, для выполнения каких-то явно принудительных работ на мадрушкатского государя. В одном из документов с горы Муг (документ Б-6) содержатся данные о наборе людей по 2–3 человека от селения для отправки их на какие-то работы (Лившиц, 1962, с. 149). В документе В-9 (Лившиц, 1962, с. 157–159) содержатся определенные указания на посылку одним феодалом другому работников для выполнения повинностных работ. «И так сделай: тех людей быстро сюда пришли, а (также) и работников», — пишет рустский государь Афарун некоему Зкатчу. В.А. Лившиц считает, что в этом документе термин, которым названо слово «работники», «обозначает, по-видимому, не „работников“ вообще, а крестьян, посылаемых на повинностные работы. В других документах мугского собрания, содержащих упоминания о посылке крестьян из определенных селений или районов для выполнения каких-либо работ, крестьяне именуются обычно η’ß или mrtynkt — „люди“» (Лившиц, 1962, с. 159). Из мугских документов как будто следует, что крестьяне горных селений платили оброки скотом, зерном, фруктами, изделиями домашних промыслов. Надо отметить, что владения Афаруна находились неподалеку от Самарканда. Его резиденция была в двух фарсахах от Самарканда (Лившиц, 1962, с. 116–119), т. е. в равнинном Центральном Согде, где зафиксированы многочисленные за́мки эпохи раннего средневековья, так называемые тепе с площадкой (Ростовцев, 1975, с. 98–102). Типологически таким же тепе с площадкой был и за́мок на горе Муг (табл. 13, 7–9). В Южном Согде полностью раскопан за́мок Аултепе V–VI вв. (табл. 13, 5), у подножия которого, как считал С.К. Кабанов, «выявлены признаки современного ему поселения, возможно, жилищ подвластных владетелю за́мка людей и хозяйственных помещений» (Кабанов, 1977, с. 53). Раскопки производились также на нескольких тепе с площадкой, но раскопанная площадь недостаточна, чтобы судить о плане в целом. Планировке мадмского селения — за́мок правителя, окруженный селением, в свою очередь обведенным оборонительной стеной, — близки большие за́мки афригидского Хорезма, среди которых на очень большой площади раскопан Якке-Парсан (Неразик, 1976, с. 176, рис. 105). Иначе обстоит дело в городе. Цитадель Пенджикента отделена от городища глубоким оврагом (табл. 13, 1), отдельно стоящая цитадель Бухары весьма незначительна по отношению к городской территории. Все это свидетельствует, вероятно, о независимости горожан от феодального владетеля. Другим серьезным различием между согдийским городом и селом, зафиксированным при археологических раскопках, является натуральность хозяйства деревни и развитость товарно-денежных отношений в городе. В Гардани Хисор нет ни одной специально оборудованной мастерской или лавки. На поселении найдено всего пять монет (Давутов, 1979). Улицы же Пенджикента первой четверти VIII в. были окаймлены десятками лавок и мастерских, в которых велась мелкая розничная торговля. Экономическая структура согдийского города определялась взаимоотношениями производительного и непроизводительного населения. Городские ремесленники могли свободно реализовать на рынке продукт своего труда, но они зависели от городских землевладельцев, сдававших в аренду лавки и мастерские, а платежеспособный спрос на их изделия в значительной степени обеспечивался наличием в городах богатой знати с ее воинскими отрядами и слугами. Таким образом, рядовое торгово-ремесленное население всецело зависело от городской знати, часть которой получала свой основной доход от эксплуатации деревни. И в городе, и в деревне господствовала знать, но господство это осуществлялось по-разному. Если в городе существовала экономическая зависимость, то в деревне, по-видимому, большую роль играло внеэкономическое принуждение. Сложность социально-экономических отношений в городе нашла свое отражение в структуре городской застройки. Для Пенджикента характерна четкая дифференциация по функциям как отдельных помещений каждого дома, так и целых «районов». Имеются два храма с обширными дворами, где могли собираться все горожане, выделяются ареалы торгово-ремесленной деятельности, намечается выделение участков жилой застройки по социальному признаку. В городе каждое жилище имело дифференцированный план. Жилища горожан в большей или меньшей степени по планировке, конструкциям и декору напоминают дворец правителя Пенджикента. Следует отметить, что технический уровень строительных работ одинаков в постройках разных социальных слоев. Иную картину мы наблюдаем в Мадме. Здесь нет храмов, нет общественных зданий. Но за́мок владетеля чрезвычайно похож по дифференцированному плану, строительной технике, декору на богатое жилище Пенджикента, а все остальные жилища Гардани Хисор резко отличаются от резиденции феодала и от городских домов. Одноэтажные дома Гардани Хисор насчитывают от одного до четырех помещений, причем обязательно наличие помещения со специальными отсеками для хранения продуктов. Такие же отсеки, но больших размеров, имелись в хозяйственных помещениях дворца. Для крестьянского дома более раннего времени, раскопанного Б.Я. Стависким в Калаи-Муг на Магиане, также характерно членение на жилую и амбарную половины. Для каждого деревенского дома обязательны очаги, пригодные для выпечки хлеба. В городских жилищах такого рода отсеки для хранения зерна и других продуктов и очаги для выпечки хлеба необязательны. Но в Пенджикенте на базарной улице раскопаны мастерские по выпечке хлеба на продажу. В этом городе в одном из жилых домов первой четверти VIII в. исследовано зернохранилище приблизительно на 1000 пудов пшеницы (Рахматуллаев, 1982). Его объем явно превышает потребности семьи, что позволяет считать это зернохранилище товарным складом. Для Гардани Хисор характерны однокомнатные дома площадью до 50 кв. м, с разделением единственного помещения на жилую и хозяйственную половины, в последней имеются отсеки для хранения запасов продовольствия (табл. 13, 3). Сельский дом горных районов недавнего прошлого во всех существенных чертах похож на дом начала VIII в., что связано с консервативностью уклада жизни села (Давыдов, 1973). Пенджикентский городской дом не находит сколько-нибудь полных аналогий в исследованных этнографами жилых домах городов Средней Азии (Писарчик, 1974). Пенджикент и горное село Мадм — это как бы два полюса социальной жизни раннесредневекового Согда. Для полного понимания жизни общества того времени необходимо исследовать промежуточные явления. Вполне возможно, что хозяйство сельского поселения в равнинном Согде могло быть менее натуральным, чем в горах. В сельской местности исследовано несколько за́мков. Некоторые из этих за́мков представляют собой цитадели селений. Большинство за́мков вполне обоснованно считают жилищами землевладельческой аристократии (Массон В., 1979). Неясно, что представлял собой городок, крепость или за́мок с селением — такой известный памятник, как Тали-Барзу. Площадь, занятая под селение, является слабым критерием для выяснения его характера. Пенджикент без цитадели занимает площадь всего 13,5 га, в нем жило немногим более 4000 человек, но это был город, поскольку основным отличием города была сложная дифференциация хозяйственной и общественной жизни, которая отразилась в характере застройки. Городище Варахша занимает площадь 6,5 га, но тем не менее стойкая местная традиция, зафиксированная Нершахи, относит Варахшу к селениям, а не к городам (Большаков, 1973, с. 182). Варахшу, скорее всего, следует отнести к категории крупных укрепленных селений у подножия дворца владетеля загородной резиденции бухархудатов. Тали-Барзу по планировке напоминает владельческое поселение, центр которого занят мощной цитаделью, а жилые кварталы тянутся вдоль стен. Возле крепости Кафыркала близ Самарканда располагалось небольшое селение, а за его пределами — квартал гончаров. Как проходила граница между городом и деревней для самих согдийцев? В согдийском языке город и селение обозначаются одним словом. В IX-Х вв. городом считалось поселение, имевшее соборную мечеть. Нершахи сообщает, что жители Варахши в IX в. отказались от предложения Исмаила Самани на льготных условиях построить соборную мечеть. Эмир Исмаил Самани позвал людей этого селения и сказал: «Я дам двадцать тысяч дирхемов и лес и приму на себя работы по постройке (а некоторая часть здания еще стоит), перестройте этот дворец в соборную мечеть». Люди селения не пожелали этого и сказали: «Нашему селению это не подобает, так как оно не миср», т. е. «не город» (Шишкин, 1963, с. 82). Варахша, как отмечает Мукаддаси, относилась к тем селениям, которые «больше городов» (Большаков, 1973, с. 164) и которым, «чтобы быть городами, недостает только соборной мечети» (Большаков, 1973, с. 164–165). Интересно, что жители Пайкенда заняли прямо противоположную позицию. Мукаддаси пишет: «…и сколько пришлось помучиться жителям Пайкенда, прежде чем они установили мимбар», т. е. построили соборную мечеть и обеспечили себе статус города. Такое различие во взглядах населения Варахши и Пайкенда может быть объяснено тем, что в доисламское время Пайкенд был самостоятельной городской общиной, его называли «городом купцов», а Варахшу — загородной резиденцией могущественных бухархудатов. Арабские источники называют городом и Пенджикент, в котором, как показывают документы с горы Муг, в доисламское время также существовала городская община, имевшая свои доходы и своих чиновников. Начиная с IV в. в сельской местности относительно синхронно появляется большое количество усадеб за́мкового типа. Они дошли до нас в двух вариантах памятников: небольшие отдельно стоящие тепе и тепе с довольно обширной прилегающей площадкой. Разномасштабность за́мков, вероятно, объясняется разным рангом их владельцев. Планировка ранних за́мков совсем неизвестна. Очевидно только, что хозяйственная пониженная часть представляла собой обширный двор с насаждениями в центре, обстроенный по периметру помещениями разного назначения (Нагора, Эшимаксак под Самаркандом). На территории Самаркандского Согда небольшой за́мок[7] V–VI вв. н. э. раскопан близ крепости Кафыркала, к югу от Самарканда. Здание сооружено на пахсовой платформе площадью 43×43 м при высоте 3,5 м. Ее углы скруглены и укреплены мощными контрфорсами из пахсы (табл. 13, 4; 16, 1). В планировке дома четко выделена монументальная центральная часть из десяти помещений, шесть из которых были в два этажа, а над перекрытием остальных четырех в центре каждого фасада размещались глубокие айваны. Ядро дома составляет массив, построенный по принципу строгой симметрии, нарушенной только входным проемом и кирпичным монолитом, служившим опорой для лестницы. При этом нет оснований предполагать, как это кажется некоторым исследователям, постепенного увеличения площади за́мка за счет расширения по трем фасадам платформы для возведения на ней дополнительных помещений (Шишкина, 1961, с. 192–193). Центральная часть дома повторяет планировку, видимо, широко распространенных в V в. малых крепостей типа открытой в Фильмандаре в виде небольшой квадратной в плане постройки с квадратными же угловыми башнями (табл. 13, 2), занимающими более двух третей всего фасада (Исаков, 1979, с. 50–51, рис. 12). Выступы башен образуют по центру каждого фасада глубокую нишу — террасу. Центральное квадратное пространство здания разделено на два помещения перегородкой, такой же монументальной, как и внешние стены. Двухэтажный куб здания был обведен коридором, по трем сторонам которого шел ряд помещений с выходом в коридор, за исключением двух случаев, когда дверной проем выходил на террасу. Изолированность этих двух помещений объясняется их особой функцией, связанной с сильным загрязнением. Стены и полы их по всей площади сильно прокалены из-за многократного разжигания здесь огня. Террасы, ограниченные с боков пахсовыми монолитами угловых башен, располагались по всем четырем фасадам сооружения и использовались для хозяйственных нужд. В пол одной из них вкопан хум, а на полу другой найдено скопление пряслиц. Подъем на платформу, по всей вероятности, осуществлялся по деревянной лестнице и, судя по раскреповке стены, выделяющей вход в дом, располагался на северо-востоке. Часть террасы входного фасада отгорожена поперечной стенкой, что объясняется назначением отсеченного помещения, где фиксируются признаки долгого горения огня. Смежная с обводным коридором стена этой комнаты прорезана двумя рядами щелевидных проемов, расположенных в шахматном порядке (табл. 13, 6). Необычными для жилого дома представляются узкие (12 см) щелевидные проемы, прорезывающие стены по подножию, со скосом нижней плоскости, как у бойниц, наружу. Такие же щели со скосом ложа внутрь устроены в каждой угловой комнате вверху противоположных от входа стен. Если рассматривать строительство здания усадьбы как двухэтапное, то все же непонятным остается назначение ряда щелей с горизонтальным ложем во внутренней стене, расположенных над полом выше, чем другие (причем не пробитые позднее, а выложенные при возведении стены). Все эти узкие проемы находят объяснение при рассмотрении здания как единого целого вместе с периметральным рядом помещений, два из которых явно выполняли роль топок с жаропроводящими щелевидными проемами в два ряда, с наклоном из коридора в сторону топки. К этому нужно добавить прокаленность полов в коридоре только возле щелей и находки здесь же обломков жаровен. Это позволяет думать, что щелевидные проемы выполняли функции жаропроводов, горячий воздух в которые поступал или непосредственно из топок, или из поставленных перед ними на пол жаровен. Причем самой теплой должна была быть угловая комната, расположенная возле двух топок. Система кажется необычной только потому, что нигде в других сооружениях как будто бы не отмечалась. Однако узкие, 15–20 см, щели через 70-130 см прорезали пахсовые стены так называемого дворцового здания эпохи бронзы Дашлы 3 (Сарианиди, 1977, с. 41, рис. 15). Здание подвергалось нескольким перестройкам, одна из которых резко изменила структуру дома. В VI в. часть помещений по периметру закладывается пахсой и все делится на три самостоятельных жилых блока, изолированные один от другого вновь поставленными дверными коробками. Большая часть продухов была заложена и оштукатурена заподлицо со стенами. Возможно, что весь второй этаж принадлежал одному из блоков. Надо думать, что разделом дома фиксировались изменения в составе семьи и ее деление на меньшие семейные ячейки. В южном Согде, в долине Кашкадарьи, раскапывался ряд сельских усадеб (Кабанов, 1981) и поселений. Одним из селений был Джангаль, занимавший площадь около 0,8 га (около 200×180 м). Семиметровую толщу наслоений здесь составили три последовательных слоя. Стены построены из пахсы и сырцового кирпича, со временем менявшего размеры от 54×32×7 см до 40×30×7 и 46×33×7 см. Несколько позже Джангаля, но синхронно с последними периодами его обживания, строится здание Аултепе. Оно возведено на пахсовой платформе. В планировке дома четко выделяются две (табл. 16, 9) функционально различные части: центральная, жилая и отделенная от нее коридором периферийная, хозяйственная (Кабанов, 1981, рис. 23). Хронологическая близость самаркандской и кашкадарьинской усадеб, схожесть социального статуса владельцев и судеб их семей отразились в целом ряде сходных черт самих зданий. Прежде всего близки их размеры. В планировке зданий выдерживалась строгая симметрия, нарушаемая лишь функционально неизбежными элементами: главным входом в жилую часть дома или устройством подъема на второй этаж. В обоих случаях центральный квадрат окружен хозяйственными постройками с трех сторон, а углы здания укреплены монолитными кладками, имевшими вид башен. Нельзя исключить вероятность общности происходившего в Согде процесса дробления семьи, поскольку археологически одна и та же картина отмечается на жилом доме самаркандской усадьбы и на здании Аултепе в долине Кашкадарьи. Как и в самаркандской усадьбе, на одном из этапов жизни Аултепе производятся серьезные перестройки, приведшие к разделу дома на три части (табл. 13, 5). При этом планировка самаркандского здания более тщательно разработана, а его центральная часть наиболее близка симметрично распланированной отдельно стоящей небольшой крепости, вплоть до одинакового расположения щелевидных прорезей в стенах, выполнявших в одном случае функции действующих и ложных бойниц, в другом — роль продухов. Кажется неожиданной разница в облике материальной культуры Джангаль и Аултепе, одновременное существование которых подтверждается однотипными монетными находками на обоих памятниках. Одновременно, в последней четверти V в., они заканчивают свое существование. Различие в керамике объясняется, надо полагать, разным составом обитателей. Жители Джангаль не отличались обликом материальной культуры от обитателей обычных сельских усадеб. Владелец же Аултепе стремился приблизиться к высокому рангу согдийских земледельцев, не только окружив себя «городскими» предметами обихода, но и всячески показывая связь с правящей верхушкой, вплоть до метки посуды тамгами правителей Согда. В Бухарском оазисе, в 40 км к северо-западу от Бухары, в низовьях древнего канала Хитфар, раскапывалась сельская усадьба Кызылкыр I. Первоначально Кызылкыр I представлял собой квадратный в плане дом (23×23,5 м) с предвратным прямоугольником дворика (?), выступающим за пределы фасада в юго-восточном углу (табл. 15, 23). Вдоль фасада дома ко входу во дворик (?) вел отлогий пандус, огражденный парапетом. План дома четкий и простой: центральный квадратный зал, окруженный равновеликими узкими комнатами. Здание возведено на низкой платформе из сырцового кирпича разного формата: 55 × 45 × (10–12), 56 × 48 × (10–12) см в нижнем ряду кладки и 44×44×10 см в двух верхних рядах. Сохранились отпечатки камыша в кусках обгоревшей обмазки, что дало основание исследователям памятника предположить существование плоского балочного перекрытия с земляной кровлей по камышовому настилу. Со временем дом был реконструирован и оказался в углу новой постройки — обширного двора с комнатами по его периметру значительно меньшими, чем помещения основного дома (Культура…, 1983, рис. 7). Часть комнат были изолированы и сообщались непосредственно с двором, другие соединялись проходами с соседними по две и в одном случае по три. Самый крупный блок составляли четыре помещения с изолированным уголком двора. По составу находок все помещения по восточной стороне двора определены как хозяйственные. Комнаты с суфами предполагаются жилыми. Новые изменения в усадьбе привели к выделению небольшого ее участка. Одновременно застраивается все пространство двора. В результате организовались два хозяйства — большое и малое, совершенно изолированные друг от друга, с самостоятельными входами на противоположных фасадах застройки (табл. 15, 24). Малое хозяйство составили восемь помещений, не считая трех проходных двориков. Большое хозяйство включало наиболее монументальный дом первоначальной постройки и шесть изолированных друг от друга блоков, состоявших из двух, трех, пяти и семи комнат. У входа снаружи пристроен квадратный дворик. Остались незастроенными часть прежнего дворового пространства и коленчатый проход к квадратному раннему дому. Жизнь большого комплекса построек Кызылкыр I прерывается сильным пожаром. После пожара возрождается только главный, квадратный дом. В этот последний период его освоения производится некоторая перепланировка. Дополнительная стена превращает центральный квадратный зал в продолговатое помещение с длинным узким проходом в него. Вдоль двух стен устраиваются суфы. Два коридорообразных помещения отсекаются закладкой проходов и перестают функционировать. Одно из оставшихся (восточное) теперь сообщается через вновь прорубленный проем с двором, а другое перегораживается, и в отгороженном пространстве устраивается закром. По всей вероятности, в последовательных постройках и переделках Кызылкыра отразился длительный период жизни землевладельческой семьи: ее разрастание, возможно, перемены в ее благосостоянии, выделение молодых семей. Брошенный после пожара дом через некоторое время мог быть освоен людьми более низкого социального ранга. Судя по отдельным находкам, здание Кызылкыр I было построено на месте, обжитом в первые века н. э. Это ножки красноангобированных кубков (переходный тип Афрасиаб III–IV), две серебряные монеты — подражание тетрадрахмам Евтидема и синхронные им терракотовые статуэтки. Время функционирования памятника характеризуют находки иного рода, среди которых типичны очажные подставки, оформленные бараньими головками. Судьбы владельцев исследованных согдийских сельских усадеб меняются к концу VI в., когда какая-то часть сельских за́мков и пригородных домов остаются пустовать и позднее нередко используются в качестве наусов для оссуарных захоронений (Пенджикент, Кафыркала) или приспосабливаются под жилье людей иного, более низкого социального состояния (Молла-Ишкул). Сколько-нибудь крупные землевладельческие за́мки, возводившиеся позднее VII в., в самаркандской части долины Зеравшана пока неизвестны. В Бухарском оазисе исследовался за́мок Бад-Асия близ Пайкенда, возведенный в VII–VIII вв. Его кешк (224×22,5 м), ориентированный углами по странам света, возведен на пахсовой платформе высотой более 5 м. Вход-подъем, отмеченный мощными выступами платформы, обращен в сторону лежащего у подножия кешка хозяйственного двора, от построек которого сохранились только основания стен. В нижнем этаже кешка размещалось шесть помещений. Из проходной комнаты — вестибюля можно было попасть в центральное помещение с тамбурной стенкой у входа в него, создававшей коленчатый проход, с суфами вдоль трех стен и с квадратным подиумом на полу для установки жаровни. С двух сторон эту комнату охватывал коридор, выводивший в изолированное большое помещение, стены которого (возможно, только панели над суфами) были окрашены красной охрой. Стены коридора были покрыты росписью в красно-синей гамме с широким черным контуром рисунка и с применением серых и светло-зеленых тонов. Насколько позволяют судить дошедшие до нас фрагменты, роспись могла быть сюжетной. Одно из помещений, узкое и длинное, могло служить кладовой. Кухня располагалась в маленькой комнате с суфами и очагом. В массивной кладке в углу кешка, между кухней и вестибюлем, был лестничный подъем на второй этаж (или крышу) здания, от которого сохранились три ступени (Шишкина, 1963, с. 87–102). У подножия за́мка находилась квадратная постройка с обширным двором в центре и узкими помещениями, вытянутыми по периметру.Строительное дело.
Несомненным профессиональным мастерством в городах отличалось строительное дело, приемы которого изучены В.Л. Ворониной (Воронина, 1953, 1957, 1957а, 1958, 1964, 1969). Стены возводились из сырцового прямоугольного кирпича, обычно с соотношением сторон 1:2. Длина кирпича колеблется около 50 см, приблизительно соответствует одному локтю. Широко были распространены также глинобитные пахсовые кладки, причем весьма эффективным строительным приемом, предохранявшим стены от растрескивания, была кладка пахсы блоками. Широко применялась комбинированная кладка из пахсы и сырцового кирпича. В многоэтажных домах помещения первого этажа, за исключением парадных залов, обычно перекрывались сводами, выложенными без кружал, методом наклонных отрезков. Сводчатые конструкции были довольно разнообразны. Надо отметить арки шириной до 4,5 м, возведенные с помощью кружал, винтовые своды пандусов, которые вели в верхние этажи, полукупола айванов и сравнительно редкие купола. В пандусах и купольных конструкциях применялись перспективные тромпы. Широко были распространены деревянные конструкции перекрытий, которые опирались непосредственно на стены, на колонны и на подкосы. В парадных помещениях колонны и перекрытия были украшены орнаментальной и сюжетной резьбой, представление о которой мы имеем благодаря обугленным фрагментам балок, панно и статуй. О высоком профессионализме согдийских строителей свидетельствуют остатки разметки тушью на стенах, сделанные по уровню и отвесу (Абдуллаев Д., Гуревич, 1979, с. 53–56, рис. 15). Как уже отмечалось, в городских домах и за́мках стены парадных помещений обычно были расписаны. Расписывались и айваны домов, выходивших на улицу. Верхние части фасадов домов украшали фризами из фигурного кирпича. Высокое благосостояние городского населения, отразившееся, вчастности, в согдийской архитектуре, было обусловлено не только сосредоточением в городе феодальной ренты, но и доходами от внешней торговли.Лавки и мастерские.
Показательно, что, как правило, рядовые горожане не имели при домах ни лавок, ни мастерских. Большая часть мастерских и лавок первой четверти VIII в. примыкали к богатым жилищам, но не были связаны с ними проходами. В отдельных случаях удалось проследить, что эти мастерские и лавки были предусмотрены при планировке богатых домов. Особенно характерен в этом отношении базарчик на улице, ведущей от южных ворот города к площади перед храмами (Распопова, 1971, с. 67–82). Он примыкал к глухому фасаду самого большого из раскопанных в Пенджикенте жилищ. Северная и южная стены базара являются продолжением стен этого дома. Базар и дом выстроены по общему плану на земле, по-видимому принадлежавшей одному владельцу. Помещения лавок и мастерских базарчика, скорее всего, сдавались в аренду ремесленникам и торговцам. Владельцы этих лавок и мастерских были людьми состоятельными, о чем можно судить по их обширным жилищам со стенами, покрытыми росписями. Доходы от арендной платы были немалые, как об этом можно судить по «Истории Бухары» Нершахи. О.Г. Большаков и А.М. Беленицкий показали, что у Нершахи речь идет о доходах, получаемых от сдачи в аренду земельных участков под постройки, мастерских или торговых помещений под жилье (Беленицкий, 1965, с. 189–191). О том, что в Пенджикенте существовала практика сдачи в аренду производственных построек, мы знаем из согдийских документов (Лившиц, 1962, с. 57–61). Большинство торговых и производственных помещений площадью в среднем 9 кв. м имели широкие дверные проемы, выходившие на улицу. Перед входами в мастерские прослежены и ямки от столбов навесов (айванов). Можно предположить, что торговля велась при открытых дверях, часто под навесами. Торгово-ремесленные постройки, как правило, были одноэтажными. Для многих мастерских в отличие от жилых помещений характерно обилие монетных находок. Таким образом, в Пенджикенте ремесленник и торговец сочетались в одном лице. Это характерно для мелкого товарного производства. Здесь уместно еще раз отметить, что зависимость ремесленников от городских землевладельцев была прежде всего экономической, поскольку торгово-ремесленные заведения располагались на арендованной земле. Структура застройки пенджикентского городища отражает развитую общественную жизнь. Контраст между плотностью застройки, с ее высокой этажностью, отсутствием дворов в огромном большинстве домов, теснотой лавок и мастерских, узостью улиц, часть которых перекрывали сводами, чтобы возвести над ними вторые и третьи этажи, и простором парадных залов сразу обращает на себя внимание. Зажиточные пенджикентцы, выделившие часть своего участка под лавки и мастерские для получения дохода, гораздо большую часть, несомненно, дорогой городской земли отводили под парадные помещения с богатым убранством, живописью и скульптурой. Очевидно, от общественного положения зависела и пышность происходивших в залах приемов и обрядов. Согдийские ремесленные мастерские представляют интерес не только с точки зрения социальной истории, но и для изучения истории техники. Лучше всего опознаются те ремесла, которые связаны с использованием огня. Это прежде всего железоплавильни, кузницы, ювелирные, стеклоделательные, гончарные мастерские. В Пенджикенте исследован ряд мастерских, связанных с производством и обработкой железа. В одной из железоплавилен расчищены домница (остатки пода в виде подквадратного углубления), яма для мастера с мехами и небольшой горн, стоявший на краю ямы. В горне, вероятно, производился нагрев губчатого железа перед проковкой для освобождения его от шлаков. Кузницы были оборудованы горнами, состоявшими из хумов, поставленных на венчик и охваченных футляром из сырцового кирпича с поддувалом. В некоторых кузницах при горнах обнаружены глиняные двухканальные сопла, обеспечивавшие непрерывную подачу воздуха от двойных мехов. В полах зафиксированы ямы от колод наковален и вкопанные в пол сосуды для воды, необходимой при закаливании железа. Часто наряду с основными были и дополнительные горны. Выделяются мастерские, связанные с литьем бронзы. В небольших ямках на полу (часто они ошлакованы до стекловидного состояния) раздували сильный жар, в который и опускали тигель со сплавом. Здесь же могли размягчать металл, изготовляя мелкие поковки. Найдены матрицы для тиснения тонких листов металла. Литейных форм не найдено, но, судя по бракованным изделиям, они были двусоставными. Судя по тому, что все тигли со следами золота найдены в жилых домах, златокузнецы работали, скорее всего, на дому у заказчика.Ювелирное дело.
Ювелирные мастерские обнаружены в нескольких пунктах Пенджикента. Они занимают сравнительно небольшие помещения. Очаги, использовавшиеся для плавки металлов, расположены на платформе, приподнятой над уровнем пола. Очаги открытые и имеют от двух до четырех устьев. Очаги в мастерской расположены у двери. Это обусловлено необходимостью удаления из мастерской дыма и газов, скопившихся в помещении при плавке металлов. В мастерской находились льячки, небольшие стаканчики с округлым дном и сливом. Здесь же находились каменные литейные формочки.Керамическое производство.
Керамическое производство, требующее значительных площадей (под хранение сырья, для производственных процессов — сушки продукции, больших горнов, под отвалы бракованных изделий), обычно обосабливалось, как правило в наименее респектабельной части города. Такое расположение гончарных мастерских диктовалось характером их работы, связанной с огнем. Гончарная мастерская IV — первой половины V в. н. э. в Самарканде располагалась в юго-восточном углу города, в пределах его двухрядных крепостных сооружений, близ Восточных ворот. Мастерская была вскрыта в 1945 г. А.И. Тереножкиным. Она представляла собой большую комнату длиной 10 м. Около северной стены мастерской располагался большой очаг, рядом с ним был врыт в пол хум и лежала зернотерка. В середине комнаты была сложена груда желтой и зеленой глины. Последняя использовалась для придания керамической массе пластичности. Присутствовавший здесь же большой камень служил подпятником гончарного круга. Пол мастерской был усыпан кусками срезанной глины, фрагментами необожженной посуды (Тереножкин, 1947, с. 137–140). Для формовки сосудов использовался ножной гончарный круг со специальной подставкой. Это могли быть диски из обожженной глины или из дерева. Сформированный сосуд снимался с круга вместе с подставкой и ставился для просушки. Характерным признаком формовки сосудов на таком круге являются следы вертикальных срезов в их нижней части. А.И. Тереножкин отмечал, что круг такой конструкции существовал в Хорезме очень длительное время и известен у современных гончаров Средней Азии (Тереножкин, 1940а). К VI в. в Средней Азии сложился тип обжигательных печей с некоторыми локальными особенностями. Это в основном двухъярусные печи с обжигательными камерами округлой формы. В Самарканде для обжига посуды в это время использовалось не менее пяти больших двухкамерных печей подпрямоугольного продолговатого плана с сильно углубленной топочной камерой, продольно разделенной перегородкой. Два узких сводчатых топочных отсека соединялись с обжигательной камерой широкими круглыми жаропроводящими отверстиями. В Еркургане кварталы керамистов вытянулись вдоль восточной стены внутреннего города цепочкой из четырех холмов протяженностью более 600 м. Открыты изолированные друг от друга помещения, одно из них охвачено Г-образным коридором. Стены их сложены либо из пахсы, либо, в эллинистической еще традиции, из квадратного кирпича (40–39) × (40–39) × 8 см. Здесь отмечены признаки близлежащего гончарного производства в виде керамических отвалов, включающих комья оплавленного лёсса. Сами же помещения, видимо, принадлежали к жилому комплексу. Южнее располагались производственные помещения с обжигательными круглыми печами и припасами сырья, в числе которых был пух камышовых метелок. Вскрыт участок жилья гончара с несколькими комнатами и двориком с двойным очагом. За пределами дома на склоне холма располагалась необычной конструкции двухкамерная одноярусная печь для обжига посуды (табл. 14, 4). Квадратная камера (70×70 см) выполняла роль топки с устьем в углу. К одной из сторон топки примыкали овальная камера площадью 120×130 см и овальное же возвышение в центре нее. Пол этой камеры отлого повышался от топки на 30 см, стенки ее и поверхность возвышения (включая его верхнюю плоскость) ошлакованы. Обе камеры соединялись жаропроводом шириной 35 см и высотой 12 см. За внешней, противоположной жаропроводу, стенкой печи на 0,8 м выше пола расчищена площадка со следами обгорелостей и ошлакованности — предполагаемый дымоход. Посуда расставлялась на возвышении. В процессе обжига в качестве подкладок применялись глиняные плитки толщиной около 4 см. Квартал, начавший функционировать в первые века н. э., продолжал существовать в IV–V вв. (Кабанов, 1950, с. 110–117, рис. 12, 15; 1977, с. 24–25; Исамиддинов, Сулейманов, 1984, с. 13–14, рис. 6). В Кафыркале квартал гончаров конца VII — начала VIII в. находился к востоку от крепости. Двухкамерная гончарная печь состояла из топки и обжигательной камеры, разделенных подом. Топка вырыта в земле и имеет вид округлой ямы диаметром 2,6 м, высотой 2,1 м. В ее центре находится глинобитный столб, который поддерживал под. Стены топки и столб сильно ошлакованы. Топочное устье находится в верхней части топки. Обжигательная камера округлой формы сложена из сырцового кирпича. Под печи из нескольких слоев глины прорезан круглыми жаропроходами, расположенными по кругу в два ряда. В некоторых жаропроходах сохранились пробки из обожженной глины, служившие для регулирования температуры обжига.Стеклоделие.
Из письменных источников известно, что в Средней Азии уже в V в. развивалось стеклоделие (Бичурин, 1950; Веселовский, 1893). Первая из наиболее ранних мастерских VIII в. открыта в Пенджикенте. Она находилась в пригородном доме. В одном из помещений на полу обнаружены две ванночки. Стенки одной из ванночек покрыты стекловидной мутноватой массой зеленовато-желтого цвета, а дно — толстым слоем темно-зеленого стекла. В другой ванночке серо-белый порошок был перемешан с каплями стекла, с кусочками тонкостенных деформированных сосудов. Стена, около которой стояла ванночка, сильно прокалена. Рядом открыта небольшая ямка, заполненная белым порошком, перемешанным с обломками стенок сосудов и со стеклянными нитями. В мастерской найден маленький стеклянный флакон (Большаков, Негматов, 1958). Некоторые флаконы украшены «змейками», дисковидными налепами и медальонами в виде человеческого лица. В третьей четверти VIII в. появляются стеклянные кружки, напоминающие керамические (Бентович, 1973а; Распопова, 1985). Стеклянные изделия из Пенджикента представлены небольшими парфюмерными флаконами из непрозрачного стекла черного или серо-зеленого цвета. Есть также фрагменты нескольких графинов и чаш. Основная масса сосудов изготовлена способом свободного выдувания, а незначительное количество изделий было выдуто в форму (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 63, рис. 37; с. 68, рис. 38). Большинство стеклянных сосудов V — первой половины VIII в., скорее всего, были привозными.Ткачество.
От таких важных видов ремесел, как ткацкое, кожевенное, деревообрабатывающее, обычно не сохраняется никаких следов. Но благодаря находке в за́мке на горе Муг большого числа фрагментов текстильных изделий стало возможным составить представление о тканях, использовавшихся в быту согдийцами. В коллекции, насчитывавшей 150 фрагментов, хлопчатобумажных тканей было 80 экз., шерстяные ткани единичны. Хлопчатобумажные ткани изготовлялись для хозяйственных нужд в домашних условиях, о чем свидетельствует их низкое качество. Шелковые ткани отличаются высоким качеством тканья, большим разнообразием окраски и орнаментации: ромбы, кружки, розетки, цветы (Винокурова, 1957). На Востоке были широко распространены богато украшенные шелковые ткани занданачи, названные так по наименованию крупного средневекового текстильного центра близ Бухары. Их отличает особая композиция узора и сложная техника изготовления — двухосновная уточная саржа. Узор состоит из расположенных горизонтальными рядами медальонов, заключающих сложный рисунок. Заполнен растительными мотивами (Беленицкий, Бентович, 1961; Иерусалимская, 1967). Достаточно полное представление об орнаментации тканей дают изображения одежды в живописи Пенджикента, Афрасиаба и других средневековых городов. В одном из документов архива из Муга есть другое название этой ткани — «принг». Этот термин обозначает шелковые ткани типа камки. В письменных источниках сохранились названия и других тканей: хлопчатобумажных — «карбас», парчовых — «диба» или «дибадж». Изготовление шелковых узорных тканей требовало высокого профессионализма ткачей. Несомненно, они изготовлялись в специализированных мастерских; хлопчатобумажные ткали в домашних условиях. Для прядения пользовались веретеном с пряслицем (табл. 16, 3, 4). Ткачами использовались вертикальные ткацкие станки. Обязательной принадлежностью таких станков являются грузики из обожженной глины или ганча (табл. 16, 12, 13), служившие для натягивания нитей основы. Из Пенджикента происходит большое количество грузиков различной формы, разных размеров и веса. Видимо, принадлежностью ткацкого производства являются костяные гребни для прибивания утка, сделанные из ребер крупного рогатого скота. Прядение было широко распространенным домашним промыслом, о чем свидетельствуют находки керамических пряслиц почти в каждом доме. Ткацкие мастерские находились в составе одного комплекса вместе с другими мастерскими. Одна такая мастерская открыта на объекте XIII. Она включала два помещения. Одно из них небольшое, с выкладкой (суфой) у восточной и южной стен. Пол вымощен обожженными керамическими плитками. В суфу около южной стены вкопаны два сосуда. Другое помещение прямоугольное, шириной 3,8 м, длиной 15 м. Его западная часть также вымощена обожженными плитками. Исследователи памятника считают, что в первом помещении отпаривались коконы, во втором находился ткацкий станок и здесь же была шелкомотальная мастерская (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 99). К VIII в. среднеазиатские ткачи достигли высокого мастерства. Их изделия отличались совершенством и успешно конкурировали на мировом рынке даже с китайскими тканями (Иерусалимская, 1972, 1972а). В обиходе были изделия из войлока, в частности сапожки из стеганого войлока.Кожевенное дело.
Изделия из кожи занимают значительное место в быту согдийцев. Они стали известны благодаря находкам в за́мке на горе Муг. Отсюда происходят образцы тонковыделанных кож различного цвета. Вишневой и черной кожей обшиты крышки корзин и шкатулок. Тонкой желтой кожей обтянут знаменитый деревянный щит с изображением тяжеловооруженного всадника. В за́мке обнаружен сапог с невысоким голенищем, сшитый из черной кожи. Большая часть мугских документов написана на очень тонкой коже, типа пергамента. Сами же документы являются важным источником, дающим сведения о кожевенном деле. В них приводится перечень кожаных изделий, выделанных кож и шкур. В документах называются сапоги «кафши», нагрудники из бычьей кожи (видимо, это нагрудная часть панциря). Они делались из светлой кожи и украшались пышным узором. Довольно полное представление об изделиях из кожи дает настенная живопись. Это мужские и женские мягкие сапоги различного цвета, туфли типа сандалий, предметы доспехов (щиты, нагрудные части панцирных доспехов, тульи шлемов). Из кожи делали ножны мечей, кинжалов, колчаны, портупейные ремни, конскую упряжь. Начальная стадия обработки кож производилась в сельской местности. В мугских документах называется селение Мадрушкан, где выделывались кожи. В селах существовали специальные бассейны для вымачивания кож. Всевозможные же изделия из кожи изготовлялись в городских мастерских.Химическая лаборатория.
Высокого уровня достигли естественные науки, в частности химия. В Пайкенде на месте разобранной стены V–VI вв., делившей шахристан на две части, было раскопано небольшое здание второй половины VIII в., которое исследователи считают химической лабораторией. Здание состояло из двух помещений. Имелся входной проем и проход между помещениями шириной 2,5 м. Западную часть первого помещения, площадью 9,9×5 м, занимала широкая суфа (2,15 м) с продольной ступенькой. Восточная часть помещения приподнята на 30–40 см и разделена узкой переборкой на два отсека. Стены прилегающего ко входу отсека площадью 2,2×3,5 м на разной высоте прорезаны многочисленными нишами разных размеров. Одна из ниш, отгороженная тонкой стенкой, служила хранилищем золы белого цвета. В заполнении ниши найдены носик-трубочка от стеклянного сосуда — алямбика и венчики керамических узкогорлых кувшинов. В суфе около восточной стены находились два прямоугольных ящика-хранилища. В угловом ящике найден стеклянный сосудик с отбитым носиком. В углу у входа в суфу встроен прямоугольный двухкамерный горн (23×26 и 17×17 см), утопленный в суфу на 40 см. Стенки камер прокалены. В заполнении камер найдено более 20 медных монет. Вдоль трех стен второго отсека сооружены суфы. В стенах — две большие ниши, в полу — три круглых горна (диаметром 50–60 см). На полу и в горнах — зола и древесные угольки. Стенки горнов сильно прокалены. Узкий спуск из второго отсека вел в подземную кладовую, включавшую входной коридор длиной 4 м и два узких помещения длиной 2,3 м. Дом включал еще два помещения. Это были большие комнаты с широкими суфами вдоль стен с нишами в стенах. В помещениях неоднократно производились ремонтные работы. Об этом свидетельствуют многочисленные обмазки полов (иногда до 10). На полах помещений дома найдено около 70 монет плохой сохранности. Все монеты датируются второй половиной VIII в. и являются аббасидскими фельсами. Один омейядский фельс 737 г. найден в кувшине, вкопанном в суфу. Назначение этого отдельно стоящего дома характеризуется структурой его помещений. Одно помещение было явно производственным, а два других — складскими. Производство определяется комплексом стеклянных изделий, включающим 14 целых и множество фрагментов алямбиков (специальных химических сосудов). Алямбики — цилиндрические баночки с округлым дном и узким трубчатым хоботком. Эти сосуды, в числе других, широко использовались древними химиками при возгонке веществ (Бируни, 1963, с. 210–220). Судя по скупым письменным свидетельствам, алямбики применялись в медицине в качестве кровососных банок. Авторы раскопок полагают, что открытое ими здание в центре города Пайкенд связано с химическим производством и могло быть мастерской по золочению бронзы или же аптекой (Мухамеджанов, Семенов, 1988, с. 52–54, 179; Шишкина, 1986, с. 15).Торговля.
Важная роль согдийцев в международной торговле с первых веков н. э. до времени арабского завоевания освещена письменными источниками. Данные этих источников нашли отражение во всех сводных трудах по истории Средней Азии, и прежде всего в классических работах В.В. Бартольда, где истории согдийской торговли и согдийской колонизации посвящены яркие страницы, обобщающие результаты исследований Э. Шаванна, П. Пельо и других ученых (Бартольд, 1963а, с. 182 и сл.; 1963б, с. 114; Chavannes, 1903; Pelliot, 1916; Pulleyblank, 1952). В.В. Бартольд отмечал два направления торговли согдийцев: восточное — со странами Дальнего Востока и западное — с Византией. Археологическими работами накоплен значительный материал по внешней торговле Согда, который не только может служить иллюстрацией и письменным источником, но и дополняет и изменяет ранее сложившиеся в науке представления. До сих пор мы знали согдийцев как посредников в торговле шелком между Китаем и Византией. Теперь установлено, что среднеазиатские купцы торговали с народами Приуралья также серебряными сосудами, как привезенными из Ирана и Византии, так и собственного производства. Известен серебряный кувшин среднеазиатской работы, сделанный в подражание византийским, и даже с поддельными византийскими клеймами (Городецкий, 1926). В Приуралье, вероятно, они покупали меха (Лещенко, 1971). В Согде широко использовались ткани из Египта и Византии, которые, так же, как и предметы византийской торевтики, могли привозить как непосредственно из Византии, так и через посредников. Находки в Согде скромных бронзовых пряжек византийских типов (Распопова, 1968) и найденная в Чилеке медная византийская монета свидетельствуют скорее о существовании в VII — начале VIII в. непосредственных связей Византии со Средней Азией. Археологические материалы показывают, что согдийцы были не только посредниками, но и продавцами шелка, вытканного в мастерских Согда, причем удельный вес согдийских тканей в мировой торговле был довольно высок (Иерусалимская, 1967, 1967а, 1972). Торговля с Византией шла через Северный Кавказ, по пути, которым следовало посольство Земерха и который описан у Менандра. В VII в. среднеазиатские купцы осваивают также северный путь, в Прикамье. Расцвет согдийской торговли и возникновение ее северных путей связаны со сложением в степях тюркских каганатов. Тюркские каганы покровительствовали согдийской торговле и колонизации, так как колонизаторская деятельность согдийцев и их международная торговля, осуществлявшаяся через степь, были политически выгодны и приносили тюркам доходы (Кляшторный, 1964). Согдийская колонизация шла по путям караванной торговли. Археологическое исследование Семиречья показывает, что в VII–VIII вв. согдийские колонии представляли собой целые города, в которых колонисты занимались земледелием, ремеслом и торговлей (Бернштам, 1940, 1950; Кызласов, 1959; Распопова, 1960; Кожемяко, 1959). Согдийцы, жившие далеко от метрополии, поддерживали с ней постоянную связь. Доходы от торговли в согдийской диаспоре частично шли в метрополию. Археологические материалы подтверждают многочисленные сведения письменных источников о внешней торговле согдийцев, но, кроме того, они показывают, что согдийские купцы в значительном объеме вывозили на Восток, Запад и Север продукцию своих ремесленников. Таким образом, археология доказывает связь согдийской внешней торговли с согдийским ремеслом, что не нашло отражения в письменных источниках. Купцы вели образ жизни, мало чем отличавшийся от образа жизни аристократии. Тратя свои доходы от внешней торговли внутри страны, они увеличивали платежеспособный спрос на изделия местных ремесленников, таким образом стимулируя развитие ремесла и внутренней торговли.Керамика.
Керамические комплексы IV в. в столичном Самарканде характеризуются большим количеством чаш, изготовлявшихся в двух вариантах — большие сосуды типа вазы на высокой ножке и значительно меньшие, но, так же, как и вазы, с относительно вертикальным бортом. Для них характерен красный грубоватой консистенции ангоб, нанесенный в довольно жидком состоянии. Сравнительно недолго выпускались большие конические крышки для хумов. Поставленные на горловину хума конусом вниз, они одновременно могли служить вместилищем для хранения продуктов. В это время возрастает доля домашнего гончарного промысла, появляются лепные изделия: очажные подставки, увенчанные бараньими головками, канелированные обрамления очагов. Разрабатываются новые или же получают широкое применение известные ранее технологические приемы: срезывание готовых сосудов нитью с гончарного круга, заглаживание поверхности сильно увлажненной тряпицей, декорировка пятнами красного ангоба. В середине V в. из обихода вытесняются вазы на высокой ножке, появляются конические чашевидные кубки на дисковидном поддоне, покрытые красным ангобом сплошь внутри и в верхней половине сосуда снаружи (табл. 16, 14). Кувшины разных размеров часто расписываются свободно выполненными кругами, спиралями и широкими полосами (табл. 16, 5, 16; 22, 6, 8, 10–12, 15, 16; 23, 14). Чашевидные кубки на дисковидном поддоне отмечены Г.В. Григорьевым как ведущая форма комплекса керамики ТБ IV (Григорьев, 1940, с. 95–100, рис. 6) (табл. 16, 14; 22, 5; 23, 2, 3, 7). Они восходят к сосудам почти такой же формы, но с другим дном, из слоя ТБ III. Керамика Согда V–VIII вв. сравнительно хорошо изучена и в ряде районов является надежным датирующим материалом. Наиболее дробная стратиграфическая колонка разработана для Пенджикента (Маршак, 1964, 1965, 1970; Распопова, 1970; Беленицкий, Маршак, Распопова, 1981, с. 95–99, рис. 2, 3). Общесогдийский стиль керамики складывается только к концу VII в. До этого времени трудно назвать общесогдийские формы керамики. Это связано с обособленностью отдельных гончарных центров и мастерских. Лепная керамика V–VI вв. по технике изготовления (лепка нижней части сосуда в миске) и по формам мисок, чаш, котлов сходна на большой территории по всей долине Кашкадарьи и в верховьях Зеравшана, начиная от Пенджикента (Исамиддинов, Сулейманов, 1984, с. 101–125; Ставиский, 1959, с. 79–80). Для центральных районов Самаркандского Согда этого и последующих периодов лепная керамика не характерна. В Аултепе — усадьбе V–VI вв., керамика которой испытывала сильное влияние Центрального Согда, почти нет лепной керамики, но на других памятниках долины Кашкадарьи ее много (Кабанов, 1963, с. 210–230, рис. 11, 2; 23, 2, 3; 1981, рис. 12, 16). Наиболее существенна для датировки столовая посуда, изготовленная на гончарном круге, — чаши (в том числе чашевидные кубки) и кувшины небольших размеров (до 4 л). Для долины Кашкадарьи V–VI вв. особенно характерны небольшие кувшинчики с широким горлом, наряду с которыми встречаются чаши, близкие по профилю к чашевидным кубкам Самаркандского Согда (Исамиддинов, Сулейманов, 1984, с. 99 и сл. рис. 50, 52). В Пенджикенте для V–VI вв. имеется несколько сменяющих друг друга комплексов керамики (Маршак, 1964, 1965). Комплексы I (V в.) и II (конец V — начало VI в.) весьма сходны по набору столовой посуды, причем ведущей формой являются чашевидные кубки нескольких разновидностей, некоторые из них соответствуют кубкам ТБ IV. Основное различие между этими комплексами в том, что для более раннего из них характерны крупные лепные сосуды (хумы и кувшины) с венчиками, изготовленными на круге. Комплексы III, IV, V/2, V/3 относятся к VI в. В комплексах III, IV ведущей формой становятся небольшие чаши с желобчатым краем и росписью в виде креста на внутренней поверхности (табл. 22, 14). Подобные чаши существовали и в более раннее время. К концу VI в. производство этих чаш падает и на смену им в качестве ведущей формы приходят засвидетельствованные уже в комплексе III высокие чаши со слегка сужающимся плечиком (конические кубки), также окрашенные сплошь красным ангобом внутри и по плечику снаружи. Не менее существенные изменения прослеживаются также по всем другим формам керамики: столовым кувшинам, широкогорлым сосудам с ручками и рожком, водоносным кувшинам, котлам. Лепная, в основном кухонная, керамика с конца V–VI в. стабильно составляет около 20 % всей посуды. При этом на протяжении VI в. наблюдается резкое увеличение доли столовой посуды в общем наборе керамики. Приблизительно к середине VII в. в Пенджикенте относится комплекс VI, керамика которого по своему общему облику (в частности, по широкому распространению красного ангоба) напоминает керамику предшествующего периода, но для этого комплекса характерны новые формы сосудов, в том числе чаш. Появляются чаши с вертикальным приостренным краем и низкие конические чаши (табл. 23, 1, 6). На конец VII в., как уже отмечалось, приходится сложение нового стиля керамики, который засвидетельствован на всех памятниках Согда (Маршак, 1961). Традиционные формы V–VI вв. — чашевидные кубки, красноангобированные кувшины с рожком, кувшины с ангобными кругами по тулову, многие другие формы красноангобированных чаш и кувшинов — сменяются низкими тарелками, иногда украшенными оттисками штампа, кружками со скобовидной или кольцевидной ручкой, грушевидными кувшинами с массивным треугольным сливом. Фактура и декор столовой керамики также резко меняются. Становится редким обязательный прежде для столовой посуды красный ангоб. Сравнительно широко распространяется орнаментация штампованными и налепными рельефами. Некоторые кувшины и кружки имели желтоватую лощеную поверхность. В формах и декоре столовой посуды постепенно появляется подражание металлическим образцам. Такова общая тенденция развития керамики в Согде, которую можно объяснить тем, что в конце VII в. у согдийцев вырабатываются единые вкусы и запросы во всех частях страны. Это связано с тем, что с развитием городского образа жизни низшие слои горожан в быту все более подражали высшим. Надо отметить, что в разных гончарных центрах новые тенденции проявлялись с разной степенью интенсивности. Наиболее ярко новый стиль проявился в керамике Кафыркалы, для которой характерно небольшое число форм, сосудов, при этом они очень тщательно отработаны в подражание серебряной посуде (Григорьев, 1946; Маршак, 1961; Бентович, 1973, рис. 28). В Кафыркале была широко распространена посыпка керамики слюдой, придававшая поверхности сосуда почти металлический блеск. Для кружек и чаш обычны штампованные рельефы в виде гранатов, веток, козлов, человеческих лиц. Для кувшинов типичен налепной орнамент (табл. 25, 5; 27, 7, 8). Гончарное производство этого центра было высокотоварным. Его продукция обнаружена не только в соседнем Тали-Барзу, где ее очень много, но и на Афрасиабе, в Пенджикенте, в Чилеке. По-видимому, существовали и другие гончарные центры, в которых вырабатывался новый стиль, поскольку целый ряд характерных для него форм столовой посуды отсутствует на Кафыркале, например, кружки и чаши с волнистым бортом (табл. 27, 3, 12). В Бухарском регионе производилась и станковая и лепная посуда. Корчаги часто покрыты потеками, каплями и небрежными мазками ангоба красно-коричневых оттенков. Так же, как и для районов Согда, лежащих выше по течению Зеравшана, для Бухарского оазиса со второй половины IV в. или с начала V в. становятся на некоторое время обычными широкогорлые корчаги с широким и коротким носиком-сливом на плечике. Но бухарская форма отличается абрисом тулова и венчика, либо массивного с бороздками, либо резко отогнутого (табл. 21, 32, 34). Ручка этик корчаг в отличие от маленького ушка центральносогдийских сосудов была примерно такой же, как и у кувшинов. Изготовлялись кувшины разных форм и пропорций, с ручками и без ручек, узкогорлые и широкогорлые; они были неангобированными или, как и корчаги, покрывались потеками красного ангоба (табл. 21, 2, 5, 10, 16, 17, 19, 21, 26–28). Для чаш наиболее характерны конические формы с бортом, выделенным ложбинкой, покрытые красным ангобом (табл. 21, 9, 12–15). Снаружи ангобное покрытие, либо сплошное, либо полосой по краю, приобретало черный оттенок благодаря особому режиму обжига. Керамические воронки (табл. 21, 8, 11) и фляги разных размеров (табл. 21, 24) дополняли ассортимент посуды, изготовленной на гончарном круге. Для выпечки мучных изделий употреблялись плоские сковороды с невысоким бортиком (ср. табл. 16, 19). Небрежно вручную лепились, так же, как и сковороды, плоскодонные с бортом переносные жаровни. Слабый обжиг они приобретали, видимо, уже в процессе использования. В IV–VII вв. в обиходе согдийцев становятся обычными полуобожженные или обожженные роговидные, трапецеидальные и других форм предметы, определяемые как очажные подставки для установки котлов. Обычно в подставке делалось углубление или сквозное отверстие, возможно, для удобства перемещения ее с помощью металлического стержня или даже прута. Их поверхности несут следы копоти или только воздействия жара. Большой развал подставок преимущественно трапециевидного абриса найден возле кухонного помещения VII в. на городище Дурмен. Подставки вытянутых пропорций использовались там же для ремонта очага, а фрагменты их лежали возле его стенки. В Пенджикенте с конца VII по 70-е годы VIII в. прослеживается постепенное изменение керамики. В начале этого периода отдельные образцы сосудов нового стиля встречаются вместе с керамикой, близкой к комплексу VI. Следует отметить, что они появляются в готовом виде без каких-либо переходных форм (табл. 27, 2–6, 9, 10, 13). Позднее в столовой посуде наблюдается увеличение доли кружек и соответственно уменьшение доли чаш. К концу периода становится больше лепной столовой посуды, среди которой нужно отметить кружки и чаши с волнистым бортом — попытки подражать формам гончарных кружек и чаш нового стиля (табл. 25, 7, 8). Такая столовая лепная посуда производилась, по-видимому, сельским населением, но в Пенджикенте она широко распространяется только в момент упадка города в третьей четверти VIII в., тогда как во дворце Гардони Хисор в горном селении Мадм и в расположенной неподалеку от него крепости Кум эта керамика характерна уже для первой четверти VIII в. (Якубов, 1979, с. 160). Хотя в Пенджикенте встречается высокохудожественная керамика как кафыркалинского производства, так и, по-видимому, местного, но в целом керамика Пенджикента имеет более скромный облик (Бентович, 1964). Подражание металлу выступает в ней не столь отчетливо, как в Кафыркале. В хозяйственной керамике Согда во второй половине VII в. также наблюдаются значительные изменения. Отметим из них только некоторые, наиболее характерные. Водоносные кувшины, которые в V–VI вв. были без ручек, теперь приобретают вертикальную ручку и примятый слив напротив ручки (табл. 16, 16; 27, 16). Появляются кувшины с трубчатым носиком, широким раструбом, прижатым к венчику (табл. 16, 10). Широкогорлые сосуды, приспособленные для переноски пищи, ранее имели две ручки, которые теперь заменяются четырьмя сквозными отверстиями под венчиком для продевания веревки (табл. 27, 14). Лепная кухонная керамика также меняется. Распространяются крупные плоскодонные котлы, изготовленные на поворотной подставке (Бентович, 1964, рис. 30, 11). На Афрасиабе в последние десятилетия VIII в. керамика характеризуется новыми типами кружек без слюды со срезами по плечику вместо штампованных рельефов. К этому же времени относится появление глазурованной керамики (Тереножкин, 1950, рис. 69, XI; 1951, с. 137; Кабанов, 1971, с. 251–254; Шишкина, 1979, с. 21–24). Новый стиль в керамике Согда в конце VII–VIII в. не был изолированным явлением. Аналогичные тенденции прослеживаются в керамике Хорезма и Тохаристана. Неоднократно отмечалось и прямое влияние согдийской керамики на керамику Чача, Ферганы и Семиречья (Тереножкин, 1950, с. 161; Неразик, 1959; Распопова, 1960, с. 162; Левина, 1971, с. 188; Горбунова, 1979а, с. 67–71).Орудия труда.
Из орудий труда до нас дошли связанные с кузнечным ремеслом наковальня в виде железного слитка овальной формы весом 4,7 кг, упоминавшиеся уже глиняные сопла, пробойники и зубила[8]. Кроме того, сохранилась роспись, изображающая кузнечную мастерскую, где виден горн с мехами. В руках у молотобойца односторонний молот, кузнец держит клещи. От оборудования ювелирных мастерских сохранились небольшая железная наковальня клиновидной формы с квадратной рабочей площадкой (5×5 см), наковальня-шпераки, тигли из огнеупорной глины вытянутой формы, с округлым дном, с примятым сливом объемом до 250 см3, бронзовые матрицы для тиснения тонкого листа цветного металла. Молотки небольших размеров могли употребляться как кузнецами, так и ювелирами. Инструменты по обработке дерева представлены довольно полно. Это топор-колун, тесла, скобель, теши, цалды, стамески, долота, обломок токарного резца по дереву. От орудий труда шорника и сапожника сохранились шилья. Из сельскохозяйственных орудий найдены серпы, лопата, обломки кетменей, наконечник плуга. Лопату и кетмень нельзя считать специфическим орудием сельского хозяйства, так как они необходимы и в городских условиях, например, при строительстве глинобитного сырцового дома. Ножи с изогнутым лезвием использовались при работах в саду (табл. 28, 29, 30). Орудия труда, найденные в Согде, очень похожи на орудия труда, происходящие с других территорий и относящиеся к другим эпохам, например, на орудия салтово-маяцкой культуры. Это объясняется рациональностью форм, выработанных еще в древности и продолжавших употребляться до недавнего времени.Вооружение и доспехи.
Вооружение и снаряжение согдийского воина мы можем представить себе довольно полно благодаря живописным изображениям Пенджикента, Афрасиаба, Варахши, а также благодаря предметам вооружения, найденным при раскопках. Из Пенджикента происходят костяные срединные накладки на лук, железные наконечники копий. В Пенджикенте и на Афрасиабе найдены железные мечи и перекрестия от мечей. Железные наконечники стрел найдены на всех основных памятниках Согда. Защитные доспехи представлены кольчужными кольцами и пластинами от панцирей ламеллярного типа. Благодаря находкам с горы Муг и многочисленным подробным изображениям воинов в живописи мы можем представить себе все виды наступательного и оборонительного вооружения согдийцев VII–VIII вв. По батальным сценам мы также можем судить о некоторых тактических приемах боя у согдийцев. Лук и стрелы применялись для прицельной стрельбы по бронированным всадникам. Наконечники стрел в большинстве своем бронебойные. Стрелы, достигавшие длины около 90 см, снабжались стабилизаторами из четырех или даже шести перьев. Сохранность стабилизаторов обеспечивалась ношением стрел оперением вниз в расширяющемся книзу колчане тюркского типа. Применялись колчаны и другого типа, в которых стрелы помещались оперением вверх. Луки носили обычно по два в налучье со спущенной тетивой. Луки были сложносоставными со срединными накладками. Налучье и колчан носили на особом стрелковом поясе. Наконечники стрел весьма разнообразны, среди них выделяются трехлопастные. Большинство стрел трех- и четырехгранные. Четырехгранные подразделяются на квадратные, ромбические и прямоугольные в сечении. По форме боевой части все эти наконечники делятся на пирамидальные, бипирамидальные, у которых часть, обращенная к черешку, короче и менее отчетлива, пирамидально-призматические с коротким пирамидальным острием и пятиугольные в профиле с прямым основанием. Кроме того, у некоторых наконечников разных форм имеется порожек. Размеры наконечников стрел сильно варьируют (табл. 28, 3–8). Длинные кавалерийские копья с гранеными и плоскими наконечниками применялись для таранного удара (табл. 28, 9). Длинные прямые колющие мечи характерны именно для согдийского вооружения. Кроме того, найден меч, напоминающий римский гладиус (табл. 28, 1). Оборонительные доспехи защищали воина с головы до ног. Кольчужные рубахи закрывали ноги ниже колена и руки ниже локтя. Часто вместо кольчуги употреблялся панцирь из прошнурованных пластинок (так называемые ламеллярные доспехи), не имевший рукавов. Он дополнялся кольчужным оплечьем с рукавами. Оплечье иногда было покрыто орнаментированной кожей. Наручи и поножи имели продольный шарнир и затвор. Они обычно набирались из мелких пластинок. Имеются изображения поножей из больших пластин и кольчужных «чулков». Шлемы были пластинчатые, плавноизогнутой формы, вытянутые кверху. Они имели нащечники и кольчужную бармицу. Иногда применялась кольчужная сетка для защиты лица. Некоторые шлемы были снабжены наносниками. Щиты воинов были круглые, небольших размеров, усиленные металлическими бляхами и умбоном. Деревянный и тонкий щит предводителя, найденный на горе Муг, не имел умбона. Следы нескольких попаданий стрел в средней его части свидетельствует о прицельном характере стрельбы и о боевом, а не парадном, как это принято считать в литературе, назначении щита. В конце VII–VIII в. у согдийского воина было два пояса: верхний — с мечом и кинжалом и нижний — стрелковый. Верхний пояс всегда, а нижний — во многих случаях были украшены накладными бляшками. Почти все части поясных наборов найдены в слоях первой четверти, середины и третьей четверти VIII в. и имеют аналоги в синхронных памятниках Средней и Центральной Азии и Сибири. Согдийский поясной набор складывается под прямым влиянием тюркского, но наряду с тюркским в нем есть и местные элементы. Вещи тюркских типов изготавливались и согдийскими мастерами, например, в Пенджикенте (табл. 29, 1-23, 27–30). На большинстве изображений боевых коней видны изогнутые рычаги мундштучных удил, от нижнего конца которых отходит повод. Такие удила обычно сопровождались металлическими намордниками. Мундштучные удила известны по находкам и изображениям в Иране, а намордники — в Иране и Индии. Однако единственные найденные в Пенджикенте удила относятся совсем к другому типу. Они железные двусоставные с прямыми псалиями, снабженными прямоугольными петлями. Мундштучные удила применялись в тяжелой строевой кавалерии. Удила с псалиями не имели специализированного назначения. Седла были снабжены парой стремян. Украшения ремней сбруи состояли из накладных бляшек и подвесных блях. Кроме того, кони предводителей имели шлемовидную налобную бляху с султаном.Костюм.
Одежда согдийцев известна нам в основном по росписям, которые позволяют проследить ее развитие. В согдийской живописи имеются изображения богов, эпических героев, фантастических существ, иноземцев — тюрок, китайцев, индейцев, арабов. Поэтому наиболее надежным источником для реконструкции могут служить изображения донаторов — современников художников. На рубеже V–VI вв. согдийцы носили короткие кафтаны, доходившие до бедер, шаровары, заправленные в узкие сапоги с высокими голенищами. В VI в. общий тип костюма остается прежним, но появляются характерные сасанидские ленты на обуви. Низ кафтана одного из персонажей оформлен в виде больших треугольников. Поверх кафтана надет застегнутый на груди плащ. Во второй половине VII в. кафтан удлиняется почти до щиколоток. Кафтаны бывали как распашными с отворотами, так и нераспашными. Поверх кафтанов иногда носили плащи. Покрой одежды мало изменяется к первой половине VIII в. Изменения касаются тканей, из которых шилась одежда. Во второй половине VII в. в моду вошли ткани с кольцами «перлов», внутри которых помещали изображения птиц, кабанов, крылатых львов. Наряду с этими тканями в первой половине VIII в. употреблялись камчатые шелка и танские шелка со сложными розетками. По изображениям убитых воинов можно судить о нижней одежде, которая состояла из коротких штанов и нательных рубашек с длинными рукавами. Историю женского костюма проследить гораздо труднее, поскольку для V–VII вв. известны главным образом изображения богинь. В первой половине VIII в. женщины-донаторы и женщины в сказочных сценах имеют костюм, очень близкий к мужскому. Женщины заплетали две косы, девушки — пять. В иллюстрациях к литературным произведениям женские персонажи нередко имеют более сложный костюм: поверх кафтана надета пелерина с четырьмя фестонами (на груди, спине и плечах). Встречаются изображения женщин в платьях (Бентович, 1980, рис. 4, б). В V–VI вв. согдийский костюм имеет черты кушанского и сасанидского. В VII–VIII вв. он приобретает сходство с костюмом тюрок. Общее направление развития костюма в Согде совпадает, несмотря на ряд специфических особенностей, с направлением развития костюма других среднеазиатских и восточно-туркестанских народов.Украшения и предметы туалета.
Согдийский костюм часто дополнялся серьгами, бусами, браслетами, перстнями, изготовленными из золота, серебра, а по большей части из бронзы. Иногда они имели вставки из полудрагоценных камней и стекла. Золотые серьги были найдены в обходной галерее первого храма Пенджикента. По форме овальных медальонов и технике изготовления эти серьги аналогичны золотым медальонам на ожерелье из Михаэльфельда близ Анапы, золотым вещам из находок 1868 г. у р. Морской Чулек, медальону из Чми. К ним также близки медальоны из ожерелий и от портупей, найденных в с. Глодосы (Банк, 1966, с. 14, рис. 101; Кондаков, 1896, с. 177, 193–195, рис. 104–106; Артамонов, 1962, с. 77; Смiленко, 1965. табл. I, II, VII). Все перечисленные вещи инкрустированы крупными камнями. Важными элементами изделия являются зернь, идущая по краю медальона и вокруг гнезда для вставки, и сканная косичка между рядами зерни. Пенджикентские находки на основании этих аналогий следует датировать VI–VII вв. Ювелирные изделия свидетельствуют о византийско-согдийских связях. Надо отметить, что изделия византийского типа из Пенджикента, скорее всего, изготовлены в Согде. Пенджикентские медальоны серег отличаются от византийских по набору камней. В Пенджикенте были и бронзовые украшения, являющиеся репликами золотых. Бронзовые серьги, найденные в слоях VIII в., имеют аналогии в находках из оседлых поселений Средней Азии и Афганистана, из могильников Памира, Тянь-Шаня и Семиречья. Более отдаленные аналогии имеются в погребениях Сибири. Широко были распространены в Согде бусы из различных цветных камней, жемчуга, кораллов, янтаря, стекла, а также каменные подвески, носившиеся, как известно по изображениям в Балалыктепе, на широкой ленте (табл. 16, 2) (Альбаум, 1960, рис. 117, 118). Бронзовые браслеты, находимые при раскопках, немногочисленны и просты по форме. Более часты округлые в сечении со срезанными концами. Браслеты, изображенные на росписях Афрасиаба и Пенджикента, посередине имеют вставку с цветным камнем и переданы желтым цветом, как обычно изображается золото. Перстни составляют одну из самых больших групп украшений (их более 50 экз. в Пенджикенте), причем значительная часть их служила печатями. Перстни-печати из разных по ценности материалов имела не только знать, но и рядовые горожане. Об этом свидетельствуют находки их в жилищах рядовых горожан и в лавочках-мастерских. Распространенность печатей можно объяснить развитой деловой жизнью, когда все юридические акты (договоры об аренде, о купле-продаже, брачные договоры) скреплялись печатью. Таким образом, обилие печатей показывает, что рядовой горожанин выступал как лицо юридически самостоятельное. Перстни-печати характерны для народов Средней Азии и ее южных соседей, причем перстни с шипом и изображением на щитке особенно типичны для Согда (табл. 29, 34, 35, 49–53, 55, 60). Не случайно полное отсутствие перстней-печатей в могилах поздно перешедших к государственности тюрок. Весьма распространены были подвески в виде человеческих фигурок, конька, кувшинчика и других амулетов, а также многочисленные бубенчики (табл. 29, 39, 42). Зеркала были круглые, как без ручки, так и с петелькой, гладкие и орнаментированные концентрическими кругами или циркульным орнаментом (табл. 28, 24, 27). Зеркала с ручками на двух опорах, расположенных по диаметру зеркала, в Согде представлены только горизонтальными ручками, с двумя протомами коней (табл. 28, 26). Они восходят к очень древним прототипам (луристанские бронзы) и известны в парфянском Иране. Имеется также обломок привозного танского зеркала.Металлические сосуды.
В быту согдийской аристократии была распространена посуда из драгоценных металлов. Произведения согдийских торевтов дошли до нас в достаточно большом количестве, но все они найдены случайно. Б.И. Маршак, изучивший эти материалы, показал, что в Согде и на сопредельных с ним территориях существовали самостоятельные школы торевтов (Маршак, 1971а). Из раскопок происходит лишь серебряный с позолотой медальон, изображающий так называемого Киртимукху. Он найден при разборке кладки городской стены Пенджикента VII в. Медальон выполнен в технике чеканки с оборота с последующей разделкой с лица и служил, скорее всего, центральной накладкой на серебряную чашу. Иконография его характерна прежде всего для пенджикентских вариантов этого образа в терракоте и необожженной глине. Несколько отличные изображения Киртимукхи были широко распространены в Средней Азии и Восточном Туркестане. Медальон, безусловно, является произведением согдийского торевта. Из кладовой жилища рядового горожанина Пенджикента первой четверти VIII в. происходят зооморфный бронзовый сосуд в виде быка и светильник на трех ножках с резервуаром в виде чаши. Светильник с резервуаром в виде бронзовой чаши на ножке из литых бронзовых «балясин» и железных стержней (табл. 28, 31) аналогичен светильнику позднесасанидского времени из Касри-Абу-Наср, который в отличие от согдийского состоит только из бронзовых частей (Hauser, Upton, 1934). Кувшин (табл. 28, 28) и довольно многочисленные чаши из бронзы отличаются простотой форм. Чаши относятся к слоям середины и третьей четверти VIII в. К этому же времени относятся найденные сосудики для косметики (табл. 28, 23). Надо отметить находки серебряной (табл. 29, 54), бронзовых (табл. 28, 20) и железных ложек.Бытовые предметы.
Судя по находкам ключей и замков, в Согде было три типа запоров: навесной цилиндрический замок с пружиной (табл. 28, 21, 22), который для стран Востока (Таксила) характерен с V в. (Marshall, 1951, т. II, р. 544; т. III, pl. 164, 50, p. 184), деревянный замок с «желудями» и, вероятно, замок, открывающийся поворотом ключа. Ниши от запора обычны не только для входов в дома, но и для некоторых помещений внутри дома, что характеризует типичный для торгового города уклад жизни. При раскопках согдийских городов и поселений найдены бронзовые и железные обоймицы, железные скобы, накладки, гвозди, дверные цепочки, бронзовые стили (табл. 28, 19) и даже кресало (табл. 28, 11). Глиняные и алебастровые круглые низкие столики на трех и более ножках служили, видимо, для раскатывания теста. Можно упомянуть разнообразные терки из камня. В торговле использовались каменные гири в виде необработанных галек с выбитым на них обозначением веса по-согдийски. Найдены бронзовые весы, напоминающие современные аптекарские. Иногда встречаются так называемые сумаки из трубчатых костей животных — принадлежность детской колыбели. Довольно часты находки глиняных погремушек, игрушечной детской посуды, точно имитирующей сосуды, бывшие в употреблении, игральных костей, кубических и продолговатых, альчиков с железной оковкой и т. д.Погребальный обряд.
Для Согда характерны погребения очищенных от мягких покровов костей в специальных глиняных оссуариях (табл. 36), которые иногда заменяли хумами (Ставиский, Большаков, Мончадская, 1953; Grenet, 1984). Оссуарии помещали в семейные склепы — наусы или, реже, в грунтовые могилы. В наусы, кроме оссуариев, помещали сосуды, по-видимому, с погребальной пищей, иногда золотые монеты или брактеаты. Самые ранние согдийские наусы относятся к V–VI вв. Формы и убранство оссуариев весьма разнообразны. Для разных районов Согда характерны разные формы оссуариев. Для Центрального Согда и долины Кашкадарьи — прямоугольные оссуарии со штампованными стенками, часто украшенными изображениями богов (Борисов, 1940; Ставиский, 1961; Пугаченкова, 1975, 1984; Павчинская, 1983; Дресвянская, 1983; Лунина, Усманова, 1985). В Пенджикенте, как правило, оссуарии овальные. В Самарканде встречаются и прямоугольные, и овальные с налепными рельефами. В Пенджикенте, кроме оссуарных захоронений, зафиксирован могильник, в котором погребения оссуарного типа сочетаются с трупоположениями. Инвентаря в этих погребениях почти нет (печатка в виде ложного перстня и нательный бронзовый крест). По-видимому, разные типы погребений связаны с разными вероисповеданиями погребенных (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1980, с. 243–245; Беленицкий, Маршак, Распопова, Исаков 1982, с. 217–218). Возможно, в IV в. возникает большой оссуарный некрополь на месте опустевших к тому моменту городских кварталов древнего Самарканда (городище Афрасиаб). Разрушенные позднее, при новом росте города, мавзолеи-наусы оставили нам лишь отдельные фрагменты оссуариев да перезахороненные в развалины древних крепостных стен кости в сопровождении фрагментированной керамики, давшей возможность определить время захоронений (или перезахоронений) не позднее первой половины V в. н. э. Орнаментация же самих оссуариев, найденных на месте спланированного под новую застройку некрополя, представлена только ранними ее типами, композицией и элементами декора восходящими к керамическим гробам первых веков н. э. Восточного Средиземноморья. Легко узнаются прототипы декора лицевых стенок с налепным валиком-оборочкой и оттисками эллинизированных головок (табл. 36, 12, 15). Более поздний оссуарный некрополь Самарканда был вынесен за пределы Афрасиаба, т. е. за кольцо древнейших оборонительных сооружений города. И его оссуарии своей орнаментикой уже сильно отличаются от ранних. Теперь преобладают процарапанный орнамент елочкой, крупные розетки, стреловидные прорези (табл. 36, 6, 7, 9, 10). Особое место занимают способ изготовления и декор оссуариев VII в., находимых в Самаркандском Согде пока только за пределами Самарканда. Здесь распространился тип прямоугольного оссуария, стенки которого оттиснуты в орнаментированной матрице. Сюжеты хотя и достаточно разнообразны, но композиция и отдельные элементы их восходят все также к западным образцам погребальных памятников. Преобладает арочное членение плоскости стенки оссуария с фигурами в пролетах между колонн (табл. 36, 2, 4, 8). Эти же типы оссуариев существовали и в Южном Согде. Представленные в одном случае четырехрукие персонажи заставляют вспомнить индуизированных богов согдийского пантеона из Пенджикента (табл. 36, 14). Однокамерные согдийские наусы известны по раскопкам в округе городища Пенджикент. Это небольшие сводчатые постройки с низким лазом, обычно закрытым кладкой, разбиравшейся при необходимости совершить новое захоронение. Оссуарные погребальные сооружения Бухарской области сильно отличаются от пенджикентских. Некрополь на всхолмлении близ Пайкенда представлял собой цепочку монолитных квадратных в плане сооружений — башенок, подъем на которые осуществлялся по пандусу. Их назначение не совсем ясно. Они могли служить семейными дахмами, где выставлялись трупы. Такое предположение подкрепляется характером наслоений, прилегающих к кладкам. Слои разрушения сооружений содержат отдельные фрагменты оссуариев и случайные мелкие кости. При разрушении науса следовало бы ожидать обилия как фрагментов оссуариев, так и костей. Причем в описываемом комплексе был вскрыт двухкамерный наус. Одна из камер была продолговатой комнатой с суфами вдоль трех стен. Перед началом использования науса на полах и суфах был разведен огонь, после чего помещение было вычищено, а суфа посыпана семенами дикого растения. Вторая камера была пристроена к первой. Она не имела суфы, но, возможно, и не была достроена, чему помешало арабское завоевание. Расчистка первой функционировавшей камеры выявила картину разгрома. Оссуарии и крупные бытовые сосуды, видимо также содержавшие кости, были сброшены с суфы и раздавлены. Нарочито раздавлены были и выпавшие из сосудов черепа. На месте остались лишь детский оссуарий и прижатая к стене полусферическая чаша. Эта чаша, кувшин и железный нож свидетельствуют о сохранении древнего обычая сопровождать усопшего пищей и необходимым инвентарем. Наус не был обособленным строением, но общей стеной соединялся с одним из квадратных сооружений, что, скорее всего, подтверждает их разное функциональное назначение. Сочетание дахмы или ката с наусом могло быть распространенным явлением в Согде. Близ городища Дурмен начато вскрытие квадратного сооружения, подвергавшегося многочисленным перестройкам, в процессе которых в кладках и под полами оказались фрагменты оссуария, а в одной из двух открытых камер в анатомическом порядке лежал скелет. На невысокую пахсовую платформу, лежащую в основании сооружения, вел пандус. В какой-то из периодов функционирования кубический объем здания венчали V-образные зубцы. Наусы, построенные близ стен самаркандской крепости Кафыркала, были однокамерные. Пристроенные один к другому, они вытянулись цепочкой на небольшом всхолмлении. Исповедники религии, требовавшей захоронения очищенных костей, не всегда тщательно готовили место погребения и часто для этой цели использовали заброшенные загородные усадьбы, еще сохранившие стены и перекрытия. Так поступали жители сельской округи Самарканда (усадьба близ Кафыркалы) и города Пенджикента. Скотоводы долины Зеравшана продолжали хоронить своих умерших традиционно в ямах с подбоем под земляной или каменной насыпью. Несколько курганных могильников располагаются у подножия горного отрога к югу и юго-западу от Самарканда. У выхода на равнину Сазаган раскопано несколько курганов V в. (Обельченко, 1966, с. 66–81). Захоронения были сделаны либо в простых грунтовых ямах, либо в подбоях, перпендикулярных к очень узкой и длинной впускной яме. Покойника укладывали на деревянный настил или носилки головой на восток, рядом ставили заупокойную пищу в кувшинах или флягах. В одном случае недалеко от входа в подбое стояла лепная чашевидная курильница на невысокой ножке, заполненная пеплом. Роль курильницы в другом погребении выполнял обломок керамического котла. Входы в подбой закладывались продолговатым сырцовым кирпичом. Грунтовые могилы и впускные ямы засыпались камнем с землей, из которых возводилась и курганная насыпь. Значительная часть утвари согдийских скотоводов была ремесленного производства и приобреталась на рынках. В сазаганских погребениях почти вся посуда изготовлена на гончарном круге. Исключение составляют лепная курильница и широкогорлый сосуд из грунтовой могилы — оба предмета домашнего изготовления и несовершенного обжига. У одного из погребенных на груди оказалась серебряная скифатная монета, с головой в профиль на одной стороне и сильно схематизированной фигурой лучника на другой. Монета, по всей видимости, была положена в рот покойника, как это было в обычае с глубокой древности, хотя у местного населения она могла быть связана с иным представлением о загробных нуждах. О переходе какой-то части скотоводческого населения Согда к труповыставлению и погребению очищенных костей могут дать представление захоронения костей в сосудах, погребенных в насыпи более ранних курганов Бухарской области (Обельченко, 1959, с. 94–99). В Кую-Мазарском могильнике найдены три хума с костями. Один из них был прикрыт и обложен вокруг фрагментами хумчи, имевшей три петельчатые ручки, трубчатый слив и орнамент на плечиках в виде зигзага и полосы насечек. Все эти сосуды бытового назначения и не были специально изготовлены для погребального обряда. Но сосуд, обнаруженный в Лявандакском могильнике, уже предназначался для захоронения костей. Сформованный как привычный бытовой сосуд типа хумчи, он отличается орнаментикой плечиков из верхнего ряда стреловидных прорезей и ряда узких углублений под ними. Сосуд был прикрыт чашей и вкопан в полу курганной насыпи. Вслед за этими сосудами-оссуариями появляются костехранилища в виде ящика с крышкой. В районе Кую-Мазарского могильника найден на берегу островка водохранилища овальный оссуарий с округлой крышкой. На гладкие неорнаментированные стенки налеплены полые рожки (Обельченко, 1959, с. 102–104), в которых могли крепиться устои балдахина. Об обычае помещать над оссуариями подобное устройство известно по рисунку на серебряном блюде. Однако преобладание погребального обряда захоронения очищенных костей не означает полного отсутствия в согдийской раннесредневековой обрядовой практике древнейшего способа погребения — трупоположения. В развалинах опустевшей и разрушенной к тому времени усадьбы Кызылкыр была погребена женщина. На ее шее были надеты пять низок мелких жемчужных бусин с тремя золотыми пронизями в форме параллелепипеда (22×15×15 и 18×15×13 мм) с зернью и гнездами для утраченных камней. Ворот и подол длинного истлевшего платья были отделаны золотыми полусферическими бляшками (диаметр 8 мм) с железным ушком для крепления. В ногах было положено бронзовое зеркало со штырем для несохранившейся ручки (Культура…, 1983, с. 31). Таким образом, прослеживая по археологическим материалам историю согдийской культуры с V по VIII вв., мы видим неуклонное развитие городской жизни, которая достигает высокого уровня после середины VII в. Интенсивная внутренняя эволюция сочетается с усилением внешних связей, успехами торговли и колонизационной деятельности согдийцев. В археологическом материале отразился культурный обмен между Согдом и современными ему цивилизациями. Особенно интенсивны были связи с миром тюркских степей.Глава 4 Чач и Илак (Ю.Ф. Буряков, М.И. Филанович)
В эпоху средневековья в бассейне Средней Сырдарьи и ее правых притоков (Ахангаран, Чирчик, Келес) и в прилегающей к долине степной левобережной зоне сложился крупный историко-культурный регион с самобытной культурой и своеобразным хозяйством, ядром которого являлся Ташкентский оазис. Регион включал два феодальных владения — Чач и Илак, тесно связанные между собой политически, и экономически. Илак, известный своими рудными богатствами, входил в состав Чача на правах особой области.
Карта 4. Чач и Илак. а — крупный город; б — малый город; в — поселения; г — культовые места; д — переправы; е — современный город; ж — средний город; з — рудники; и — транзитный путь; к — внутренний путь. 1 — Кавардан; 2 — Кавардан, наусы; 3 — Актепе, за́мок и храм огня; 4 — Мингурюк; 5 — Ханабад; 6 — Актепе, за́мок; 7 — Тугайтепе; 8 — Ногайтепе; 9 — Кулаклитепе; 10 — Майтепе; 11 — Шишкурган; 12 — Турткультепе; 13 — Шаматепе; 14 — Югаитепе; 15 — Каунчи; 16 — Тойтепе; 17 — Кендыктепе; 18 — Искитепе; 19 — Шаушукумтепе; 20 — Чиназтепе; 21 — Актепе; 22 — Турткультепе; 23 — Кыркджанчи; 24 — Канка; 25 — Шаркия; 26 — Аккурган; 27 — Ошхона; 28 — тепе у совхоза им. Мичурина; 29 — Мазартепе; 30 — Кульата; 31, 32 — Италах; 33 — Ангрен; 34–49 — места древних выработок.
Природно-климатические условия этого региона, характеризуются большим разнообразием. Район включает ряд ландшафтных зон. На востоке его ограждают отроги Тянь-Шаня, Чаткальский и Кураминский хребты которого окружают оазис подковой и ниспадают к реке адырами. На севере оазис открыт безбрежной Казахстанской степи. Природные условия способствовали развитию в области многоотраслевого хозяйства. Горные районы с разнотравьем и арчевником были прекрасными пастбищами для отгонного скотоводства. Адыры предгорий являлись зоной богарного земледелия и использовались также под пастбища, благоприятные для зимнего и осенне-весеннего содержания скота. На равнинах, в долинах рек развивалось поливное земледелие, садоводство, выращивались бахчевые и технические культуры. Недра гор богаты полиметаллами, особенно серебром и золотом. Комплексность хозяйственно-культурного потенциала Чача и Илака и его особенности определялись, во-первых, их расположением на границе между оазисами с древнеземледельческой культурой и кочевой степью, в зоне активных экономических контактов кочевых и оседлых народов и сложных миграционных процессов; во-вторых, интенсивной разработкой богатых рудных месторождений с преимущественной добычей благородных металлов; в-третьих, постепенным перемещением на север основных торговых путей, соединивших страны Среднего и Ближнего Востока с Китаем, и активным включением в торговлю скотоводческих народов. Все это способствовало интенсивному развитию земледелия, ремесел и активному процессу урбанизации. Для периода раннего средневековья сведения письменных источников об Илаке отсутствуют, о Чаче они кратки и отрывочны. В первую очередь это сообщения китайских хроник Суйшу, Вейшу, Таншу, в которых владение под именем Ши или Чжеши с одноименной столицей упоминается с V в. н. э. (Бичурин, 1950, т. II). Известны факты проходившей в пределах Чача борьбы эфталитов с тюрками, смены политической власти, участия в дипломатических миссиях (Бичурин, 1950, т. II, с. 278, 281). Анализ сведений побывавшего здесь в 30-е годы VI в. Сюань Цзяна позволяет почерпнуть данные о структуре владения (Beal, 1884). О чачской торговле можно судить по «старым согдийским письмам» из Восточного Туркестана (Лившиц, Кауфман, Дьяконов, 1954), а согдийские документы дают ценные сведения об изменении размеров владения в период борьбы с арабами (Согдийские документы, 1962, вып. II, с. 78–79). Первую характеристику чачского войска дали арабоязычные авторы Табари и ал Асир (Табари, BGA, т. 2, с. 1247; МИКК, 1978, с. 53). Более детально владения описаны арабо- и персоязычными географами X в. Истахри, Мукаддаси, ибн Хаукалем и особенно анонимным автором Худуд ал Алама (Hudud al Alem, 1970). Наряду с характеристикой границ региона эти авторы сообщают об экономическом потенциале городов и торговых путей. Однако сведения их очень скудны и часто противоречивы. Основные материалы для характеристики средневековой истории Чача и Илака содержат археологические источники.
История областей V–VIII вв.
По данным источников, в V в. регион вошел в состав эфталитского государства. В VI в. эфталиты столкнулись с Тюркским каганатом и бассейн Сырдарьи становится зоной активных боевых действий с хаканом Истеми, о котором источники говорят, как о правителе «с войском, казной и короной… от Китая до Гульзариума [Сырдарьи] и Чача». В середине VI в. каган Санжибу захватил, кроме Чача, Фергану и Согд. В результате в «Чаче, Параке, Самарканде и Согде много [мест] было разорено и стало местом пребывания сов» (Гафуров, 1972, с. 218). Возможно, в этот период происходит выделение Илака, автономия которого базировалась на эффективной добыче золота и серебра. При последующем дроблении каганата Чач и Илак входят в состав западного объединения, а после неудачного восстания в 605 г. против хакала к власти во владении приходят тюркские правители — тудуны. Китайский путешественник Сюань Цзян отмечает в этом владении несколько десятков городов, управлявшихся феодалами, подчиненными тюркскому кагану (Beal, 1884, p. 452). Однако последующие междоусобицы в каганате способствуют росту независимости Чача и его более тесным культурно-экономическим связям с Согдом и Ферганой. Реальная опасность арабского нашествия в конце VII — начале VIII в. приводит к оформлению союза владений Мавераннахра под эгидой Тюркского каганата. В составе коалиции Чач активно участвует в борьбе с арабами. В 712 г. оказывает помощь осажденному Самарканду, что вызывает в 713 и 714 гг. ответные карательные походы арабов. В период борьбы происходит объединение Чача с северными степными районами вплоть до Отрара. Это укрепляет союз с тюркским каганатом. В 723–724 гг. объединенным силам удалось нанести арабам поражение на Сырдарье. Лишь к середине VIII в. арабы разгромили тюркский каганат и осадили Чач. Воспользовавшись ослаблением владения и его столкновением с Ферганой, в середине VIII в. Чач попытались подчинить себе китайцы, захватившие его столицу и разрушившие ее. Однако в 751 г. они были разбиты арабами на Таласе, и Чач был включен в состав халифата. Его жители активно участвовали в антиарабской борьбе. Здесь находился один из очагов движения Муканны, и даже авторы X в. сообщали, что в Илаке много сторонников «людей в белых одеждах». Таким образом, в политической истории Чача и Илака можно выделить два этапа. Первый этап: V — середина VI в., обе области входят в состав эфталитского государства. Второй этап: вторая половина VI — конец VIII в., Чач и Илак в составе тюркского каганата. Эти этапы четко прослеживаются в археологическом комплексе, архитектурно-строительной технике, монетной системе и культурных связях, выявленных на многочисленных памятниках региона. Вхождение Чача в состав эфталитского объединения не изменило его экономических связей и способствовало развитию традиционных форм земледельческо-скотоводческого хозяйства. Включение области в состав тюркского каганата и частичная замена местных правителей тюркскими укрепляли экономические связи со степными кочевниками. Прослеживается их интенсивный переход к оседлости, особенно в адырной и предгорной зонах на границе со степью, а также в городах и сельских поселениях. Регион делится на ряд мелких владений, подчиненных центральному правителю и чеканивших свою монету. Сосредоточение в руках Тюркского каганата международной торговли способствовало передвижению к границе со степью одного из ответвлений Великого шелкового пути, который стал проходить через Чач. Ускорился процесс освоения горнорудных ресурсов в Чаткалокураминском районе. Особое внимание уделяется добыче и обработке благородных и цветных металлов, бирюзы. Все это приводит к резкому росту сельских и городских поселений, к интеграции культурно-хозяйственного комплекса, усилению связей с соседними регионами, в первую очередь с Согдом, купцы которого господствовали на сухопутных торговых путях. Формируется близкий к согдийскому облик материальной культуры, где наряду с согдийскими чертами отмечается влияние тюркской кочевой среды. Это прослежено в вооружении, архитектуре, бытовых комплексах, обычаях. Изменяется система денежной эмиссии. Первые сборы археологических материалов из Ташкентского района относятся к последней четверти XIX в. Они представлены случайными находками, поступавшими в основном, начиная с 1876 г., в Туркестанский музей (Остроумов, Аничков, 1903). В 1895 г. был организован Туркестанский кружок любителей археологии (ТКЛА), члены которого провели обследование ряда средневековых памятников. Результаты этих изысканий вместе с интересными находками публиковались в Протоколах ТКЛА и «Туркестанских ведомостях». Среди них упомянуты Канка, Актепе, Ханабад, Шаркия, находки оссуариев в долине Ахангерана и в районе Ташкента, коллекции сфероконических сосудов, металлических изделий и др. Член кружка Е.И. Смирнов в 1896 г. готовит первую сводку древностей Ташкентского оазиса, в которую включаются городища Мингурюк, Ханабад, Ногайкурган и некоторые другие (Смирнов, 1896). Новый этап археологических исследований наступает в 20-е годы нашего столетия. Систематизацией памятников занимаются А.А. Потапов, М.В. Воеводский, М.П. Грязнов, М.Е. Массон и Т. Миргиязов. Проведены раскопки в Тойтепе, в результате которых получена интересная коллекция оссуариев. Обследованы жилые и производственные памятники в долине Ахангерана (Массон М., 1935). С середины 30-х годов В.Д. Жуков обследует памятники в верховьях Чирчика, а Г.В. Григорьев приступает к раскопкам городищ и поселений в его нижнем течении (Григорьев, 1940). Ряд средневековых памятников был выявлен в 1940 г. А.И. Тереножкиным при археологическом надзоре на Ташкентском канале (Древняя и средневековая культура Чача, 1979, с. 37–39). В 1940–1941 гг. он начинает стационарные раскопки за́мка Актепе близ Ташкента, позволившие В.Л. Ворониной впервые охарактеризовать архитектуру раннефеодального Чача (Тереножкин, 1948; Воронина, 1948). В 40-50-е годы кафедрой археологии ТашГУ (руководитель М.Е. Массон) осуществляется фиксация памятников в Ташкенте и области с обследованием Ханабада и Ногайкургана, Зангиата, Чиназа и других (Баишев, Массон, 1956; Лунина, Усманова, 1956; Буряков, 1956; Буряков, Зильпер, 1960; Буряков, 1963, 1966). Институт истории и археологии с конца 50-х годов ведет работы по изучению погребальных сооружений оазиса, в том числе и средневековых (Агзамходжаев, 1966), а Музей истории начинает исследование городища Мингурюк в Ташкенте, затем столицы Илака — Тункета, обследуются городища Нукет, Канка, Шахрухия, изучаются памятники горного дела и металлургии (Буряков, 1974). В 60-е годы обследуются памятники горных районов (Лунина, 1966; Буряков, 1972, 1972а), а основные раскопки сосредоточиваются в районах новостроек, на Чарвакском и Туябугузском водохранилищах (Древности Чарвака, 1976; Древности Туябугуза, 1978). Работы по систематизации памятников завершились в начале 70-х годов выпуском археологической карты области, в которую вошло около 500 памятников средневековой эпохи (Буряков, Касымов, Ростовцев, 1973). Последующие раскопки сельских и городских поселений, горно-металлических пунктов и погребальных сооружений способствовали уточнению этапов развития культуры и экономических связей региона (Абдуллаев К., 1975; Буряков, 1972, 1975; Древняя и средневековая…, 1979). Специальный отряд, созданный в 1967 г., изучает памятники в пределах Большого Ташкента. Полученные материалы дали возможность выделить два этапа в средневековой истории региона (Древний Ташкент, 1973; Филанович, 1983). Для поры раннего феодализма в Чаче и Илаке выявлены 348 памятников, в том числе 255 сельских и 32 городских (табл. 37). Сложнее обстоит дело с погребальными комплексами. Всего в оазисе открыт 121 могильник. Из них уверенно к данному этапу можно отнести лишь 23 (Буряков, 1982, с. 12–46, 52–57).Топография и типология.
С конца IV в. н. э. начинается активное освоение всего оазиса вплоть до предгорий, когда создаются локальные ирригационные сооружения и формируются системы городских и сельских поселений, связанные между собой.Город.
Средневековые города вырастают либо на месте античных городов на старых караванных путях, либо в горнорудных районах, как ремесленные металлургические центры по переработке сырья. Особенно активно формирование городов происходит на границах с кочевым миром на новых караванных путях. Контакты со степью особенно интенсивно нарастали в период тюркского каганата. Наряду с традиционной системой расположения поселений вдоль Сырдарьи вокруг крупных городов Канка и Шахрухия появляются новые города с сопутствующими селениями. Наиболее крупный урбанистический узел складывается в среднем течении Чирчика на границе со степью, где формируются шесть городов. Вдоль Чирчика протягивается цепочка городов-крепостей. Изменяется статус некоторых городов. Так, в VII в. один из крупнейших городов региона — Мингурюк становится столицей Чача.
Таблица 1. Поселения городского типа Чача и Илака V–VIII вв. н. э.
Столицей Илака становится расположенный в бассейне Ахангарана Тункет с крупной цитаделью «дехкана Илака», металлургическими мастерскими. К ней примыкает группа рудных городов Илака. В нижнем течении Ахангарана формируются пункты, связанные с древними центрами Сырдарьи. Через Улькантойтепе, расположенный в центре оазиса, проходит путь, соединяющий северные и южные районы. Увеличение числа городов, их пространственное распределение обусловлены факторами экономического и социально-политического развития области. Дробление владений на Чач и Илак и перемещение центра экономической и политической жизни из бассейна Сырдарьи в долину ее притоков, в предгорные и степные районы, оформление локальных раннефеодальных владений приводят к переносу столицы Чача на север и образованию столицы Илака, выполняющей административные и экономические функции в южных районах оазиса (Буряков, 1982, с. 1982, с. 121–140). Но в основном урбанизация области идет за счет образования мелких городских пунктов. Большинство их тесно связано с сельской округой, развитие которой обусловлено широким освоением новых земель в адырной и предгорной зонах и формированием системы поливного земледелия. Типичную картину рассеяния в зоне контактов со скотоводами степных районов представляет Ташкентский микрооазис, сложившийся на базе разветвленной водной системы среднего течения Чирчика. Его основными действующими оросителями в эту эпоху стали Салар-Джун и частично Бозсу с сетью протоков и каналов, пересекавших водоразделы, так что территория, пронизанная ирригационными артериями, была приспособлена для ведения земледельческого хозяйства. В пределах микрооазиса сосредоточивалось до 20 населенных пунктов, большая часть которых вошли сейчас в границы современного Ташкента. В целом микрооазис демонстрирует типичную структуру эпохи раннего средневековья, где наряду с главным городом существуют подчиненные городские пункты, сельские поселения, за́мки раннефеодальных владетелей и региональный культовый центр. Городище Мингурюк этого периода соответствует «мадине Чача» арабских источников и главному городу Ши китайских хроник (Буряков, 1975, с. 52). Окружность стены города исчислялась в 10 ли (табл. 37, 8). По карте прошлого столетия, уточненной археологическим обследованием, сохранившаяся площадь городища составляет около 35 га, а его конфигурация позволяет реконструировать подпрямоугольный план, видимо унаследованный от более раннего периода и напоминающий очертания другого крупного городища Чача — Канки, на планировке которого, возможно, сказались античные градостроительные традиции эллинистических цивилизаций Юга (Буряков, 1982, с. 106; Филанович, 1983, с. 78–90). Город делится на цитадель и Шахристан, причем цитадель занимала 0,5 га, т. е. 1/70 часть площади. Город питался водой из Салара, откуда был проведен специальный канал. Цитадель вместе с городской стеной, снабженной стрелковым коридором, составляла внушительную систему обороны. Фасад цитадели фланкировали прямоугольные башни оригинальной ступенчатой формы в верхней части. В стене цитадели также проходил внутренний коридор. Особенность фортификации этого города заключалась в отсутствии бойниц, что заставляет предполагать оборону только с верхнего яруса стены. Внутри цитадели оформился комплекс узких сводчатых помещений. Важным атрибутом городов такого ранга являлся дворец. В условиях раздробленности страны накануне арабского завоевания существование в городах великолепных дворцов правителей раннефеодальных владений подтверждает многочисленность мелких столиц. Раскрытые на Мингурюке остатки здания принадлежали самому крупному дворцовому сооружению региона (табл. 41, 12, 13). В основе его планировки лежит чередование залов и комнат, объединенных широкими коленчатыми коридорами, и функциональная разграниченность помещений. В окончательном варианте своей планировки, в каком он предстал ко времени прихода в Чач арабских завоевателей в первой трети VIII в. н. э., дворец Мингурюка делился на парадную, жилую, культовую и хозяйственно-складскую части. Здание, выстроенное из прямоугольного сырцового кирпича и пахсы, разбитой на блоки, перекрывалось в зависимости от размеров и назначения помещений сводом или плоским потолком, опиравшимися в залах на две или четыре колонны. Глинобитные суфы вдоль стен в залах с выступающей «эстрадой» в центре хозяйственных помещений, невысокие глинобитные «столы» — характерные приемы внутреннего оборудования построек. Для дворцовых зданий региона обязательно наличие зала для культовых церемоний с алтарным возвышением в форме полуовала в центре и следами сильной прокаленности на нем, что указывает на установку здесь жертвенника или же на длительное горение огня непосредственно на подиуме. На Мингурюке в комплекс святилища входит еще и небольшая комната (табл. 41, 13). Залы, кулуары, святилище и даже комната для хранения запасов во дворце «мадины Чача» были украшены настенной живописью, почти полностью уничтоженной пожаром, вспыхнувшим при разрушении здания. Куски полихромных штукатурок в завале и небольшой участок нижнего бордюра на стене коридора, изображавшего растительный побег с лентами и рядом перлов, — это все, что осталось от живописи. Черты сходства с согдийским миром в конструкции и декоре дворца могли бы совсем скрыть местную чачскую основу, если бы признаки ее не ощущались в комплексе материальной культуры, прежде всего в находках монет местных правителей и в керамике, где наряду с общесогдийскими типами посуды присутствует набор форм, продолжающих традиции местной каунчинской культуры. Дворец «мадины Чача» вместе с цитаделью господствовал в городском рельефе, будучи, видимо, самым высоким зданием шахристана. Исследование же самого шахристана, хотя и ведется в условиях густозаселенного современного города, все-таки позволяет составить некоторое представление о его структуре и характере застройки. Раскопки показали, что застройка в городе была плотной. В центре шахристана открыты остатки многокомнатного дома с толстыми пахсовыми стенами, а также мастерские гончаров и металлистов. Расположенные вплотную друг к другу жилища горожан разных социальных слоев соседствовали с торгово-ремесленными зданиями (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 25). Ремесленники столицы Чача занимались обработкой металлов, изготовляли орудия труда, оружие, украшения, драгоценную утварь из металла, хлопчатобумажные и шерстяные ткани, керамическую и стеклянную посуду, ювелирные изделия. Обрабатывали продукты животноводства, поступающие из степи. Город был местом оживленной торговли, о чем свидетельствуют найденные монеты ближних и дальних государств от Византии на западе до Китая на востоке. Собственную монету чеканили в столице Чача. Отмечен также взлет культуры. Источники свидетельствуют об особом развитии в области изобразительного и музыкального искусства. Несмотря на временную зависимость от Тюркского каганата, Чач сохранил свой язык и культуру. Государственным языком оставался диалект согдийского языка, согдийским письмом проставляли и титулы, и имена правителей на монетах (Артачака, Шчаниябага, Тарнавча) и составлялись официальные документы. Столица Чача была также культовым центром. Здесь практиковались земледельческие культы плодородия, огнепоклонничество, почитание обожествленных предков. Руины другого крупного города, располагавшегося в ближайшей округе столицы Чача на берегу р. Чирчик, скрывают городище Ханабадтепе. Городище отождествлено М.Е. Массоном с упомянутым источниками X в. и лежащим в двух фарсахах от столицы городом Нуджкет (Массон М., 1953б, с. 41). Здесь, согласно письменным сведениям, жили лодочники, обслуживавшие переправу через Парак (Чирчик) и Хашарт (Сырдарью) (Худуд ал Алам, 1930, с. 246). Исследования выявили более раннюю, чем предполагал М.Е. Массон, основу города. На этом участке поймы Чирчика городской пункт сложился к VI в. н. э. В VII в. н. э. он уже был окружен оборонительной стеной с цитаделью в восточном углу. Площадь города составляла около 34 га, цитадели — около 1 га. Располагаясь на подводящем с юга к «мадине Чача» отрезке торгового пути, город имел военный и торговый характер. В основе планировки цитадели Ханабадтепе лежит прямоугольник, обведенный по периметру коридором с угловыми башнями. Стрелковая галерея, башни, узкие, идущие монотонным рядом помещения-казематы, открытый двор — плац в середине свидетельствуют о ее роли как крепости-казармы для гарнизона, что отличает ее от других подобных сооружений Средней Азии (Древности Ташкента, 1976, с. 183) (табл. 41, 11). Оборонительная городская стена Ханабада сложена из слоев нарезной пахсы, перемеженных рядами сырцового кирпича. Внутренний фас стены отвесный, внешний — скошенный. Она была снабжена внутренним перекрытым сводом стрелковым коридором, стены которого прорезаны бойницами. Раскопки юго-восточного участка стены демонстрируют яркую картину гибели города в пламени пожара в первой половине VIII в. н. э. Под рухнувшими стенами оказались погребенными защитники города. Следы пожара указывают также на разгром цитадели. Вскоре после падения города оборонительная стена была восстановлена и использовалась еще некоторое время в VIII в. н. э., пока за ее внешним фасом не сложилось городское оссуарное кладбище. Жилую застройку шахристана Ханабада составляли массивы кварталов. Внутри шахристана улавливаются следы ремесленного производства. Ханабад, располагаясь близ переправы через Чирчик, был развитым торговым центром, о чем свидетельствуют многочисленные находки монет. Кроме монет правителя Чача, на его рынках обращались монеты вассальных доменов (Кабарны, Фарнкета) и сопредельных областей Согда, Уструшаны, а также тюргешские и китайские. Торговля была не только транзитной. По данным письменных источников, Чач — крупный центр ремесленного производства. На международных рынках он выступал активным экспортером собственной ремесленной продукции, а его купечество по количеству не уступало купечеству Согда. В согдийских торговых колониях Восточного ТуркестанаХанабад занимает третье место, после Самарканда и Бухары. Ханабадтепе демонстрирует большое влияние согдийского культурного комплекса и представляет на территории Ташкентского микрооазиса более развитую урбанизированную структуру. Третий по масштабам района город Кугаиттепе, расположенный на берегу Салара, сохранил лишь небольшую часть своей территории (ранее составлявшей около 11 га). Цитадель Кугаиттепе представлена мощным за́мком с монолитными, постепенно утолщавшимися стенами. Шахристан был застроен домами, включавшими несколько жилых комнат, парадное помещение с суфами вдоль стен и сырцовым возвышением в центре, где возжигался огонь (табл. 40, 10), а также подсобно-кухонную часть. За пределами города располагался некрополь с захоронениями в оссуариях. Главной структурной единицей ташкентского микрооазиса, как и всего региона Чача в целом, в эпоху раннего средневековья был за́мок-усадьба крупного раннефеодального владетеля с зависимым от него населением. Приуроченные к разветвленной водной сети микрооазиса разномасштабные за́мки-кешки густо покрывают его территорию, отражая, очевидно, в размерах и степени сложности своей архитектуры и фортификации иерархическую систему зависимости в раннефеодальном обществе Чача. Наиболее изученным и типичным примером такого за́мка служит Актепе Юнусабадское, также расположенное в северных пределах современного города Ташкента, на арыке Актепе (табл. 41, 1). Сооружение включает собственно за́мок, выстроенный из сырцового кирпича и пахсовой глины, и двор с постройками, объединенными единой системой обороны, окруженные стенами и рвом на площади 2,5 га, из коих около 1 га приходится на за́мок, а также рассеянное поселение на площади до 100 га (табл. 41, 3). Определенный как за́мок-кешк первым исследователем А.И. Тереножкиным (Тереножкин, 1948; Воронина, 1948), массив сырцовых руин в ходе последующего изучения почти полностью раскрыл свою структуру, подтвердив правильность первого определения (Филанович, 1983, с. 100 и сл.). Попасть в за́мок можно было, пройдя во двор по террасе вдоль рва по узкому коридору, образованному двумя барьерными стенами. Во двор вели ворота, через которые свободно проезжал всадник. Предвратный ансамбль во дворе включал комнату кордегардии, крытую сводом, и открытое проходное помещение с проемами во всех стенах. В полу последнего был устроен сток, обложенный керамическими плитами, отводивший воду через ворота в ров. Стена двора толщиной до 3 м представляла собой монолитную оборонительную линию с открытой площадкой наверху, откуда дождевая вода также отводилась в ров по водоотводу из керамических труб-кобуров. Пространство двора было занято постройками, из коих раскопана часть с массивными стенами и деревянными полами в одной из комнат (Тереножкин, 1948, с. 110). Сам за́мок в виде квадратного массива площадью 80×80 м в основании охватил естественный лёссовый бугор двумя рядами сводчатых галерей. Уже на первом этапе существования, в V — начале VI в. н. э., он представлял собой квадрат с прямоугольными башнями. Внутреннее пространство застраивалось узкими глухими казематами с выходами в верхнюю галерею, которая на углах замыкалась круглыми купольными внутрибашенными помещениями. Пройдя два этапа перестроек, в VII–VIII вв. н. э., за́мок приобрел вид ступенчатой пирамиды с прямоугольными башнями на углах и возвышающейся в юго-западном углу башней-донжоном. Главный вход в здание со двора также был оформлен выступающей башней. Оборона за́мка обеспечивалась со ступеней пирамиды из-за зубцов, так как во внутренних галереях и в цитадели самой «мадины Чача» (Мингурюке) не встречено бойниц. Внешний фасад и парапет за́мка украшали резные терракотовые детали в виде зубцов, кругов и завитков S-образной формы, придавая ему типичный облик крепостей, известный по изображениям на предметах раннесредневековой торевтики. Комплекс построек за́мка последнего периода существования четко делился на парадно-жилую, культовую и подсобно-хозяйственную части. Башня-донжон включала первую, причем основные парадные помещения, украшенные сюжетными настенными росписями, фрагментарно сохранившимися в завалах, располагались в верхнем этаже. На подсобно-хозяйственный отсек приходится большая восточная часть за́мка. Застройка в нем включала ряд однотипных параллельных узких помещений, вытянутых в меридиональном и широтном направлениях и освещавшихся оконными проемами в торцовых стенах. Во всех помещениях отмечен второй антресольный этаж, о чем свидетельствуют гнезда балок межэтажного перекрытия и проем окна второго этажа. В этих хранилищах на вытянутых вдоль стен суфах были расставлены хумы с мукой, маслом, вином и прочими припасами. В верхних помещениях, вероятно, пребывала охрана за́мка. В отличие от сводчатых обводных галерей и нижних помещений в башне-донжоне весь отсек хранилищ был перекрыт плоской крышей из балок с накатом из ветвей и камыша, залитых сверху глиной. Часть хозяйственного отсека занимал двор, видимо перекрытый навесом, с тануром для выпечки лепешек и кухонными очагами. Здесь же, в за́мке, специальное помещение было отведено для винодавильни, состоящей из двух вымощенных терракотовой плиткой больших загородок со специальными сливами в общий резервуар, в дно которого до самого венчика вкопан хум-отстойник. Культовая часть за́мка представляется довольно сложным комплексом, сложившимся постепенно вокруг отдельно стоящего купольного науса-мавзолея, суфы которого предназначались для размещения семейных оссуариев владельца кешка. Рядом сложилось двухчастное святилище огня, включавшее камеру с суфами и полуовальным алтарем и зал для культовых церемоний. Другие помещения с антропоморфным алтарем и суфами предназначались, очевидно, для поминальных жертв и для обитания обслуживавшего храм священнослужителя. О повседневной жизни за́мка говорят находки различных предметов материальной культуры: бытовой керамики, изделий из камня, железных орудий труда, оружия, доспехов, ювелирных украшений. Уникальна найденная А.И. Тереножкиным терракотовая плитка с оттиском портретного изображения пожилого бородатого мужчины, донесшего до нас, возможно, черты одного из обитателей за́мка (табл. 41, 8). На примере кешка Актепе вырисовывается хозяйство крупного дехкана, которое имело в основном натуральный характер. Снабжение необходимыми продуктами с последующими их обработкой и хранением происходило в пределах усадьбы. Это, однако, не исключало из ее жизни торгового обмена. Железные изделия, оружие, а также находки небольшого количества монет чачского, согдийского и тюргешского чеканов свидетельствуют о связи с рынком и ремесленниками города. Обстоятельства гибели за́мка в первой половине VIII в. н. э. красноречиво раскрывает картина разрушения и пожара. Сокрытый в уже полуразрушенном здании «кладик» монет, состоящий из 12 серебряных дирхемов омейядского чекана и одного «черного дирхема», убедительно связывает ее с временем разрушительных походов в Чач арабских завоевателей, огнем и мечом прокладывавших себе дорогу. Примечательный элемент округи «мадины Чача» — расположенный к юго-западу от последней отдельно стоящий комплекс Актепе Чиланзарского, который можно интерпретировать как общественный храм, собиравший на праздничные церемонии население округи столицы. Сложившееся здесь с конца IV в. н. э. здание, связанное с культом огня, после перестройки сменилось в VII–VIII вв. н. э. новым комплексом культового характера (табл. 40, 1, 2, 3, 5). В целом «мадина Чача», города и за́мки в ее округе демонстрируют высокое развитие фортификационного и строительного искусства, не уступавшего таковому развитых регионов Средней Азии, но отличавшегося видимым своеобразием, свойственным контактной зоне. Повышенная забота об обороне и мощи фортификации, система планировки с обводным глухим коридором и угловыми башнями, преимущественный способ обороны из-за зубцов, разнообразие конструкций и форм арок, сводов, применение купола, использование деревянных покрытий полов, ступенчатое оформление фасадов башен — вот некоторые характерные черты строительной техники Чача. При прогрессивных формах строительства наблюдается далеко не одинаковый уровень развития материальной культуры. Господство традиций исконной каунчинской культуры с ее огрубленными примитивными формами керамики нарушается в микрооазисе появлением признаков более развитой культуры, вдохновленной согдийскими образцами. Округа «мадины Чача», хотя и густонаселенная, не была еще оживлена устойчивыми связями, что, в частности, проявилось в неравномерной интеграции прогрессивной культуры. Ее признаки — распространение типа святилищ с полуовальным алтарем, использование сюжетной росписи в интерьерах, перекрытий без колонн, согдийский комплекс бытовой керамики — проявились в облике города-лидера — «мадины Чача». Намечаются также система и направление наиболее активных связей, объединяющие его в одну группу с Ханабадом, за́мком-усадьбой Актепе Юнусабадским, вытянутыми по линии трассы торгового пути, наиболее оживленной дороги продвижения согдийских купцов и колонистов. Особое место здесь занимает Ханабадтепе, ярчайшим образом демонстрирующий свою торговую функцию, пестроту и многоязычие своих базаров. Характерный городской пункт ремесленного профиля в горном районе — Намудлыг, сформировавшийся в период раннего средневековья в верховьях р. Ахангаран. Площадь городка 12 га. Ядром его является цитадель подпрямоугольной формы площадью 1,5 га, возведенная между рекой и ее притоком. Цитадель построена на искусственном глинобитном стилобате, стены выведены из крупного прямоугольного кирпича-сырца и пахсовых блоков. Затем на расстоянии 1,2 м выстраивается новая стена с междустенным обводным коридором. Снаружи к ней пристроена берма. В систему обороны включен квадратный в плане за́мок. За пределами цитадели вдоль реки вырастают ремесленные мастерские, связанные с выплавкой серебра и полиметаллов. Здесь же находилась одноярусная керамическая печь. Город формируется как металлургический пункт в богатом сырьевом районе и как центр перехода к оседлости горных скотоводов (Буряков, 1972а). Характерный центр сельской округи горного района — Фарнкет (городище Ишкурган) в междуречье Чирчика и Ахангарана, на левом берегу Паркентсая. Его цитадель площадью около 1 га возведена на отдельно стоящем холме. Вокруг нее на прилегающих изолированных холмах формируется шахристан с домами свободной застройки. Система фортификации шахристана не выяснена (Буряков, 1982, с. 31) (табл. 37, 5). Таким образом, в период раннего средневековья количественный рост городов, их топографическое распределение обусловлены факторами экономического и социально-политического развития. Центр экономической и политической жизни передвигается из района Сырдарьи в глубину оазиса, в долины ее притоков, в предгорные и степные районы. В VI–VII вв. наблюдается интеграция структуры городских и сельских пунктов. Важную роль в ней играют элементы фортификации. Города в основном двухчастные, состоят из цитадели и шахристана. Цитадель изолирована от города, окружена стеной и рвом. На завершающем этапе при некоторых городах начинает складываться пригород. Сельские пункты включают цитадель или за́мок, поселение вокруг которого не всегда окружено стенами. Цитадель поселений обычно крупная, занимает более 20 % всей площади, в то время как в городе она не столь значительна. Застройка сложная и плотная, но в шахристане она более насыщена ремесленными объектами; в цитадели сосредоточены парадные, хозяйственные, иногда культовые постройки. Размеры городской территории в пределах стен относительно невелики. Площадь наиболее крупного города — Хараджкета на начальном этапе по сравнению с античным периодом сокращается до 45 га, но затем вновь осваивается в пределах античных стен (около 150 га). В VI — начале VIII в. за внешними стенами этого города вырастает ремесленный керамический квартал. В то же время внутри шахристана плотность застройки неоднородна. Наряду с квартальной застройкой раскрыта за́мково-усадебная, занимающая специальные участки внутри шахристана. Площадь городов, зародившихся в период раннего средневековья, более ограниченна. Площадь «мадины Чача» не превышала 35 га, Нуджкета — менее 30 га, Тункета — 17 га, Чиначкета — 12 га. Эти размеры обычны для раннесредневековых городов Средней Азии. Они близки к цифрам письменных источников. (По сообщениям китайских хроник, окружность стены «мадины Чача» составляла 10 ли, столицы Ферганы Касана — 4 ли, Тараза — 8 ли).
Строительное дело, архитектура.
Характерная черта строительства укреплений за́мков, цитаделей и городских стен раннесредневекового Чача — возведение искусственных цоколей и стилобатов. Основным строительным материалом служила крупноблочная пахса, прослоенная прямоугольным крупноформатным сырцовым кирпичом размером (48–52) × (23–26) × (10–12) см, применявшимся преимущественно при оформлении сложных узлов-сводов, арок, переходов и других архитектурно-строительных деталей. Архитектура этого времени дает развитые сводчатые конструкции с четко разработанными приемами. Помещения перекрываются сводами полуциркулярной формы, выложенными наклонными отрезками с разгрузочными элементами. Входные проемы оформляются арками. Оборонительные стены имеют валгант и бруствер для ведения навесного огня. В их систему включаются выступающие башни овальной, прямоугольной и ступенчатой конструкций. Наряду с ними применена система обводных коридоров с одноярусным и двухъярусным боем с бойницами непосредственно в стене. Основные материалы для истории дают археологические исследования городов, в первую очередь Канки, Мингурюка, Ханабада, Кульаты, на которых отмечены два крупных этапа перестроек, характерных для V–VI и VII–VIII вв. Выделяется несколько типов цитаделей, связанных с особенностями их функций. В большинстве раннефеодальных городов Чача цитадели сочетали оборонительные, жилые и административные функции. Примером может служить цитадель Канки, представлявшая собой четырехбашенный за́мок с под квадратными выступающими башнями-пилонами по углам, конически расширяющимися вниз с уклоном до 75°. Вход-пандус коленчатой формы с приспособлением для очищения входящих огнем (табл. 38, 1, 4). Внутри цитадели находились жилые и хозяйственные помещения. В северном углу раскрыт двухэтажный культовый комплекс с суфами вдоль стен и подковообразным алтарем в центре. На главной суфе — «эстраде» найдены обломки керамической переносной курильницы. Нижний этаж перекрыт ложным куполом с деревянным каркасом шатровой формы, верхний — с плоским перекрытием. Зал выполнял функции домашнего храма огня типа известного и в Чаче, и в Согде (Буряков, 1982, с. 127–128). Как отмечает В.Л. Воронина, распространение купольных залов, «вероятно, отвечало требованиям зороастризма, видевшего в куполах наиболее идеальную форму выражения небесной сферы» (Воронина, 1977, с. 122). В целом цитадель Канки представляет собой типичный за́мок правителя. Такие же функции выполняла цитадель Мингурюка, в которой раскрыты остатки дворца VII–VIII вв. (табл. 41, 13, б), где находился аналогичный культовый зал (Зильпер, 1978). Монументальная цитадель Тункета площадью 5 га возведена на цоколе с умелым использованием рельефа. Часть ее стен представляет собой обкладку пахсой естественных холмов, что обусловило ее неправильную в плане форму. Размеры и обособленное положение в системе обороны (цитадель имеет лишь одну общую с городом стену) характеризуют ее как самостоятельное фортификационно-административное ядро. Она функционировала и как цитадель города, и как за́мок правителя, который в источниках назван «сильным дехканом Илака». Наряду с указанным типом комплексных функций цитаделей известны другие — специализированного оборонительного характера. Примером может служить цитадель Ханабада-Нуджкета. Она возведена на цоколе и имеет прямоугольную форму. Пахсовые стены толщиной до 11 м, с внутристенным боевым коридором — стрелковой галереей. По периметру цитадель обведена узкими прямоугольными сводчатыми помещениями, обращенными к крепостной стене торцом. В узкой стороне цитадели по 12 помещений, в широкой по 15. Судя по интерьеру, это помещения казарменного типа. Все они выводят в общий прямоугольный двор (Древности Ташкента, 1976, с. 6–34). Появление таких укреплений заставляет вспомнить сообщения источников о городках типа «военного лагеря Чача». Структура шахристанов выяснена недостаточно, но даже незначительные имеющиеся материалы позволяют считать их не только оборонительными, но в первую очередь ремесленными, торгово-экономическими центрами новой формации. Наряду с жилыми постройками в них открыты ремесленно-производственные комплексы, а в некоторых — крупные металлургические, металлообрабатывающие, гончарные мастерские с отвалами производств. В целом для шахристанов характерно густое обживание с уличной застройкой, однако определенные участки их были заняты феодальными усадьбами со свободной застройкой, как в шахристане Канки. Наличие за́мка в шахристане раскрывает сложную структуру раннефеодального города. Ее дополняют элементы формирующегося торгово-ремесленного предместья — рабада. Примером может служить рабад Канки, развивавшийся интенсивно с юга вдоль торгового пути из Согда. Здесь в 100 м от южных ворот шахристана располагался большой квартал керамистов (Абдуллаев К., 1974а, с. 84–92), близ него раскрыта мастерская, связанная с обработкой кож. Это специализированный двухкамерный комплекс с системой вымочки кож в гидрофобных растворах в специально оформленном помещении и отсек для окончательной индивидуальной обработки кож. Кожевенное ремесло в этот период превращается в самостоятельную отрасль, несомненно имеющую тенденцию к активному развитию, особенно в контактных со степью районах. Интересно соседство с гончарными мастерскими, зола которых использовалась при обработке кож. В западном рабаде города в VIII в. формируется квартал керамистов (Тихонин, 1986, с. 123).Экономика раннефеодального Чача многоотраслевая.
Основное занятие оседлого населения — земледелие и садоводство. На поселениях и городищах VII–VIII вв. найдены образцы зерновых культур и семена садово-бахчевых. Источники сообщают, что в Чаче выращивали пшеницу, просо, горох, виноград и садовые культуры. Расширение посевных площадей и ирригационной базы земледелия сопровождается интенсификацией хозяйства. Вводится полив с помощью чигирей. Вместо зернотерок появляются жернова. В ремесленном производстве важную роль начинают играть горное дело и металлургия. Основные рудные центры сосредоточены в Южном Чаткале и Кураминском хребте. Ведущей отраслью горного дела Илака стала добыча свинцово-серебряных руд. Добыча золота в VII в. занимала по объему второе место. Большие изменения происходят в металлургии. Если в IV–V вв. многие плавильные мастерские были привязаны к выработкам, то в VI–VIII вв. происходит их концентрация в специальных металлургических пунктах и в ремесленных кварталах городов. Специальные мастерские раскрыты и в столице Илака Тункете, на городищах Кульата, Севильтепе, Безымянном, на поселениях Кокрель, Ташбулак, Куйлюктепе, в Кендырсае и Ирматсае. Кузнечные печи, связанные с окончательной обработкой металлов, раскрыты в Кендыктепе, Шаматепе, Севильтепе, Кургантепе, в Тункете. Они прямоугольные, с искусственным поддувом. Около них найдены железные крицы, шлаки. Растущая потребность в орудиях труда для сельского хозяйства, тесная связь с кочевыми племенами, требовавшая производства конской упряжи, оружия, украшений, торговля, для которой необходима была монета, — все это определило основной круг ремесел чачских металлургов. При раскопках городищ найдены серпы со слегка скошенным рабочим краем, кетмень, наконечники сохи. В жилых домах и погребениях встречены железные однолезвийные ножи с изогнутой спинкой. Разнообразны металлические детали конской упряжи. Поясные наборы представлены прямоугольными и округлыми пряжками с подвижным язычком и рамкой без язычка. Наконечники стрел железные, черешковые. По формам выделяются пять типов: четырехгранные квадратные; четырехгранные прямоугольные; четырехгранные с пулевидным жалом; трехлопастные малого формата; трехгранные. Украшения представлены бронзовыми и серебряными колечками и ложными печатями на перстнях. Интересна золотая бляшка с портретным изображением мужского лица монголоидного типа. Аналогичные изображения есть в тюркских комплексах Семиречья.Гончарное ремесло.
Анализ керамического материала V–VI вв. подтверждает этнокультурную преемственность с предшествующим этапом. В долине среднего течения Сырдарьи и в Чаче продолжается дальнейшее развитие керамического производства на базе джетыасарско-каунчинской культуры. Печи, раскрытые в Кендыктепе, цилиндрические, одно- и двухъярусные, диаметром до 2 м (Буряков, 1982, с. 77–80). Шире используется гончарный круг, распространяется краснокрашенная и слегка залощенная серая задымленная керамика. Основные керамические формы — хумы и хумча яйцевидной формы. Горловина невысокая, диаметр устья почти равен донцу. Венчик прямопоставленный или слегка изогнутый, уплощенный сверху, валикообразный или клювовидный в разрезе. Горшки одноручные и двуручные, крупные с широким устьем и мелкие кружечковидной формы, некоторые с носиком-рожком, иногда на ручке имеется стилизованное изображение животного (табл. 46, 32, 33, 38, 39). Котлы традиционной формы — плоскодонные подцилиндрические с одной или двумя вертикальными ручками и шаровидные с округлым донцем. Плоские крышки (табл. 46, 19–23) с петлевидной ручкой на краю или стержнем в центре покрыты и процарапанным (волна, линия), и штампованным (пунсоны), и налепным (жгутовидные налепы, имитация рогов быка, барана) орнаментом. Объемная стилизованная фигура животного изредка украшает навершие ручки горшка-кружечки. Интересен расписной орнамент, покрывающий подобные сосуды. Заштрихованные черной или коричневой краской треугольники или косые линии покрывают либо все тулово сосуда, либо до горловины. Иногда расписной орнамент сочетается со скульптурным украшением ручки (табл. 46, 28). Столовая посуда представлена тщательно моделированными чашами и мисками (табл. 46, 1–4), кувшинами с яйцевидным туловом, цилиндрической горловиной и вертикальной ручкой, опущенной от горловины на плечико (табл. 46, 12–14). Характерны лепные сосуды-курильницы в виде небольших горшочков закрытой формы со сквозным отверстием в тулове, открытых или полузакрытых чашевидных плошек на цилиндрической ножке. Тулово покрыто вертикальными поясами рельефных налепов и сквозных отверстий. Широко распространяются появившиеся начиная с этапа Каунчи II очажные подставки «рогатые кирпичи» — стилизованные изображения рогатой головы быка (табл. 46, 40). На городище Эгартепе, близ Шахрухии, были открыты две комнаты, оказавшиеся мастерской, где они изготовлялись. В одной из комнат на суфе обнаружены подставки в виде стилизованной бычьей головы с выступами-рогами и широко открытым ртом. Всего здесь найдено около 50 однотипных подставок. Варьируют только их размеры. Подставки не были обожжены. Вблизи от мастерской открыта разрушенная гончарная печь, в которой содержались фрагменты обожженных подставок (морды, рога). Можно предположить, что в открытых помещениях изготовлялись подставки (в одном формовались, в другом подсушивались до обжига), а в расположенной поблизости печи обжигались (Богомолов, Алимов, 1996, с. 160–163). Широкое распространение получает терракота. По технике изготовления выделяются две группы произведений керамистов — объемная скульптура и плоскостные изображения, плакетки, оттиснутые в форме. Сюжеты антропоморфные и зооморфные. Антропоморфная скульптура представлена изображением мужской фигуры (табл. 45, 3) с выразительным лицом согдийского типа и обозначением глаз углубленными ямками — прием, который В.А. Мешкерис считает характерным для V–VIII вв. н. э. (Мешкерис, 1977, с. 49), а также изображением обнаженной женской фигуры с крупным орлиным носом, к животу прилеплена плошка-курильница (табл. 45, 2). Интересную группу представляют изображения женщин-музыкантш, играющих на струнном инструменте типа лютни. Это и барельефные скульптурные изображения, являющиеся частью фриза (Абдуллаев К., 1974, с. 45–46; Усова, Буряков, 1981, с. 50–51), и плакетки (табл. 45, 9). В зооморфной терракоте наиболее интересна скульптура, изображающая дикого кабана, морда которого передана в легком оскале, из пасти торчат небольшие клыки, насечками показана вздыбленная шерсть (табл. 45, 8). Морда покрыта черной краской «внаплеск» — прием, символизирующий изобилие (Литвинский, 1968). Он отождествлялся с божеством победы зороастрийского пантеона Веретрагной, выступающим во многих ипостасях (быка с золотыми рогами, белой лошади с золотыми ушами и уздой, верблюда, дикого кабана, орла, дикого барана или волка), приносящим славу и исцеление и дарующим победу. Со второй половины VI в. и особенно в VII–VIII вв. техника керамического производства и типы продукции, как и весь облик материальной культуры Чача, постепенно изменяются. Это объясняется, с одной стороны, тем, что с подчинением области Тюркскому каганату в оазис вливается новая кочевая волна. С другой стороны, еще большую роль сыграло укрепление связей с Согдом и влияние согдийской культуры. Оно выражается в определенном изменении форм керамики, техники и технологии ее изготовления. В городах и за их пределами, в рабадах, вырастают ремесленные кварталы гончаров. Они выявлены на городищах Кендыктепе, Безымянном. Большой квартал гончаров VI–VIII вв. открыт на городище Канка за пределами шахристана, в 100 м от южных ворот, а следы гончарного производства конца VIII в. — к западу от шахристана. Вырабатывается характерный для всего региона тип двухкамерной цилиндрической в плане гончарной печи диаметром до 3,5 м. Стены сложены из сырцового кирпича, положенного на ребро. В центре топочной камеры, также сложенной из сырцового кирпича, квадратный столб от 0,5 до 1,3 м в стороне, служивший для поддержания пода обжигательной камеры. Другой тип двухкамерной печи отличается меньшим размером (диаметр до 2 м). Подпорного столба нет. Этот тип печей распространяется с VIII в. н. э. (Абдуллаев К., 1974а, с. 83–92; Тихонин, 1986, с. 120–125). Происходят определенные изменения в наборе посуды, особенно столовой: она становится более разнообразной, меняются мотивы декора. Керамические изделия близки согдийским. Характерными формами становятся высокие одноручные кувшины, широкогорлые и узкогорлые, иногда со сливом, оформленным в виде носика (табл. 46, 61), кружки с петлевидной ручкой с упором, чаши, чайникообразные сосуды, кубковидные курильницы и башнеобразные подставки со стреловидными прорезями. Выделяется группа сосудов, по форме, прорезной и штампованной технике орнаментации подражающих металлическим. Особенно интересны комплекс парадной посуды и детали штампов, которыми наносился ажурный рельефный орнамент, из мастерской в западном рабаде Канки (Тихонин, 1986, с. 120–122).Культовые комплексы.
Письменные источники упоминают в Чаче только храм, связанный с поклонением предкам (Бичурин, 1950, т. II, с. 272). Археологические материалы, став основным источником сведений, значительно расширили наши представления как о религии раннесредневекового населения региона, так и о типах культовой архитектуры. В пределах современного Ташкента зафиксирован ряд оригинальных сооружений, связанных с культом. К IV–VI вв. н. э. относится сооружение, открытое на Кугаиттепе, и комплекс нижнего горизонта Актепе Чиланзарского. Первое представляло собой площадку, устроенную на выложенной кирпичом ровной платформе высотой 0,5 м, обмазанной глиной. По краю платформа ограждена прямоугольником монументальной сырцовой стены. Сохранился лишь участок площадью 20×13,5 м с сильно прокаленным пятном и ямой, заполненной чистой мелкой золой, огражденный несколькими рядами жердей, поддерживавших над очагом легкое перекрытие. Рядом с очагом лежала курильница на ножке. Использование жердевого ограждения является более поздней репликой того же приема, зафиксированного в крестообразном здании солярной символики на Шаштепе (Филанович, 1983, с. 57), далее уводящего в конструкции погребений сакского населения Приаралья и низовьев Сырдарьи (Вишневская, 1973, с. 15; Вишневская, Итина, 1971, с. 197). Само сооружение отразило культовые представления каунчинцев, уходящие корнями в мир религиозного творчества сако-сарматских племен (Смирнов, Попов, 1969, с. 69). Символику того же типа демонстрируют и глиняные печати-амулеты. Некоторые из них с изображением солнца, иногда антропоморфизированного светила или символов креста и свастики связаны с традиционным солярным культом скотоводов, упомянутым Геродотом, распространенным также и у земледельцев. Другие несли зооморфные изображения, связанные с той же астральной символикой и культом плодородия, с почитанием священных животных. Широкое распространение «очажных подставок» с бараньими и бычьими протомами и курильниц в форме стилизованных букранцев свидетельствует о стойких представлениях жителей Чача об охраняющей и очищающей силе этих изображений. Как элемент зороастрийской символики популярно было изображение собаки в сочетании с солярными и лунарными знаками. Изображения баранов, быка и собаки в роли оберегов, связываемых с представлением в кангюйско-сарматской среде о фарне (Литвинский, 1968, с. 109), часто оформляли ручки и сливы керамической посуды. Иной тип сооружения культового характера представляет здание нижнего горизонта Актепе Чиланзарского, возведенного на низкой пахсовой платформе. Здание (12,5×12 м) с четырьмя угловыми овальными башнями с бойницами внешне напоминало небольшой за́мок. Внутреннее пространство включало центральное помещение, обведенное с двух сторон коридорами, и комнату. Сходство этого здания с таким же автономным синхронным сооружением в сопредельной с Чачем области Уструшане (Пулатов, 1977, с. 78–79), повторяющим его в деталях, позволяет выявить основную схему этих сооружений, а также установить особенности храмовой постройки в этих пограничных с кочевой степью регионах. Прежде всего это оборонные качества здания. Внешне оно воспринимается как квадратный в плане пахсовый за́мок с овальными или круглыми башнями по углам, снабженными бойницами. Внутреннее пространство с обожженными стенами заполнено чистой золой, полностью отсутствует бытовой инвентарь, кроме керамики, а внутрибашенные комнаты сохранили на полу остатки обугленных зерен пшеницы и проса, игравших, видимо, какую-то роль в ритуале. Основным признаком, определяющим функциональное назначение здания, служит центральная комната, которая открывалась с четырех сторон проемами в обводной коридор, являя собой некое подобие чартака, помещенного внутрь здания. В середине этой комнаты располагался прямоугольный сырцовый подиум со следами прокаленности, служивший для возжигания огня. Он четко прослежен в уструшанском здании, но не зафиксирован в ташкентском, что помешало поначалу определить назначение последнего сооружения (Древний Ташкент, 1973, с. 121). Оба здания, связанные с возжиганием в замкнутом пространстве огня, хотя и являются пока уникальными в регионе Уструшаны и Чача, видимо, отражают определенный тип культовых построек. Здание храма после определенного периода функционирования было обведено стеной, а затем плотно забутовано пахсой. Образованный в результате этого девятиметровой высоты массив послужил стилобатом для новой постройки, размером 28×26 м, сооруженной по иному плану, но также, видимо, связанной с культом и функционировавшей в VII–VIII вв. н. э. В основе планировки открытая прямоугольная платформа, окруженная пахсовой стеной с нишами и четырьмя глухими помещениями по углам. На главной оси платформы возвышается сырцовый постамент. Кроме оригинальной планировки, на культовый характер здания указывают накопления на платформе сгнившей органики с золой, находки башнеобразных курильниц, кувшинов и кружек. Типовая схема, заложенная в основе планировки здания, может быть связана с функциональным назначением, близким к церемонии поклонения духам предков, упоминаемой китайским источником: «Во владении Ши по юго-восточную сторону резиденции есть здание, посреди которого поставлен престол. В шестое число луны поставляют на этом престоле золотую урну с пеплом сожженных костей покойных родителей владетеля, потом обходят кругом престола, рассыпая пахучие цветы и разные плоды. Владетель с вельможами поставляет жертвенное мясо. Вельможи и прочие садятся… и по окончании стола расходятся» (Бичурин, 1950, т. II. с. 272). Вариант прочтения текста Торавалем позволяет восстановить и другие детали ритуала (Grenet, 1984). Суть церемонии сводилась к выставлению на некоем постаменте урны с прахом, к обходу вокруг нее с разбрасыванием плодов и цветов и заканчивалась жертвенным пиршеством в специально устроенном рядом шатре, в котором участвовал и правитель с супругой и его свита. Другой тип культовых построек, демонстрирующих усиление в эпоху раннего средневековья связей Чача с сопредельными регионами, в частности с Согдом, составляет группа сооружений, устойчиво повторяющихся в системе дворцовых построек, цитаделей и за́мков. Пример дворцового святилища дает комплекс VII–VIII вв. на городище Мингурюк. Это система из центрального квадратного помещения (7×7 м), смежного с ним небольшого подсобного коленчатого коридора, связывающего всю ячейку с остальной частью дворца (табл. 41, 13, а). Плоское балочное перекрытие зала опиралось на четыре деревянные колонны. Вдоль всех стен, оформленных сюжетной живописью, тянулась глинобитная суфа, расширяясь у восточной стороны до ширины «эстрады». Центр зала занимал сырцовый подиум полуовальной формы с тщательно оштукатуренной поверхностью и с бортиком по краю, на поверхности этого алтарного возвышения находилось сильно прокаленное углубление с остатками чистой золы. Подсобное смежное помещение также снабжено очагом, углубленным в пол. Примечательны обнаруженные на суфах специфические сосуды — эйнохои, количество которых, несомненно, указывает на их роль в отправляющемся здесь ритуале. Дополнение к указанной схеме дает хорошей сохранности помещение того же типа, раскрытое в цитадели городища Канка. Оно располагалось в центре цитадели также в комплексе помещений с коленчатым коридором (Буряков, Богомолов, 1983, с. 451). Оно повторяет в деталях планировку зала дворца Мингурюка, за исключением кровли, которая благодаря сохранившимся на большую высоту стенам и ячейкам от балок в них восстанавливается как двойная. Причем нижний ярус обоснованно реконструируется в виде шатрового деревянного перекрытия (Гуревич, 1981, с. 46), что при наличии верхней основной кровли оставляет за шатром роль символического внутреннего ограждения, защищающего алтарь со священным огнем. Собранные в канкинском зале курильницы и кувшины использовались в обрядовых церемониях. На обширном холме шахристана I, к юго-востоку от цитадели, был вскрыт монументальный храмовый комплекс, сыгравший важную роль в формировании облика шахристана раннесредневекового периода. Он включал два разновременных храма. Нижний состоял из квадратного зала с длиной стороны 14,25 м с входом с востока. С трех сторон его окружал обводной коридор шириной 3 м. К востоку от храма находился дворик с подсобными помещениями. К центру западного фасада примыкало помещение. Сохранившиеся на высоту 2,8–4,5 м стены зала толщиной 2,99 м сложены из крупноформатного сырцового кирпича прямоугольного стандарта ((48–50) × (24–25) × (12–14) см). Верх стены был оформлен карнизом из обожженных плит. Некоторые из них завершались фигурным изображением зубца. На плитах имелись различные тамги. Чтобы равномерно распределить нагрузку карниза, стены армированы деревянными стойками, вставленными в вырубленные для них пазы в стенах шириной 30–35 см, в которых сохранились остатки дерева. Аналогичный строительный прием отмечен в святилище первого буддийского храма в Акбешим (Кызласов, 1959). Внутри зала по периметру стен проходили низкие (0,2 м) и широкие (до 1,22 м) суфы. Напротив входа, в центре западной стены, была сооружена возвышенная фигурная трехъярусная суфа-«эстрада» (подиум или пьедестал). Ее поверхность сильно обожжена, местами даже прокалена. Остальные суфы покрыты хрупкой серовато-зеленой штукатуркой с примесью ганча. Стены были украшены росписью, выполненной черной и красной красками и погибшей при пожаре. Прослежены растительные мотивы росписи: бутоны цветов, круги и перлы, полоса красного и черного цвета. На суфе-«эстраде» лежали сползшие со стены фрагменты глиняной лепнины в виде окрашенных в красный цвет языков пламени. Зал имел два уровня полов. Стены обводного коридора, как и стены зала, армированы деревянными стойками. Вдоль северной стены суфа шириной 1,1 м. Поверхность стен была покрыта росписью, почти полностью уничтоженной. Сохранились фрагменты желтого, красного, белого цвета, стилизованные цветы, часть крупной стоящей мужской фигуры. За западной стеной зала располагалась комната площадью 4,75×3,1 м. На ее полу два крупных напольных очага с лунками диаметром 15 см, заполненными чистой золой. Вокруг очага чистая зола заполняла почти все помещение слоем в 4-10 см. Из комнаты имелся выход в зал на суфу-«эстраду». На полу зала расчищены небольшие кострища, в золе которых обнаружены скопления зерен пшеницы, ячменя, проса. Они, судя по отпечаткам тканей, были положены в мешочки. В них же положены и пучки со стеблями гороха, косточки плодов персика и фисташки, коробочки хлопка, украшения — бронзовые серьги, медные монетки, сурьматаши, наконечники стрел. На суфах отмечены остатки сгоревших тканей в свертках, небольшие горшочки, характерные для конца IV — начала VI вв. н. э. Комплекс погиб от сильного землетрясения, в результате которого лопнули стены, упали карнизы, полностью разрушилось перекрытие. После этого разрушения рядом, на более высокой платформе, над подсобным помещением «нижнего» храма возводится новый, возвышающийся над первым на 2 м. Он строился, вероятно, как временный и состоял из обширного двора и подквадратного здания размером 16×14 м. Стены его толщиной 1–1,25 м тщательно оштукатурены, но без следов росписей. Здание состояло из двух небольших залов — северного и южного вестибюля-коридора, имевшего сначала входы в оба этих зала, а затем лишь в южный. Южный зал, вытянутый с востока на запад (9,4×5,3 м), в центре имел прямоугольный подиум (2×1,6 м) со слабо обожженной поверхностью. У северного фаса подиума размещались очажок подковообразной формы и кострище. Вокруг него в золе — несколько очажков и кострищ. В них также кучки горелой пшеницы, ячменя, гороха, головки хлопка, косточки персика и мелкие предметы: заколки, подвески, бусины, наконечники стрел, мелкие медные монеты, пряжки, железные изделия. Северный зал имел площадь 9,6×6,1 м. В центре его ряд ямок от квадратных баз колонн, а вдоль южной и северной стен — ряды мелких круглых лунок от столбов. Вероятно, плоское перекрытие зала опиралось на круглые колонны. В восточной стене, ближе к южному фасу, располагался вход с массивной деревянной дверью. Около входа ниша со следами огня. Вдоль стен по периметру были разостланы камышовые циновки. В центре зала в положении на боку, головой к нише лежала лошадь, за ней в той же позе жеребенок. В обоих скелетах недоставало лишь нескольких костей от крестцовой части (табл. 39, 1). Этот храм погиб, вероятно, при штурме, завершившемся сильным пожаром. На полах и в стенах найдены наконечники стрел, железные крючья, с помощью которых осаждавшие цеплялись при подъеме на стены, железный наконечник копья и обломок кинжала. В коридоре расчищены останки погибшего во время штурма мужчины с наконечником стрелы, застрявшим в верхней части туловища. С этим комплексом связана находка уникальных предметов — булл-печатей, имеющих вид овальных лепешек или конических столбиков. На тыльной стороне отпечатки ткани и кожи, в центре следы шнурков из толстой нити. Судя по форме булл и характеру расположения шнурков, ими опечатывали куски тканей, сосуды, кожаные и матерчатые мешочки (табл. 39, 2-14). Буллы изготовлены из пластинчатой, тонкой отмучки глины, иногда с мелкими гипсовыми включениями. Большая часть булл (36 экз.) найдены на полу верхнего зала рядом с кострищами, 2 экз. — на нижнем полу. Во время пожара обожженные буллы превратились в терракоту с разной степенью обжига. На лицевой стороне булл сохранились рельефные оттиски печатей (на одной — два оттиска). Печати разнотипны, различаются размерами и формой, хотя и незначительно. На некоторых были вырезаны надписи имен владельцев. Выделены три серии, включающие девять типов изображений. Первая серия — антропоморфная, включающая большую часть булл, объединяет четыре типа — портретные изображения персонажей высокого ранга. Тип 1 — погрудное изображение (фигура фронтально, голова влево) мужчины с высоким лбом, взбитым чубчиком, миндалевидными глазами, крупным орлиным носом, небольшими усами или без них. На груди гривна, иногда застежка плаща. Вокруг надпись согдийским шрифтом. Портрет похож на изображение правителя не древнечачских монетах (табл. 39, 2, 6). Тип 2 — погрудное изображение (фигура фронтально, голова влево) мужчины с челкой над лбом, с миндалевидными глазами, прямым носом, усиками и клиновидной бородкой. На голове шапка-кулах с мягким верхом. Иногда видна царская корона с полумесяцем, а по основанию шапки лента или металлическая полоса. Сзади шапки бант, а на спину ниспадают две ленты. Шею и грудь облегает рубаха или кольчуга. Вокруг изображения надпись. Тип 3 — аналогичная фигура бородатого мужчины, но вправо, в таком же венце с длинными, опускающимися на шею волосами и слегка закругленными на концах. Шапка-венец с высокой тульей и лентой — повязкой почета. Иногда низ шапки цилиндрический. Одежда: рубашка и поверх нее парадный халат. Вокруг изображения надпись (табл. 39, 7, 9). Тип 4 — мужская фигура вправо. Голова занимает треть фигуры. Лицосхематично, нос крупный, губы в виде линий. На голове полукруглая шапочка или тиара; одежда: длинный, ниже колен, халат, на ногах сапоги с острым носком. В руках перед грудью зажат какой-то предмет. Вторая серия — зооморфные изображения, также объединяет четыре типа. Тип 5 — изображение льва вправо. Фигура хорошо моделирована в движении, пасть открыта, точками выделена взлохмаченная грива, хвост загнут вверх. За львом почти в центре буллы раскидистое дерево с плодами (табл. 39, 12). Тип 6 — изображение кошачьего хищника, стоящего на задних лапах влево. Голова небольшая, округлая, передние лапы подняты перед грудью. Кошачий хищник характерен для монет Чача с поры раннего средневековья. Тип 7 — изображение птицы, возможно голубя, с округлой головой, сложенными крыльями, опущенными ножками и коротким хвостом. Печать небольшая. Тип 8 — изображение козла. Печать неровная, изображает козла влево. Головка небольшая, с острой бородкой, небольшим ухом и крупными рогами. Хвост загнут вверх, ноги подогнуты в прыжке. Третья серия представлена изделиями одного типа. Тип 9 — изображение руки. Раскрытая ладонь пальцами кверху. Интересно, что в кострище нижнего храма было найдено бронзовое кольцо-печатка с аналогичным изображением, но меньшего размера (табл. 39, 11). Находки верхнего храма датируют его концом VI — началом VII в., но сюжет изображений на буллах характерен для IV–VI вв. н. э. Надписи полностью не прочтены, но в отдельных словах исследователи видят имена, а в одном — титул правителя — «хваб». Большинство портретов на буллах близки к изображениям правителей на древних монетах Чача. Некоторые мотивы находят аналогии в глиптике Сасанидского Ирана (характер передачи портретов, прически, фигуры льва, охраняющего древо жизни, птиц). Планировка и декор комплекса, характер находок свидетельствуют о его специальном культовом назначении. Комплекс из нижнего храма особенно характерен для храмовых построек поры раннего средневековья. Центральный зал с ориентацией входа на восток — навстречу лучам восходящего солнца, с суфой-«эстрадой» в центре западной стены, которая была украшена рельефным узором, изображающим языки пламени, а площадка и ступени прокалены в результате активного использования огня. Мелкие кострища на полу зала с семенами зерна и стеблей, плодов, семян, с фрагментами мелких украшений, которые можно рассматривать как приношения в храм. То же могло быть и в мелких сосудах. Замкнутая комната с длительно горевшими кострами и заполнявшей ее чистой золой, соединенная дверью-нишей с центральной суфой зала, служила, возможно, для постоянного хранения огня, выносившегося на подиум зала в торжественные праздники, вероятно, на специальные алтари. Все это свидетельствует о культовых действиях, связанных с огнем и приношением плодов, что соответствует зороастрийской традиции: два помещения — адуриан, где хранился священный огонь, и большой зал для молений — дари мехре, куда он выносился в торжественные дни, где приносились жертвы с пением гимнов и в который имели доступ все члены общины. Важнейшими были три жертвы: хаома, цветочные жертвы и жертвы в память усопших (Gropp, 1969). Таким образом, огонь мог возжигаться и в честь умерших предков. Не о данном ли храме Чача сообщают хроники? Он расположен к юго-востоку от цитадели — резиденции правителя. В центральном зале типичный подиум-престол. В нижнем храме сохранились остатки даров — цветов, стеблей, плодов, возможно, хаомы в малых сосудах. В зале верхнего храма сохранились останки жертвенных животных — лошади и жеребенка, от которых успели отделить лишь куски мяса из крестцовой части. Храм погиб, вероятно, в момент празднества, когда жертвенные животные еще находились в нем. Скопление булл в одном зале свидетельствует о том, что и дары, скреплявшиеся печатью храма, и возможно, опечатанные обрядовые храмовые документы также не были унесены. Характер последних находок позволяет предположить, что храм сгорел в осенний период — в праздник урожая. Близость изображений на буллах с портретами правителя Чача на его монетах позволяет считать, что правитель являлся и верховным жрецом главного храма столицы. Культовый комплекс как неотъемлемую часть дехканского за́мка-кешка представляет Актепе Юнусабадский в Ташкенте. Здесь выявлена система помещений, включающая зал с суфами и стенами, окрашенными в красный цвет, смежную с ним квадратную комнату также с суфами вдоль стен и полуовальным возвышением-алтарем в центре, а также маленькую подсобную комнату. Все три помещения выходят в узкий коридор. Кроме того, к комплексу примыкают кубическая купольная постройка и расположенные рядом с ней две комнаты: одна — с суфой и отопительным очагом, вторая — с очагом антропоморфного очертания. Плоское перекрытие зала опиралось на две деревянные колонны с деревянными же базами. В центр зала периодически выставлялся переносной алтарь, или жаровня. От него на полу сохранились обожженные пятна. Этим он отличается от алтарной комнаты, где огонь, судя по глубокой прокаленности жертвенника, поддерживался постоянно. Сама комната отгораживалась от прямого попадания света из двери небольшой тамбурной стенкой, что составляет отличительный признак функционального назначения подобных помещений. Примечательно, что пол подсобных алтарных комнат несколько приподнят относительно других помещений кешка (табл. 41, 3). Таким образом, на основании всех раскопанных сооружений в Чаче восстанавливается устойчивая система планировки сооружений, функционально связанных с культовым возжиганием огня. Центральное место в ней занимает комната с обязательными полуовальным алтарем, в котором постоянно горел огонь, суфами, тамбурной стенкой и приподнятым полом. Второй составной частью является квадратный зал с суфами и окрашенными стенами, зал значительно превышает по размерам целлу. Сюда огонь выносился только для определенных церемоний, собиравших значительное число участников. Дополняют систему подсобное помещение и объединяющий их коридор. Эта общая схема известна в двух вариантах алтарной комнаты. Первый вариант — перекрытая плоской кровлей комната с опорой на четыре столба и сюжетной росписью стен; второй вариант — имеющая двойное перекрытие комната (из коих одно, шатровое символически вознесено над алтарем). Выявляемое для Чача четкое двухчастное деление культового комплекса, свойственного дворцу, цитадели и за́мку, находит аналогии в Западном и Восточном (горном) Согде (Шишкин, 1963, с. 58; Якубов, 1979а, с. 74). Двухчастность, как один из вариантов планировки храма огня, свойственна современным храмам огнепоклонников Ирана. Такого рода храм с заимствованным от парсов Индии названием «Агиари» включает два помещения. Первое — камера огня — адуриан или гумбад, — сохранивший древний традиционный купольный киоск с постоянно горящим огнем, слабый дым которого уходит через отверстия в куполе и верхнем своде (Gropp, 1969, p. 147–170, 569). Огонь горит на небольшом круглом столбе-жертвеннике, традиционно сложенном из сырцового кирпича и оштукатуренном. Второе помещение храма — агиари-зал — «дари мехре» или гаханбар-хане, в котором установлены глубокие переносные чаши для огня, временно зажигаемого здесь во время церемоний, столики-подносы с ритуальными принадлежностями для жертвоприношений и сосуды для ритуальных возлияний и пищи. Нельзя не отметить органичное сходство структуры и устройства иранского храма с таковыми культовых комплексов раннефеодального Чача. Так, в сочетании алтарной комнаты с полуовальным подиумом и зала с суфами, открытыми в Актепе, обнаруживаются те же главные элементы, свойственные храму типа агиари, где первая выполняла роль адуриана с постоянно горящим огнем на сырцовом кирпичном жертвеннике. Деревянный шатер нес здесь ту же смысловую нагрузку, что и купольный чартак внутри камеры современных храмов. Однако наличие суф вдоль стен предполагает ее роль не только как хранилища огня, поддерживаемого одним посвященным жрецом, но и как места проведения каких-то церемоний в узком кругу. На характер возлияний и таинств, имевших место в этом помещении, указывают находки кувшинов, эйнохой и курильниц. Вторая часть комплекса — зал с суфами, более крупный, чем святилище, сопоставимый с «дари мехре», куда выносили огонь в курильницах и переносных жертвенниках. Органично вписана в комплекс актепинского за́мка-кешка кубическая купольная постройка с суфами внутри, отвечающая всем признакам конструкции науса, хотя и без следов захоронений в нем. Присутствие науса и связанных с ним помещений — одного с очагом, видимо, жилища священнослужителя, и второго, включавшего антропоморфный очаг-алтарь, — увязывает комплекс помещений и с заупокойными верованиями жителей Чача. Следуя терминологии современных зороастрийцев, можно выделить три основные иерархические категории огня, существовавшие в Иране и в сасанидское время: 1 — Аташ Бахрам; 2 — адараи; 3 — дадгах (в сасанидское время адургах). Археологические данные позволяют соотнести их и со среднеазиатскими областями. Огни первых двух категорий в Согде и Чаче могли соответствовать, видимо, по рангу автономным храмам — культовым центрам города или целого округа — и могли возжигаться в сооружениях типа открытого в Уструшане или на Актепе Чиланзарском. Огонь же, соответствовавший дадгаху или адургаху, видимо, возжигался в резиденциях дехкан (замках, домах знати), в домах состоятельных горожан. Сложная система культовых построек за́мка Актепе со святилищем огня, мавзолеем-наусом, помещением с антропоморфным очагом, как кажется, наиболее полно отражает функции святилища, связанного с возжиганием огня-дадгаха, который выполнял определенную функцию в поминальном ритуале в честь предков. Рассмотрение объектов культовой архитектуры Чача эпохи раннего средневековья, связанных с ритуалом почитания огня, без сомнения свидетельствует о большой близости этого комплекса к общесогдийской культуре. В период раннего феодализма в Чаче и Илаке сосуществовали различные воззрения и обряды в разноэтнических группах земледельцев и скотоводов. Культовые центры располагались и в долине, и в горных районах. Крупным центром в низовьях Чирчика, вероятно, является Данфеганкет, само название которого О.И. Смирнова транскрибирует как Динбагинакет и полагает, что в городе функционировал крупный домусульманский храм, обрядовая сторона которого, однако, не ясна (Смирнова, 1970а, с. 7). С древним храмом связывается и название горного городка Фарнкета, расцвет которого в раннефеодальное время запечатлен выпуском собственной монеты.Погребальный обряд.
Разнообразие культов подтверждают погребальные обряды. В середине I тысячелетия н. э., как и в предшествующее время, господствуют захоронения в катакомбах и подбоях с трупоположением на спине, иногда в «позе всадника», часто групповые, возможно, семейные захоронения мужчин, женщин, детей (табл. 42, 8-16). В погребениях присутствуют бытовой инвентарь, украшения, иногда оружие. Большинство погребений ограблены, но в них встречены лепная посуда типа Каунчи III, включающая сосуды с зооморфными ручками, разрозненные бусины из самоцветов и цветного стекла, золотые серьги с инкрустацией цветным стеклом. Наряду с подкурганными захоронениями начинают распространяться захоронения в наусах (табл. 42, 1–7), в которых отмечены как трупоположения, так и захоронения очищенных костей в оссуариях. Погребения в наусах открыты в правобережье долины Ахангерана, в 10 км от Пскента, по дороге к Муратали, и сохранились в виде лёссовых курганов диаметром 10–24 м, высотой 1,5–3,5 м. Туябугузские наусы расположены к западу от предыдущих, в местности Уртабоз. В 1959–1960 гг. Т.Р. Агзамходжаевым вскрыто 11 наусов, возводившихся на пахсовой подушке. Постройки также округлой формы с портальными арочками-входами и прямоугольными камерами с суфами, а иногда с нишами в стенах. Внутри наусов сохранились остатки многократных захоронений в виде разрозненных костей и трупоположений на спине с инвентарем. В наусах находились керамические сосуды, железные ножи, бронзовые шилья, монеты, украшения, бусы, шпильки, детали поясных наборов. В двух наусах встречены оссуарные захоронения, в том числе один оссуарий цилиндрической формы на ножках (Агзамходжаев, 1962, с. 71–79). Наусы Кульата расположены на левом берегу Ахангерана, к северо-западу от Алмалыка, близ городища Кульата. Раскопки проведены в 1978 г. Склепы возведены на пахсовой подушке, стены из кирпича и пахсы, своды кирпичные. Внутри на суфах и полах лежали разрозненные кости и остатки разграбленного инвентаря: обломки керамики IV–VII вв. н. э., медная монета Илака VI–VII вв. с портретом правителя на лицевой стороне и вилообразной тамгой на обороте (Буряков, 1978). В горном районе севернее Ангрена в апартакских наусах под каменными курганами раскрыты подземные склепы с входом-дромосом, со сложенными из камня стенами и округлым сводом. Вдоль стен суфы. На полах и суфах прослежены скопления разрозненных костей многоразовых семейных захоронений с инвентарем, почти полностью разграбленным (Агзамходжаев, 1966). В Ташкенте, Тойтепе, в Ниязбаше, близ Янгиюля и в с. Чанга, близ городища Канка, открыты оссуарные захоронения в земле. Оссуарии представляют собой овальные ящички со съемной крышкой. Стенки украшены налепами, процарапанным, прорезным орнаментом, преимущественно растительного или космогонического сюжетов. Крышки некоторых оссуариев (табл. 43, 1-17) украшены головками (или фигурками) людей, фигурками летящей птицы (Массон М., 1953, с. 28–29) или животных (Буряков, 1968, с. 135–136). Примером более сложного сюжета может служить оссуарий из Чанги с изображением женщины с чашей в приподнятой левой руке (Буряков, Богомолов, 1986, с. 114–120). Внутри оссуария находились кости одного или двух человек.Глава 5 Фергана (Г.А. Брыкина, Н.Г. Горбунова)
Политическая история.
Фергана, известная со второй половины I тысячелетия н. э. как царство Давань китайских источников, представляла собой обширную долину, тянущуюся с востока на запад более чем на 300 км. Это была область развитой земледельческой культуры и процветающих ремесел. Высокого уровня достигли гончарство и металлообработка. Фергана-Давань была областью городской культуры. Китайские авторы отмечали здесь 70 больших и малых городов с народонаселением до нескольких сот тысяч человек (Бичурин, 1950, т. II, с. 149).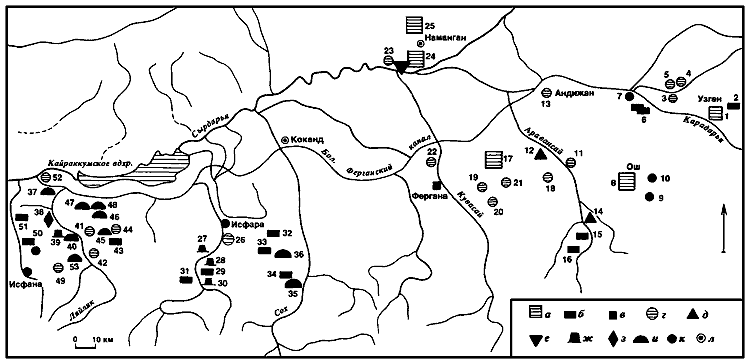
Карта 5. Фергана. а — многослойный город; б — поселения; в — современный город; г — средний город; д — тепе; е — склеп; ж — за́мки и крепости; з — культовые места; и — могильники; к — малый город; л — современные селения. 1 — Узген; 2 — Дунбулак; 3 — Кзылоктябрьск; 4 — Шурабашат; 5 — Анакызыл; 6 — комплекс тепе Куршаб; 7 — Карасадак; 8 — Ош; 9 — Мады; 10 — Ак-Бура; 11 — Иски Араван; 12 — Тепе; 13 — Андижан; 14 — Шамалгатепе; 15 — Иски Наукат; 16 — Кургашинтепе; 17 — Кува; 18 — Мархамат; 19 — Чунтепе; 20 — Майдатепе; 21 — Мыктыкурган; 22 — Маргинан; 23 — Папское городище и склепы; 24 — Ахсыкет; 25 — Касан; 26 — Калаиболо; 27 — Кафыркала; 28 — крепость Сурх I; 29 — поселение Сурх I; 30 — крепость Сурх II; 31 — поселение Сурх II; 32 — Баткен; 33 — Тегерман-Баши; 34 — Актепе; 35 — Карабулак; 36 — могильник Тураташ; 37 — могильник Кайрагач; 38 — поселение Кайрагач; 39 — крепость; 40 — могильник Бешкент; 41 — поселение Бешкент; 42 — поселение Андархан; 43 — поселение; 44 — тепе Коргон; 45 — могильник Оутсай; 46–48 — могильники Ташрават; 49 — Карабулак; 50 — поселение Шалдыбалды; 51 — поселение Курганча; 52 — город Ходжент; 53 — могильник Андархан.
Расположенная на пересечении транзитных торговых путей, Давань находилась под постоянным вниманием китайских императоров, неоднократно посылавших в эту область посольства и военные экспедиции, часто для Китая успешные. События середины I тысячелетия н. э., происходившие в Средней Азии, — внутренние (изменение социально-экономических отношений) и внешние (вторжение кочевых племен кидаритов, хионитов, эфталитов) — изменили политическую карту области. О сложности и неясности этих событий сообщается в хронике Бейши: «Со времени династий Юань Вэй (386-550-557) и Цзинь (265–486) западные владения взаимно поглощают друг друга, а события, случившиеся в них, невозможно даже представить» (Бичурин, 1950, т. II, с. 240). На территории Средней Азии существовало большое количество мелких независимых владений. Одним из них была Лона (Полона), расположенная на месте древней Давани. Ее столицей был город Гуйшуань. В середине V в. на политической арене Средней Азии появились эфталиты, которые нанесли удар по могущественному Сасанидскому Ирану, а затем подчинили большую часть Средней Азии, Афганистан, Северную Индию и некоторые владения Восточного Туркестана. В источниках нет прямых свидетельств о связи эфталитов с Ферганой. Но сопоставление ряда косвенных сведений дает возможность предположить, что какая-то часть эфталитских племен жила в этой области. Известно, что эфталиты практиковали прижизненную деформацию голов (Бичурин, 1950, т. I, с. 366). В ферганских погребениях часты находки деформированных черепов. В хрониках Бейши и Ланшу приводятся сведения о погребальных обычаях эфталитов. В хронике Бейши говорится, в частности, о том, что «умерших из богатых домов погребают в каменных склепах, а бедных зарывают в выкопанную могилу» (Бичурин, 1950, т. II, с. 269). В хронике Ланшу сообщается, что у эфталитов существовал обычай класть покойника в деревянный гроб. К.И. Иностранцев еще в начале века обратил внимание на эти сведения и сопоставил каменные склепы, о которых говорится в китайских хрониках, с мугхона[9] Северной Ферганы (Иностранцев, 1909, с. 16). В Фергане открыты также захоронения под курганами, где покойники часто лежат в деревянных гробах. Гробы из арчи открыты в Карабулаке (Баруздин, 1961, с. 61, рис. 8) и в Исфаринских могильниках (Литвинский, 1972, с. 674–681). Следы деревянных гробов отмечены Ю.А. Заднепровским и Г.А. Брыкиной в катакомбных захоронениях в Кайрагаче (Заднепровский, 1960а, с. 54; Брыкина, 1982, с. 121). Е.Е. Неразик обратила внимание на тот факт, что Фергана является единственной областью в Средней Азии, где сосуществуют два типа погребальных сооружений, свойственных эфталитам: наземные склепы и катакомбы, или подбои, в которых погребенные лежат в деревянных гробах (Неразик, 1963, с. 417). Отмечена еще одна существенная деталь погребального обряда. У эфталитов существовал обычай делать погребальную скульптуру. Антропоморфные изображения олицетворяли умершего и часто заменяли его в погребальных церемониях, если человек погиб или умер вдали от родных мест. Погребальные скульптуры упоминаются Аммианом Марцеллином в его рассказе о похоронах хионитского царевича (Аммиан Марцеллин, 1960, кн. 19, с. 2, 10). В Хорезме объемные скульптуры, изображавшие людей, обнаружены в погребальных камерах с коллективными захоронениями в Куняуазе и Кангкакале, памятниках, принадлежавших, по мнению исследователей хионитам (Неразик, 1963, с. 414; 1968, с. 198–199). В ферганских курганах неоднократно находили антропоморфные фигуры из алебастра. В Тураташском могильнике небольшая фигурка положена в курган вместо погребенного (Баруздин, Брыкина, 1962, с. 27, рис. 7). В Ворухском и Ташраватском могильниках скульптуры сопровождали погребенных женщин (Литвинский, 1961, с. 71, рис. 7; Брыкина, Трунаева, 1995, с. 83, 86–87). В Кайрагаче перед входом в наус лежала голова, вылепленная из глины почти в натуральную величину, покрытая алебастром и раскрашенная красной краской (Brykina, 1990, p. 593, fig. 4). Помимо Ферганы и Хорезма, антропоморфные фигурки найдены в каменных склепах Закаспия (Мандельштам, 1982, с. 79) и в Тохаристане в наусе некрополя Тепаишах (Литвинский, Седов, 1983, с. 231, табл. XXVI, 4). Учитывая сведения древних авторов, а также археологические данные, Б.А. Литвинский счел возможным высказать предположение, что с Ферганой связана одна из групп эфталитов — «красных хионов». Он считает, что хионы, видимо, жили в горных районах восточной части Средней Азии, именно в предгорьях Ферганы (Литвинский, 1976, с. 55–56). В то же время некоторые авторы высказывают сомнение в правомочности сопоставления письменных сведений об эфталитах с упомянутыми археологическими памятниками Ферганы. Дело в том, что ни в одном из ферганских могильников не встречены вместе наземные и подземные погребальные сооружения. Курумы и подземные погребальные сооружения находятся в разных местах и составляют отдельные кладбища. При этом в мугхона погребения разграблены и нарушены при повторных захоронениях, и поэтому не удается определить социальный уровень погребенных. Погребения же в грунтовых могилах сопровождаются как богатым, так и бедным инвентарем. Подводя итог всему изложенному, можно сказать, что, несмотря на отсутствие прямых сведений о связи эфталитов с Ферганой, этот народ сыграл определенную роль в истории области. Какая-то часть ферганцев входила в состав эфталитского объединения. Ферганцы вряд ли оставались в стороне от бурных событий эпохи и, скорее всего, принимали в них участие. События политической истории Ферганы VII–VIII вв. засвидетельствованы у различных китайских и арабских авторов. И хотя сведения эти достаточно дискуссионны, все же можно восстановить с большей или меньшей определенностью историю Ферганы этого времени. В третьем разделе китайской хроники Бэйши (начало VII в.) Фергана фигурирует под названием «Бохань». Ее правитель носил титул чжаову или джабгу. Сообщается, что ее владетеля зовут Алици. «Резиденция имеет 4 ли в окружности; строевого войска несколько тысяч. Владетель сидит на престоле, представляющем золотого барана. Супруга его на голове носит золотой венец. Много киновари, золота и железа»; «При династии Суй в правление Да-ие в 605 г. … владетель отправил ко Двору посланника с местными произведениями» (Бичурин, 1950, т. II, с. 274). В хронике Танской династии (конец VII–VIII в.) также упоминается владение Бохань. «За 1000 с небольшим ли от Ши на юго-восток есть страна Бохань. Она окружена горами с четырех сторон. Земля плодородная, есть много лошадей и овец. В 1000 ли на запад — Уструшана. На востоке страна Бохань прилежит к реке Йейе. Сия река начало принимает с северной стороны Луковых гор. Имеет мутный цвет, течет на северо-запад в большую песчаную степь, не имеющую ни воды, ни травы…» (там же, с. 315). В Таншу в описании владения Ниньюань сказано, что оно «собственно есть владение Боханьна, иначе Бохань. При династии Юань Вэй оно называлось Полона». И далее: «Местопребывание владетеля в городе Сигянь, на северной стороне реки Чженьчжу. Находится шесть больших городов и около 100 малых. Жители долговечны. Преемствие владетелей со времени династий Юань Вэй (386–535 гг.) и Цзинь (265–420 гг.) не прерывалось» (там же, с. 319). В VII–VIII вв. население Ферганы, как и других областей Средней Азии, было занято непрестанной борьбой за свою независимость, на которую попеременно посягали тюрки, китайцы, тибетцы, арабы. Жители Ферганы, расположенной на восточной окраине среднеазиатского междуречья, должны были все время лавировать, заключая различные временные союзы то с одними, то с другими, но упорно не подчиняясь на длительный срок ни одному из противников. В VI в. на землях Северной Монголии возникло новое централизованное государство, созданное алтайскими тюрками, — Тюркский каганат (551–744 гг.). В результате междоусобных войн в начале VII в. (в 600–603 гг.) каганат распадается на две части — Восточнотюркский и Западнотюркский (в последний входили частично и территории Средней Азии). Это государство сыграло огромную роль в судьбах народов Средней Азии, в том числе и Ферганы. Китайский путешественник Сюань Цзян отмечал, что в Фергане ко времени прихода тюрков не было единого правителя и множество князей боролись между собой, причем страна находилась в таком состоянии уже несколько десятилетий. Это, несомненно, облегчило захват части Ферганы тюрками, о чем сообщается в хронике Таншу: «В правление Чженгуань (627–649 гг.) владетель Киби был убит западным тукюеским Ганьмохэду. Ашена Шуни отнял у последнего город. После смерти Шуни сын его Йебочжи заступил его место, а Кибиев родственник Аляошень поставлен владетелем. Он жил в городе Хумынь, а Йебочжи в городе Гиесай. В первое лето правления Ханькиен (656 г.) Йебочжи отправил ко Двору посланника с данью. По прошествии трех лет Гиесай был переименован областью Хюсюнь; Аляошень поставлен правителем ее и с сего времени ежегодно отправлял ко Двору дань» (там же.). Таким образом, очевидны убийство местного владетеля тюрками, захват ими столицы («отнял у последнего город») и утверждение новой, тюркской династии, которая, однако, не сумела покорить всю Фергану. В какой-то ее части правил Аляошень, принадлежавший к местной династии. Тюркский правитель жил в городе Гиесай, отождествляемом обычно с Касаном, а Аляошень — в городе Хумынь, местоположение которого неизвестно. Значение города Сигянь, идентифицируемого с Ахсикетом, для этого времени остается неясным. Как отмечает В.В. Бартольд, оба эти города — Гиесай и Сигянь — называют столицами в различных источниках (китайских и арабских) примерно одного времени (Бартольд, 1965, т. III, с. 529). Кризис Западнотюркского каганата в 630 г., возобновление набегов кочевников и внутренние смуты способствовали тому, что Китай разгромил каганат и номинально подчинил себе всю его территорию. В течение VIII в. Фергана дважды была покорена Китаем. Местным владетелям были присвоены китайские чины, и китайцы пытались вмешиваться в дела среднеазиатских владений, что вызывало недовольство местных жителей. Так, в биографии китайского деятеля конца VII — начала VIII в. Гуо Юань Чженя содержатся сведения о том, что один из китайских военачальников пытался реквизировать в Фергане солдат и лошадей. Жители Ферганы, не желавшие выносить бесконечные незаконные поборы, призвали на помощь тибетцев, с которыми, как и с тюрками, Китай вел длительную войну (Мандельштам, 1957, с. 107). В конце VII — начале VIII в. Фергана обрела некоторую самостоятельность. Во главе области стоял правитель местного происхождения с титулом ихшид. С начала VIII в. ферганцы ведут упорную борьбу с арабами. Во главе арабских войск, наступавших на Мавераннахр, в начале VIII в. стоял хорасанский наместник Кутейба ибн Муслим. Продвигаясь через земли Чача и Ферганы, уничтожая города, Кутейба доходит до Касана. Однако карательные походы не привели к подчинению Ферганы (как и Чача) халифату. В 715 г. Кутейба, на этот раз в союзе с тибетцами, повторяет поход в Фергану и свергает ее царя-ихшида. Ферганский ихшид бежит в Кучу, а на его место Кутейба ставит угодного ему наместника по имени Алутар. Направляясь в Фергану, Кутейба, у которого к этому времени осложнились отношения с халифом Сулейманом, взял с собой родственников и отряд согдийской знати. Неожиданно арабское войско восстало, сам Кутейба и его родственники были убиты. Воспользовавшись этим, китайцы, по просьбе ферганского ихшида, свергли ставленника арабов и возвратили престол прежнему ферганскому владетелю. В 723 г. Фергана все еще не была покорена. Арабы снова возобновляют походы в эту страну. Их войско вторглось в Касан, но на помощь ферганцам подошли войска тюргешей. Они отогнали арабов к Сырдарье, где их ожидало войско Чача и Ферганы. В Ходжент вернулась только небольшая часть арабов. После этого какое-то время походов на Фергану не было. В этой связи остается неясным сообщение китайского путешественника Хой Чао, когда он, говоря о Фергане (в которой сам не был), отмечает, что там «два царя. Большая река Сырдарья течет на запад через середину страны. Один царь, южнее реки, подчиняется арабам, другой царь, севернее реки, слушается тюрок». Может быть, здесь нашел отражение тот факт, что Алутар хотя и был ставленником арабов, но действовал вместе с карлуками. В 739–741 гг. арабы снова совершают походы в Фергану, и хуттальцам, скрывавшимся в ней, приходится бежать в Уструшану. По китайским источникам, в 739 г. во главе Ферганы становится тюркский князь Арслан Тархан, который, по-видимому, и организует сопротивление арабам. Упорные сражения ферганцев с арабами в общей сложности продолжались более 100 лет. Остается неясным, когда была окончательно устранена местная династия. В конце VI–VII в. арабы изгоняют из Ферганы князя тюрок-карлуков (Арслана Тархана?). Но еще в IX в. при Саманиде Нух бен Асаде, последнем из наместников, отдельные области Ферганы (Касан и Урест) отказались принимать ислам, так что арабам снова пришлось усмирять непокорных ферганцев.
Культура Ферганы в эпоху раннего средневековья.
Сформировалась на базе культуры предшествующего периода. Традиции античной культуры продолжают жить в строительном деле и архитектуре, в погребальных сооружениях и погребальном обряде. Лучше всего они видны в керамическом производстве в IV–V вв. н. э. В быту ферганцы продолжают использовать красноангобированную гончарную посуду, украшенную процарапанным орнаментом, характерную для более раннего времени. Но вместе с тем именно в этот период намечаются изменения во всех областях жизни ферганцев. В середине I тысячелетия н. э. в Средней Азии начинают складываться феодальные отношения. Этот сложный процесс сопровождался коренной перестройкой всей экономической и социальной структуры области. Он повлек за собой прекращение существования многих крупных городов, запустение целых оазисов, сокращение орошаемых земель. Именно в этот период затухает жизнь в одном из крупнейших городов Ферганы — Мархаматском городище. IV–V века были конечной датой жизни большинства поселений в Керкидонском оазисе. Исключением является поселение Чунтепе, где жизнь продолжалась до конца XII в. Сокращается число поселений в Исфаринской долине и в долине р. Ходжа-Бакырган, происходят качественные перемены в характере расселения. Изменение облика земледельческих оазисов отмечал еще А.Н. Бернштам. «После ликвидации жизни усадеб кушанского и даваньского времени на смену им в сельскохозяйственных районах предгорья приходят сильно укрепленные за́мки и крепости, которые играют двоякую роль: с одной стороны, они являются резиденцией феодального владыки, а с другой, — будучи крепостью, форпостом, защищают оазис от внешних вторжений. В долине на месте кушанских за́мков возникают города как центры оазисов. Вокруг них располагаются усадьбы и за́мки земледельцев». Причину изменения типа расселения А.Н. Бернштам видел в смене общественных отношений (Бернштам, 1952, с. 248). Начало формирования феодального города в Фергане, видимо, относится к середине I тысячелетия н. э. Город являлся административным и экономическим центром небольшой окрути, объединяя земледельческие поселения, располагавшиеся в непосредственной близости от него. По данным китайских хроник, в Фергане было шесть городов-оазисов (а всего в области около тысячи городов), которые представляли собой самостоятельные феодальные владения. О большой раздробленности страны свидетельствует Сюань Цзян, посетивший Среднюю Азию в 30-е годы VII в. Он писал, что уже много десятков лет страна не имеет верховного правителя, а правители множества мелких владений ведут постоянную борьбу друг с другом. Политическая раздробленность способствовала экономической разобщенности. Позднее арабские географы ал Истахри, ибн Хаукаль и ал Мукаддаси, описывая Фергану, отмечали в ней наличие трех округов: Нижняя и Верхняя Несья — на юге долины, Вагизийский — на севере и Миян-и-Рудан — на востоке. Позднее об отдельных округах писал Бабур. Арабские географы в числе других округов и городов упоминают также округ Ходженд, в то время не входивший в Фергану, особый округ Куба, где не было других городов, и горный округ Авал. Это деление на округа характерно для Ферганы и было вызвано, видимо, ее природными условиями. А.Н. Бернштам подчеркивал, что для Ферганы на протяжении тысячелетия (IV в. до н. э. — IV в. н. э.) основным типом расселения были отдельно стоящие усадьбы и городища, причем количество усадеб особенно возрастает в кушанский период. Этот процесс А.Н. Бернштам склонен связывать с распадом родо-общинных отношений (Бернштам, 1952, с. 218). Земледельческое население в этот период осваивает всю долину и прилегающие предгорья. Наиболее распространенным типом являлись стоящие отдельно или группой дома (первый тип поселений по Н.Г. Горбуновой), но встречаются также и укрепленные поселения (второй тип). Городов было мало, и они, по мнению Н.Г. Горбуновой, сосредоточены в восточной, наиболее густо заселенной части долины. Поселения, как правило, располагались группами по веерам горных рек при выходе их в долину (Горбунова, 1973, с. 133). На основании анализа и сопоставления письменных и археологических данных Ю.А. Заднепровский пришел к выводу, что численность населения Ферганы в кушанский период составляла 500–600 тыс. человек. Основная часть его жила в деревнях. Городское население составляло не более 1/4 всех жителей Ферганы (Заднепровский, 1973, с. 19). В конце V–VI в. н. э. во всех областях Средней Азии намечается подъем экономической жизни. В регионах наиболее экономически развитых этот процесс начался раньше и протекал более быстрыми темпами. Есть все основания говорить о начале экономического и культурного подъема в Фергане уже в V в. Период V–VIII вв. н. э. во всей Средней Азии характеризуется изменением всех форм материальной культуры: расселения, типа жилищ, топографии городов и др. С.П. Толстов видел причину этих перемен в коренных изменениях социально-экономического строя (Толстов, 1948). К этому же мнению пришли впоследствии М.М. Дьяконов (Дьяконов, 1953, с. 292), Е.А. Давидович и Б.А. Литвинский (Давидович, Литвинский, 1955, с. 159), А.М. Мандельштам (Мандельштам, 1964, с. 53) и В.М. Массон (Массон В., 1968, с. 100).Город.
В Фергане, как и в других областях Средней Азии, в IV–V вв. начинает складываться раннефеодальный город как ремесленный и торговый центр. Пример Пенджикента показал, что процесс формирования феодального города в этом регионе начался задолго до арабского нашествия. В равнинной части Ферганы выросли большие города, развивавшиеся, как правило, на месте городов предшествующего периода. Крупнейшими городами области были Куба, Ахсыкет, Андижан, Ош. Куба уже в VI–VII вв. имела четкое деление на три части: цитадель в северо-западном углу, шахристан и обширные предместья. Город имел трое ворот: одни в восточной стене около шахристана и двое в западной около угловых башен. Жилые и хозяйственные постройки группировались в кварталы. Дома располагались вокруг площадей и вдоль улиц. Крупный жилой комплекс открыт к северу от шахристана, его дома сгруппированы в шесть кварталов, объединенных общей внешней стеной. Дома состоят из нескольких комнат. Жилые комнаты отгорожены от хозяйственных и входных. Небольшие помещения перекрыты сводами, полы и стены покрыты алебастром. К северо-востоку от жилого комплекса находился буддийский храм. Он представлял собой прямоугольную в плане постройку. В северной его части располагались квадратной формы святилище и прямоугольный храм. Постройка возведена на стилобате, высота которого 3,6 м. Внутри святилища и храма находились квадратные платформы, на которые вели лесенки, а вдоль стен пристроены суфы. В.А. Булатова считает, что возвышения служили местом, где совершались жертвоприношения. К храму примыкал прямоугольный двор, у входа в который по обеим его сторонам располагались комнаты (табл. 75, 1, 2). В храме в арочных нишах стояли глиняные статуи. От них сохранились лишь фрагменты: головы, кисти рук. Главная статуя находилась на платформе. Она изображала Будду, восседавшего на троне в виде льва. На четырех выступах постамента размещалась свита. Лицо Будды застывшее, отрешенное. По периметру храма развертывалась сюжетная композиция, изображавшая историю обращения и искушения Будды (табл. 75, 3–6, 8-10), так как на ней были и благостные боги, и демоны из воинства Мары (Булатова, 1972). Планировка кубинского буддийского храма не характерна для сооружений этого типа. Не ясны и пути проникновения буддизма в Фергану. Существовало мнение, что буддизм не был распространен в этой области. Хой Чао писал, что в Фергане «учение Будды неизвестно, нет никаких монастырей и монахов». Но открытие храма в Кубе, а затем ступы в Керкидоне позволили по-новому взглянуть на эту проблему. В.А. Литвинский полагает, что буддизм появился в Фергане в результате деятельности буддийских миссионеров, попавших в Фергану на волне согдийской колонизации. Два столичных города Ферганы — Касан и Ахсыкет находились на севере области. Касан был резиденцией местных правителей и ставкой тюркских каганов. Небольшой по площади, трапециевидный в плане город имел хорошо продуманную фортификацию. Ломаная линия стен укреплена по углам башнями. Юго-западный угол городища занимает также трапециевидная цитадель (табл. 52, 1, 2). Непосредственно к городу примыкает укрепленный шестью башнями за́мок — резиденция тюркских правителей. А.Н. Бернштам полагал, что внутри за́мка построек не было, а находились шатры тюркских владык (Бернштам, 1952, с. 234). На цитадели Касана, видимо, находился храм огня с очагом, в котором горел неугасимый огонь. Культовая комната с овальным в плане очагом открыта на цитадели. Стенки очага и пол вокруг него сильно прокалены, а в очаге находилась белая зола. Вторым по значению городом был Ахсыкет. Согласно письменным источникам, он постоянно претендовал на роль столицы Ферганы. В эпоху раннего средневековья город занимал значительную площадь. Цитадель находилась в северо-западном углу шахристана и отделена от него глубоким рвом. Шахристан обнесен высокой стеной, укрепленной башнями. Письменные данные и археологические материалы свидетельствуют о том, что распространенным типом расселения в Фергане становятся усадьбы и за́мки. Это объясняется перемещением центра экономической жизни из города в деревню, а также изменениями, происшедшими в социальной структуре деревни. Наряду с усадьбами и за́мками существовали укрепленные селения, в которых жила значительная часть земледельческого населения. Изменения в топографии земледельческих оазисов отмечены повсеместно (Якубовский, 1949, с. 31; Толстов, 1948; Неразик, 1966, с. 15). На основании исследований восточных и юго-восточных предгорий Ферганы А.Н. Бернштам пришел к выводу о максимальном распространении здесь в кушанский период земледельческой и пастушеско-земледельческой культуры. Позже в этих районах, по мнению А.Н. Бернштама, происходит сокращение числа поселений, связанное с новым стягиванием их в равнинную часть Ферганы (Бернштам, 1952, с. 217–218). Юг Ферганы, южные и юго-западные ее предгорья были наиболее развитыми районами области. Благоприятные природные условия и богатая горнорудная база способствовали тому, что здесь развивалось многоотраслевое хозяйство. Пришельцы из равнинной Ферганы заселили долины рек Ходжа-Бакырган, Исфара, Исфана, Баткенскую впадину. Об этом свидетельствует большое сходство предметов материальной культуры, и в первую очередь керамики, с поселений, открытых в предгорьях и в равнинной части Ферганы (Давидович, Литвинский, 1955, с. 104; Брыкина, 1970, с. 92–95). Поселения располагаются вдоль основных водных артерий района (Исфанасай, Ходжа-Бакырган, Ляйляк, Исфара), а иногда сосредоточиваются в местах обильных источников грунтовых вод (Карабулак, Баткенская впадина). Горный рельеф обусловил некоторое своеобразие топографии поселений. С древнейших времен здесь были характерны отдельно стоящие укрепленные дома, усадьбы и неукрепленные поселки. Они располагались на скалах и горных останцах, оставляя незанятыми земли, пригодные для возделывания. Это своеобразие топографии района сохранилось и в период средневековья, когда здесь отсутствовали обширные по площади города с развитой системой укреплений и четко выраженным планом. Все горные долины несколько изолированы друг от друга и представляют собой своего рода небольшие историко-культурные микрорайоны. Для каждого из них характерны специфические черты культуры и направления хозяйства. Население предгорий находилось в тесном хозяйственном и культурном общении с населением долины. Укрепленные за́мки предгорий являлись центрами округов и охраняли головные ирригационные сооружения. В Исфаринской долине размещалась целая сеть укреплений, охранявших границы. Центральным был за́мок Калаиболо, возведенный на постройках предшествующего периода. Он имел высокую платформу с наклонными фасами и крепостные стены с бойницами. К стенам вел пандусный и лестничный подъем. Необычно отсутствие башен. Внутри пространства, огражденного стенами, находился жилой комплекс, состоявший из дворика в северной части и однотипных жилых и хозяйственных помещений, сгруппированных вдоль общего коридора, в южной его части. Помещения были перекрыты сводами. Авторы раскопок считают, что за́мок Калаиболо был резиденцией самого крупного дехкана. Общеполитическая ситуация в Фергане этого времени позволяет думать, что владетель Калаиболо был одновременно правителем всего Исфаринского района (Давидович, Литвинский, 1955, с. 166). В долине Ходжа-Бакыргана в середине I тысячелетия н. э. происходят некоторые изменения в расположении и топографии поселений. Прекращается жизнь на Андарханском поселении, располагавшемся у подножия горной гряды. Население покинуло его, но не ушло из долины, а поселилось на более удобных землях. В кишлаке Бешкент находилось крупнейшее в долине поселение, занятое в настоящее время постройками и садами, за исключением небольшого высокого останца. На нем открыты обширные помещения, являвшиеся, очевидно, частью какой-то общественной постройки. Наиболее ранний период датируется первыми веками н. э. Но наивысшего расцвета поселение достигло в середине I тысячелетия н. э. Можно предположить, что поселение, расположенное в кишлаке Бешкент, было центром района. Об этом свидетельствуют его значительные размеры и наличие общественного здания (табл. 47, 1; 48,2). Наиболее изучен в районе комплекс, находящийся в кишлаке Кайрагач. На левом берегу реки расположено обширное поселение. Оно занимает узкую подпойменную террасу, тянущуюся вдоль реки и рассеченную саем. В центре поселения, на мысу, образованном саем и рекой, находится хорошо укрепленная усадьба, господствующая над большим участком долины. Усадьба имеет прямоугольные очертания и ориентирована углами по странам света. Северная и западная границы усадьбы естественные, с востока и запада ее окаймляют глубокие рвы (табл. 47, 5; 48, 5). К югу от усадьбы на краю террасы находился некрополь поселения, включавший два науса и погребения в подбоях.Жилища (за́мки, усадьбы).
Исследования жилых сооружений в различных областях Средней Азии показали, что как для городского, так и для сельского дома характерны компактность плана и четкое разграничение жилых и официальных помещений. В домах хорошо выделяются хозяйственные комнаты (кухни с очагами для приготовления пищи, кладовые, в которых сосредоточено большое количество хумов, использовавшихся для хранения продовольственных запасов и воды), общественные и культовые комнаты, отличавшиеся от остальных размерами, планом или присутствием в них каких-либо атрибутов культа (Воронина, 1960; 1963, с. 85; Неразик, 1976, 1978). В основе планировки за́мка (или дома), раскопанного на западной окраине Карабулака (Ляйлякский р-н Ошской обл.), лежит деление здания коридором на две неравные по площади части (табл. 48, 3). Коридор тянется к северу от входа и является как бы осью, по сторонам от которой располагаются комнаты различного назначения (Брыкина, 1966, с. 116–122). В коридоре находились два очага, использовавшиеся для приготовления пищи (табл. 50, 5, 6). Одна из двух комнат, находившихся к востоку от коридора, служила кладовой. В комнате были две суфы. Первая сооружена в первоначальный период жизни здания, вторая — позже; когда изменилось назначение комнаты и была проведена частичная ее перестройка, новая суфа перекрыла яму, из которой к этому времени был извлечен хум. Вторая комната, расположенная также к востоку от коридора, судя по размеру (9,8×3 м), могла иметь общественное назначение. Вдоль северной ее стены тянется широкая и высокая суфа. К западу от коридора находится одна небольшая комната с широкой суфой вдоль южной стены и очагом перед суфой (табл. 50, 5). Два помещения расположены за внешней стеной здания по его углам и с ним не связаны. Одно из них, с очагом и суфой, имело вид жилой комнаты. Назначение второй комнаты, открытой в юго-восточном углу здания, не ясно. Возможно, это был загон для скота или склад. Частично сохранившиеся сооружения верхнего горизонта Актепе включали узкие параллельные помещения, являвшиеся лишь небольшой частью здания. Они имели сугубо специальное назначение, будучи кладовыми для хранения продовольственных запасов (табл. 48, 1). Об этом свидетельствуют 17 хумов, обнаруженных in situ в трех помещениях верхней площадки, и, помимо того, огромное количество обломков, принадлежавших по крайней мере еще 15 хумам, извлечено из завалов, заполнявших помещения. В помещениях на восточном склоне холма Ю.Д. Баруздиным найдены еще четыре целых хума и большое количество фрагментов (Баруздин, Брыкина, 1963, с. 93–100). На стенке одного хума была тюркская надпись из шести знаков. Она определяла назначение сосуда и гласила: «Его внутренность с мукой» (перевод И.А. Батманова) (Батманов, 1962, с. 20).Архитектура.
Дома с коридором, к которому примыкают группы однотипных комнат, а также дома с осевым коридором, по сторонам от которого группируются жилые и хозяйственные помещения, весьма характерны для раннесредневековой Средней Азии и открыты в различных ее районах. Здания с осевой планировкой, где общим являлся коридор, имеют несколько вариантов: первый — по обе стороны от коридора располагаются однотипные помещения, лишенные какого-либо внутреннего убранства; второй — по обе стороны от коридора расположены жилые и хозяйственные комнаты, удлиненные и почти квадратные; третий — к осевому коридору примыкают двухкомнатные жилые секции. Первый вариант планировки известен под названием гребенчатой или коридорно-гребенчатой. Среди исследователей нет единого мнения о названии зданий такой планировки. Так, В.А. Лавров связывал постройки этого типа с конструктивными особенностями сводчатых перекрытий (Лавров, 1950, с. 44). В.Л. Воронина объясняет появление зданий такой планировки их функциональным назначением. Она полагает, что такие дома были заселены большесемейными общинами. В каждой из комнат жила малая семья, входившая в эту общину (Воронина, 1957б). Большинство исследователей сходятся во мнении, что здания с гребенчатой планировкой являлись сооружениями оборонного, сторожевого назначения (Негматов, Зеймаль, 1961, с. 67–88; Негматов, Хмельницкий, 1966, с. 107; Неразик, 1966, с. 68–69; 1976, с. 179; Нильсен, 1966, с. 183–190).Усадьбы.
Ферганские усадьбы принадлежат к числу наименее изученных памятников. Но даже тот небольшой материал, которым мы располагаем в настоящее время, позволяет предположить существование двух типов планировки. Первый тип представлен сооружениями, в которых жилые и хозяйственные помещения располагаются по периметру стен, оставляя незастроенным центр усадьбы, где, видимо, находился хозяйственный двор. Такой план, по-видимому, имела усадьба Курганча, занимавшая мыс высокой надпойменной террасы на правом берегу р. Исфанасай. Судя по рельефу, незастроенным был центр усадьбы, которая скрыта под холмом подквадратных очертаний. В Восточной Фергане, в местности Кзылкий, Д.Ф. Винником исследована усадьба, которая, так же, как и усадьба Курганча, занимает мыс высокой террасы и возвышается над поймой Карадарьи на несколько десятков метров. С напольной стороны ее окаймляют глубокие рвы. Планировка, сходная с таковой Курганчи. Наиболее возвышенными оказались участки, прилегавшие к стенам, а в центре была глубокая западина. Раскопки показали, что однотипные комнаты располагались вдоль стен, в центре усадьбы находилась незастроенная площадь (Брыкина, 1982). Второй тип представлен усадьбами со сплошной застройкой, где на долю двора приходится очень незначительная площадь. Планировка этих построек очень сложная. Усадьба включает, как правило, комнаты различных очертаний и разного назначения. Примером такой постройки является усадьба на поселении Кайрагач (табл. 47, 4). Здесь открыты сооружения шести строительных горизонтов. Перестройки были частыми и сопровождались существенным изменением планировки здания (Брыкина, 1982). Раскопки в Кайрагаче дали ценные материалы для суждения о планировке и структуре раннесредневековых усадеб предгорной Ферганы. В каждый из периодов открытые сооружения представляли собой единый архитектурный комплекс, включавший жилые, хозяйственные и культовые помещения. На долю внутренних дворов приходится незначительная часть площади. В наиболее поздний период один из дворов занимал южный угол верхней площадки. Он был связан с производственной деятельностью обитателей усадьбы. Здесь открыты два напольных очага, огражденные глинобитными валиками. Около очагов найдены невыразительные вкрапления окислившейся бронзы и ¡плакированные кусочки железа, свидетельствующие о занятии металлообработкой. Двор неоднократно использовался как свалка, куда высыпалась зола и разбитая посуда. Другой двор находился на нижней площадке и был связан с храмом. В центре этого двора находился водоем. План постройки сложен. Она включает комнаты разных очертаний и разного назначения, которые группируются вокруг коридоров. Интерьер всех открытых комнат одинаков. В каждой из них были очаги и суфы. Более или менее одинаковы и их размеры. Большая часть комнат имеет площадь 12–15 кв. м, и лишь три комнаты имеют площадь около 25 кв. м. Во всех комнатах найдено огромное количество керамики, среди которой преобладают хумы. Но распределение ее по комнатам мало что дает для суждения об их назначении, так как во всех комнатах открыт почти одинаковый набор посуды. На многих сосудах прочерчены тамги. Некоторые из них идентичны династийным тамгам, известным по монетам. Выделяется лишь храмовый комплекс, включавший совершенно бесспорно три комнаты. Первая небольшая удлиненная комната соединяла храм с остальными помещениями усадьбы. Около северо-восточной стены комнаты была суфа, окрашенная, как и стены, красной краской. В полуовальной нише юго-западной стены лежали семь небольших скульптур, представлявших собой поясные изображения людей. Через дверь в западном углу комнаты можно было попасть в святилище — большое помещение, площадью около 25 кв. м. Его стены украшены росписью в виде растительных побегов, выполненных красной краской. Около юго-западной стены комнаты находились два постамента, раскрашенные красной краской и украшенные росписью в виде побегов. В центре комнаты находился очаг прямоугольной формы с небольшим круглым углублением в центре (табл. 73, 1, 2). Комната явно предназначалась для совершения религиозных обрядов и являлась святилищем храма. Доказательством этому служат находки скульптур, представлявших собой поясные изображения людей и являвшихся атрибутами местного религиозного культа. В святилище найдены четыре фигуры. Две большие и две маленькие скульптуры стояли на постаменте (табл. 73, 7, 8, 12, 14), а при разрушении храма оказались разбросанными по всей комнате. Помимо скульптур, в святилище найдены и другие предметы культа — три курильницы на высоких ножках и массивная наковальня, являвшаяся объектом поклонения. Здесь же лежал мешочек с приношениями богам, включавшими стеклянные и каменные бусины (хрустальные и сердоликовые), сильно стертые кусочки стекла, бронзовые привески и одну бронзовую монету, видимо, чачского чекана. На аверсе ее изображен правитель, на реверсе — тамга в виде разомкнутого овала с усами (два вверху, один внизу). Из святилища дверь в северо-западной его стене вела в узкую и длинную комнату, перекрытую двойным сводом. В торцовой стене комнаты открыта ниша, перед которой на полу лежала раздавленная курильница, аналогичная обнаруженным в святилище. В восточной половине нижней площадки находился двор, центр которого занимал обширный водоем. Над ним было возведено перекрытие, поддерживавшееся колоннами. Видимо, в храмовый комплекс входили также еще две комнаты, располагавшиеся к юго-востоку от двора. Одна из них, большая, удлиненных пропорций, примыкавшая с юго-востока к святилищу, имела широкие суфы вдоль трех стен и очаги в стенах. Она соединялась с другой, маленькой комнатой, квадратной в плане. В этой комнате суфы тянутся по всему периметру. В северном углу в ямке на суфе обнаружены глиняные фаллосы. Прилегающий к храму двор был подчинен храму и хозяйственного назначения не имел. Поскольку храм был связан с местным, скорее всего с семейным, культом, он расположен в центральной части здания, изолированной от внешнего мира и посторонних посетителей. Кайрагачский комплекс пока первый памятник такого рода в Фергане. Отсюда происходят 12 скульптур. Две большие находились постоянно в святилище, где они стояли на постаменте. Они являлись объектами почитания всей семьи или общины. Перед ними совершались ритуальные обряды, сопровождавшиеся, видимо, возжиганием священного огня в очаге и курильницах (табл. 66, 6, 8). Маленькие же фигуры принадлежали отдельным членам коллектива и были их личными оберегами (Брыкина, 1982, с. 88–112). На верхней площадке усадьбы выделяются две обширные комнаты с высокими суфами, удобными для сидения, и напольными очагами-площадками в центре комнат. Эти комнаты явно имели общественный характер и могли быть связаны с каким-то культом, ритуал которого предполагал поклонение огню. Усадьба имела хорошо налаженную систему водоснабжения. Как уже отмечалось, на нижней площадке помещался обширный водоем. В одном из помещений был глубокий колодец со сложными водоподъемными приспособлениями. В один из первоначальных периодов в здании был сооружен подземный ход. В него вел глубокий входной колодец. В нем около юго-восточной стены находилась лестница. Вход прорублен в материковых напластованиях в направлении юг-север. Пол резко, под углом 45°, понижается к северу. Судя по направлению подземного коридора, ход вел к реке.Внутреннее убранство помещений.
В раннесредневековых домах оно отличалось простотой и единообразием. Имущественная дифференциация владельцев домов находила выражение в размерах жилищ, в тщательности их построек и в разнообразии внутренней отделки (цветная штукатурка, живопись и скульптура, резное дерево). Обычной и единственной мебелью были суфы, располагавшиеся вдоль стен. Обязательной принадлежностью интерьера дома были невысокие алебастровые столики. Они имели конусовидные ножки. Их диаметры 0,7–1 м, но есть экземпляры меньших размеров. Их бытовое назначение несомненно, поскольку столики найдены в жилых помещениях и, как правило, у очагов. Алебастровые столики обнаружены на многих памятниках Ферганской долины: на поселении Калаимуг, где они найдены с материалами VI–VIII вв., в Актепе (Баруздин, Брыкина, 1962, с. 96). Хронологический и территориальный диапазоны этих находок весьма широки. Алебастровые и керамические столики найдены в Пенджикенте и на Афрасиабе. Они есть также в слоях XI–XII вв. в Карабулаке (Брыкина, 1974, с. 97–98), в Мунчактепе. Большая часть находок столиков связана с районами юго-западных предгорий Ферганы. Материалы из юго-западных предгорий Ферганы и соседних районов позволяют выделить четыре типа очагов, бытовавших здесь в раннее средневековье: напольные, пристенные, стеновые и переносные. Первый тип — напольные очаги, наиболее простые и распространенные. Они имеют вид глинобитной площадки или небольшого углубления, где раскладывались горящие угли. В некоторых случаях площадки и углубления ограждены невысоким глинобитным валиком. Очаги этого типа открыты в трех помещениях в Кайрагаче. Весьма вероятно, что этот тип не имел утилитарного значения, а использовался в ритуальных целях. Второй тип представлен жаровнями, вмазанными в пол и располагавшимися около стен. Им сопутствуют керамические экраны, вмазанные в стены и служившие для отражения тепла, а также для предохранения стены от растрескивания. Третий тип — стеновые очаги, не получившие широкого распространения. Кроме Карабулака, где обнаружены три очага этого типа (два в коридоре, один во внешней стене за пределами здания), стеновые очаги открыты в Кайрагаче и Пенджикенте. Конструкция их весьма примитивна: полуовальные ниши выдалбливались в нижней части стены на уровне пола или суфы. Перед устьем одного из очагов, открытых в коридоре карабулакского дома, сооружен невысокий глинобитный валик. В Кайрагаче оградки из кирпичей, поставленных на торец, ограничивают небольшие овальные или прямоугольные углубления перед устьем очагов (Брыкина, 1982, с. 50). Четвертый тип — переносные очаги, в качестве которых использовались толстостенные жаровни с горящим углем. Они служили для обогревания помещений (Брыкина, 1982, с. 50). Освещение жилых комнат осуществлялось различными способами. Наиболее распространенными было освещение через световые люки в крыше. Этот прием освещения отмечен в памятниках разных эпох. Световые люки широко практиковались как в сводчатых, так и в плоских перекрытиях. Другим способом было освещение через дворики или айваны. В некоторых случаях в арочных проемах над дверью оставлялись световые фрамуги. Такой способ освещения практиковался в Пенджикенте. Он отмечен также и в Калаиболо, где фрамуги были застеклены (Давидович, Литвинский, 1955). В домах Пенджикента отмечены световые колодцы, располагавшиеся между жилыми помещениями. В эти колодцы выходили окна, прорезанные высоко в стенах. В карабулакском доме, где стены имеют почти двухметровую высоту, оконные проемы не обнаружены. Исключено здесь освещение через дверные проемы, так как двери всех комнат выходят в коридор, перекрытый сводом. Очевидно, освещение помещений карабулакского дома осуществлялось через световые люки в перекрытии. Окна и фрамуги не давали достаточного количества света, и постоянно ощущалась необходимость в искусственном освещении, для чего использовались светильники различных форм. Они ставились в небольшие стенные ниши. Одна из них открыта нами в Кайрагаче.Строительная техника.
На протяжении тысячелетий в Средней Азии основным строительным материалом служил сырцовый кирпич различной формы и различных размеров. В основном это были прямоугольные кирпичи с соотношением длины и ширины 1:2. В середине I тысячелетия н. э. в строительстве начинает применяться битая глина, уложенная горизонтальными пластами, разделенными вертикальными бороздками на блоки различных размеров (70×70, 60×60, 60×50 см). Ряды пахсы чередуются с рядами кладки кирпичей. В горных районах в строительстве широко применяется камень — прямоугольные, хорошо отесанные плиты из мергелистого известняка. В основании стен часто кладется хорошо окатанная речная галька. Стены сложены цепной кладкой, когда чередуются ряды кирпичей, положенных тычком и ложком, и комбинированной кладкой — чередованием рядов пахсы и рядов кирпичей. Строителям были хорошо известны антисейсмические приемы. В кладке стен применялись песчаные и камышовые пояса, глиняные растворы, долгое время сохранявшие пластичность (Воронина, 1953а, с. 14; Бачинский, 1949). Значительная часть сооружений имела плоские бесчердачные перекрытия. Балки укладывались по малому пролету комнат, а на них укладывались жерди, перекрывавшиеся сверху камышовыми циновками и землей. В больших квадратных помещениях, где внутренний пролет превышал размеры деревянных прогонов, кровля всегда поддерживалась деревянными колоннами. Количество их различно — от одной и больше. Чаще всего устанавливались четыре колонны, образующие четырехугольник. В полах помещений сохранились ямки от колонн или большие четырехугольные углубления, в которых, видимо, помещались базы колонн. Такие углубления отмечены на многих памятниках, в том числе в Кайрагаче и Майдатепе в Фергане (Брыкина, 1982). Узкие коридорообразные помещения перекрывались сводами различных конструкций. Чаще всего использовались своды, выложенные способом наклонных отрезков. В Кайрагаче длинное коридорообразное помещение перекрыто двойным сводом. Внутренний свод имел высоту до замковых кирпичей 5,8 м. Он был выложен способом поперечных отрезков, в кладке использовались специальные кирпичи трапециевидной формы. Обнаружены также замковые кирпичи, имевшие форму равностороннего треугольника. Внешний свод сохранился хуже. Он, скорее всего, выложен способом наклонных отрезков. Своды такой конструкции весьма редки. Они отмечены в Хорезме, в Койкрылганкале и в постройках I–III вв. в Аязкале (Толстов, 1948, с. 164; ТХАЭ, 1957, с. 24).Хозяйство.
Чжан Цянь, посетивший Среднюю Азию в конце II в. до н. э., оставил первое и довольно подробное описание Ферганы. Он, в частности, писал о хозяйственной деятельности ферганцев, о том, что в Фергане плодородные земли, пригодные для посевов риса и пшеницы. «Даваньцы ведут оседлую жизнь, занимаются земледелием, сеют рис и пшеницу. Есть у них виноградное вино. Много аргамаков. Сии лошади имеют кровавый пот и происходят от „небесных лошадей“». «В Давани и окрест из винограда делают вино; богатые люди хранят вино более 1000 дан. Долго, несколько десятков лет, оно не портится». Интересно описание нравов ферганцев, их пристрастия к торговле: жители Ферганы, по сообщению этого автора, «искусны в торговле, наперекор состязаются за выгоды». «Эти страны совсем не имеют шелка и лака, не умеют отливать монеты и посуду». Из этого сообщения Чжан Цяня делались не совсем обоснованные выводы о том, что ремесла и товарно-денежные отношения в Фергане были развиты слабо (Бичурин, 1950, т. II). Природные условия Ферганы способствовали развитию в области многоотраслевого хозяйства. Изучаемый район включал ряд ландшафтных зон, различных в климатическом отношении. Это сказалось на развитии хозяйства в каждой из зон. В целом в районе развивалось земледельческо-скотоводческое хозяйство. Но в каждой из зон оно имело свои специфические черты: южная часть района — зона альпийских лугов являлась прекрасным пастбищем и использовалась для летнего выпаса скота; зимние же пастбища находились в полупустынных районах Центральной Ферганы. В предгорьях развивалось горнопастбищное скотоводство. В южных предгорьях Ферганы с первых веков н. э. развивается яйлажное скотоводство. Оно складывается на основе тесной кооперации с земледельцами долины. Анализ остеологических материалов из Кайрагача, проведенный В.П. Данильченко, показал, что в коллекции явно преобладают кости мелкого рогатого скота. Такой же видовой состав стада, где явно преобладал мелкий рогатый скот, отмечен у земледельческого населения Н.С. Лыкошиным, проводившим статистическое обследование долины Ходжа-Бакыргана в начале XX в. (Лыкошин, 1906). Этот факт, видимо, нужно объяснять не образом жизни, а экологическими условиями: окружающие равнину горы очень бедны растительностью. Не менее важную роль в жизни населения области играло земледелие. Наиболее освоенными земледельцами оказались районы, богатые плодородными почвами и водными источниками. В предгорных районах, где весной и осенью выпадает значительное количество осадков, было развито богарное земледелие. В за́мке Карабулака найдены обугленные зерна пшеницы. Частыми находками являются жернова и зернотерки. Полеводство сочеталось с огородничеством, выращивались бахчевые культуры (дыни и арбузы). На каменистых, так называемых тагобных, землях в предгорьях выращивался виноград.Ремесло.
Из сообщений древних авторов следует, что Фергана богата железом, золотом, киноварью. Это подтверждается археологическими данными. В знаменитой пещере Кони-Гут разработки на железо и серебро начаты еще в первые века н. э. Ведутся разработки в Хайдаркане. На базе горнодобывающих промыслов развиваются металлообрабатывающие ремесла, в которых ремесленники достигли высокого мастерства. Намечается специализация ремесла. Известно, что в Восточной Уструшане изготовлялось оружие, славившееся далеко за пределами Средней Азии. Предметы, необходимые в повседневном быту, изготовлялись повсеместно. Следы металлообработки обнаружены при раскопках в Кайрагаче. В южном углу верхней площадки усадьбы в более поздний период находился хозяйственный двор. Здесь открыт небольшой очажок, а около него — кусочки оплавленной бронзы. В наиболее ранний период жизни памятника с производственной деятельностью была связана небольшая комната, также находившаяся на верхней площадке. На полу этой комнаты среди развала керамики обнаружено большое количество железных предметов (ножи, пряжки, наконечники стрел). Здесь же обнаружены кусочки железного шлака. На производственный характер помещения указывают также находки бараньих рогов, использовавшихся, видимо, в качестве карбюризаторов для цементирования изделий из железа. Интересно отметить, что в Пенджикенте, по словам В.И. Распоповой, рога коз найдены в кузнечных мастерских (Распопова, 1980). В Кайрагаче при раскопках святилища обнаружена железная наковальня. Она прямоугольная в поперечном разрезе, несколько суживающаяся книзу. Небольшая по площади рабочая поверхность слегка стерта. Видимо, на этой наковальне изготовлялись небольшие предметы. Наковальни принадлежат к числу редких находок. Помимо Кайрагача, они известны только в Пенджикенте. Изделия из железа представлены как орудиями труда, так и вооружением. В западных предгорьях Ферганы найдены большой лемех плуга, топоры, ножи (Брыкина, 1982, с. 104, рис. 38) различных размеров и формы — изогнутого типа, серповидные, с прямой спинкой. Интересны наконечники стрел. Они трехлопастные и трехгранные или четырехгранные. Однолезвийные кинжалы небольших размеров и мечи, длинные и короткие, предметы вооружения происходят как из поселений, так и из могильников. В одном из помещений верхней площадки Кайрагача найден кусок кольчуги, составленный из мелких колец (Брыкина, 1982).Керамика.
Основным источником для изучения гончарного ремесла является его продукция — керамика. Судя по керамическим находкам, значительное место в изготовлении посуды принадлежало домашнему производству (от руки вылепливались все кухонные сосуды, часть хумов и кувшинов). В то же время изящная столовая посуда, кувшины, горшки, часть хумов изготовлены на ножном гончарном круге быстрого вращения. Использовался круг с подставкой, широко применявшийся в гончарстве Средней Азии. Керамика с полной определенностью позволяет судить о смене традиций гончарного производства в Фергане. Количество характерной для этой области керамики, покрытой плотным красным ангобом, резко уменьшается. Гончарная посуда большей частью светлоглиняная без специального покрытия или же покрытая светлым ангобом. Ассортимент посуды весьма разнообразен. Значительное место среди керамических изделий принадлежало хумам. На некоторых поселениях количество их исчисляется несколькими десятками. На стенках хумов часты тамги, прочерченные по сырой или подсушенной глине. Некоторые из них идентичны монетным тамгам. На втором месте по количеству находок стоят сосуды для воды — кувшины. Формы их разнообразны. Преобладают кувшины с ручками и носиком-сливом, часто примятым с боков так, что верхняя его часть касается венчика. На стенках вокруг основания носика орнамент в виде лунок. Очень характерны для VII–VIII вв. большие кувшины с примятым с боков или подтесанным ножом сливом. Кувшины этого типа распространены как в Согде, так и во всех районах, подвергшихся влиянию согдийской культуры. Широко известны в Фергане кружки с цилиндрической верхней частью, округлым корпусом и небольшой петлевидной ручкой. Форма мисок становится менее вычурной, чем в более раннее время; чаще встречаются миски с усеченно-коническим туловом (табл. 69, 1-20). Интересны лепные кружки с волнистым краем и петлевидной ручкой. К числу уникальных находок следует отнести сосуд со сливом в виде головы быка, оттиски штампов на стенках сосудов: пряжки, розетки, стилизованные головы львов в круге из перлов. Уникально настенное декоративное блюдо с петлей для подвешивания, с восьмилепестковой розеткой в центре, вокруг которой чередуются волнообразные пучки линий. Интересны сосуды специального назначения — ритоны и курильницы. Почти все они происходят из Кайрагача и близлежащих районов. Кайрагачские ритоны имеют различную форму: сосуды с воронкообразным горлом и сфероконическим туловом, завершающимся ножкой-сливом со сквозным отверстием и налепным изображением головы животного над ножкой-сливом (табл. 65, 1); сосуд кольцевидной формы, изготовленный из полой керамической трубы, с цилиндрическим горлом, по сторонам которого располагаются ручки. В нижней части сосуда по одной оси с горлом расположены два слива в виде головы быка (табл. 65, 5); кувшинообразный сосуд с широким и невысоким горлом, в нижней части сосуда находятся две выпуклости со сквозными отверстиями. Сосуд происходит из кургана могильника Тураташ (Баруздин, Брыкина, 1963, с. 23, 83, табл. XIII, 4); ритон с шаровидным туловом и широким горлом (табл. 65, 2). На круглом дне два симметрично расположенных слива в форме головы быка (Брыкина, 1982, с. 75 и сл.; рис. 51–54). На площадке к северу от науса найден ритон цилиндрической формы (табл. 65, 6). Из храмового комплекса Кайрагача происходят четыре курильницы, найденные с другими атрибутами культа. Кайрагачские курильницы имеют высокую цилиндрическую ножку с плоским дисковидным основанием. Резервуары открытой полушарной формы. Они увенчаны ступенчатыми зубцами, имитирующими, видимо, архитектурную деталь, хорошо известную по раскопкам в Акбешиме, Ташкенте, Таразе (табл. 66, 6, 8). Очажные подставки представлены изделиями трех типов: подставки конусовидно-пирамидальной формы со сквозным отверстием в нижней части; подставки цилиндрической формы с выраженным основанием и без него, с отверстием для вертела на середине их высоты; прямоугольные подставки, концы которых завершаются стилизованным изображением животного (табл. 71, 1-13) — быка, в другом случае — барана (Брыкина, 1982, с. 50, 88, табл. 33). Локальные особенности керамической продукции лучше всего выявляются в лепной керамике, изготовлявшейся женщинами для своего дома и для родственников. Лишь небольшая ее часть шла на рынок. Рынок сбыта был узкий, в основном близлежащие села. Различия, прослеженные не только в лепной, но и в гончарной посуде разных районов, дают возможность предположить существование в области нескольких гончарных центров. Анализ керамической продукции показал, что значительная ее часть изготовлялась для рынка. Это выразилось в стандартизации изделий гончарного ремесла. На огромной территории производили сосуды одинаковой формы, одинаковых пропорций, украшали их одинаковым орнаментом, причем определенным стандартам была подчинена не только гончарная, но и лепная посуда.Верования.
Верования — одно из важнейших проявлений духовной жизни человечества. В древности они проникали во все сферы общественной жизни и определяли поведение людей. Вместе с тем из-за ограниченности источников эта область остается, к сожалению, наименее изученной. Ценным источником, отражающим мировоззрение древних людей, являются мифы и легенды, лучше всего изученные в Хорезме. Во всех развитых современных религиях присутствуют элементы древних поверий и культов. Это помогает составить представление о культах и повериях древних людей и объяснить некоторые элементы их духовной и материальной культуры. Фергане, как и всей Средней Азии, был свойственен политеизм. Ни одна из мировых религий не получила в этой области широкого распространения. В Фергане, по этнографическим данным, существовало множество поверий: фетишизм, поклонение воде, скалам, деревьям, вера в могущественную силу всевозможных амулетов. Дерево играло большую роль в весенних обрядовых праздниках, в свадебных церемониях. Связь дерева с культом плодородия ярко выражена у многих народов. Именно поэтому деревья часто наделяются душой и выступают в качестве тотема (Литвинский, 1981а, с. 106). Степень «святости» разных деревьев различна. Наиболее почитаемой была арча. В Варзобе ее называли «любимицей богов». Ива также была почитаемым деревом. Злые силы населяли окружающую среду и вредили людям. Люди прибегали к помощи всевозможных оберегов — предметов, обладающих магической силой. К их числу относятся многие виды украшений, вышивки на детской одежде, жук-скарабей, почитаемый не только как средство от сглаза, но и как талисман, способствующий деторождению (Васильева, 1986, с. 182 и сл.). В обычае ношения амулетов нашли отражение ранние формы религий: тотемизм, фетишизм, различные виды магии. Традиция ношения амулетов восходит к первобытным верованиям. Древнейшие культовые места не были архитектурно оформлены. Религиозные церемонии совершались у почитаемых объектов. Ими могли быть скалы и камни, деревья, источники. На скалах встречается множество всевозможных изображений отдельных животных, а также целые сцены. Их, как правило, обнаруживают в ущельях и около пастбищных угодий, вблизи от источников. Рисунки наносились на ровные поверхности скал, на большие валуны. В Юго-Западной Фергане, в верховьях р. Ходжа-Бакырган (Ляйляк), нами открыты рисунки на больших валунах. Преобладают изображения баранов и горных козлов, а на одном помещен человек с луком. Эти рисунки выполнены, скорее всего, в середине I тысячелетия до н. э. и в последующее время. Здесь же множество посетительских надписей на арабском и персидском языках. Самые поздние из них датированы XVI в. Среди огромного количества наскальных изображений, открытых в горах Ферганы, особое место занимают обнаруженные на перевале Ферганского хребта, в долине р. Кугарт, и известные под названием «Саймалыташ», что означает узорчатый камень. Это своего рода картинная галерея на камне, создававшаяся в течение более чем полутора тысяч лет и насчитывающая несколько тысяч изображений. А.Н. Бернштам выделял четыре периода, или «слоя», изображений. Араванская скала и Саймалыташ с изображениями культовых сцен поклонения солнцу превращалась в своего рода храмы, где совершали отправление культа многие поколения. Ритуал поклонения сопровождался возжиганием огня. Араванская скала и родник у ее подножия почитались и мусульманами. Здесь был построен мавзолей Думдумата. А.Н. Бернштам отмечал, что животные, изображенные на скалах, не являются объектом охоты. Они предстают как символы благополучия и «эмблемы солярного культа» (Бернштам, 1952, с. 223). В областях с развитым производящим хозяйством, какими были Хорезм, Фергана в верованиях и обрядах населения участвуют домашние животные. Среди них в первую очередь следует отметить быка, верблюда и собаку. Особенно почитался в Хорезме бык. На торжествах в честь Бобо-Дехкона жарили богурсак. Быку смазывали рога жиром. В честь новорожденных телят устраивали праздники. На них вешали амулеты от сглаза. Свидетельством сакрального значения быка является его участие в качестве жертвенного животного в весенней чистке каналов, по которым вода шла на поля. Предполагалось, что это жертвоприношение обеспечит обилие воды в каналах и соответственно хороший урожай (Снесарев, 1969, с. 310). Связь быка с водой имеет давнюю традицию. Она иллюстрируется археологическими материалами. Из Кайрагача происходят керамические ритоны, сливы которых оформлены протомами бычьих голов (Брыкина, 1982, с. 76, рис. 51–54). Ритоны — сосуды ритуального назначения. Они, несомненно, подчеркивают сакральную связь быка с водой (табл. 65, 2, 5, 6). На средневековых поселениях неоднократно находили сосуды для воды, известные под названием «мургоби». Носик-слив этих сосудов завершается головкой быка с открытой пастью (Снесарев, 1969, с. 329; Брыкина, 1974, с. 51, рис. 29, 1–4; с. 105, рис. 66, 1, 2). Значительное место в культах древних народов принадлежит барану. Его изображение служило оберегом. Считалось, что баран обладал магической силой. Его имя давали детям, чтобы предохранить от беды. Магической силой обладали и его отдельные части. Так, шерсть барана служила талисманом. Над входом в дом укрепляли рога барана-кочкара. Они, по существовавшему представлению, должны были охранять дом от «дурного глаза». Точно такими же способностями, видимо, обладали изображения рогов домашнего барана. Вера в сакральную силу животных уходит в глубокую древность. Об этом свидетельствуют скульптурные изображения голов животных и птиц на крышах оссуариев. Значительное место в верованиях древних ферганцев принадлежало астральным культам. О почитании планет есть сведения у древних авторов. Сакральные свойства планет нашли отражение в Авесте. Солнце, луна, планеты обладали оплодотворяющей и очищающей силой. Известно, что в согдийском календаре дни недели посвящались планетам. Первое место среди них принадлежало солнцу (воскресенье)’ второй день посвящен луне (понедельник). В пехлевийском тексте «Города Ирана» говорится о храме в Самарканде, посвященном семи божествам. Имена этих божеств сохранились в названиях семи дней недели согдийского календаря эпохи раннего средневековья. Культ лунного и солярного божеств отразился в украшениях, находимых на поселениях и могильниках. Это бронзовые бляшки дисковидной и полулунной формы. В одном из курганов Карабулакского могильника найдена пластинка сердцевидной формы. На ней изображены две человеческие головы — мужская и женская, обращенные друг к другу. Мужское лицо безусое и безбородое. Волосы повязаны диадемой, украшенной перлами. На затылке шаровидный пучок. Над головой сияние в виде радиально расходящихся лучей, идущих от лба к затылку. У женщины прямой нос, слабо обозначенный подбородок, волосы собраны на затылке в пучок. Над головой эмблема — полумесяц. Два главных атрибута — лучистый венец и полумесяц позволяют предположить, что это изображение носит культовый характер и является воспроизведением солнца и луны. Следует отметить, что антропоморфные изображения небесных светил часты в древнем и средневековом искусстве Средней Азии и Востока в целом. Например, женское божество встречается на реверсе кушанских монет, где оно сопровождается надписью «Selena» или «Махо», что означает «Луна» (Баруздин, Беленицкий, 1961, с. 21–27). В честь светил возводились храмы. Известно, что храмы солнца были в Пайкенде и Бухаре. В Бухаре же был базар под названием «Мах», что означает «Луна». На нем продавали небольшие скульптуры. Возможно, здесь был храм Луны. Средневековый автор ал Шахристани писал о храме солнца в Касане: «К ним (древним храмам) относится храм Каусан, построил его царь Каус. Постройка эта была удивительная». И далее: «…это было удивительное здание, посвященное солнцу, в столице Ферганы. Его разрушил ал Мутасим» в 833–842 гг. Название храма связывалось с именем легендарного царя Ирана Кауса. А.М. Беленицкий был склонен считать, что более правомерна связь с названием столицы Ферганы Касан (Баруздин, Беленицкий, 1961, с. 21 и сл.). Культ солнца нашел отражение в погребальных сооружениях. В курганах разных эпох на обширной территории под насыпями открыты каменные выкладки. Они были выложены вокруг могил и иногда большим кольцом окружали всю площадь кургана. В Юго-Западной Фергане, в местностях Ташрават и Оутсай, под курганными насыпями на уровне древнего горизонта открыты кольцевые выкладки. Особенно интересен большой курган в Оутсае. Его земляная насыпь была облицована камнями, положенными в один слой. Под насыпью на уровне древнего горизонта находились каменные выкладки. Три полукольца из крупных камней располагались вдоль южного и восточного краев, примыкая к кольцу, окружающему подкурганную площадку. На восточной половине площадки, почти в самом центре, находилась еще одна кольцевая выкладка. В ее центре в неглубокой овальной ямке в скорченной позе лежал скелет расчлененного человека. Череп лежал рядом на уровне грудной клетки. Других погребений в кургане не обнаружено. Видимо, площадки была культовым местом. Выкладки-полукольца связаны с солярным культом, а на площадке совершались какие-то действа в честь солнца. С культом солнца связан культ огня. Почитание огня в Средней Азии имеет длительную традицию. С древнейших времен существовало представление об огне как об очистительной силе. Место очага в доме считалось священным. Именно в очаг в день поминовения ставили пимеки — священные лучинки, возжигавшиеся в честь усопших предков. Пимеки втыкают в очаг и говорят, какому предку они предназначены. Огонь играл большую роль и в погребальном обряде. Трупосожжение, сожжение надмогильных сооружений связаны с верой в очистительную силу огня. Огонь в погребениях символизировала красная краска, охра. Связь возжигания огня с погребальным культом подтверждается изображениями на оссуариях. Современные узбеки зажигают огонь на могилах (Андреев, 1927, с. 11). В классовых обществах древнего Востока культ огня приобретает форму государственной религии. Возводятся храмы огня, архитектура которых подчинена определенному канону. Храмы, как правило, включали обширные квадратные залы с большим круглым или прямоугольным очагом в центре. Помимо зала, в храме были и другие комнаты, где хранился вечный огонь. Храмы огня в раннесредневековых письменных источниках упоминаются в Бухаре, Самарканде, Рамитане. Специальные постройки, связанные с культом огня, отмечались при исследовании памятников Средней Азии неоднократно. В частности, Алоухана — дом огня — был открыт на Джанбаскале в Хорезме (Толстов, 1948, с. 98). Храмы, где предполагалось поклонение огню, обнаружены на других памятниках Хорезма. Это прежде всего Топраккалинский комплекс и Высокий дворец, а также культовые здания в загородном дворцовом комплексе и храм в городе (Рапопорт, 1993, с. 171 и сл.; 1996, с. 70 и сл.; Неразик, 1997, с. 50–52). В Фергане места почитания огня открыты в нескольких пунктах. В Касане раскопано помещение VI–VIII вв., которое, как полагал А.Н. Бернштам, было культовым. В нем находился большой овальный очаг. В очаге лежали куски дерева и толстый слой пепла. Помещение, где находился очаг, А.Н. Бернштам сопоставлял с домом огня — алоухана, аналогичным открытому С.П. Толстовым на Джанбаскале (Бернштам, 1952, с. 239). О храме огня в Касане писал ал Шахристани, а жителей этого города он называл огнепоклонниками-мугами. На центральной площадке Гайраттепе (в Северо-Восточной Фергане) находился большой прямоугольный очаг с прокаленными стенками, заполненный белой золой. Вокруг этого очага располагались восемь маленьких очагов, стенки которых также прокалены. В.И. Козенкова считает этот комплекс культовым и сопоставляет его с так называемыми сигналами, вариантом зороастрийского храма. Культовый характер очагов подчеркивается бережным отношением к пеплу, который был аккуратно уложен и обмазан сверху глиной (Козенкова, 1964, с. 226, 236). Еще один храм открыт в Южной Фергане на городище Майдатепе (IV–V вв.). В центре этого городища находилось большое здание, значительная часть которого была занята парадными помещениями. В южном углу здания располагался почти квадратный в плане четырехколонный зал площадью 50 кв. м. В юго-восточной стене находилась глубокая ниша, возле которой открыто прямоугольное возвышение. Вдоль стен зала тянутся суфы (табл. 49, 1–4). Перед нишей открыт большой напольный очаг прямоугольной формы, огражденный глинобитным бортиком. Под и стены очага сильно прокалены. На полу около него следы длительного и интенсивного воздействия огня. К югу от очага располагалось прямоугольное возвышение, заполненное золой и покрытое сверху глиной. Это, очевидно, место хранения золы из священного очага. В зале совершались церемонии, связанные с поклонением огню и каким-то реликвиям, которые находились в нише; молящиеся сидели на суфах, тянущихся вдоль стен (Брыкина, 1973, с. 115). Поклонение огню предшествовало всем наиболее важным делам. Для этого в каждом доме имелисьотдельные комнаты или специальные места, где совершался этот обряд. В Средней Азии существовал ряд культов, атрибутами которых были антропоморфные изображения. Это идолопоклонничество, астральные культы, культ предков и связанные с ним профессиональные культы. Идолопоклонничество было широко распространено в Средней Азии с древнейших времен. Исследователи считают его предшествующим и антагонистичным культу огня. Это подтверждается исторической традицией. В «Шахнаме» описывается принятие Виштаспом зороастризма и строительство храма огня: «Идолов в капище они сожгли, вместо идолов огонь они зажгли» (Беленицкий, 1954). В китайских хрониках Таншу и Бейши есть сведения об идолах: «В Западном Цао есть город на запад, минуя город Юй-ди, есть храм духу Дэси. Жители поклоняются ему. В этом храме есть золотая утварь с надписью, что сия пожалована Сыном Неба из династии Хань» (Бичурин, 1950, с. 275). В хронике Бейши есть сведения об идолах, более пространные данные об их облике и обрядах, которые совершаются в храме. Идол Дэси имеет антропоморфный вид, ежедневно в жертву ему приносится огромное количество различных животных — верблюдов, лошадей, баранов. Животных закалывают, потом совершается коллективная трапеза. В хронике называется место, где находится храм: «владение Цао» — это древняя кангюйская земля (Бичурин, 1950, т. II, с. 313). Многочисленные сведения об идолопоклонничестве находим у арабских историков и географов. По их сведениям, арабы, пришедшие в Среднюю Азию, сталкивались с этим культом повсеместно. Они отмечали как отдельные культовые места, так и обширные капища, где были сосредоточены огромные богатства. Богатейшие храмы находились в Самарканде, Рамитане, Пайкенде. Арабы разрушали эти храмы, а все богатства разграбили. В Бухаре храм находился в цитадели-арке. Впоследствии на его месте была построена мечеть. На дверях домов и за́мков Бухары вырезаны изображения идолов, на каждом доме свой идол. На базаре Мах два раза в год продавали идолов. «Каждый, кто потерял своего идола или сломал, мог в день торга купить себе нового идола и унести домой» (Нершахи, 1897, с. 50–51). Из этого сообщения Нершахи следует, что каждый член коллектива имел своего личного идола. Это особенно важно в связи с находками в святилище усадьбы Кайрагач и в ферганских курганах маленьких алебастровых идолов, являвшихся, очевидно, личными божествами-оберегами отдельных членов коллектива. Они хранились дома в специальных нишах. Иногда их помещали в погребения, чаще всего женщин (табл. 74, 1–7), где они выполняли функции спутника умершего (могильники Ташрават, Ворух) или его заместителя (кенотаф Тураташа) (Баруздин, Брыкина, 1962; Брыкина, 1982; 1987, с. 52; Брыкина, Трунаева, 1995, с. 73, рис. 1–6). В Уструшане идолопоклонничество было распространено весьма широко. Сам правитель области ал Афшин Хайдар, по словам ал Масуди, «был мусульманином лишь по виду». На самом деле он исповедовал веру своих отцов, за что был призван к суду и наказан (Негматов, 1957). В рукописи Мухамеда Яваза приводятся сведения об идолопоклонничестве у киргизов в XVII в. Рукопись посвящена житию среднеазиатского шейха Ходжи Исхака, подолгу жившего среди киргизов и обратившего в мусульманство около 180 тыс. кафиров и идолопоклонников. В рукописи описаны капища идолопоклонников, находившиеся в районе Кашгара и Самарканда, а также главный идол киргизов — бут. Он был сделан из серебра и висел на дереве. Вокруг него висело множество маленьких идолов из дерева и камня. Ритуал поклонения сопровождался общей трапезой верующих и кормлением идола. Обращает на себя внимание сходство ритуала поклонения киргизскому идолу и упомянутому духу Дэси. В обоих случаях поклонения божествам сопровождались жертвоприношением, коллективной трапезой и кормлением божества. Видимо, этот ритуал был широко распространен и имел стойкую традицию. Только этим можно объяснить его бытование и в XVII в. Этнографы свидетельствуют, что у современных народов после принятия ислама сохраняется множество обрядов и поверий, которые считаются реликтами доисламских верований (Снесарев, 1969, с. 102). Все обряды совершались ограниченными группами людей, объединенных в секты. Одну из таких сект наблюдал М.С. Андреев в районе Каттакургана. Местные жители, говоря об идолопоклонниках, употребляли выражение «куурчак касыгич падилер» («они прибегают к куклам или уповают на кукол»). Идолов было два — мужской и женский. Оба сделаны из дерева и одеты в белые ткани. Идолы хранились в разных кишлаках в одних и тех же семьях на протяжении многих поколений. Они были покровителями и исцелителями. К ним обращались в случае личной болезни или болезни близких родственников (Андреев, 1925). С семейным культом связаны небольшие фигурки из олова или свинца, иногда из серебра, одетые в красные или синие ткани, — кут. Эти фигурки бытовали у киргизов и ферганских таджиков. Кут считался символом счастья дома, и семья, обладавшая им, должна иметь много скота и детей (Андреев, 1929, с. 113). Кут бережно хранился в укромном месте дома, а хранительницей его была старшая в семье женщина. Этнографы считают, что истоки обычая иметь семейный оберег следует искать в глубокой древности. А то обстоятельство, что хранительницей кута была женщина, заставляет видеть в этом обычае отголоски верований материнского рода (Баялиева, 1969). Видимо, когда арабы писали об идолах, они имели в виду вполне конкретные изображения, отличающиеся от божеств буддийского, христианского и других пантеонов. В этом нас убеждает то обстоятельство, что во всех арабских источниках от X до XVI в. идолы называются одинаково — бут. Точно так же их называют современные арабы. Как показали исследования этнографов, идолы кут и бут являются покровителями отдельных коллективов — целых общин или отдельных семей. Храмы идолов нужно связывать с местными верованиями. В этих храмах стояли изображения богов, являвшиеся объектом поклонения. Культы божеств — покровителей дома известны по Авесте. В Авесте фигурируют духи дома и семьи, умершие родичи «нманья», которые после смерти заботятся о благополучии семьи. Упоминаются также духи рода и племени. В.А. Лившиц сопоставляет «нманья» с авестийскими фравашами — ангелами-хранителями и одновременно с душами всего сущего. Он полагает, что «нманья» изображались в виде идолов, и сравнивает их с теми, что продавались на базаре Мах в Бухаре (Лившиц, 1963, с. 149). По Авесте, фраваши — это могущественные духи умерших предков. Они почитались потомками и принимали от потомков приношения. В этом проявлялась забота об умерших сородичах. Днем поминовения умерших и поклонения их духам был Науруз — Новый год. Этот день совпадал с днем весеннего равноденствия. С ним связаны представления об умирающей и воскресающей природе. В этот день готовилась специальная еда для духов предков. Каждая еда сопровождалась молитвами в честь умерших. Об обрядах поклонения предкам, совершавшихся хорезмийцами и согдийцами, писал Бируни, обративший внимание на сходство этих обрядов у обоих народов. Он отмечал также, что обряды хорезмийцев и согдийцев сходны с теми, что совершают персы. У персов дни ферварджана совпадают с началом Нового года и с приходом весны. «В эти дни люди ставили кушанье в наусы мертвецов, а напитки на крыши домов» (Бируни, 1957, с. 236). «Хорезмийцы и согдийцы, — пишет Бируни, — делают то же, что и персы, — ставят еду и напитки в наусы для духов предков. Согдийцы плачут и царапают себе лица». Из всего сказанного очевидно, что обряды, связанные с культом предков, ведут начало от поклонения останкам умерших и совершались на могилах и в наусах. В Кайрагаче на площадке около науса открыты следы кострищ, остатки обожженных костей, масса разбитых сосудов. Среди последних найден ритон, слив которого оформлен в виде головы барана с витыми рогами (табл. 65, 6). Перед входом в наус лежала вылепленная из глины, покрытая светло-красной краской голова антропоморфного идола (табл. 74, 7). В письменных источниках есть обстоятельные описания не только самих храмов, но и ритуала, которым сопровождалось поклонение предкам. В области Ши (Ташкент) объектом поклонения была урна с прахом. «По юго-восточную стену резиденции есть здание, посреди которого поставлено седалище. В 6 числе первой луны поставляют на этом престоле золотую урну с пеплом сожженных костей покойных родителей владетелей, потом обходят кругом престола, рассыпая пахучие цветы и разные плоды. Владетель с вельможами поставляют жертвенное (мясо). По окончании обряда владетель с супругой отходят в особливую ставку. Вельможи и прочие по порядку садятся, а по окончании стола расходятся» (Бичурин, 1950, т. II, с. 272–273). А.М. Мандельштам на основании того, что день приношений в самаркандском храме совпадал с днем поминовения усопших, полагал, что сам храм был царской усыпальницей правящей династии Самарканда и вместе с тем центром династического культа (Мандельштам, 1964, с. 86–87). Своеобразным династийным храмом царских предков был зал царей, открытый в Топраккале. Здесь, как полагал С.П. Толстов, «находилась портретная галерея династии хорезмийских сиявушидов». Огромные сидящие статуи изображали царей, а окружавшие их изваяния — членов семей, богов-покровителей (Толстов, 1948, с. 186). В Шахристанском дворце, который рассматривается как резиденция уструшанских афшинов, местом поклонения династийным предкам был малый зал дворца. Н.Н. Негматов полагает, что на задней его стене изображен предок уструшанской династии (Негматов, Соколовский, 1973, с. 152–153). Культовые постройки были обязательной принадлежностью каждого дома. В Пенджикенте они, как правило, находились на втором этаже (Распопова, 1981, с. 38). Установлено, что домашние храмы имели различную структуру. Они могли включать одну или несколько комнат, что, видимо, обусловлено значимостью культа. В Пенджикенте были капеллы с пристенными алтарями, где нет изображений богов. Объектами поклонения здесь были изображения умерших и почитаемых предков (Беленицкий, Маршак, 1976, с. 83). В большинстве построек просто выделены культовые места в жилых комнатах. Г.А. Пугаченкова отмечает наличие культовых мест в жилых комнатах Дальверзина. Они имели вид ниш с прямоугольными оградками, заполненными золой. В нишах хранились атрибуты культа (Пугаченкова, 1976, с. 39). Особое место среди культовых памятников Ферганы принадлежит усадьбе Кайрагач, потому что именно здесь находился культовый центр области. Помимо святилища, где располагались статуи богов, были еще ряд обширных комнат с суфами вдоль стен и очагами в центре, двор с водоемом, где могло поместиться большое количество молящихся. В кайрагачском храме главные обряды совершались в святилище перед постаментом у южной стены (табл. 73, 1), где стояли большие статуи (табл. 73, 12, 14), являвшиеся объектом поклонения всего коллектива, и в небольшой проходной комнате перед нишей, где лежали семь маленьких фигурок, принадлежавших отдельным представителям общины и олицетворявших их личных покровителей (табл. 73, 3–6, 10, 11, 15). Обряд сопровождался приношениями. На постаменте в западном углу святилища лежал мешочек с украшениями, амулетами и монетой чачского чекана. Священный огонь возжигался в большом очаге в центре святилища и в трех курильницах, а также в очагах в двух больших комнатах на верхней площадке памятника. Особое место в верованиях принадлежало профессиональным культам. Связь их с культом предков бесспорна. В культе бесчисленных святых выделяются «отраслевые» святые — основатели и покровители определенных занятий и ремесел. Духи умерших мастеров окружены заботой и вниманием. В их честь приносились жертвы, читались молитвы. Ремесло бывало часто наследственным. Поэтому поклонение духам — патронам профессии приняло форму семейного родового культа предков. Удалось установить, что образы патронов-покровителей имеют очень древние корни, которые прослеживаются лучше всего в женских ремеслах — ткачестве и особенно в гончарстве (Сухарева, 1960, с. 120, 196). Женщины-гончары очень часто прибегали к всевозможным магическим действам и к помощи патронов-покровителей при обжиге сосудов. Наиболее почитаемой была профессия кузнеца. Истоки культа кузнеца следует искать в глубокой древности: поклонение кузнечному ремеслу связано с культом огня, с его могущественной силой. Очень интересные сведения о культе первого кузнеца в Шугнане приводит М.И. Зарубин: «Даже место, где была кузница, почитается; несколько лет работал кузнец в одном месте, потом перешел в другое; старое место окружили оградой, и поныне оно почитается как мазар. Из орудий кузнечного ремесла особенно почитается наковальня — pulkzir (камень, на котором куют большие куски железа, большая каменная наковальня) и sahdun (небольшая железная наковальня, вбитая в большой деревянный обрубок): всякий, приближаясь к ним, совершает зиорат» (Зарубин, 1926, с. 1165). В связи с этим большой интерес представляют найденные в святилище Кайрагач два предмета, имевшие отношение к производственной деятельности. Около постамента лежали большой проушной топор и небольшая железная наковальня. Эти находки проливают свет на характер культа, атрибутами которого являются скульптуры. Весьма вероятно, что они олицетворяли родоначальников — патронов профессии кузнеца. С культом предков связаны культы плодородия. Одним из них был фаллический культ, широко распространенный у многих народов с древнейших времен. Он отмечен и в верованиях древних ферганцев. В одной из комнат Кайрагача обнаружены фаллосы из необожженной глины. Они были аккуратно сложены в небольшую ямку в суфе. Атрибутами фаллического культа принято считать статуэтки и налепные изображения на сосудах с подчеркнутыми признаками пола. Фаллос — символ воспроизводящей силы природы. Совершение обрядов с фаллическим культом имело цель обеспечить плодородие полей и связанное с ним материальное положение коллектива. В усадьбе Кайрагач обнаружено огромное количество бытовых предметов, среди которых преобладают хумы. На них имеются прочерченные по сырой глине и нанесенные штампом знаки. Знаки не повторяются. Исключением является ромб с отростками-усами, символизирующий дерево. Некоторые знаки сходны с монетными тамгами Чача, Уструшаны, Согда. А.М. Беленицкий высказал предположение, что хумы со знаками из пенджикентских храмов являются приношением храму от отдельных лиц, в том числе и от царских особ (Беленицкий, 1957). Может быть, и кайрагачские хумы можно рассматривать как приношения храму. Судя по многочисленности и разнообразию знаков, круг дарителей был весьма широк. Кайрагачские знаки имеют аналогии в материалах Ташкента и Пенджикента. Все это заставляет думать, что изображения богов из Кайрагачского комплекса почитались населением обширной области.Погребальные сооружения и обряды.
Мировоззрение и духовная культура древнего населения Средней Азии неоднократно становилась предметом исследования ученых. Особую важность для решения этих проблем приобретает изучение погребальных памятников и происходящих из них материалов. Погребальный обряд отражает веру в загробное существование, веру в бессмертие души, дает представление о культе мертвых и культе предков. Погребальный обряд древнего населения области включал цикл действий, совершавшихся последовательно с момента смерти человека (устройство погребального сооружения, помещение в него умершего и погребального инвентаря, последующие поминальные церемонии). Многие обычаи, практиковавшиеся при захоронении умерших в древности, сохранились до нашего времени и отмечены в этнографической литературе. Именно это обстоятельство помогает объяснить некоторые моменты древней погребальной обрядности. В Фергане открыты четыре типа погребальных сооружений, бытовавших в этой области в I тысячелетии н. э.: подкурганные захоронения на древнем горизонте, в грунтовых ямах, в катакомбах и подбоях; бескурганные захоронения в грунтовых ямах, перекрытых деревом, земляные склепы; наземные сооружения — мухгона и наусы. Раскопки последних десятилетий существенно расширили представление о погребальном обряде и погребальных сооружениях. Они в основном представлены курганными могильниками, которые принято связывать с кочевым населением. Но это не так однозначно. Нужно помнить, что Фергана на протяжении всей своей многовековой истории была густонаселенной областью. Все удобные земли заняты городами и поселениями, пашнями, садами. Для пастбищ свободных земель не оставалось. Естественно, что предгорные районы, богатые пастбищами и плодородными землями, привлекали внимание жителей перенаселенной Ферганы. Заселение предгорий этой области началось в конце I тысячелетия до н. э. и особенно усилилось в первые века н. э. Именно этим временем нужно датировать многочисленные могильники в предгорных и горных долинах. Видимо, прав был С.С. Сорокин, считавший, что первые этапы заселения ферганских предгорий связаны с развитием в Фергане яйлажного отгонного скотоводства. Несмотря на то что исследования погребальных памятников ведутся не одно десятилетие, в науке нет пока единого мнения относительно происхождения оставившего их населения. Одни исследователи связывают могильники с пришлым населением (А.Н. Бернштам, Ю.А. Заднепровский), другие — с местным (Б.А. Литвинский, С.С. Сорокин). Б.А. Литвинский полагает, что это население не было кочевым, вело полукочевой, а в ряде случаев оседлый образ жизни. Особенностью топографии области является чрезвычайно близкое расположение погребальных памятников и часто синхронных им поселений земледельцев. Сходство материалов из поселений и могильников свидетельствует о тесных контактах населения, оставившего могильники, с жителями поселений. Исследователи неоднократно отмечали это сходство. В свое время о сходстве материалов из Ширинсайского могильника и расположенного поблизости поселения Мунчактепе писал В.Ф. Гайдукевич. Он отметил синхронность этих памятников и высказал предположение, что они являются единым историко-культурным комплексом (Гайдукевич, 1952). Позже об этом сходстве писали С.С. Сорокин и Б.А. Литвинский. Первый объяснял сходство керамики из могильников и с поселений импортом посуды из городских центров в кочевую среду. Б.А. Литвинский считает, что между населением, оставившим поселения, и населением, оставившим могильники, существовала органическая связь. Многообразие памятников и широкий хронологический диапазон добытых материалов позволяют проследить динамику развития погребального обряда. Наиболее многочисленны курганные могильники. Они, как правило, располагаются на высоких террасах рек или плато, в стороне от возделываемых земель. Могильники представляют собой огромные курганные поля, насчитывающие 200 и более курганов. Так, в Карабулаке около 900 курганов, а в Тураташе — 1500. Могильники в долине р. Ходжа-Бакырган также представлены большим количеством курганов: в Кайрагаче около 300 курганов, а в Бешкентском могильнике — 150. Так же многочисленны могильники долины Исфары. Такие могильники возникли не в одночасье, а формировались на протяжении длительного времени — нескольких десятилетий, а может быть, столетий. Это свидетельствует об устойчивости традиции совершать захоронения в одном месте, а это, в свою очередь, связано с малой подвижностью населения, оставившего могильники, а также с длительным пребыванием этого населения на одной и той же территории. В могильниках выделяются большие курганы, вокруг которых группируются курганы меньших размеров. Предполагается наличие на могильнике культового места. Это могли быть открытые площадки или специальные сооружения, где совершались поминальные церемонии. Такие сооружения известны в могильниках Западной Сибири и в сарматских могильниках Южного Приуралья. Ю.А. Заднепровский, много занимавшийся погребальными сооружениями, первым предложил схему географического районирования ферганских погребений (Заднепровский, 1960, с. 113–128). Впоследствии к этой теме Ю.А. Заднепровский обращался неоднократно. В одной из последних работ он отмечает некоторую закономерность в расположении могил разного типа на территории Ферганы (Заднепровский, 1995). Этот автор считает, что в одних и тех же районах и могильниках присутствуют могилы разного типа. Но количественное соотношение могил разного типа в различных районах разное. Ю.А. Заднепровский выделяет восемь географических районов в Фергане, в которых, как он полагает, прослеживается определенная закономерность в процентном соотношении разных типов захоронений. Для юго-западной Ферганы (район I по Заднепровскому) наиболее характерны захоронения в катакомбах. Подбои и грунтовые могилы здесь единичны, в то время как в междуречье Ляйляка-Соха (район II) и на северных склонах Алайского хребта (район IV) преобладают захоронения в подбоях и грунтовых могилах, часто перекрытых деревом. Катакомбы здесь присутствуют, но в значительно меньшем количестве. В восточных же районах (район VI) преобладают захоронения в грунтовых могилах. В районах VII и VIII на севере Ферганы присутствуют катакомбы и склепы и захоронения в наземных каменных сооружениях — мугхона, или курумы. Эта схема Ю.А. Заднепровского отражает современный уровень изученности погребальных сооружений Ферганы. В настоящее время наиболее полно изучены могильники юго-западных и южных предгорий области, где вскрыты сотни курганов с могилами разного типа. Но даже в этом сравнительно хорошо изученном районе нет ни одного полностью раскопанного могильника, кроме двух частично разрушенных могильников в Ташравате (юго-западные предгорья Ферганы). В одном из них открыты 65 курганов, в другом — четыре. В первом два подбоя, остальные — катакомбы двух типов; во втором — один подбой и три катакомбы. Степень изученности Восточной Ферганы такова, что судить о наличии или преобладании каких-либо могильных сооружений просто невозможно. Кроме того, при проведении такой работы следует учитывать время бытования разных типов могильных сооружений. Ведь вполне вероятно, — что они существовали в разное время. Захоронения в грунтовых ямах — наиболее ранний и традиционный способ погребения. Могилы разной глубины (от 1 м и глубже). В плане могильная яма овальная или прямоугольная. Иногда стенки обложены камнем. В могильнике Оутсай в Карабулаке и в исфаринских курганах могилу закрывают деревянные плахи (Литвинский, 1972; Заднепровский, 1995; Горбунова, 1981). На полу ямы часто встречаются камышовые циновки. Захоронения в подбоях бытуют долго и распространены широко. Они имеют узкую входную яму, вытянутую с севера на юг или с востока на запад. Подбой располагается вдоль длинной стены входной ямы. В этой же стене находится входная ниша. Ориентировка погребенных различна. Значительное место в могильниках принадлежит катакомбам. В некоторых могильниках, таких, как Кайрагач на юго-западе Ферганы и Гурмирон в северной ее части, захоронения совершены исключительно в катакомбах. Они имеют разные конструкции, что позволило выделить два их типа. Тип I — кенкольский — включает глубокие катакомбы Т-образной формы с длинным дромосом трапециевидной формы и обширной камерой. Дромос вытянут в направлении север-юг с небольшим отклонением к востоку или западу. В северной части он расширен. Вход в катакомбу находится в северной стене дромоса. Вдоль длинных стен дромоса тянутся заплечики треугольной формы. На стене, противоположной входу в катакомбу, вырублены ступеньки. Пол наклонно понижается к входу в катакомбу. В одних случаях он плавно переходит в камеру, в других случаях при переходе из дромоса в камеру имеется ступенька. Вход в катакомбу заложен крупными хорошо окатанными камнями. Катакомбы этого типа ранние. Они относятся к первым векам н. э. В них, помимо керамической посуды, присутствуют предметы вооружения — железные трехлопастные наконечники стрел, костяные обкладки лука, кинжалы, мечи. Очень мало украшений. Видимо, значительная часть этих курганов принадлежала воинам. Тип II — хангизский — представлен сооружениями с коротким и неглубоким дромосом, вытянутым с севера на юг, вход находится в южной стене дромоса. Камеры обширные, с высоким сводом. Вход в камеру заложен крупной речной галькой, иногда сырцовым кирпичом. В катакомбах этого типа часты множественные разновременные захоронения, от двух до трех-четырех. При погребении каждого последующего предыдущего сдвигали к задней стенке. Погребенных часто клали на камышовую циновку и такой же циновкой укрывали сверху (табл. 54, 1-10). Наличие множественных захоронений свидетельствует о малой подвижности населения, оставившего эти сооружения. В катакомбах этого типа богатый инвентарь. Помимо глиняных сосудов, в них много украшений (бусы, серьги, перстни, браслеты) и алебастровые фигурки, сопровождавшие женщин. Каждый из этих типов могильных сооружений не составляет обособленного кладбища. Как показали раскопки, могилы разных типов расположены вперемежку, что дало возможность Б.А. Литвинскому высказать предположение о синхронности погребений разного типа в одном могильнике. Считается, что погребальный обряд является устойчивым этнографическим признаком. Наличие разных типов захоронений в одном могильнике указывает на смену одного обряда или на присутствие нескольких этнических групп, принимавших участие в формировании могильника. Оба эти фактора могли играть заметную роль в сложении и изменении погребальной обрядности. Но в данном случае на первое место выступает временной фактор. Анализ новых материалов помог выделить ранние и поздние типы сооружений. Удалось установить, что катакомбы первого типа более ранние, чем катакомбы второго. Подбои, открытые в могильниках Ташравата, синхронны катакомбам первого типа. Среди многочисленных подбоев могильников Исфары и Баткена, видимо, можно выделить более ранние и более поздние группы. Интересной особенностью ферганского погребального обряда является использование деревянных гробов. Они отмечены только в части курганных могильников, в основном юго-западных предгорий Ферганы. Причем в каждом из могильников захоронения в гробах составляли незначительный процент от общего количества погребенных. Гробы находились в могилах всех трех типов, известных в Фергане (грунтовые ямы, подбои, катакомбы). Гробы имели различную конструкцию. Это досчатые гробы, изготовленные из хорошо обработанных широких досок и имеющие форму ящика, расширенного в головной части. Стенки гроба крепились по углам вертикальными стойками с пазами, соединявшими продольные и поперечные стенки гробов. Некоторые экземпляры имели ножки. Крышками гробов служили доски, которые крепились с вертикальными стойками. Другой тип представлен гробами-колодами, долбленными из ствола. Большая часть гробов этого типа имела долбленную торцевую часть, у иных же торцовую стенку составляли доски, вставленные в пазы (Баруздин, 1961, с. 57–59; Литвинский, 1972, с. 76; Заднепровский, 1960, с. 94). Интересны гробы-футляры, плетенные из веток облепихи, отмеченные А.Н. Бернштамом в Алае (Бернштам, 1952, с. 193). В Северной Фергане, в Мунчактепе, обнаружены гробы из камышовых жгутов. Пока еще нет возможности связывать какой-либо из типов гробов с определенным типом погребальных сооружений. Они обнаружены и в подбоях, и в катакомбах, и в ямах. Исключение составляют гробы из камышовых жгутов. Все они происходят из склепов, открытых на городище Мунчактепе, и являются пока уникальной находкой. Гробы тщательно закрывались крышками. Иногда крышки-доски клались непосредственно на погребенных. Помимо гробов, в ферганских захоронениях использовались дощатые настилы, на которые клали умершего. В погребениях Оутсая в южных предгорьях Ферганы гробы заменялись прямоугольными рамами из досок, поставленных на ребро. Внутри рамы помещали умершего. Очень часто использовались камыш и циновки из камыша. Циновкой из камыша закрывали покойника. Это отмечалось неоднократно в курганах Ташравата и Кайрагача. Одни исследователи связывали распространение в Средней Азии захоронений в деревянных гробах с продвижением гуннов, другие объясняют это сарматско-среднеазиатскими связями. У сарматов этот обычай существовал уже с IV–III вв. до н. э. В Средней Азии он распространяется позже и бытует длительное время (Литвинский, 1972, с. 80). В могильниках присутствуют кенотафы, являвшиеся символическими погребениями умерших или погибших вдали от родных мест людей и возводившиеся на родовых кладбищах. Кенотафы свидетельствуют об относительной подвижности оставившего их населения. В Фергане в отличие от других районов Средней Азии кенотафы единичны. А в Аруктаусском могильнике, по свидетельству А.М. Мандельштама, кенотафы составляют 25 % всех раскопанных курганов. Кенотафы устроены так же, как и погребальные сооружения. В погребальных камерах присутствуют часто богатый инвентарь, остатки тризны — кости барана или другого жертвенного животного, но нет погребенного. Ю.Д. Баруздин выделял три типа кенотафов: могильная яма (с подбоем), в которой есть инвентарь; могильная яма без инвентаря; могильная яма с инвентарем, но вместо умершего в нее положена антропоморфная статуэтка (Баруздин, Брыкина, 1962, с. 47). В Фергане самые ранние кенотафы открыты в Тюлейкенском могильнике. А.Н. Бернштам относил их к скифскому времени (Бернштам, 1952, с. 190). Кенотафы отмечены в Карабулакском могильнике и в могильниках Исфары. Здесь, помимо кенотафов-могил, открыты поминальные площадки под насыпями (Литвинский, 1972). В Кайрагаче под насыпью кургана открыта неглубокая яма подпрямоугольных очертаний. В ней находились сосуды и другие бытовые предметы. До недавнего времени городские кладбища были малоизвестны. В 1988 г. при раскопках города Пап в Фергане открыт городской некрополь, занимавший четыре холма. На холме Мунчак 1 находились погребения в грунтовых ямах и подбоях. Одно из них выделялось огромным количеством погребального инвентаря. Погребение принадлежало женщине, положенной в камышовый гроб. При ней было много бус (табл. 58, 1, 2) из стекла и камня (кварц, доломит, бирюза, змеевик, сердолик) (Анарбаев, Матбабаев, 1990; Матбабаев, 1996). На Мунчактепе 2 открыто семь склепов различного размера. Склепы имели сложную конфигурацию. У всех склепов были парадная портальная часть, площадка с пандусом, сводчатый коридор, который вел в погребальную камеру. В торцовой стене коридора были дверь и лестница в два марша, сложенная из крупных пахсовых блоков (табл. 58, 4, 6–8). Большие склепы являлись семейными усыпальницами. В них производились захоронения на протяжении 100–150 лет. Захоронения совершались в камышовых гробах, которые ставились один на другой. Гробы делались из собранных в пучок и перевитых камышовых жгутов (табл. 59, 1–6). В больших склепах находилось до 47 гробов, в малых склепах — два-четыре усопших. В гробах и около них лежал многочисленный инвентарь: глиняная и деревянная посуда, плетеные корзиночки (табл. 60, 8-14; 63, 1-19). Умерших клали в гробы в богатых одеждах из тонкого шелка. В погребениях женщин много украшений: бусы из стекла и камня, из косточек плодовых растений и из позвонков рыб, серьги, браслеты, перстни из бронзы, зеркала (табл. 62). В мужские захоронения клали оружие: фрагменты сложносоставных луков, наконечники стрел, кинжалы (табл. 61, 10–22). Весь комплекс предметов из склепов позволил автору раскопок датировать эти сооружения VII–VIII вв. (Матбабаев, 1994). Открытые в Папе склепы являются пока уникальными для Ферганы как по характеру сооружений, так и по способу захоронений в гробах, плетенных из камышовых жгутов. Обилие в склепах изделий из дерева, а также присутствие всевозможных коробочек и корзин, плетенных из камыша, сопоставимо, пожалуй, только с захоронениями в Карабулаке, где также присутствуют такие предметы. Но это, однако, не позволяет установить генетическую связь между памятниками, а также предполагать этническую близость между людьми, оставившими эти погребальные сооружения. Несомненно, оседлому населению принадлежал некрополь, расположенный на левом берегу р. Ходжа-Бакырган, в 300 км к югу от усадьбы Кайрагач, и включавший два науса и захоронения в подбоях. Первый наус представляет собой наземную почти квадратную в плане постройку площадью 6,6×6,4 м. Стены толщиной 1,6×1,7 м сохранились в высоту до 2 м. Судя по завалу из кирпичей, упавших на торец, здание имело купольное перекрытие. В наус вели два низких арочных проема, сооруженные в разное время. Более ранний вход находился в нижней части южной стены, позже была сооружена высокая суфа. Она закрыла тянущийся по всему периметру помещения первоначальный проем. В этот период был прорублен проем в северной стене. Он выходит на уровень суфы (табл. 55, 1). В наус помещали очищенные от мягких тканей кости. Поэтому скелеты разрознены и помещение заполнено беспорядочно лежащими костями. На полу в ямке около восточной стены лежали пять черепов. К черепам отношение было бережное и уважительное. В помещении среди костей находились фрагменты керамики, железные наконечники стрел, украшения (бусы, бронзовые серьги и кольца). Они, очевидно, являлись личными вещами погребенных и попали в наус вместе с костями. Так, один бронзовый перстень был на фаланге пальца руки. Снаружи к стенам науса примыкали ровные, хорошо утрамбованные площадки. Местами на них отмечены следы интенсивного горения. К восточной стене пристроена прямоугольная оградка из сырцовых кирпичей. Внутри оградки находились разрозненные кости двух скелетов (табл. 55, 3). К северной стене пристроены две небольшие прямоугольные оградки из кирпичей, поставленных на торец. На северной площадке найдено большое количество керамики, среди которой значительное место занимают котлы. У самого края площадки обнаружен красноангобированный ритон с протомой рогатого животного над сливом. На полу перед северной нишей лежала вылепленная из глины и хорошо смоделированная голова идола, аналогичная найденной в святилище усадьбы Кайрагач (Брыкина, 1982, с. 92). Ее поверхность покрыта алебастром и раскрашена красной краской (табл. 74, 7). Возможно, северная площадка была местом, где совершались поминальные церемонии. Второй наус располагался в нескольких метрах к юго-востоку от первого и занимал самый край террасы. Он представлял собой прямоугольное сооружение, вырубленное в материке. В сооружении находились неполные скелеты двух людей и отдельные человеческие кости. По положению скелетов ясно, что умершие были положены на спину в вытянутом положении головой на юго-запад (табл. 55, 2). При погребенных находились четыре сосуда и украшения (браслет, серьга, бусы). У южной стены науса стоял большой сосуд с носиком-сливом, выполнявший роль оссуария. В нем находились отдельные кости от двух скелетов (табл. 57, 7). К северу от первого науса, в непосредственной близости от него, находился еще один погребальный комплекс, отличавшийся от только что описанных конструкцией погребальных сооружений и обрядом захоронения. Комплекс занимал площадку на краю высокой террасы. Площадка дополнительно выровнена вымосткой из обломков сырцовых кирпичей (табл. 55, 8). На площадке находились погребения в подбоях. Длинные и узкие входные ямы вытянуты по линии северо-запад-юго-восток либо запад-восток. Вход в виде узкой щели находится в южной стене входной ямы. Входы в подбой заложены сырцовыми кирпичами, поставленными на торец. Погребенные лежат на спине головой на восток. Исключением является одно погребение, где ямы не было, а умерший был положен на уровне древнего горизонта в позе всадника с перекрещенными в щиколотке ногами. У него отсутствовали голова и шейные позвонки (табл. 56, 12). Интересно погребение 4. Его отличает от остальных положение головы: она была сильно приподнята и стояла на кучке золы и углей (табл. 56, 13). Этот погребальный комплекс также принадлежал жителям поселения в Кайрагаче и, судя по немногочисленному инвентарю, синхронен усадьбе. Особенно интересен узкогорлый кувшин с согдийской надписью, включающей шесть знаков, четыре буквы и две цифры. Надпись, по мнению В.А. Лившица, определяет дату VI–VII вв. В Северной Фергане открыты наземные постройки из камня — курумы, или мугхона. В них находились множественные захоронения, совершенные последовательно. Основная масса курумов расположена на правом берегу Сырдарьи. Но отмечено одно сооружение такого типа на левом ее берегу, в районе кишлака Ниязбек. Наземные погребальные камеры из камня не встречались вместе с погребальными сооружениями других типов. Они всегда составляли изолированные кладбища. Б.А. Литвинский называет мугхона «домами мертвых» и считает, что их нельзя рассматривать вне зороастрийских традиций. С. Баратов отмечает, что в нескольких курумах захоронения совершались по зороастрийскому обряду. В одном случае в курум был поставлен оссуарий (Баратов, 1971). Свидетельства о распространении зороастризма в Фергане весьма незначительны. Это отдельные черты зороастрийской погребальной обрядности, отмеченные при раскопках мугхона в Северной Фергане, и находки оссуариев, которые являются характерной чертой зороастрийской обрядности. Они найдены в нескольких пунктах (Пап, Сарыкурган, курум в Северной Фергане, в долине Аксу в западных предгорьях Ферганы (табл. 57, 1–6), захоронения в хумах в южных предгорьях Ферганы). Н.Г. Горбунова высказала предположение, что оссуарии принадлежали согдийцам, бежавшим от арабов. Кайрагачские наусы являются еще одним свидетельством существования в Фергане зороастризма. Н.П. Горбунова полагает, что в могильнике Хангиз было погребено оседлое население, в хозяйстве которого скотоводство играло большую роль (Горбунова, 1990, с. 197). Аналогичное мнение было высказано Г.А. Брыкиной относительно населения, оставившего могильник в Кайрагаче (Брыкина, 1982). В могильнике Хангиз II открыты склепы из сырцового кирпича. Они представляют собой прямоугольные постройки. Одна из них, расположенная в центре комплекса, удлиненная, две другие почти квадратные. К южному и северному углам центральной постройки примыкают углами квадратные постройки. На полу в постройках лежат разрозненные человеческие кости, иногда кучками, иногда бессистемно. На полу находились различные предметы: керамика, наконечники стрел, пряжки, перстни, зеркала. Расположение костей и инвентаря дает возможность предположить, что в камеры помещали очищенные от мягких тканей кости. За пределами камер также лежали разрозненные кости. Около восточной стены в овальной яме находился скелет человека, положенного на спину. Череп отсутствует. Левая нога чуть согнута в колене (Gorbunova, 1986, p. 332, pl. LXXII). Анализ материалов из курганов убеждает в том, что значительную их часть следует связывать с оседлым населением. Во-первых, могильники расположены в непосредственной близости от поселений; во-вторых, размеры могильников насчитывают сотни, а иногда 1500 курганов. Формирование таких могильников предполагает малую подвижность населения; в-третьих, в закладке входов в подбои и катакомбы использовался сырцовый кирпич; в-четвертых, состав погребального инвентаря: большая часть посуды совершенно непригодна в кочевом быту. Это тонкостенные чаши, кувшины (Брыкина, 1995, с. 88). Отдельные элементы верований и культов древних ферганцев нашли отражение в погребальной обрядности, как например, культ солнца и культ огня, о которых уже упоминалось раньше. Большое место в погребальном обряде принадлежало антропоморфным изображениям. В захоронения помещали фигурки из алебастра. Они присутствовали в могильниках Тураташ, Ташрават, Ворух (Брыкина, Трунаева, 1995). Материалы, полученные при раскопках погребальных сооружений, позволяют судить о высокой культуре населения, оставившего эти памятники. В то же время в них просматривается влияние соседних и более удаленных областей. Интересной деталью погребального обряда, указывающей на восточные связи ферганцев, являются лицевые накладки и платки из шелка. Они известны в захоронениях Папа (Мунчактепе) и Карабулака; есть они также в курганах Кетменьтюбе. В последних найдены наглазники из золота и золотые лицевые маски. Из других предметов восточного происхождения важны китайские зеркала и монеты типа у-шу. Они помогают определить время сооружения могил. Правда, датировка по монетам весьма относительна, поскольку эти монеты были долго в обращении и дают возможность судить только о том, что погребения совершены не ранее времени выпуска монет (конец II в. до н. э.). Отмечено сходство с сарматскими материалами — конструкция катакомб, присутствие дерева в погребальных сооружениях, сходство или заимствование отдельных категорий украшений, наличие костей барана в погребении. В то же время есть и существенные отличия: нет четкой ориентации погребений даже в пределах одного могильника, нет конской узды, мало оружия.Некоторые вопросы этнической истории.
Фергана по своему географическому положению была важным узлом этногенетических процессов. Через нее с древнейших времен пролегали караванные пути. Она служила транзитом в международной торговле между Востоком и Западом. Через Фергану неоднократно прокатывались разноэтничные волны завоеваний. Это, естественно, не могло не отразиться на сложности протекавших здесь этногенетических процессов. Изучение этнической истории Ферганы сопряжено с большими трудностями, обусловленными слабостью источниковедческой базы. Древние авторы хотя и выразительно, но скупо характеризуют население Ферганы. Чжан Цянь в конце II в. до н. э. писал, что «от Давани на западе до Аньси хотя говорят различными языками, но в обыкновениях сходствуют и в разговорах понимают друг друга. Жители вообще имеют впалые глаза и густые бороды» (Бичурин, 1950, т. II, с. 161). Другие хроники почти дословно повторяют эти сведения. В них также пишется о глубоких глазах и густых бородах. Таким образом, китайские хроники свидетельствуют о европеоидности древних ферганцев. Ведь глубокие глаза и густые бороды несвойственны монголоидам Центральной Азии. Эти сведения относятся ко II в. до н. э. и к началу I тысячелетия н. э. Антропологические материалы также свидетельствуют о принадлежности ферганского населения к европеоиднойрасе. Но большие хронологические лакуны, имеющиеся в археологических материалах, а также неравномерность изученности этой обширной области, не позволяют проследить динамику этногенетических процессов, протекавших здесь, провести сопоставление синхронных антропологических групп из различных районов и выявить особенности каждой из них. Для этногенетических процессов в Фергане большое значение имели связи ферганцев с населением Ташкентского оазиса, Тань-Шаня и Алая. Палеоантропологические материалы из разных районов Ферганы свидетельствуют о том, что в I тысячелетии н. э. население этой области было смешанным. Б.А. Литвинский считает, что можно говорить о четырех расовых типах, существовавших в Фергане в этот период: 1 — мезобрахикранное население (тип среднеазиатского междуречья); 2 — долихокранное (средиземноморский тип); 3 — оба европеоидных типа с признаками монголоидности; 4 — одиночные представители других антропологических типов (Литвинский, 1977, с. 171). Т.К. Ходжайов отмечает, что население Ферганы принадлежало к мезобрахикранному типу среднеазиатского междуречья. На юге и западе долины отмечены отдельные представители долихокранного средиземноморского типа; в Юго-Восточной Фергане отмечена незначительная монголоидная примесь (Ходжайов, 1980). Судя по данным палеоантропологии, среди ферганского населения в раннее средневековье, как и в предшествующий период, преобладали представители первого типа (по Литвинскому). Второй и третий типы составляли незначительную часть населения. Несмотря на большие перемещения кочевых племен, часто центральноазиатского происхождения, существенных изменений в антропологическом типе населения не произошло. На основании анализа антропологического материала В.В. Гинзбург пришел к заключению, что в середине I тысячелетия н. э. монголоидный элемент играл незначительную роль в антропологическом типе населения (Гинзбург, 1959, с. 17–35). Только усилившийся приток тюркоязычных племен поспособствовал изменению этнического облика европеоидного населения. Главная роль в этом процессе принадлежала тюркам. По мнению А.Н. Бернштама, главными ускорителями тюркизации населения Средней Азии явились политическая власть Тюркского каганата, объединившего под своей эгидой обширные территории, и приток тюркского населения в города. Именно эти факторы обеспечили успех тюркского влияния в Средней Азии. В середине VII в. (627–649 гг.) тюркский правитель Ашина Шуни завоевывает Фергану. С этого времени она прочно входит в сферу влияния тюркской династии. Ставкой был сначала Касан, а потом Ахсыкет. Эти сведения подтверждают древние авторы и находки памятников тюркской письменности. Большая их часть связана с южными и юго-западными районами области (район Исфары и Баткена). Другая группа происходит из Юго-Восточной Ферганы. Самая восточная находка происходит из Шурабашата. Весьма вероятно, что надписи были оставлены самими тюрками. Как видим, эпиграфические находки располагаются компактными группами. Может быть, это дает возможность судить о том, что тюрки жили компактными группами в определенных районах области. Приход тюрок в Фергану в начале VII в. и политическое подчинение этой области Западнотюркскому каганату не оказали, видимо, существенного влияния на ход этногенетических процессов. Еще в VIII в. ферганцы говорили на своем родном языке, и только последующие значительные переселения тюркского населения в эту область, переход к оседлости и переселение в города могли существенно изменить картину. Б.А. Литвинский и Ю.А. Заднепровский считают, что в I тысячелетии н. э. в Фергане существовала ферганская народность. Ю.А. Заднепровский полагает, что она сложилась уже в первые века н. э. Б.А. Литвинский же указывает, что о ферганской народности можно судить начиная с V–VII вв. н. э. (Литвинский, 1976, с. 66). В формировании ферганской народности принимали участие европеоидные племена, жившие как в долине, так и в предгорьях Ферганы. В результате их общения сложилась своеобразная культура, которая может быть показателем образовавшейся этнической общности. Другим показателем этой общности, как полагают этнографы, является язык. В VII в. Сюань Цзян писал, что язык ферганцев отличается от языков народов других стран. А в VIII в. об отличии ферганского языка от языков населения других областей Средней Азии писал Хой Чао. Он указывал, что язык ферганцев совершенно отличен и неодинаков с языками остальных стран (Бернштам, 1952, с. 193). Б.А. Литвинский обратил внимание на эти важные сведения древних авторов и сделал вывод, что тюркский язык не получил широкого распространения (Литвинский, 1976, с. 56), а В.А. Лившиц полагает, что в середине I тысячелетия н. э. в Фергане существовал свой язык. Он, видимо, относился к группе восточноиранских языков (Лившиц, 1968). Об облике древних ферганцев позволяют судить и памятники изобразительного искусства. Речь идет о скульптурах из Кайрагача. Уже отмечалось, что эти скульптуры являются олицетворением почитаемых предков. Поэтому они передают облик совершенно конкретных людей. При большом сходстве каждой из скульптур со всеми остальными каждая из них имеет свои, лишь ей присущие черты. Скульптор стремился к передаче этнического типа и портретного сходства каждой скульптуры с ее прототипом. Скульптуры из Кайрагача довольно точно передают физический тип населения Западной Ферганы. Все статуи имеют головы со скошенными лбами, что свидетельствует о том, что прототипам этих изображений была свойственна деформация черепов. Все скульптуры имеют удлиненные миндалевидные глаза и длинные сильно выступающие носы. Это свидетельствует о том, что скульптуры передают облик людей европеоидной расы. Но в строении лица скульптур есть некоторые различия, что свидетельствует об их принадлежности к двум типам европеоидной расы. Пять скульптур изображают широколицых людей, принадлежащих к типу среднеазиатского междуречья. Семь других передают облик узколицых и длинноголовых людей средиземноморского типа. Из Кайрагача происходит еще одна находка, которая дает представление об облике населения района. На тулове одного из сосудов острым предметом по сырой глине изображено лицо мужчины с крупными чертами. У него большой с горбинкой нос, массивный, выступающий вперед подбородок, большой, растянутый в улыбке рот и большой глаз миндалевидной формы. Лоб сильно скошен, из-за чего теменная часть имеет почти конусовидную форму. На голове шлемовидный головной убор. Представляется, что мастеру были известны каноны, которым подчинены изображения на монетах: голова правителя строго в профиль в повороте головы направо. Но на сосуде изображен реальный человек, а не условно царская особа. Изображение, как и скульптура, передает облик человека европеоидной расы с кольцевой деформацией черепа. Та информация, которую дают антропоморфные изображения об этническом типе населения, очень хорошо согласуется с заключением антропологов о черепах Кайрагача. В Кайрагачском могильнике погребены представители двух типов европеоидной расы — средиземноморского и типа среднеазиатского междуречья. Фигуры из кайрагачского храма совершенно отчетливо передают облик представителей этих двух типов.Глава 6 Уструшана (Н.Н. Негматов)
Уструшана была одной из важных и крупных областей Средней Азии. Она занимала значительную территорию левобережной равнины Средней Сырдарьи, предгорий и ущелий западной части Туркестанского хребта, верховьев Зеравшана и его главных истоков — Матчи и Фандарьи. Она граничила на западе и юго-западе с Согдом, на востоке и северо-востоке с Ходжентом и Ферганой, а на севере с Илаком и Чачем (Негматов, 1957).
Карта 6. Уструшана. а — крупный город; б — комплекс тепе; в — тепе; г — могильники; д — поселения; е — современные селения; ж — крепость и за́мки. 1 — Актепе; 2 — Каллахона; 3 — Корез Каллахона; 4 — Мирзавудтепе; 5 — Карабуинтепе; 6 — Юмалоктепе; 7 — Караултепе; 8 — Чимбандтепе; 9 — Калаи Кухна; 10 — Карнайтепе; 11 — Мискинтепе; 12 — Хокистартепе; 13 — Джаркубтепе; 14 — Тулазардак; 15 — Кули Дароз; 16 — Кулулатепе; 17 — Гори Девона; 18 — Калаи Денгактепе; 19 — Тепаипоин; 20 — Тепаиболо; 21 — Чичконтепе; 22 — Мирободтепе; 23 — Караултепе; 24 — Актепе; 25 — Кургантепе; 26 — Суркатскиетепе; 27 — Маймунджар; 28 — Актепе; 29 — Калаи Кофар; 30 — Гильдон; 31 — Калаи Дахкат; 32 — Калаи Дахкаха; 33 — Чильхуджра; 34 — Уртакурган; 35 — Караултепе; 36 — Баертепе; 37 — Кургантепе; 38 — Чилпактепе; 39 — Бунджикат; 40 — Ахмедбектепе; 41 — Вахмтепе; 42 — Ситорактепе; 43 — Эскипашатепе; 44 — Каумуштепе; 45 — Махссумтепе; 46 — Ширинсайтепе; 47 — «Восточный»; 48 — Мугтепе; 49 — Ширин; 50 — Актерек; 51 — Шалдыбалды; 52 — крепость Курганча; 53 — крепость Дунгчатепе.
Этническая и культурная история Уструшаны в древности была наиболее тесно связана с Согдом. Население области сформировалось на базе согдоязычных племен и говорило на согдийском диалекте, вело оседлый образ жизни, занималось земледелием и скотоводством, жило в городах, в укрепленных поселениях и за́мках. Общность культуры уструшанцев с таковой населения соседних областей отмечали Сюань Цзян (VII в.) и Хой Чао (VIII в.). Сюань Цзян вообще всю страну между Суябом (Семиречье) и Кешем (Кашкадарья) называет Сули-Согдом, а ее население — согдийцами (Негматов, 1957, с. 49–73; Лившиц, Хромов, 1981, с. 348–349). Письменные источники, затрагивающие в той или иной степени историю Уструшаны, весьма немногочисленны. Краткая их сводка была сделана В.В. Бартольдом в конце XIX в. (Бартольд, 1963, с. 221–226 и др.), а затем дополнена и проанализирована Н.Н. Негматовым (Негматов, 1957). Краткие сведения об Уструшане содержатся в хрониках Вей (386–581 гг.), в династийных историях Суй (581–618 гг.) и Тан (688–907 гг.) (Бичурин, 1950, т. II), в путевых записях Сюань Цзяна (629–630 гг.) и Хой Чао (722 г.). Гораздо более подробные сведения по истории Уструшаны имеются в трудах арабских, персидских и таджикских историков (Негматов, 1957, с. 8–14). Название области зафиксировано в письменных источниках в нескольких вариантах: Судуйшана, Судулишена, Судушина, Шуайдушана, Кобугюйна, Восточное Цао — в китайских хрониках; Ашрусана, Асрушана, Усрушана, Осрушана, Сурашана, Сутрушана и др. — у арабских и персидских авторов (Негматов, 1957, с. 15–32). Открытие согдийских документов в за́мке на горе Муг позволило уточнить название области — Уструшана (Лившиц, 1962, с. 77–82; Негматов, Хмельницкий, 1966, с. 3).
Политическая история.
Политическая история Уструшаны слабо отражена в источниках. Как показывает анализ исторических сведений, в результате распада великих среднеазиатских государств эпохи поздней античности Уструшана отделилась от согдийской федерации, что было зафиксировано в хронике Бэйши при изложении исторической ситуации, сложившейся к 435 г. н. э. (Бичурин, 1950). В конце V–VII в. она входила в состав эфталитского и западнотюркского государственных образований. В этот период Уструшана сохраняла внутреннюю автономию и управляли ею собственные цари — афшины из династии Кавуса. Письменные источники (документы с горы Муг), а также надписи на дощечках из уструшанского за́мка Чильхуджра донесли до нас ряд имен представителей этой династии (Лившиц, Хромов, 1981, с. 367). Уструшанские монеты из Калаи Кахкаха содержали особенно важные сведения о языке и письменности уструшанцев и о правителях уструшанской династии (Смирнова, 1972, с. 59–64; 1981, с. 31–35, 324–335). В конце VI–VIII в. Уструшана вовлекается в длительную и драматическую борьбу с войсками Арабского халифата (Негматов, 1957, с. 129–137).История изучения.
Изучение древностей Уструшаны началось сразу же после присоединения Средней Азии к России, во второй половине XIX в. Большой вклад в исследование памятников материальной культуры внесли военные, среди которых было много культурных и образованных людей. Развалины древних городов и поселений привлекали их внимание. Военные топографы сняли планы многих из них и составили описание. В 1867 г. первую научную поездку в Уструшану предпринял крупный русский востоковед П.И. Лерх, обнаруживший и изучивший надписи на скале близ города Джизак (Лерх, 1870). В 70-е годы XIX в. в Шахристане бывал ходжентский уездный начальник полковник А.А. Кушакевич, отметивший некоторые древности, находившиеся в поселке (постройки из жженого кирпича), и связанные с ними предания (Кушакевич, 1972). В 1890 г. Шахристан посетил Н.С. Лыкошин. Он составил первое подробное описание за́мка Чильхуджра и городищ Шахристана. Особое внимание Лыкошин уделял проблеме орошения Шахристанской котловины. Первые раскопки в Шахристане были проведены в 1893 г. уратюбинским участковым приставом штабс-капитаном Степановым. О результатах раскопок доложено на заседании Туркестанского кружка любителей археологии 16 октября 1896 г. (Архив ИА АН СССР, ф. 75, 1893 г. Выписка из дел Археологической комиссии, т. 3, Протокол № 4 ТКЛА). В 1894 г. В.В. Бартольд, проехав от Ходжента до селения Шахристан, записал местные легенды о городищах Шахристана и о Чильхуджре и отметил, что последний памятник заслуживает особого внимания. Сопоставление археологических материалов со сведениями арабоязычных географов и историков IX–X вв. привело B.В. Бартольда к мысли о слабой колонизационной деятельности Арабского халифата и об ограниченности влияния арабской культуры в этой области. В.В. Бартольд первым отождествил известную по письменным источникам столицу Уструшаны город Бунджикат с развалинами городищ в Шахристане (Бартольд, 1963, c. 223; 1964, с. 331; 1966, с. 89–90). С организацией Туркестанского кружка любителей археологии активизируется, становится более планомерной и целенаправленной деятельность краеведов. Так, на заседании кружка 3 июля 1896 г. было решено собрать более подробные сведения о Шахристане. В связи с этим уратюбинским участковым приставом П.С. Скварским составлена сводка о древностях Шахристана и многочисленных вещественных находках на территории современного селения, отмечены развалины старого Шахристана на левом берегу сая (реки) и форты на правом его берегу, на территории современного селения. Из других селений П.С. Скварский отмечает Вагкат, заселенный, как он считает, потомками царя Густаспа-Дария Гистаспа (Скварский, 1897, с. 41–45). Несомненная заслуга в изучении древностей Уструшаны принадлежит И.А. Кастанье. Он собрал сведения об этой области и осветил по возможности полно ее историю. Им же было составлено историко-топографическое описание Уратюбе и двух его возвышенностей, на одной из которых находилась уратюбинская цитадель. Особое внимание Кастанье уделил водоснабжению города; описал развалины шахристанского городища Калаи Кахкаха, стены средневекового Шахристана, за́мок Чильхуджра с его ходами-коридорами и другие памятники Шахристанской котловины, записал народное предание о царе Кахкаха из народа Муг (огнепоклонники), о сорока девицах этого царя и о халифе Али, якобы завоевавшем город (Кастанье, 1915). В 20-е и 30-е годы исследования древностей Уструшаны сводились к осмотру и регистрации памятников. К древностям Уструшаны в 20-е годы неоднократно обращались историки-востоковеды. А.А. Семенов в историко-археологическом обзоре описал развалины в Шахристане и наземные памятники Уратюбе. Вслед за В.В. Бартольдом он помещает столицу Уструшаны город Бунджикат в Шахристане (Семенов, 1925, 1944). О различных археологических находках в районе Шахристана сообщает Н.Г. Маллицкий (Маллицкий, 1929, с. 119). В 1943–1944 гг. в Уструшане впервые были проведены большие раскопки. Исследования вела Фархадская экспедиция, руководимая В.Ф. Гайдукевичем. На двух могильниках были вскрыты 28 погребений. Полученный материал позволил высказать суждение о погребальном ритуале и верованиях населения этой территории. На расположенном неподалеку от могильника городище открыты сооружения первых веков н. э. и периода развитого средневековья, в частности гончарная печь с многочисленной керамической продукцией. В.Ф. Гайдукевич отметил сходство материалов, происходящих из могильников и с городища, что объясняется тесными связями населения, оставившего могильника, с населением, жившим на городище. В.Ф. Гайдукевич высказал мнение, что городище Мунчактепе было крупнейшим и культурным центром в Северной Уструшане (Гайдукевич, 1947, 1949, 1952). В первые послевоенные годы в Уструшане развернулись широкие археологические работы. Открыты десятки новых памятников (городов, поселений и могильников). Составлено их детальное описание, проведены топографические съемки (Смирнова, 1953а; Негматов, 1952). Важное значение имели работы, связанные с изучением исторической географии области. Несомненно большой вклад в эти исследования внесли А.Ю. Якубовский, О.И. Смирнова, А.М. Мандельштам (Якубовский, 1950; Смирнова, 1950, 1950а, 1953; Мандельштам, 1954, 1965). С 1955 г. под руководством Н.Н. Негматова в Уструшане ведутся широкие систематические раскопки памятников различных эпох. На протяжении нескольких десятилетий особое внимание уделялось городищам, расположенным в районе современного поселка Шахристан. Здесь исследовалась столица Уструшаны город Бунджикат, полностью вскрыты дворец Калаи Кахкаха II, за́мки Уртакурган и Тирмизактепе. В 1963–1966 гг. осуществлены раскопки уникального по планировке и фортификации за́мка Чильхуджра. В 1965-72 гг. был полностью вскрыт арк (цитадель) городища Калаи Кахкаха I с огромным и уникальным по своей архитектуре и памятникам искусства дворцом царей (афшинов) Уструшаны, давшим великолепные и богатейшие образцы монументальной настенной живописи и высокохудожественных резных деревянных конструкций. Начаты исследования жилых и общественных кварталов в центре и вдоль южной городской стены, производственных построек Калаи Кахкаха I, а также городского культового центра на городской площади Калаи Кахкаха I. К востоку от современного поселка Шахристан изучены целая «зона молчания» с дахмой Чорхохатепе и мусульманское кладбище с мечетью у северного подножия Калаи Кахкаха I. Начато изучение трех центров керамического производства Уструшаны. Исследовались кварталы керамистов Бунджиката в местности Сои Бургхона, в Сари Кубар на западной окраине Уратюбе и на холме Галлатепе в районе Калининабада. В 1970–1972 гг. проведено исследование ирригации Уструшаны в бассейнах Шахристана, Аксу, Исфанасая (Билалов, 1980). Помимо Шахристана, в разные годы велись широкие раскопки на городище Мугтепе в Уратюбе, на Актепе в Наусском районе, за́мка Тоштемиртепе с комплексом фортификационных сооружений, за́мка и поселения Калаисар, за́мка и поселения Дунгчатепе. Интересные результаты дали раскопки городища Ширин и расположенных неподалеку склепов, вырубленных в толще горы Ширин. Одновременно с раскопками велись и разведочные работы, в результате которых открыто более ста новых памятников. Благодаря археологическим исследованиям науке стали известны многогранная история, экономика и культура Уструшаны.Город и городская застройка.
В эпоху раннего средневековья в Уструшане начинают складываться феодальные отношения. В связи с этим в социально-экономической жизни общества усиливается роль земледелия и претерпевает изменения характер развития городской культуры области. На этот процесс оказали влияние также изменения политического и культурного порядка, связанные с вхождением Средней Азии в состав Арабского халифата, с началом распространения ислама и его идеологии. В Уструшане в результате долгой и упорной борьбы ее населения и афшинской династии за независимость исламизация фактически началась с конца IX в. н. э., уже в рамках государства Саманидов (Негматов, 1957, 1977). В связи с этим здесь несколько дольше, чем в других областях Средней Азии сохранились устои чисто местных традиций в градостроительстве и культуре. Характерная черта истории этого периода — начало отделения города от села. Если в древности города одновременно были центрами земледельческих округов и местопребыванием окрестных земледельцев, то города и сельские поселения периода раннего средневековья выполняли каждый свою прямую функцию: в городах сосредоточивались преимущественно ремесленники и торговцы, светская и духовная аристократия и правители, а в селениях, за́мках и усадьбах — земледельцы и скотоводы, феодализирующаяся аристократия, нередко сельские гончары и ткачи (Негматов, 1977). Отличительной чертой этого этапа является также одновременное развитие и городской, и сельской жизни, известна их структурная близость, когда некоторые компактные селения вскоре перерастали в города, а планировка и интерьер сельских за́мков оформлялись нередко по образу и подобию городских дворцов и жилых домов (Негматов, 1978; Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973; Пулатов, 1975). Еще одна характерная черта — абсолютное сохранение и развитие в раннесредневековой материальной и духовной культуре многих древнеуструшанских и общеиранских традиций, их синтез с элементами культурных ценностей других стран, особенно Индии, Византии и государств Центральной Азии. Отметим, что общему прогрессу Уструшаны способствовала надежная экономическая основа — земледелие, скотоводство, добыча полезных ископаемых и, на их базе, подъем многоотраслевого ремесленного производства и торговли, собственная чеканка монет и фактическая самостоятельность уструшанской государственности во главе с афшинской династией Кавуса. Письменные источники называют в Уструшане полтора десятка больших и малых городов. Они локализуются по их наименованиям в современной топонимике или же на основе сопоставления данных археологии и письменных источников. Последние весьма отрывочны и часто противоречивы (Негматов, 1957). Поэтому единственно надежным источником являются археологические материалы. Широкомасштабные исследования проведены на развалинах города Бунджиката (ныне Калаи Кахкаха в районе пос. Шахристан). Раннесредневековые слои выявлены на городищах Мугтепе (цитадель города Вагката в Уратюбе) и Актепе (близ Нау). Формирование города Бунджиката началось в VII–VIII вв. на базе двух ранее существовавших поселений кушано-эфталитского времени, располагавшихся на террасах обоих берегов речки Сарин (Шахристансай) у ее выхода из ущелья. Город формируется в виде отдельно укрепленных частей шахристана, кухендиза (цитадели) и рабада, размеры и конфигурация которых полностью зависели от рельефа прибрежных предгорных террас реки. Городище Калаи Кахкаха I имеет неправильную форму площадью около 5 га и окружено одинарными (местами двойными) массивными стенами, цепью мощных пристенных и выносных башен из глинобитных блоков (85×65 см) и кирпича-сырца (50×25×10 см) (табл. 76, 3). Внешняя южная поверхность городской стены была несколько пологой и имела довольно ровный скат, а нижняя ее часть подпиралась толстым галечниковым контрфорсом, усиливавшим мощность стены и затруднявшим установку осадных приспособлений и штурм города. Внутренняя плоскость стены была довольно крутой, но ее основание подпирала лёссово-пахсовая площадка-уступ (толщиной 1 м) для подъема на стену защитников. Между городской стеной и находившейся здесь же, внутри стены, казармой шел обходной коридор. В восточной части городища на высокой платформе возвышался укрепленный дворец. Собственно город раскинулся у западного подножия дворца на двух последовательно понижающихся естественных террасах, отделенных друг от друга внутренней глинобитно-пахсовой стеной, усиливавшей оборонительные возможности каждой части города. Топографически наиболее сложной была средняя часть городища, в восточной стороне которого у подножия дворца находилась главная городская площадь, куда выходили ворота дворца и северные ворота города. К последним по крутому пандусному подъему вдоль мощных северных городских стен и башен шла дорога от наружного подножия Калаи Кахкаха I. Вокруг располагались главные городские храмы и административно-общественные здания, улицы ремесленно-торговых и жилых кварталов, составляя все вместе развитую систему единого городского организма. Западная часть городища представляла собой военно-оборонительный комплекс. Здесь располагались вторые, западные ворота города. Эта часть была наиболее уязвимой, поэтому она дополнительно укреплена второй стеной. В юго-западном углу города располагалось караульно-казарменное здание, а в среднем пониженном участке — водохранилище (сардоба). Эта часть города была наименее застроена, что позволяло проводить здесь большие военные сборы и учения. Городище Калаи Кахкаха II располагалось южнее первого. В плане оно представляет собой почти правильный прямоугольник размером 210×230 м, обведенный с запада и юга двумя, а с севера и востока одним рядом стен. Северная стена, судя по обнажениям в западной части, была сложена из сырцовых кирпичей и сохранилась в высоту до 6 м. Ворота располагались в северо-западном углу городища. К ним вел пандус, защищенный с обеих сторон мощными стенами. В северо-восточном углу городища находился холм, скрывавший остатки дворца. Всю южную часть городища занимала обширная искусственная прямоугольная платформа площадью 55×140 м, подготовленная для какого-то большого неосуществленного сооружения. Остальная территория городища (65×95 м) никогда не была застроена (табл. 76, 8-10). Городище Калаи Кахкаха III располагается на покатых террасах правого берега реки. Оно сформировалось на месте более раннего поселения и было окружено собственными оборонительными стенами с башнями. Стены окружают всю западную часть Шахристони Боло. Хорошо сохранился вал южной стены: он идет почти по краю второй террасы Шахристансая по направлению к юго-западу, в сторону городища Калаи Кахкаха II. В восточной части вал прерывается на 5 м, указывая на место городских ворот. В конструкции стены явно видны три этажа ее сооружения, возводившиеся последовательно в течение IX–X вв. Сохранились также валы восточной и частично южной стен Калаи Кахкаха III. Особенно интересен крупный холм на линии северной стены, скрывающий одно из сооружений города, возможно фортификационно-жилой кешк (замок), с сохранившейся системой потайного водозабора («обдузд») из Шахристансая в виде довольно крутого сводчатого ступенчатого подъема шириной 140–145 см, возведенного из кирпичей размером (49–50) × (24–25) × (9-10) см. Такие скрытые на случай осады «обдузды» использовались для водоснабжения городов и поселений в период всего средневековья (Негматов, 1957, с. 29–34; Негматов, Хмельницкий, 1966). Археологическое изучение другого раннесредневекового города — Вагката, сохранившего свое название до нашего времени (Вогат в западной части г. Уратюбе), пока дало мало материала для характеристики этого городского центра. Культурные слои интересующего нас периода выявлены в нескольких пунктах городища Мугтепе. Здесь, судя по материалам раскопок, интенсивное строительство велось в VI–VIII вв., когда на остатках старых забутованных построек возводятся новые, сложенные из сырцовых кирпичей (Ранов, Салтовская, 1961, с. 119–120, 124–125; Негматов, Салтовская, 1962, с. 71–72). В северо-западной части городища вскрыт комплекс сооружений, включающий отрезок мощной крепостной стены с округлой двухъярусной башней со стреловидными бойницами; в каждом из ярусов несколько помещений. Своими бойницами башня обращена на юго-восток, к центру городища, что свидетельствует о ее принадлежности вместе с крепостной стеной и частично вскрытыми помещениями к внутреннему укрепленному сооружению Мугтепе. Этот комплекс функционировал в V–VIII вв. (Рахимов, 1984, 1985, 1985а). Следы интенсивной жизни зафиксированы также вне территории Мугтепе, к востоку от нее, и на западной окраине Уратюбе, в местности Сари Кубур, где выявлена серия гончарных обжигательных печей и ям-свалок с бракованной продукцией VII–IX вв., несомненно принадлежавших керамистам Вагката (Самойлик, 1973, с. 165). Актепе близ Нау представляло собой крупное компактное селение, находившееся на стадии формирования городского центра с цитаделью и шахристаном (Негматов, 1973, с. 81–82; Пулатов, 1977, с. 77–79). Раскопки, проведенные на центральном холме, показали, что он скрывал в себе мощно укрепленную постройками двух строительных периодов цитадель. Здание верхнего строительного горизонта сохранилось плохо, но можно предположить, что оно имело почти правильную квадратную конфигурацию и заключало в себе девять помещений различных размеров и назначения. Здание нижнего горизонта сохранилось значительно лучше. Оно квадратное в плане и имеет по углам четыре круглые башни, выступающие на 3/4 за линию стены. Северо-западная башня была снабжена бойницами, расположенными в два ряда (девять бойниц в верхнем ряду, десять в нижнем). Здание имело сложную систему подземных ходов-лабиринтов. В северо-западной башне открыт колодец глубиной 6,5 м. В нижней части колодца был арочный проем, ведущий в подземные ходы. Центр здания занимал большой квадратный зал, окруженный обводным коридором и связанный с ним дверными проемами (Пулатов, 1977, с. 78). Средневековые городки Юго-Восточной Уструшаны находились на высоких мысах рек и горных останцах, на высоких надпойменных террасах. Они четырехугольные в плане и ограждены валами и рвами. Некоторые из них располагались при входах в долины и выполняли функции сторожевых постов и убежищ. Примером таких городков является городище Курганча, занимающее мыс на правом берегу реки Исфанасай. Оно четырехугольное в плане и было ограждено высокими стенами. По углам сооружения и посредине стен находились башни. Центр городища не был застроен. Постройки же размещались вдоль стен. Неукрепленное поселение занимало площадки к северу и западу от городища (Негматов, 1956, с. 69).Городская застройка.
Городская застройка характеризуется разнообразием типов построек и строительных конструкций. В Шахристане лучше всего изучены дворцы городищ Калаи Кахкаха II и Калаи Кахкаха I. Дворец Калаи Кахкаха II представляет собой трехъярусное здание, сооруженное на ступенчатой платформе из глинобитных блоков. Первый ярус включал входной вестибюль, парадный зал, спальную комнату и айван с открытой в северный дворик стороной. Второй ярус состоял из коридора, комнаты прислуги и кухонного помещения. Третий ярус включал парадную анфиладу из трех комнат. Средняя представляла собой тронную лоджию, выходившую окном во двор городища. Ее стены украшали живопись и резное дерево. Второй и третий ярусы с первым входным вестибюлем были связаны пандусом, вившимся вокруг прямоугольного столба. Тронная лоджия третьего яруса составляла единую дворово-айванную композицию с расположенным у западного подножия цоколя большим двором (табл. 76, 8-10) (Негматов, Хмельницкий, 1966). Иная планировка у дворца Калаи Кахкаха I. Он построен тоже на высокой платформе. В центре здания находился небольшой возвышенный донжон. Дворец имел входную айванную лоджию с видом на реку, город и на всю Шахристанскую котловину. Через коридорный вестибюль попадали в осевой коридор с суфами вдоль западной стены и суфой-«эстрадой» напротив входа. Осевой коридор делил дворец на две неравные части. Большая, западная, включала огромный двухъярусный зал со ступенчато поднимающимся полом и суфой (17,65×11,77 м), с выходящей в зал камерной тронной лоджией в его возвышенной глубине и входным помещением-кулуаром перед залом. В этой части дворца находились второй парадный зал — «малый» (9,65×9,5 м), дворцовое святилище и еще одна большая комната. В восточной части дворца, кроме входного айвана и коридора-вестибюля, располагались большая жилая комната с входной деревянной тамбурной ширмой, малое помещение для прислуги, обособленный коридор с «арсеналом»-камнехранилищем. Дворец с севера и юга имел укрепленные мощными стенами дворы с кухонными и хозяйственными строениями (табл. 76, 3), а в западной стене северного двора — ворота дворца (Воронина, Негматов, 1974). Жилые постройки горожан представлены следующими типами. Тип 1 — широкое длинное строение, разделенное внутри поперечными стенками на три комнаты — глубинную, среднюю и наружную айванную. Тип 2 — квартал из отдельных изолированных, плотно пристроенных друг к другу небольших секций, обычно включающих общий коридор и две-три комнаты с некоторыми бытовыми удобствами (входными ширмами, суфами, очагами), причем каждая секция имеет отдельный выход на городскую улицу. Тип 3 — квартал также с секционной, но более индивидуализированной планировкой, включающей входные айваны и кулуары, парадные залы и комнаты с богато оформленным интерьером — входными тамбурами, суфами вдоль стен, суфами-«эстрадами», колоннадой и стенописью (Авзалов, 1977, с. 81–83). Тип 4 — постройка с коридорно-гребенчатой планировкой строго функциональной войсковой казармы-общежития, открытия в юго-западном углу городища Калаи Кахкаха I (табл. 77, 2). Она включает центральный коридор и 20 узких коридорообразных помещений, расположенных по обе стороны от него и соединенных с коридором арочными проемами (Негматов, Хмельницкий, 1966, с. 23–39, 106–115).Сельские поселения (классификация, фортификация, типы сооружений).
По сведениям письменных источников, Уструшана была «обширной и важной страной», в ней находились «четыреста крепостей-за́мков» (или «свыше четырехсот за́мков»), располагавшихся в восемнадцати равнинных и горных рустаках-округах (Негматов, 1957, с. 34–35). Некоторые за́мки стали ядром крупных компактных селений, впоследствии превратившихся в городские центры (Актепе близ Нау). Четыре вскрытых в Шахристанской котловине за́мка демонстрируют три категории построек: 1 — за́мки с усложненной индивидуализированной планировкой, включающей парадные залы, жилые покои, святилища, хозяйственные и коридорные помещения, с богатейшим декором (стенопись и резное дерево) и мощной фортификацией расположенного на гребне горы здания (Чильхуджра); 2 — за́мки с несложной «коридорно-гребенчатой» планировкой, без декоративной отделки, расположенные на гребне горной возвышенности (Тирмизактепе); 3 — за́мки с укрепленным двором, предвратным лабиринтом и двухэтажным зданием посреди двора, верхний этаж был жилым, нижний — хозяйственным (Негматов, 1977а, 1979б). За́мок Чильхуджра расположен в 2,5 км южнее селения Шахристан, на глинисто-галечниковом концевом крутом выступе предгорной гряды у слияния Джаркутансая с Шахристансаем. Холм в виде неправильного прямоугольника скрывал остатки укрепленного здания и примыкавшего к нему с юго-запада дворика. Памятник сохранился великолепно. До нас дошли не только сводчатые помещения нижнего этажа, но и стены, и части кровли помещений второго. Первый этаж состоит из четырехкомнатного центрального ядра и системы периферийных сводчатых коридорообразных и купольных башенных угловых помещений вокруг него. В юго-западном углу место башни занимает прекрасно сохранившийся сводчатый пандус, спирально вьющийся вокруг круглого центрального столба. Он выводит на второй этаж и на крышу здания. Вход в здание находился в юго-восточном углу первого этажа. Второй этаж включал крупный парадный зал и группу небольших помещений с юга (парадный вестибюль зала и маленькое купольное помещение) и с запада (коридор перед пандусом, два помещения, сообщающиеся одно с коридором, другое с залом). У северной стороны пандуса на втором этаже сохранилась обходная галерея. Такую довольно сложную планировку это основное здание сохраняло в последний период своего существования. Как показали исследования Чильхуджры, сначала здание, возведенное на довольно высокой пахсовой платформе, состояло из четырех комнат. Входной проем тогда располагался с западной стороны. Время его возведения и функционирования приходится на V–VI вв. К этому зданию были затем пристроены система внешних коридоров и весь второй этаж, которые функционировали уже в VII — начале IX в. Двор представлял собой слегка вытянутый прямоугольник со сложным коленчатым пандусным входом, защищенным предвратной башней в юго-восточном углу. Восточная и западная части двора были застроены двумя группами помещений с явными признаками жилого и хозяйственного назначения. Среди них выделяется кухонно-пекарное помещение с тремя танурами и двумя очагами. Планировка и общий тип здания, характер его внешних фортификационных элементов, наличие замкнутого плотно застроенного двора с пандусным защищенным входом и, наконец, его командное месторасположение — все говорит о том, что Чильхуджра — крупное мощное сооружение за́мкового типа (Пулатов, 1975). Основные особенности Чильхуджры: укрепленность самого здания, удобное расположение на естественном конечном гребне горы, значительная мощность высоких внешних стен, снабженных угловыми башнями. Оборонительный характер основного здания сочетается с укрепленностью примыкающего двора с высокими мощными глухими наружными стенами и двухколенчатым пандусным входом с наружной башней (табл. 78, 1). Другой за́мок — Уртакурган расположен также к югу от селения Шахристан, неподалеку от Чильхуджры, на левом берегу Шахристансая, на гребне естественного возвышения посреди долины при выходе ее в Шахристанскую котловину. Холм до раскопок имел два яруса. Верхний — правильной формы со срезанной верхней площадкой, размером 18×16 м, высотой 7 м. Нижний ярус — двор шириной от 13 до 30 м — был окружен стеной с башнями (заметны оплывы трех башен в южной стене). Общая высота холма 13–16 м. Холм скрывал остатки двух разновременных построек. От поздних строений сохранились лишь нижние части двух помещений (табл. 79, 1–3). В нижнем горизонте вскрыт комплекс из восьми помещений и остатков пандусного сооружения. Постройка центральным осевым коридором-«холлом» разделена на восточную и западную части. Западную часть составляют два крупных зала и расположенное между ними входное узкое помещение. Наиболее интересен юго-западный зал с суфами, тронной «эстрадой» и другими архитектурными деталями. Восточная часть здания включала квадратную купольную комнату с суфами и входным камерным айваном с закругленными суфами. Эта купольная комната с айваном выполняла ритуально-культовые функции домашнего святилища. С севера к ним примыкали второй, малый зал с суфами и стенкой-ширмой, затем северо-восточное узкое помещение, а с юга пандусное устройство. Композиционным центром постройки являлся стык осевого коридора с узким западным помещением, где на роскошных деревянных колоннах покоилось шестивенцовое перекрытие типа кассетного потолка «рузан». Здание погибло от пожара. Большое скопление обуглившегося дерева с архитектурной профилировкой и художественной резьбой позволило реконструировать форму этого перекрытия. В за́мке Уртакурган доминирует монументальная парадно-жилая внутренняя постройка, поднятая на высокую искусственную платформу и содержащая комплекс оборонно-фортификационных сооружений вокруг двора. Двор круговой, узкий, лишь в юго-западной части несколько расширяется. За́мок стоит обособленно и имеет четко выраженные элементы фортификации: его внешняя ограда-стена снабжена частыми башнями (куртина между двумя зачищенными юго-западными башнями 19,75 м) и банкетом для защитников. В целом Уртакурган по всем признакам являлся сильно укрепленным аристократическим за́мком. Время функционирования его довольно точно датируется монетами VIII в. н. э. (табл. 79, 1, 2) (Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973). Третий за́мок — Тирмизактепе располагался на гребне крайней оконечности предгорий гряды, выклинивающейся узкой полосой в Шахристанскую котловину и имеющей прекрасное стратегическое положение на северо-западных подступах к Калаи Кахкаха I. Открытое здание было квадратное в плане, площадью 16×16 м, с широким осевым коридором-вестибюлем, перекрытым плоской крышей. По сторонам коридора торцами к нему расположены восемь нешироких сводчатых помещений. Весь северный фасад здания занимает длинное сводчатое помещение-хранилище с вкопанными в пол хумами. Специальное пандусное устройство выводило на крышу здания. Здание построено в VII–VIII вв. и без особых переделок вторично использовано в IX–XII вв. Внешний облик и фортификационные элементы здания не сохранились. Но, судя по его планировке, характерной для построек за́мкового и караульно-казарменного типа Уструшаны и ряда других областей, а также учитывая его стратегическое положение, наличие мощных глухих наружных стен, специального помещения-хранилища, Тирмизактепе с большой долей вероятности можно считать за́мковым сооружением (Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973). Четвертый за́мок — Тоштемиртепе находится в 8 км от селения Шахристан, на равнине западной части Шахристанской котловины. Он зажат сухими руслами Тоштемирсая и Уваксая, некогда надежно защищавшими его с двух сторон. Основное сооружение высотой около 8 м располагалось в центре квадратного двора (100×100 м), окруженного оплывшими в настоящее время валами стен с четырьмя угловыми башнями и входными привратными лабиринтом с северо-западной выносной прямоугольной башней. За́мок имеет типичную коридорно-гребенчатую планировку. Осевой коридор длиной 14,5 м соединяет восемь помещений, расположенных по четыре с каждой его стороны и перекрытых сводами. Из коридора в каждое помещение ведут по два проема, расположенные на уровне пола и половины всей высоты стены. Перемычки арок проемов выполнены клинчатой кладкой, а кривые арок — полуциркулярные, в одном случае арка лучковая. В продольных стенах помещений на уровне верхних проемов обнаружены ряды ниш, расположенных друг против друга, а в нишах помещения 7 — остатки истлевших бревен. Все это позволило прийти к выводу, что каждое помещение деревянным настилом делилось на два полуэтажа (высота первого этажа 1,95 м); верхний этаж перекрывался сводом. Здание было двухэтажным: нижний этаж — хозяйственный, а верхний — жилой. В жилую часть вел проем в западном торце осевого коридора, куда поднимались по глинобитным ступенькам. Картину многообразия за́мковогозодчества Уструшаны дополняет ряд других памятников. Один из них, Калаи Сар, расположен на высоком глинисто-скалистом холме предгорий Туркестанского хребта, на месте совмещения двух ущелий — Гургдара и Куруксая, в 12 км южнее селения Шахристан. Памятник в плане близок по форме к овалу, рельеф повышается у юго-восточного и северного краев (Негматов, 1966, с. 69). В Калаи Саре открыты постройки двух периодов: VI–VIII и X–XI вв. К раннесредневековому периоду относятся сводчатое помещение размером 8,6×2,3 м, сложенное из сырцовых кирпичей кладкой в перевязку, и связанное с ним дверным проемом помещение со стенами из камня. Галечник и рваный камень использованы для сооружения двух других помещений. Крепостные стены сложены из рваного камня и крупного галечника на глиняном растворе и покоились на скальных выходах естественного возвышения, неровности которых были предварительно выправлены кладкой. В за́мке имелись угловые башни. Следы их в виде слоев пахсы с каменными прокладками открыты при раскопках. Непрочность сооружения была заложена в самой его конструкции. Использование недолговечного приема кладки из пахсы с прослойками из камня явилось причиной разрушения таких наиболее уязвимых участков фортификации, какими были башни. За́мок Дунгчатепе был расположен в предгорной степной полосе на правобережной террасе Исфанасая, на древнем пути из города Гуликандаз в горный округ-рустак Восточной Уструшаны. Он содержал в себе остатки сооружений трех строительных горизонтов. Время его функционирования VII–IX вв. В нижнем строительном горизонте находилось прямоугольное в плане здание, ориентированное углами по сторонам света. Северная часть здания включала центральный осевой коридор и связанные с ним параллельные помещения. Первый строительный горизонт датируется исследователями I–III вв., а после проведенного ремонта — III–V вв. Постройки за́мка первого строительного горизонта были разрушены и использованы в качестве платформы для сооружений второго строительного горизонта. Здание этого горизонта представляло собой интересное по планировке сооружение за́мкового типа, близкое к аналогичным уструшанским сооружениям. Его мощные наружные стены снабжены бойницами. Оно включало большой прямоугольный зал и примыкавшие к нему помещения (табл. 80, 2). Вдоль стен зала располагались суфы (Негматов, 1973а, с. 93–95; 1977б; Салтовская, 1983, с. 263–264).Архитектура и строительная техника.
Строительное дело Уструшаны развивалось в нескольких направлениях: градостроительство и крепостная фортификация, монументальное зодчество, массовое жилищное строительство и строительство ирригационных сооружений. Большинство сооружений сложены из пахсы и сырца; часто они возведены только из пахсовых блоков. Нередко ряды блоков прослоены одним, двумя (или более) рядами сырца. Есть стены, возведенные исключительно из кирпичей. И наконец, при возведении стен использована техника комбинированной кладки, сочетающей пахсу с сырцовым кирпичом в различных вариантах. Причем стены из блоков имеют то вертикальные, то наклонные швы, иногда являют собой «квадраты вперевязку» с декоративной нарезкой «рустовкой». Стены из сырца сложены то ложком вперевязку, то смешанной кладкой с перевязкой в верхних поясах, то тычком вперевязку, то тычком-ложком вперевязку. Технически разновариантны и стены комбинированной кладки: кирпич «вразбежку», «ступенчатая» кладка из рядов кирпича и слоев глины толщиной в два кирпича. Интересна сырцово-пахсовая комбинированная кладка из чередующихся ложковых и тычковых рядов кирпича, заполненных в промежутках слоями пахсы, со своеобразным, уникальным для Средней Азии, контррельефным убранством наружной поверхности — горизонтальной, треугольной в сечении «рустовкой» или «пунктирной» разрезкой. На декоративный эффект рассчитана кладка из пахсы и кирпичей разных оттенков. Дверные и оконные проемы ряда зданий перекрыты арками в технике клинчатой кладки «в елку». Среди типов арок большинство эллиптической (приближающейся к полуциркулярной) формы, реже трёхцентовой и параболической, еще реже лучковой и стрельчатой. Есть арки, оформленные архивольтом. Есть арочный световой проем параболической формы, выполнявший одновременно роль тромпа купольного перекрытия. Налицо сложная «двуликая» арка, относящаяся к типу «ползучих», выполненная внутри помещения асимметричной кладкой из сочетаний клинчатых плеч и выведенного плашмя венчания, а снаружи имеющая другие очертания и структуру: в прямоугольной рамке более высокая стрела подъема внешнего контура, без плеч, с кладкой из плашмя уложенных рядов кирпичей, расходящихся веерообразно. В ряде случаев зафиксированы балочные перемычки дверных проемов. В некоторых уструшанских зданиях (за́мок Чильхуджра, дворец Калаи Кахкаха II и др.) отмечены световые и вентиляционные проемы и продухи щелевидной, прямоугольной, трапециевидной и коленчатой форм или в виде трапециевидных амбразур. Кроме того, существовали деревянные решетки «панджара», устанавливаемые в верхней части арочных проемов и в световых люках на крыше помещений. От них отличается крупный прямоугольный оконный проем помещения в верхнем ярусе дворца Калаи Кахкаха II. Наиболее распространены в Уструшане были сводчатые перекрытия. Своды за́мка Чильхуджра коробовые, с эллиптической кривой, сложены они из прямоугольных сырцовых кирпичей в технике поперечных наклонных отрезков. Зодчие Уструшаны успешно решали сложную задачу поворота свода под прямым углом. Такой прием зафиксирован в комплексах Мунчактепе и Тирмизактепе. В обоих памятниках своды коленчатых коридоров, сложенные наклонными отрезками, расходятся веерообразно от выступающего угла. Промежутки между ними, постепенно расширяющиеся к противоположному углу, заполнены клинчатыми рядами кладки. Свод, образующийся над противоположным углом, опирается на небольшой тромп, благодаря которому угол в основании свода получает скругленные очертания. Этот прием в Средней Азии больше нигде не зафиксирован. Для перекрытия помещений успешно применялись купольные конструкции. Их неотъемлемой частью являются тромпы. О конструкции купольных сооружений мы можем судить по двум угловым башенкам и одной часовне-капелле Чильхуджры. В них переход от стен к барабану купола осуществлялся с помощью тромпов в виде перспективных арочек, вписанных одна в другую и сложенных из кирпича-сырца по дуге плашмя тычком. Арочки тромпов имеют небольшую стрелу подъема и почти полуциркулярную кривую. Кладка всех куполов Чильхуджры произведена кольцевыми рядами с радиальным наклоном рядов к центру кривизны. Наряду с массовым сводчатым и более редким купольным перекрытием помещений и целых зданий в Уструшане широко применялись и плоские деревянные перекрытия, которые покоились на стенах и на расположенных в определенной системе деревянных колоннах. Перекрытия включали такие элементы, как прогоны, балки, межбалочные брусчато-дощатые перемычки, на которые укладывались слои циновки и камыша, глины и глиняно-саманной обмазки. Колонны, прогоны, балки обычно покрывались художественной резьбой, на межбалочные ячейки потолков навешивались различные резные деревянные фризы и панно. Одна или несколько ячеек по определенной системе расположения превращались в световые и вентиляционные люки с замысловатой кассетной конструкцией «рузан», как, например, в за́мке Уртакурган. Потолки нередко представляли собой целые художественные композиции. Многие здания Уструшаны снабжены пандусными подъемами двух типов: 1 — простые, в виде двух (дворец Калаи Кахкаха I) или трех (за́мки Уртакурган и Тирмизактепе) коленчатых узких сводчатых коридоров с наклонно поднимающимся полом; 2 — сложные, встреченные во дворце Калаи Кахкаха II и в за́мке Чильхуджра. Последние хорошо сохранились и, несмотря на общность функций в однородных постройках, отличаются друг от друга конструктивно. У кахкахинского подъема квадратная в плане пандусная шахта имеет высокие и прочные стены, а в центре — пахсовый прямоугольный столб, вокруг которого вьются шесть подъемных колен, ведущих из вестибюля здания на средний и верхний ярусы помещений. Спирально вьющиеся, наклонно идущие своды пандуса, сложенные в технике клинчатой кладки, опираются на слегка выступающую полочку плашмя уложенных сырцовых кирпичей; их пяты расположены на разных уровнях стены и центрального столба. Пандус Чильхуджры находится на месте одной из угловых башен, поэтому с наружных сторон несколько закруглен, а пандусной шахте для большей устойчивости задан небольшой наклон к центру здания. Уникальная особенность чильхуджринского пандуса — его округлый центральный столб (вместо обычного прямоугольного). Столб состоит из массивного пахсового внутреннего стержня, утолщенного винтообразной накладкой в один ряд пахсы, на который опирается винтообразно поднимающийся свод, сложенный в технике наклонных отрезков. Пандус Чильхуджры был снабжен трапециевидными световыми амбразурами. Марши его вели на второй этаж и на крышу здания. В Уструшане применен и такой архитектурный элемент, как наружная обходная галерея. Отрезок неширокой галереи сохранился в за́мке Чильхуджра вдоль его западного фасада на уровне второго этажа. Галерея располагалась под сводами и внешними стенами помещений первого этажа и была огорожена массивным сырцовым парапетом. Она конструктивно разделила наружную композицию за́мка на два яруса, причем несколько уменьшенный объем второго яруса-этажа одновременно в перспективе представлял собой своего рода внутренний возвышенный укрепленный донжон кешка. Все парадные залы и жилые комнаты, многие хозяйственные помещения и некоторые широкие коридоры имели глинобитные сырцовые суфы. Они, как правило, расположены вдоль всех стен залов и комнат или вдоль одной из стен коридоров и узких помещений. В парадных залах и коридорах часть суфы выделялась путем расширения площади, повышения высоты и иногда возведения ступеньки у подножия. Торжественность такой суфы-«эстрады», застланной дорогими коврами, усиливалась еще специально расшитым матерчатым балдахином на металлических или резных деревянных опорах, а также богатой живописью стен. Такие суфы с остатками элементов украшений зафиксированы в залах Уртакургана и Чильхуджры, дворца Калан Кахкаха I. Есть их изображения и в живописи. С зодчеством тесно смыкались художественные ремесла резчиков по дереву, мастеров стенописи, художественной глиняной лепнины и жженых фигурных кирпичей (Негматов, Хмельницкий, 1966; Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973; Пулатов, 1975; Негматов, 1977а, 1979б).Культы и погребальные памятники.
Письменные источники фиксируют для Уструшаны раннего средневековья «белую религию» с главной ее книгой Заравах и деревянными скульптурами идолов, украшенных драгоценностями. Идолы и книги Мугов тайно содержались и почитались во дворцах уструшанского принца Хайдара в Самарре. Идолы находились и в самой Уструшане, в Буттаме. Их привозили в Уструшану хуттальские беженцы (Негматов, 1957, с. 73–82). В этой области известно много топонимов с компонентом «муг» (огнепоклонник). Ныне вскрыты Храм идолов на городище Калаи Кахкаха I, «Дом огня» на поселении Актепе близ Нау, домашние святилища-капеллы во дворцах и за́мках, в городских жилищах, найдены деревянные идолы в за́мке Чильхуджра. Дахма на Чоршохатепе близ Шахристана, скальные склепы близ Курката, множество захоронений в хумах и оссуариях в разных местах Уструшаны — все в целом свидетельствует об особом местном варианте зороастризма, сочетавшем в себе элементы канонического зороастризма с почитанием идолов и других божеств и культов, раскрываемом также монументальной живописью Уструшаны. В письменных источниках многократно зафиксирован уструшанский божественный фарн — лошадь. Многократно засвидетельствован в живописи дворцового комплекса Калаи Кахкаха образ коня-фарна царской власти — трона в виде протом спаренных коней. Важным свидетельством бытования культа коня-фарна является находка обезглавленного скелета коня, лежавшего в полном анатомическом порядке на арчевых досках под полом входного кулуара. Роль лошади в древних культах общеизвестна. Еще Геродот в своем описании быта и нравов племен, обитавших в Средней Азии, сообщал: «Из богов чтут только солнце, которому приносят в жертву лошадей» (Геродот, I, 216). Чтили кости всех животных: при археологических раскопках многих памятников Уструшаны кости мелкого скота встречаются под фундаментом стен, в гнездах от балок порогов входных дверей. Целый скелет домашней собаки обнаружен под полом одного из помещений за́мка Чильхуджра. Захоронение собаки под стеной помещения отмечено на поселении Хоняйлов. Храм, открытый в Актепе близ Нау, включает большое прямоугольное помещение и обводной коридор. Центральное помещение соединено со всеми коридорами четырьмя дверными проемами. В центре этого помещения находится прямоугольное сырцовое сооружение, похожее на очаг, в котором возжигался священный огонь. На самом сооружении и вокруг него следы интенсивного горения, скопление золы и углей. На стенах центрального помещения заметны следы сильного и длительного горения. Авторы раскопок отмечают сходство планировки здания с известными в Иране и других регионах храмами огня и считают, что открытое в Актепе сооружение можно считать храмом огня (Негматов, 1973, с. 81–82; Пулатов, 1977, с. 78). На городище Калаи Кахкаха I у южной крепостной стены по соседству с жилым кварталом открыт Храм идолов. Он включал большой прямоугольный в плане зал площадью 14,3×13,9 м, широким входом обращенный на городскую площадь. Около южной стены зала был устроен деревянный помост, опиравшийся на восемь фигурных стоек, на котором устанавливали деревянных идолов. Зал освещался поставленными в ниши светильниками и естественным светом через небольшие отверстия в кассетном потолке (Негматов, Авзалов, Мамаджанова, 1987, с. 199). Раскопками выявлены два периода функционирования зала, о чем свидетельствуют два уровня полов. Деревянное перекрытие зала с системой световых люков-рузанов покоилось на 90 колоннах, поставленных на каменные подушки. Они образуют строгую модульную сетку с шагом, равным 1,4–1,5 м. Почти все колонны имеют вертикальную профилировку и в поперечном разрезе обнаруживают рисунок растительной или большей частью зооморфной формы, повторяющий реальные объекты природы в стилизованном виде. Наличие большого зала с многоколонной композицией, обожествление культа дерева, зооморфный стиль, отмеченный в конструкции колонн, указывают на культовое назначение постройки, скорее всего, на Храм идолов. Доисламские культовые сооружения представлены также домашними капеллами, включенными в планировку за́мков и жилых домов рядовых граждан. Уртакурганская капелла представляет собой небольшое квадратное помещение с купольным перекрытием и входом из осевого коридора через входной айван. Вдоль всех стен этого помещения тянутся суфы. На полу у середины главной восточной суфы находится прямоугольное сырцовое сооружение, обведенное по боковым сторонам тонкой стенкой, открытое в сторону входа. Это сооружение выполняло функцию алтаря огня (Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973, с. 28, 35, рис. 20–21). В Чильхуджре капелла расположена на втором этаже за́мка. Она представляет собой небольшую комнату почти квадратной формы, перекрытую куполом, от которого сохранились нижние ряды кладки и три тромпа. Арочный вход располагался в северной стене и соединял капеллу с небольшим коридорчиком, который вел в Малый и Большой парадный залы за́мка. В середине южной стены находилось окно трапециевидной формы. В тщательно оштукатуренных стенах имелись нишки для светильников. Их поверхность сильно закопчена и прокалена. Около южной стены под окном большое скопление золы, а на самой стене заметны следы огня и копоть. Почти все пространство помещения занимает суфа. Расположение помещения, его изолированность от остальных комнат, наличие в комнате суфы, прокаленность стен подчеркивают его ритуально-культовое назначение (Пулатов, 1975, с. 31, 139–140, рис. 9, 22, 65, 66). В соседнем с капеллой Большом зале обнаружен закопанный под полом хум, в котором находились три деревянных идола, обуглившиеся при пожаре. Все они представляют собой мужские головы, вырезанные почти в натуральную величину и отличающиеся одна от другой размерами. Первая голова с довольно худощавым лицом, выразительными бровями и надбровными дугами, короткими прядями опускающихся волос, перехваченных лентой диадемы, миндалевидными глазами, прямым небольшим носом и слегка поджатыми губами. Вторая голова крупнее, щеки полные. На левой стороне утрачены часть подбородка и много мелких деталей лица, но хорошо сохранились волосы, изображенные небольшими слегка волнистыми прядями, которые выступают из-под головного убора или короны. Третья голова собрана из мелких распавшихся кусков, дающих лишь общее очертание. Детали лица утрачены. Угадывается диадема или высокий головной убор (Пулатов, 1975, с. 90–93, 96-100, рис. 47–49; Древности Таджикистана: Каталог выставки, 1985, с. 261–262, № 682, 683). Деревянные идолы из Чильхуджры, бережно спрятанные в хуме и закопанные перед арабским нашествием на Уструшану, — несомненный факт идолопоклонства. Сочетание зороастрийского огнепоклонства с идолопоклонством в Уструшане убедительно подтверждается письменными источниками (Негматов, 1957, с. 73–79, 140–146). В парадной части дворца Калаи Кахкаха I находилась капелла. Это была вытянутая, прямоугольной формы комната, сообщавшаяся двумя входами с центральным коридором дворца и с кулуаром Большого парадного зала. В центре комнаты на полу выявлены следы алтарного сооружения. Вдоль западной стены тянулась вымостка из сырцовых кирпичей, предназначавшаяся, видимо, для размещения культовых реликвий. Культовый центр находился в богатом общественно-жилом квартале в центральной части городища Калаи Кахкаха I. Эта выделяющаяся по планировке и внутренним элементам секция включает два помещения. Первое из них, размером 7,9×3,9 м, вдоль южной стены, имеет своеобразную длинную суфу, переходящую из обычной глинобитной вымостки (в западной половине) в ступенчатое пирамидальное сооружение (в восточной части помещения). Второе помещение (5,45×4,15 м) снабжено входным тамбуром, выделенным глинобитной стенкой-ширмой. У юго-западного угла оно имеет очажное углубление, в полу западной части — прямоугольное углубление (2×1,4 м), а в восточной половине — четырехступенчатый подъем, ведущий к возвышенной площадке. На последней сделано прямоугольное углубление (2×1,4 м). На стенке лестницы и на поверхности площадки зафиксированы остатки живописи (табл. 77, 1). Очевидно, оба помещения выполняли какие-то общественно-культовые функции (Негматов, 1975б, с. 539). Важным источником познания культов Уструшаны являются памятники искусства дворца Калаи Кахкаха I. Здесь многоярусная стенопись Малого зала посвящена традиционной для древнеиранского искусства сцене борьбы сил добра и зла, в которой принимают участие многие персонажи местного божественного и демонического пантеонов (Негматов, 1984). Живопись зала последовательно рассказывает об этапах грандиозного сражения царя-полководца и его воинов с многочисленными полчищами разноликих демонов, в котором на стороне людей выступают божество, богиня и небесные силы, а также о первых этапах мирной жизни после победоносной для людей битвы. Западная стена является центральной, где в середине над выделенной тронной суфой изображена сцена с основным персонажем повествования — огромная роскошно одетая мужская фигура, восседающая на зооморфном троне в виде обращенных в разные стороны коней. Живописное поле окаймлено широкой и высокой расписной ажурной аркой, украшенной растительной вязью. Концы арки внизу опираются на вытянутые овальные медальоны с изображениями арфистки и музыканта. По обеим сторонам центрального поля располагались три яруса живописных сцен различного содержания. Главный персонаж на троне интерпретируется как образ предка уструшанской правящей династии (табл. 81, 11). Факты обожествления уструшанских афшинов, сосредоточения в их руках не только государственной, но и сакральной власти хорошо известны из письменных источников (Бичурин, 1950, т. II, с. 276; Негматов, 1957). Образ обожествленного предка уструшанских правителей являлся основным объектом поклонения уструшанцев. Такое определение главного персонажа позволяет предположить, что на трех других стенах показаны сцены подвигов этого же предка в борьбе с силами зла. Дважды повторяющееся (на восточной и северной стенах), изображение царя-полководца в колеснице отождествляется с тем же образом предка династии (табл. 81, 7, 9). Такое решение облегчает объяснение иконографии остальных персонажей живописи, прежде всего трехглавого и четырехрукого божества и четырехрукой богини, сидящей на льве и представленной в двух ситуациях, в двух ликах (она же встречена в третий раз в двух-трех фрагментах у южной стены зала). Отсутствие изображений других божеств, наличие на восточной стене мужского и женского божеств примерно одинаковых размеров позволяют считать их находящимися на одной ступени культовой иерархии. Скорее всего, в данном зале были показаны только два главных божества уструшанского пантеона. Оба они четырехрукие: мужское — трехглавое, женское — в двух ликах (а третий лик, видимо, был представлен на южной стене). Оба божества одинаково участвуют в военных действиях на стороне людей. У них есть и общие атрибуты — символы луны на венце корон. По всей вероятности, в данном случае это изображения богов-супругов. О такой возможности для хотанских и пенджикентских божественных пар уже упоминалось в литературе (Беленицкий, Маршак, 1976, с. 78–81). На восточной стене воспроизведено восседающее на коне трехглавое четырехрукое божество в момент сражения или поединка. Одной рукой оно держит лук, второй натягивает тетиву, готовясь выпустить стрелу, а в двух других — копье наперевес. Три головы человеческие, антропологически близкие, написаны вполоборота вправо, две боковые уменьшены и расположены на уровне ушей средней, более крупной головы. На головах одинаковые сложные короны с полумесяцем, в ушах серьги. Фигура одета в доспехи, у пояса кинжал, ниже колчан со стрелами. В одно из предплечий воткнута стрела. Уструшанское трехглавое божество имеет аналог в пенджикентской живописи. На одежде пенджикентского божества сохранилась надпись «Вешпаркар» — согдийская передача санскритского «Вишвакарман» в значении «творец всего». Исследователи пенджикентского памятника ведут проникновение индуистского божества в согдийский пантеон через буддизм (Беленицкий, Маршак, 1976, с. 79). Однако у пенджикентского божества больше индуистских реалий: шесть рук, разные лица (среднее мужское, правое женское, а левое демоническое) и на них по три глаза, из плеч поднимается пламя, оплечья в виде голов животных, в руках трезубец и меч. От индуистского и буддийского Вишвакармана уструшанское изображение ушло еще дальше, чем пенджикентское. Образ уструшанского трехглавого божества освободился от сопровождающего женского лика, упростились его другие атрибуты (уменьшилось количество рук, пропали пламя с плеч и оплечья в виде голов животных и пр.). В иконографии уструшанского божества исчезли многие индийские начала. Изображения двух четырехруких богинь с разными лицами располагались также на восточной стене. Первое — в верхнем ярусе живописной композиции у юго-восточного угла стены. Богиня восседает на взнузданном льве и окружена огненным ореолом. Лицо ее в светло-сером нимбе с языками бледно-желтого пламени, сосредоточенное, спокойное, с раскосыми широко расставленными глазами, плоским носом, маленьким, сомкнутым в полуулыбке ртом. Слева располагается символ луны — голубой диск с антропоморфным изображением, окаймленным полумесяцем. Справа — подобное изображение солнца. В среднеазиатской монументальной живописи раннего средневековья это первый случай изображения человеческого лица в фас. На богине богато орнаментированная золотая корона с полумесяцем в центре. От короны к плечам легкими складками опускается глубокая прозрачная вуаль, в ушах массивные серьги с драгоценными камнями. Богиня одета в светло-голубой хитон, украшенный у шеи орнаментированной золотой каймой, на плечи накинут пурпурный плащ, на груди золотые бляшки, на одной из рук браслет. В одной руке богиня держит скипетр с навершием в виде крылатого льва, слева находится «штандарт», завершающийся золотой птицей; другой рукой богиня сжимает поводья; третьей рукой держит какой-то предмет в виде грифона; пальцы четвертой руки сложены в символическом жесте: указательный и безымянный подняты вверх, остальные сомкнуты. Второе изображение богини, восседающей на взнузданном льве, находится у северо-восточного угла зала в нижнем ярусе живописной композиции. Одежда и убранство полностью совпадают с таковыми первой богини. Она также четырехрукая: в одной руке держит символическое изображение солнца, в другой — луны, третьей рукой воспроизводит символический жест с двумя поднятыми пальцами, а четвертой, по-видимому, прижимает жезл к груди. Сохранность красочного слоя хорошая, преобладающий цвет синий (ультрамарин) различных оттенков. Иконографически весьма интересны оба изображения богини — видимо, главной богини местного пантеона; последнее подчеркивается надменно-величественной позой восседания на разъяренном льве, богатыми одеждами, украшениями и диадемой, многорукостью и тем, что в двух руках она держит антропоморфные символы основных небесных светил — солнца и луны. Остальные две руки воспроизводят символический жест (табл. 81, 1). Многоликость богини связана, вероятно, с ее особыми функциями для разных ситуаций. Из атрибутов богини наиболее конкретны диск луны с женским лицом в короне, увенчанной полумесяцем, и солнечный диск с изображением лица в фас, причем оба близки к ликам самой богини. Оба символа богиня держит на раскрытых вверх ладонях; на правой — луну, на левой — солнце. Антропоморфные и символические изображения солнечного и лунного божеств, других планет и звезд часто встречаются на памятниках культуры Средней Азии. Имеются письменные сведения о поклонении древних среднеазиатских народов небу и небесным светилам. Изображение различных божеств, сидящих на льве, — широко распространенная традиция у многих древних народов Востока. Двойственность образа главной уструшанской богини, видимо, можно подтвердить еще наличием не двух, а двух удвоенных (т. е. четырех) рук и фактом одновременного владения двумя символами — луны и солнца. Типологическая параллель такой дуальной структуры свойственна многим народам мира, в том числе зафиксирована в традициях Древней Греции, Ирана и Средней Азии. Двойственность образа главной уструшанской богини, несомненно, уходит в глубокую древность. Возможно, его следует связывать с образами ближневосточных и индоиранских божеств. Особо выделяется своим богатейшим эпическим, мифологическим и культово-религиозным творчеством Индо-иранский регион. Эта традиция зафиксирована в грандиозных письменных памятниках двух тысячелетий (I тысячелетие до н. э. — I тысячелетие н. э.): от «Авесты» до «Шахнаме» Фирдоуси у древнеиранских народов, в «Махабхарате», «Рамаяне», брахманских пуранах, анамах и в других поэмах у древних индусов. В древнем индоиранском мире были выработаны весьма стройные религиозные системы с божественными пантеонами во главе с авестийско-зороастрийским Ахурамаздой у иранцев и верховным богом Ишвара с его тримурти — триедиными продолжателями в сфере земной жизни (Брахма, Вишну и Шива) у индусов. Уструшанское и пенджикентское трехглавые божества Вешпаркар — Вишвакарман уже отождествлены с индийским Шивой Махадева. Пенджикентская богиня на льве идентифицируется с кушанской Наной и индийской Парвати. Видимо, главная уструшанская богиня представляет собой тот же образ Великой матери-воительницы, олицетворяющей одновременно также культы сил природы и плодородия. Учитывая многочисленность согдийско-уструшанских параллелей в материальной и духовной культуре, видимо, не ошибемся, если назовем уструшанскую великую богиню именем кушано-согдийской великой богини Наны. Таджики, как этнокультурные наследники Согда и Уструшаны, до сих пор употребляют слово «нана» в значении «мать» и «старшая мать» — «бабушка» (Негматов, 1984а). Таким образом, живопись малого зала дворца Калаи Кахкаха I позволяет говорить о трех главных объектах почитания доисламской Уструшаны: 1 — образ предка уструшанской династии, сливавшийся с личностью правящего царя (династийный культ), и два главных божества-супруга; 2 — Вешпаркар-Вишвакарман в облике трехглавого и четырехрукого мужчины на коне; 3 — Нана в облике четырехрукой женщины на льве. В целом же в Уструшане весь комплекс сведений письменных источников, археологических материалов и памятников искусства (живописи, терракоты и др.) выявляет довольно сложную религиозную систему, в основе которой, несомненно лежит зароастрийско-мадзеистская традиция.Художественная культура.
Традиции художественной культуры Уструшаны раннего средневековья были богаты и многообразны. Как в свое время полагал В.В. Бартольд, Уструшана оказалась менее всего затронутой арабским влиянием и являлась аккумулятором исключительно местных культурных традиций (Бартольд, 1963, 1964, 1966). О состоянии художественной культуры можно судить по письменным источникам и по результатам археологических раскопок Уструшаны. Памятники художественной культуры Бунджиката были открыты при раскопках дворца Калаи Кахкаха II в 1955–1958 гг. Стены многих помещений, особенно царского жилого комплекса, были расписаны многокрасочной живописью, а деревянные конструкции перекрытий и входов украшены орнаментальной резьбой. Постигшие город разрушения и пожар при захвате арабским отрядом в 822 г. уничтожили почти полностью архитектурный декор дворца. Остатки живописи здесь зафиксированы лишь в виде отдельных пятен краски на небольших участках стен, по которым, однако, можно судить, что многокрасочной росписью была покрыта вся поверхность стен. Нижние части стен над суфами украшены бордюрами растительного узора и окаймлены поясами перлов. Выше располагались сюжетные сцены, о чем свидетельствует фрагмент на западной стене центрального помещения с изображением нижней части мужской фигуры, одетой в длинное широкое верхнее платье, обтянутое «передником» (Негматов, Хмельницкий, 1966, с. 141–143, рис. 50). Остатки резного дерева обнаружены в тронной лоджии. Лежавшие в беспорядке остатки рухнувшего при пожаре перекрытия включают балки с резными западающими крестиками, расположенными в «шахматном» порядке, с цепочками четырехлепестковых рельефных розеток; брусья с лентой ромбической нарезки, поясом пятилепестковых пальметт и волнообразным побегом с отростками и стилизованными листьями; массивные доски-фризы с мотивом примыкающих одна к другой арочек, украшенных чередой резных пятилепестковых пальметт и выпуклым наружным пояском. Арочки вырезаны в виде выпуклой полоски, сверху и снизу окаймлены полосками из косых перекрещивающихся насечек. В поля между арочками вписаны половины четырехлепестковых розеток с вытянутыми и заостренными лепестками. Интересен фриз с рельефным изображением фантастического существа в виде мужского торса с широко разведенными бедрами, которые заканчиваются закрученными вверх змеиными хвостами. По бокам чудовища — остатки каких-то деталей декора. Изображение абсолютно симметрично: два энергетических завитка ног-хвостов, заканчивающихся закрученными вверх спиралями, образуют основание для изящного торса. Подчеркнутая горизонтальность фигуры говорит о горизонтальности всей несохранившейся композиции. Этот мотив змеиного тритона в сочетании с чудовищем «ма́кара», зафиксированный также в глиняных рельефах древнего Пенджикента, был широко распространен в буддийском искусстве древней Индии и Афганистана и истолковывается как символическое олицетворение водной стихии. Фрагмент потолочного бруса украшен рельефным изображением идущего мужчины, одетого в кафтан с двумя отворотами, перетянутый по узкой талии поясом, застегнутый на груди круглой пуговицей. Ниже пояса, у левого бедра, заметны следы рукоятки меча или жезла. Другая серия памятников изобразительного искусства происходит из за́мка Чильхуджра. Остатки живописи в виде пятен красного, белого и серого цвета зафиксированы на западных стенах Большого и Малого залов. Отдельные участки лучшей сохранности дошли до нас лишь на северной стене Малого зала. Роспись нанесена на белый грунт. Центром композиции является сравнительно неплохо сохранившийся фрагмент, изображающий человеческое лицо округлого овала. Контур прорисован тонкой линией золотистой охры, наиболее четко подчеркивающей округлый подбородок. Большие миндалевидные полуприкрытые глаза выделяются на бледно-желтом фоне лица светлым пятном. Прорисовка их выполнена тонкой киноварной линией. Тем же цветом подчеркивается линия губ, прорисовываются подвески в мочках ушей. Следы киновари позволяют определить почти несохранившуюся линию носа. Штрих светлой охры, идущий от мочки уха с правой стороны лица, мягко переходит в линию шеи, прописанной розоватыми тонами. Тонкие линии киноварной прорисовки окаймляют богатую гамму полихромной росписи золотистой охрой, белилами, темно-оранжевой краской и ультрамарином. Голова увенчана непонятной формы головным убором, опускающимся к переносице мягко очерченным треугольником темно-оранжевого цвета (Пулатов, 1975, с. 87, рис. 46). От остальной росписи остались лишь отдельные пятна красок. Ниже и правее лица сохранилась часть локтя руки с браслетом. Автор раскопок считает, что «человек, изображенный здесь… полулежал, облокотясь на поднятую руку» (Пулатов, 1975, с. 87–88). Левее этой сцены сохранился участок росписи с остатками «большой скачущей лошади серого цвета с крупными темно-синими яблоками», на спине лошади богато орнаментированная попона темно-оранжевой, светло-оранжевой, светло-желтой, охристо-золотистой раскраски. Напротив — остатки тяжелого крупа белой лошади с изящно изогнутой шеей и нижней частью головы, частью седла и подсумка (?). В нижней части росписи изображены конечности какого-то парнокопытного животного. Еще ниже угадываются контуры двух, выдвинутых одна из-за другой, лошадей, а на спине ближней лошади угадывается нижняя часть всадника. В нижних частях обеих сохранившихся живописных сцен по одному круглому медальону светло-желтого цвета. Они обведены киноварью, а внутри изображены прямолинейные кресты. Внизу живопись стены была обведена широким орнаментальным бордюром, включающим пояс сильно стилизованных волютообразных завитков и побегов, а сверху и снизу линейные пояски с ритмично расставленными рядами перлов. Деревянные конструкции перекрытия и интерьера парадных залов Чильхуджры были украшены художественной резьбой. У входа в Большой парадный зал обнаружена часть дверной коробки, которая имела резьбу в виде косых ромбических насечек. В завале Большого зала найдены: обломок обугленного дерева с резьбой в виде чешуи; фрагменты массивной доски-фриза с плохо сохранившимися резными фигурами; обломок с изображением реалистично переданного миндалевидного глаза и ресниц; другие обломки с мотивами параллельных линий, выступающих в виде усеченного конуса чешуек и т. п. (Пулатов, 1975, с. 93–96, рис. 50). Парадные залы за́мка Уртакурган были богато украшены живописью и резными деревянными конструкциями (балки перекрытий, двери, деревянные панели). Однако грандиозный пожар уничтожил их почти полностью. В результате воздействия огня погибла роспись на всех стенах. Незначительные следы ее сохранились в северо-западном зале и на стене тамбура (Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973, с. 27). Но тот же пожар, обуглив деревянные части здания, сохранил их от гниения. На многих балках и прогонах имеется великолепная резьба. На стыке коридоров в центре за́мка в углах были обнаружены отпечатки нижних частей двух деревянных колонн, частично вделанных в стены. На некоторых обгоревших балках сохранились глубокие врубки, направленные под углом 60°, и именно под таким углом должны смыкаться брусья, образующие так называемый венец перекрытия «рузан». В результате кропотливого изучения месторасположений баз и обуглившихся деревянных деталей удалось восстановить перекрытие этого типа. Оно представляет собой брусчатую ступенчатую конструкцию, состоящую из нескольких квадратных или восьмиугольных постепенно уменьшающихся венцов, расположенных один над другим и оставляющих верхнее отверстие, которое совмещает функции светового и вентиляционного люков. Такая конструкция в свое время была широко распространена на большой территории Азии — от Закавказья до Кореи. Она отмечена в зодчестве Хорезма, Семиречья, а в Таджикистане просуществовала особенно долго и дожила до настоящего времени. В исследованиях по древней архитектуре Средней Азии неоднократно указывалось на вероятность употребления перекрытия типа «рузан», или так называемого кассетного потолка, уже в раннее время. Находки в Уртакургане являются первым точно документированным свидетельством применения данной архитектурной формы в раннесредневековых среднеазиатских зданиях (Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973, с. 18–21, 42–60, рис. 14, 15, 26–31) (табл. 79). Художественная резьба по дереву в Уртакургане представлена большой серией находок и множеством орнаментальных мотивов. В уртакурганском резном дереве в пределах одной орнаментальной композиции сочетаются характерно трактованные пятилепестковые пальметты и ромбовидные гирлянды на боковой поверхности балок: мотивы пятилепестковых розеток и круглых перлов в бордюрных цепочках. Но есть и новое: своеобразный орнаментальный мотив на нижней плоскости венцов перекрытия «рузан» и крупных балок в виде стебля с побегами, завершающимися трилистником. Такая трактовка традиционного трилистника впервые была встречена в Уртакургане (табл. 79, 4, 5). На каждой балке симметрично располагались по две ветви, идущие от торцов к середине. Одна, видимая сторона таких балок украшена сплошным тройным бордюром из поясов выпуклых кружков-перлов, пятилепестковых пальметт и ромбовидных нарезок гирлянды. Этот строго последовательно трехполосный орнаментальный мотив перлов-пальметт гирлянды встречается особенно часто, а в отсутствие многоотросткового побега он выполнялся без верхней полосы перлов (табл. 83, 2, 3, 6, 10), за счет которых украшались пояса пальметт (Негматов, Пулатов, Хмельницкий, 1973, с. 60–69, рис. 32–35). В уртакурганской резьбе по дереву большое место занимают бордюры из пятилепестковых пальметт, ромбовидных насечек и пятилепестковых розеток. Они выполнены, как и в Пенджикенте, в технике невысокого сочного рельефа и генетически восходят к кругу орнаментальных сюжетов эллинистического искусства. Примечательно, что идентичный орнамент применялся на разном материале (дереве, глине). Двойной бордюр из полосок пальметт и ромбовидных нарезок (трансформированный мотив гирлянды) украшал и балку деревянного потолка над стыком коридоров, и глиняный рельеф тамбурной стенки Малого зала. Уструшанская художественная культура наиболее богато и ярко проявилась в архитектурных формах и планировке выдающегося историко-культурного объекта — дворца афшинов Калаи Кахкаха I. Интерьер всех парадных помещений и коридоров был отделан богатейшей настенной многокрасочной живописью светского, батального, мифологического и культового содержания, деревянными архитектурными конструкциями, панно и фризами с мастерски выполненной разнообразной резьбой растительного, геометрического, комбинированного растительно-геометрического орнамента, с рельефными изображениями людей, животных, птиц и, наконец, с круглой скульптурой людей и птиц. При раскопках памятника повсюду обнаруживались толстые слои горелого дерева и обожженной глины, стены прокалены докрасна, сгорела и большей частью рассыпалась штукатурка стен с живописным красочным слоем. Живопись сильно пострадала, но обгоревшее дерево донесло до нас прекрасную резьбу. Главным сюжетом дворцовой живописи была традиционная для древнеиранского искусства борьба сил добра и зла. Это нашло отражение в крупнейших монументальных композициях дворца: в уникальном деревянном резном панно-тимпане входного проема тронного зала, в живописной многоярусной композиции Малого зала. Подлинной сокровищницей живописи оказался Малый зал с широкими суфами вдоль стен и входным проемом в середине восточной стены. В результате реконструкции установлено, что главная композиция стенописи находится на западной стене, где изображен центральный персонаж — огромная, роскошно одетая мужская фигура, восседавшая на зооморфном троне. По обе стороны от него в овалах изображены музыканты, в одном из них — арфистка. Далее тремя ярусами располагались сюжетные сцены. На северной стороне в нижнем ярусе — сцена пира под балдахином воинов-музыкантов, играющих на арфах и лютне, группа пирующих, за́мок с выбегающим из него воином. Этот ярус в целом представляет собой сцену отдыха после боя и возвещает о победоносном завершении сражения людей, победивших демонические силы. Во втором ярусе — сцена битвы с демонами и царь-полководец на колеснице. Здесь же изображен поверженный демон. Верхний ярус сохранился плохо — до нас дошли фрагменты с остатками сидящих воинов. На восточной стене в нижнем ярусе находились изображения четырехрукой богини, восседающей на льве, и коленопреклоненного царя-полководца на колеснице. Здесь же находилось изображение трехглавого и четырехрукого божества. Далее — шествие зверей. В третьем ярусе снова богиня (в фас) на льве и трехглавый демон с диадемой, украшенной тремя черепами. Центральный персонаж западной стены зала интерпретирован как образ обожествленного предка царствующей династии, а четырехрукая богиня и трехглавое божество — как супружеская пара главных уструшанских божеств. На восточной стене у северо-восточного угла изображен мчащийся навстречучетырехрукой богине в запряженной крылатыми конями колеснице коленопреклоненный царь-полководец. Он показан вполоборота, в богато расшитом кафтане и мягких доспехах (табл. 81, 7). Лицо бородатое, с правильными европеоидными чертами; на голове венец с полумесяцем. Правая рука с раскрытой опущенной ладонью полусогнута в локте, левая держит у груди копье. Двухколесная деревянная колесница покрыта богатой геометрической и растительной резьбой. В выступающем левом углу ее покатой крыши, видимо, резной деревянный полумесяц. Крылатые кони «в яблоках» запечатлены в положении быстрого бега. Этот же царь-полководец изображен и на северной стене. Он показан также в богатой колеснице, запряженной лошадью «в яблоках», но теперь царь уже не стоит на коленях с опущенным вниз копьем перед богиней, а сидит, поджав под себя ноги, без копья, с мечом и кинжалом на поясе. У него хорошо сохранилась верхняя часть головы в богатом сложном венце с крупным полумесяцем; на груди ожерелье с медальоном. Полумесяц помещен в центре крыши колесницы. Следовательно, в обоих случаях перед нами образ одного и того же царя-полководца, главного персонажа живописной панорамы. Этот образ был идентифицирован с главным персонажем, изображенным сидящим на троне на западной стене, т. е. с образом династийного предка. На восточной же стене рядом с другой четырехрукой богиней в фас — изображение трехглавого демона. Огненно-рыжая густая грива обрамляет, хищное, злобное, оскаленное, полное экспрессии светло-серое лицо. Нос с горбинкой, глаза выпучены, во лбу помещен третий глаз. Надо лбом и на висках персонажа — три черепа. Фигура полуобнажена, выполнена в полный рост в неистовых движениях танца. Мощное, мускулистое, золотисто-зеленое тело демона перевито лентой с бубенцами. На восточной стене изображен еще один демон с черепом надо лбом, на северной — сцены битвы с демонами и поверженный демон, фрагменты демоноподобных воинов. На одном фрагменте воин-демон изображен в оригинальном шлеме-нашейнике, который завершается на плечах развевающимися крыльями. Эта своеобразная композиция — единственное воспроизведение такого вида воинских доспехов в среднеазиатской живописи. Воин-демон написан в профиль, в позе стремительной скачки; у него борода, выступающие изо рта клыки, нос чуть с горбинкой, широко раскрытые глаза. Среди разномастных демонов отметим черноволосого демона с человеческой, но непропорционально крупной головой, с маленьким лицом, большими выпуклыми глазами и широким приплюснутым носом. Другой демон также имеет нарочито искаженный человеческий облик. Есть еще изображение демона с удлиненной нижней челюстью. Фигуры сражающихся демонов и воинов имеются и на фрагментах живописи южной стены. Так, на одном фрагменте воспроизведены рядом в профиль две головы демоноподобных воинов. У одного из них длинное лицо, широко открытые большие глаза, двойная дуга бровей, крупный нос с горбинкой, тонкие длинные усы и выходящие изо рта клыки, на голове шлем с геометрическим узором (Негматов, Соколовский, 1977, с. 150–154; Негматов, 1984а, с. 146–164). Животный мир в живописи Малого зала представлен изображениями львов, шакала, грифона, змеи, драконов, лошадей, птицы с золотисто-желтым оперением. Людские персонажи многообразны: дважды изображен царь-полководец в богатой одежде, восседающий в колеснице с впряженным крылатым конем; три скачущих всадника в богатом военном одеянии и шлемах, с пиками и мечами на вороном, сером и белом конях; воин-ветеринар с характерной «медицинской сумочкой», лечащий коня; группа шествующих воинов, один из них хромой, с палкой; группа совещающихся воинов в совместном «рукопожатии»; группа воинов в доспехах и при оружии, сидящих под балдахином и играющих на музыкальных инструментах — чангах (арфы) и уде (лютня), а рядом группа пирующих воинов; арфистки в полный рост на желтом фоне. Верхняя часть одежды арфисток темно-бордового цвета, складчатые ярко-голубые шаровары на бедрах обтянуты узкой лентой ремня. Ноги босые. На плечах и талии легкие развевающиеся ленты шарфа, на плечах, шее и груди ожерелья со сложными подвесками, в ушах крупные серьги-колечки с четырехлистником внутри, на голове венец с полумесяцем. Сложные браслеты украшают запястья обеих рук. Великолепно переданы руки, перебирающие струны арфы. Большое место в стенописи дворца занимал богатый растительный и геометрический узор, составлявший бордюры сюжетных композиций, живописных поясов и подпотолочных фризов, а также рисунок тканей одежды и ковров (Соколовский, 1974, с. 48–52). Настенная живопись остальных помещений и коридоров дворца Калаи Кахкаха I почти полностью уничтожена разрушительным пожаром. Отдельные ее фрагменты зафиксированы в Большом тронном зале, в его входном кулуаре и других помещениях. Особенно интересна роспись, открытая на западной стене центрального осевого коридора. Ее композиция состоит из пяти сцен, изображающих сидящего на тахте правителя, женщину с запеленутым ребенком на руках и мужчину, отнимающего ребенка у женщины; реку с плавающим в ней существом; группу наблюдающих за событием; волчицу, кормящую двух младенцев. Последняя сцена точно повторяет официальную эмблему города Рима, изображенную на многочисленных памятниках римского искусства, на римских монетах, византийских золотых брактеатах, сасанидских геммах. Это сюжет о волчице и человеческих младенцах, распространенный через скифо-сарматские племена в Северную Евразию, а через этрусков — в раннеантичный Рим, где он был канонизирован в виде легенды о Ромуле, Реме и «капитолийской волчице» (табл. 81, 10). Уструшанская роспись — первое воспроизведение этого сюжета в живописи Востока (Негматов, Соколовский, 1975). На западной стене коридора, слева от входного проема в Малый зал, находилась другая живописная сцена, названная условно «Военный совет». Эта композиция включает изображение трех лиц, сидящих в «восточной позе», со скрещенными поджатыми ногами. В центре композиции был воин в длинном кафтане, низко перехваченном поясом, на котором подвешены кинжал и меч с серебряными рукоятями. Рукава кафтана полузасучены. Левой рукой воин держит ножны меча, правая рука полусогнута и поднята вверх. Лицо широкое, округлой формы, чуть скуластое; оно обращено к правой фигуре. Глаза небольшие, впалые, несколько прищурены, дуги бровей высоко подняты. У него тонкие недлинные усы, губы сомкнуты, головного убора нет, на затылке локон, в мочке правого уха серьга, а на запястье правой руки браслет. Ноги в сапогах с низкими голенищами, широкими пятками и носками. Мужчина изображен пожилым, но достаточно статным и сильным. Его крепкая фигура, особенно руки, обведена уверенными, четкими линиями киноварного тона. Полуобратясь, он почтительно и внимательно слушает своего собеседника справа, у которого старческие черты лица, слабый взмах полусогнутой приподнятой правой руки. Он изображен в кафтане свободного покроя, закрывающем фигуру, с длинными рукавами до запястья рук. У него нет пояса и оружия. Голову плотно облегает гладкий убор, линии глаз и бровей подчеркнуты слабо, лоб в морщинках, лицо чуть скуластое. От третьей фигуры (слева) сохранились лить левая нога и часть туловища в кафтане с кинжалом на поясе. Роспись выполнена безусловно талантливым художником, профессионально и с большим мастерством. Замысел художника — изобразить беседу представителей светской и военной знати. В центре внимания живописца одновременно и сам человек, как определенная индивидуальность, и положение человека в обществе. Последнее подчеркивается возрастом и характером одежды, а также наличием оружия (Негматов, 1973, с. 190–201, рис. 14). Живописный декор дворца Калаи Кахкаха I свидетельствует о самобытности уструшанской живописи. Авторы шахристанских росписей имели отличную художественную школу и высокий профессионализм, владели всеми приемами стенописи клеевыми красками. Над живописью трудились несколько мастеров, и каждый имел свою ярко выраженную манеру исполнения (Соколовский, 1974, с. 52). Обилие обнаруженных во дворце Калаи Кахкаха I росписей, богатство и своеобразие сюжетов, хорошая сохранность красочного слоя позволяют отнести эти находки к числу лучших и значительных в Средней Азии. Живопись дворца Калаи Кахкаха I относится к VIII–IX вв. и хронологически продолжает известную серию росписей V–VIII вв. Балалыктепе Варахши, Пенджикента и Афрасиаба. Все они вместе, иллюстрируя художественную культуру Согда, Уструшаны и Тохаристана, отражают общее состояние и тенденции искусства Средней Азии раннего средневековья. Монументальная живопись дворца Калаи Кахкаха I, ее исполнительское мастерство и богатое сюжетное содержание вполне соответствуют уровню материальной культуры Уструшаны как одного из высокоразвитых компонентов среднеазиатской раннесредневековой цивилизации (Негматов, 1977а, 1979б). Из завалов помещений дворца извлечено около 2200 фрагментов обугленного при пожаре резного дерева. Деревянные конструкции, панно и фризы имеют мастерски выполненную великолепную резьбу разнообразного растительного, геометрического, комбинированного растительно-геометрического орнамента, резные рельефы с изображениями людей, животных, птиц, фантастических существ, скомпонованные в целые сюжетные сцены. Есть объемная скульптура людей и птиц. Интересны не только их художественно-декоративные достоинства, но и их иконография, так как она вводит нас в мир древних образов и традиций. Среди деревянных конструкций с резным орнаментом отметим: обломки балок с гирляндами, пальметтами, розетками в кругах, двухъярусной аркадой, завитками стеблей, рисунками «волны»; обломки брусьев с волнистым рисунком (Малый зал); потолочные филенки, орнаментированные круглым чашевидным углублением, заполненным десятилепестковой розой с крупносетчатой сердцевиной; филенки с изображениями всадника на верблюде, птицы-сирина (Большой тронный зал). Стены помещений под потолком завершались арочным фризом; арки прорисованы гирляндой с пальметтами или перлами, а между ними стебель с бутоном и гибкими листьями. В одном из помещений под западной стеной оказалась доска с изображением львов: пять львов справа и пять львиц слева спокойно шествуют навстречу друг другу, на средней оси композиции их разделяет «древо жизни». На досках из других помещений изображены лани, лежащие с подогнутыми ногами и запрокинутой головой. На плече и крупе их вырезаны солярные знаки в виде вихревой розетки (табл. 83, 11). Из Большого тронного зала происходит доска с барельефом женской фигуры, стоящей в позе кариатиды или танцовщицы: правая рука поднята к голове, а левая лежит на бедре. Черты лица неразличимы, но в ушах видны округлые серьги, голова увенчана трехзубчатой короной, длинное платье на груди и ниже колен драпируется складками. На плечи наброшена накидка, на бедрах повязка, юбка из ткани с рисунком «в горошек». В том же зале найдены фрагменты мужского торса почти в натуральную величину. Из Большого тронного зала дворца Калаи Кахкаха I происходят три больших обломка с вырезанными на них рельефными головками. Первый самый крупный обломок, длиной 58 см, представляет собой часть большой композиции, включающей голову сидящей фигуры, упирающейся в дугу широкой арки. На двух других прямоугольных филенках также вырезаны человеческие головки. Они заключены в ромбические рамки, украшенные перлами между двух гладких полосок. Головки выполнены высоким рельефом. Одна головка с плоским лицом монголоидного типа. У нее миндалевидные глаза с припухшим верхним веком, плавные дуги бровей, сросшиеся над переносицей, прямой приплюснутый нос с узкими ноздрями. От крыльев носа к слабо выступающему подбородку опускаются резко выраженные складки. От углов рта поднимаются к вискам параллельные рубцы, напоминающие татуировку. Хорошо проработаны небольшие ушные раковины, в мочке левого уха серьга в форме стручка, подбородок и левая щека плотно обтянуты шарфом. Волосы, лежащие на лбу кольцами, распадаются за ушами прямыми прядями. На голове круглая корона, украшенная тремя полукружиями с многолепестковыми пальметтами. Верхний край короны с полоской треугольных зубцов упирается в валик арки. Архивольт арки, видимо, украшала гирлянда. Несомненно, этот фрагмент составлял верхнюю часть сложной композиции, подобной известному пенджикентскому арочному фризу. Там изображены мифологические сцены с главным персонажем на троне или колеснице. Вторая, несколько меньшая, головка имеет тонкие черты лица, широкую нижнюю челюсть, маленький четко очерченный подбородок, серповидный разрез глаз, брови, расходящиеся от переносицы двумя широкими дугами, прямой сильно выступающий нос, изящный пухлый рот. Волосы крупными волнами поднимаются к затылку, а нижняя прядь зачесана вниз и назад, прикрывая маленькое ухо с круглой серьгой. Головка охвачена ромбической рамкой, украшенной перлами. Третья головка сильно разрушена. У нее грубый нос, рот с толстыми губами, внешний угол глаза круто поднят к виску, волосы стянуты на лбу лентой или обручем, из-под которых выбиваются сзади густой массой, закрывая уши. Доски с резными головками, очевидно, являлись деталями деревянного тахта или створок входной двери зала. Они составляли своего рода «галерею народов» (подобную дароносцам на лестницах персепольского дворца) и могли изображать представителей дружественных стран или побежденных врагов. Над дверью Большого тронного зала помещалось резное панно, состоявшее из трех массивных досок. Гладкое поле панно со скульптурным изображением окаймляет широкая рама из трех поясов. Центром композиции является фантастическое существо с человеческими чертами. К нему с двух сторон скачут две группы всадников по четыре с каждой стороны. У коней развеваются гривы. Всадники с тонкими талиями в плотно облегающей складчатой одежде. Две ближние к центру лошади упираются ногами в пояс, а мордами в плечи фантастического персонажа. В верхнем ряду среднего поля расположены две скульптурные группы. В центре каждой человекоподобное существо, восседающее на двуглавой птице. Его волосы заплетены в длинные косы. Наружная рама выполнена более тонкой резьбой и делится на три полосы. Две крайние заполняют гирлянды и пальметты. Среднюю занимают смыкающиеся друг с другом круги. В каждом из них — сцена сражения с участием трех персонажей, двух всадников и одного лежащего раненого или убитого воина. В одном случае вместо лежащего воина изображена крупная извивающаяся змея или дракон. Свободное пространство между кругами занимают мужские фигуры, поддерживающие руками эти круги (Воронина, Негматов, 1976). Сюжет изображений панно — борьба сил добра и зла, борьба легендарного Фаридуна и народного вожака Кова с поработителем Зохаком и его воинством. Этот сюжет отмечен и в живописной панораме дворцового зала Бунджиката. Он нашел отражение и в средневековой поэзии, в частности в поэме Фирдоуси «Шахнаме». Истоки образов, воплощенных в изобразительном искусстве Уструшаны, в частности образа Зохака, нужно искать в древнейших мифологических представлениях народов Средней Азии, Ирана, Индии. Его иконография как трехглавого чудовища восходит к образам центральноазиатского и индийского пантеонов. С другой стороны, находки памятников изобразительного искусства в Бунджикате и Пенджикенте подтверждают тезис о непосредственных хорасано-мавераннахрских истоках творчества Фирдоуси. Итак, в Бунджикате обнаружены четыре серии остатков резного деревянного декора на четырех отдельных памятниках, что говорит о массовости и широком распространении этого вида декора в Уструшане (Воронина, Негматов, 1974; Негматов, 1977б). Отсутствие полной аналогии уструшанской живописи и резного дерева с имеющимися другими подобными памятниками, большое совершенство техники резьбы и живописи, многообразие форм и сюжетов свидетельствуют о наличии самостоятельных уструшанских художественных школ и о глубоко укоренившихся традициях этих отраслей искусства. Значительное место в архитектурном декоре занимали глиняная лепнина, орнаментированные керамические плитки. Лепным декором украшались стенки тамбуров у входов в залы. В зале нижнего яруса дворца Калаи Кахкаха II стенка тамбура, обращенная к комнате, оконтурена рельефной прямоугольной рамкой, ее нижний угол украшен рельефным налепом в форме ступенчатого зубца «кунгра» (Негматов, Хмельницкий, 1966, с. 59, рис. 32, 33). Тамбурную стенку восточного зала Уртакургана украшал бордюр глиняной лепнины, состоявшей из пятилепестковых пальметт и ромбической гирлянды. Фасадные стены центрального царского спального донжона были украшены серией обожженных фигурных облицовочных кирпичей разнообразных форм. Они имели форму дисков с крестовидными вырезами на лицевой стороне, зубцов-мерлонов, полурозеток, волютообразных кирпичей-завитков. Фигурные обожженные кирпичи составляли также декоративное убранство восточного парадного фасада центрального общественно-жилого квартала (Негматов, 1981, с. 477). К этой серии относится часть большой облицовочной плитки, найденной у подножия городища Калаи Кахкаха I. На ее лицевой стороне вырезан глубокий геометрический узор типа гириха (Негматов, Хмельницкий, 1966, с. 174. табл. XVII, 7). Важной областью художественной культуры являлась ремесленная продукция. Она отражала высокий уровень развития материальной культуры и одновременно духовной культуры ее создателей и потребителей. В духовной культуре Уструшаны большое место занимали мифологические представления о Добре и Зле, Свете и Тьме, о борьбе этих начал и победе Сил Добра и Света, персонифицированных в известных общеиранских образах (Негматов, 1977б) человеческих подкидышей, вскормленных животными (Негматов, Соколовский, 1975), а также в образе предка царствующего дома (Негматов, Соколовский, 1977).Глава 7 Северный Тохаристан (Т.И. Зеймаль, Э.В. Ртвеладзе)
Северный Тохаристан на современной карте соответствует южным районам Узбекистана и Таджикистана — от Гиссарского хребта и Железных ворот на севере до Амударьи; западная граница примерно пролегает по горному хребту Кугитанг; восточная проходила в пределах Кулябской области. Рельеф области определяют горы и долины больших и малых рек, составляющих сеть притоков Амударьи.
Карта 7. Северный Тохаристан. а — за́мки и крепости; б — поселения; в — современный город; г — культовые места; д — склеп; е — могильники; ж — средний город; з — малый город. 1 — Хиштепе (буддийский храм); 2 — Болдайтепе (поселение); 3 — Кургантюбинское городище; 4 — Аджинатепе; 5–7 — Уртабоз; 8 — Кафыркала; 9 — Калаи Шодмон (город); 10 — Шишихона (город); 11 — Гиссарская крепость; 12 — Калаикафирниган (город и буддийский монастырь); 13 — поселение Ширкент; 14 — поселение и могильник Харкуш; 15 — Калаимир; 16 — Мунчактепе; 17 — Шуртурмулло (буддийская ступа); 18 — Будрач (городище); 19 — Биттепе (склепы); 20 — Чаянтепе (городище); 21 — Яхшимбайтепе; 22 — Лоилагаи; 23 — Бабатепе; 24 — Кучуктепе; 25 — Хайрабадтепе; 26 — Балалыктепе; 27 — Зангтепе; 28 — Безымянный город.
Изучение раннесредневековых памятников Северного Тохаристана началось в середине XX в. Необходимо отметить наблюдения, сделанные в районе Термеза и в долине Сурхандарьи И.Т. Пославским и Б.Н. Кастальским (Кастальский, 1930), а также сведения по истории ирригации Вахшской долины, собранные в 1915 г. П.Г. Гаевским (Гаевский, 1924). В 30-40-е годы создаются большие комплексные экспедиции — Термезская под руководством М.Е. Массона и Таджикская под руководством А.Ю. Якубовского, в ходе которых были открыты раннесредневековые памятники (Массон М. 1940, 1945; Шишкин, 1940, 1945; Букинич, 1940, 1945; Дьяконов, 1950, 1953; Беленицкий, 1950, 1950а, 1950в и др.). С 1949 г. разведочные и раскопочные работы в Сурхандарьинской области вел Л.И. Альбаум, осуществивший в 1953–1955 гг. раскопки Балалыктепе (Альбаум, 1960), в 1956–1957 гг. — Джумалактепе, в 1961–1962 гг. — Зангтепе (Альбаум, 1963, 1964, 1965; Нильсен, 1966). С 1959 г. в Сурхандарьинской области проводила большие исследования экспедиция Института искусствознания им. Хамзы Министерства культуры УзССР под руководством Г.А. Пугаченковой, изучавшая и раннесредневековые памятники (Пугаченкова, 1966; Ртвеладзе, Хакимов, 1973; Ртвеладзе, 1974, 1982). Особое место в раскопках занимает городище Будрач, отождествленное со столицей раннесредневекового Чаганиана (Пугаченкова, 1963; Ртвеладзе, Пугаченкова, 1981; Аршавская, Ртвеладзе, Хакимов, 1982). Т.Д. Аннаев посвятил специальные исследования раннесредневековым поселениям Северного Тохаристана (Аннаев, 1977, 1978, 1982, 1984). Раскапывались Куевкурган (близ городища Зартепе), Хосияттепе. Городище Мунчактепе в долине р. Кафирниган было первым раннесредневековым памятником, на котором проводились раскопки (Мандельштам, Певзнер, 1958). Регулярные исследования памятников V–VIII вв. начались в 1956–1957 гг. с раскопок городища Кафыркала близ Колхозабада (Литвинский, Гулямова, Зеймаль Т., 1959; Зеймаль Т., 1959). С 1959 г., в связи с работами по изучению древней и средневековой ирригации Вахшской долины (Зеймаль Т., 1961, 1962, 1971) выявляются и исследуются основные раннесредневековые памятники в этом районе долины. С 1960 по 1975 г. ведутся раскопки буддийского монастыря VII–VIII вв. Аджинатепе в 12 км к востоку от Кургантюбе (Литвинский, Зеймаль Т., 1971; Зеймаль Т., 1980, и др.). С 1968 г. под руководством Б.А. Литвинского возобновились и регулярно ведутся раскопки городища Кафыркала на окраине Колхозабада (Литвинский, Соловьев, 1985, с. 8–10). В 1974–1980 гг. под руководством Б.А. Литвинского проведены большие работы на городище Калаи Кафирниганкала (Литвинский, 1976, 1977, 1979а, б, 1981). В долине Кафирнигана раннесредневековых памятников исследовано немного (Седов, 1987), как и в Гиссарской долине, где были проведены в 1955 г. (Давидович, 1956) и в 1958 г. большие разведочные работы, а также раскопки на городище Узбеконтепе в Регарском районе (Зеймаль Т., 1961). Материалы раннесредневекового периода (конец IV–V в.) дали верхние слои Яванского городища (Зеймаль, 1969, 1975) и Верхнего Болдая, а также поселения Халкаджар (Зеймаль, 1961; Седов, 1987, с. 80–84). В 1977–1978 гг. исследовалась крепость Нижний Уртабоз (Зеймаль, Соловьев, 1983; Зеймаль, 1984).
Источники.
Хотя первое упоминание Тохаристана в источниках относится к 383 г. (Muller F.W.K., 1918, s. 575), можно предполагать, что это название возникает много раньше, в связи с появлением на исторической арене во II в. до н. э. племени тохаров, о которых сообщают античные авторы (Бартольд, 1963, с. 116; Tomaschek W., 1877, p. 33). Большую информацию о «стране Тухоло» (известны три варианта написания: T’ou-ho-lo-, Tou-ho-l’o и Т’ou-hou-lo; Chavannes, 1903, p. 155) содержат китайские источники: в гл. 97 Бейши, составленной в танское время и охватывающей события 386–618 гг.; в гл. 83 Суйшу, составленной во второй четверти VII в. и охватывающей события 581–618 гг.; в гл. 221 Таншу (Бичурин, 1950, т. II, с. 274, 277–278, 321; Chavannes, 1903), а также записки китайских путешественников-паломников, и в первую очередь Сюань Цзяна (около 633–645 гг.), его биография (Beal, 1906) и описание Тохаристана, составленное побывавшим здесь в 726 г. другим паломником — Хой Чао (Fuchs, 1938; ср. Ставиский, 1957). Сообщения китайских путешественников более подробны и более достоверны, особенно в тех случаях, когда они пользуются не распространенными сведениями, а собственными наблюдениями. Сведения же династийных хроник (особенно Бейши и Суйшу) основаны на случайной и нерегулярно поступавшей в III–VI вв. информации о Западном крае. «Со времени Юаньвэй (386–555 гг.), — признается Ли Янынеу, составитель Бейши, — никто не составлял записок; записывали одни названия приезжающих к Северному Двору, а описывать народные обычаи не могли» (Бичурин, 1950, т. II, с. 243). Вэйчжен, составитель Суйшу (умер в 643 г.), жалуется читателю: «При династиях Юаньвэй (386–555 гг.) и Цзинь (265–420 гг.) владения в Западном крае поглощали друг друга так, что невозможно представить их в ясном порядке» (там же, с. 277). В арабо-персидской исторической и географической традиции название «Тохаристан» зафиксировано в узком значении (область от Амударьи на севере и до предгорий Гиндукуша на юге, между Балхом и Бадахшаном, — Первый, или Нижний, Тохаристан) и в широком (области по обоим берегам Амударьи, тяготевшие к Балху), что полностью совпадает с границами «страны Тухоло» у китайских авторов (Бартольд, 1963, с. 116, 118; 1971, с. 47 и сл.). Кратковременная сасанидская оккупация сравнительно узкой полосы в правобережье Амударьи (включая Термез) во второй половине IV — начале V в. устанавливается главным образом по нумизматическим данным. В 40-60-е годы V в. идет напряженная борьба между Сасанидами, кидаритами и эфталитами за господство в Кушаншахре (бывших владениях кушанских царей), видимо, как к югу от Амударьи, где находился основной театр военных действий, так и к северу от нее (Маршак, 1971). С последней четверти V в. в Тохаристане устанавливается господство эфталитов. Их обширное и могущественное государство просуществовало до 60-80-х годов VI в. Но Тохаристан они контролировали до конца 80-х — начала 90-х годов VI в. В 90-е годы VI в. и в первой четверти VII в. власть в Тохаристане постепенно переходит к тюркским правителям. При кагане Туншеху (618–630 гг.) Тохаристаном с титулом джабгуя-ябгу правит его сын Тарду-шаду. Уже к 30-м годам VII в. тюркские правители стоят и во главе некоторых удельных владений этой области (Beal, 1906, Vol. I, p. 39–40). Подробные сведения об исторической географии Северного Тохаристана и о владениях, входивших в его состав, имеются лишь со второй четверти VII в. Большинство владений, которые упоминаются для территории Северного Тохаристана в китайских и арабо-персидских источниках, надежно соотнесены с реальной географией, но отождествлять города в этих владениях с конкретными археологическими памятниками удается не всегда. Страна Тами, которая простирается на «600 ли с востока на запад и на 400 ли или около этого с севера на юг», соответствует Термезу, его округе и долине Сурхандарьи в нижнем ее течении. Столичный город (около 20 ли в окружности, вытянут с востока на запад), скорее всего, городище Старого Термеза (или какая-то его часть), а десять буддийских монастырей-сангхарама, о которых упоминает Сюань Цзян, — это, видимо, Каратепе, где теперь выявлено строительство в VI или в начале VII в. некоторых пещерных и наземных монастырей кушанского времени (в конце IV или в начале V в. они пришли в запустение и использовались как место для захоронений). Владение Чиояньна (Чаганиан арабо-персидских авторов) занимало среднее и верхнее течение Сурхандарьи, а его столицу отождествляют с городищем Будрач, расположенным в 6 км от Денау (Пугаченкова, 1963, с. 49 и сл.). К востоку от Чаганиана (в западной части Гиссарской долины) находилось владение Холумо, имеющее протяженность «около 100 ли с востока на запад и 300 ли с севера на юг» и соответствующее Ахаруну арабо-персидских авторов. Если принять отождествление столицы Холумо-Ахаруна с городищем Узбеконтепе, которое расположено в 3 км от Пахтаабада в Регарском районе, неподалеку от слияния Каратагдарьи и Ширкентдарьи, и имеет мощный раннесредневековый слой, то столица лежащего к востоку от Ахаруна владения Шумань-Шуман должна соответствовать или Гиссарской крепости (что более вероятно), или Душанбинскому городищу (Зеймаль Е., 1961, с. 135–136). Далее у Сюань Цзяна перечислены владения Цзюйхэяньна-Кобадиан. Одно из них расположено к юго-западу от Шумана, в долине нижнего течения р. Кафирниган; другое — Уша-Вахш, к востоку от Цзюйхэяньна, т. е. в левобережье Вахшской долины, к югу от Калининабада. Его столица, имевшая в окружности 16 ли; видимо, соответствует городищу Кафыркала на окраине г. Колхозабада (Зеймаль, 1969, с. 10–11; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 120). Владение Кэдоло-Хутталь, расположенное далее на восток до гор Цунлин — Памир, одно из самых крупных в Северном Тохаристане («примерно 1000 ли с востока на запад и столько же с севера на юг»), полностью или частично включает на современной карте Кулябскую область, а владение Цзюймито-Кумед («2000 ли с востока на запад и примерно 200 ли с севера на юг») располагалось где-то в области Каратегина, Дарваза и Ванча (Гафуров, 1972, с. 227). Кроме этих восьми владений из 27, входивших в состав всего Тохаристана, возможно, с Северным Тохаристаном частично было связано и владение Олин-Хульм (Архен средневековых авторов), располагавшееся к северу и к югу от р. Пяндж. Владение Полихо-Пархар помещали и к югу от Пянджа, в районе Кокчи (Beal, 1906, Vol. I, p. 42), и к северу, в низовьях р. Кзылсу (Беленицкий, 1950а, с. 110; Гафуров, 1972, с. 227). Владения Шицини-Шугнан, Бодочуанна-Бадахшан и Дамоситеди-Вахан располагались на территории Памира. К югу от Амударьи и Пянджа располагались владения Бохо-Балх, Фоцзялан-Баглан и др.Ирригационные системы и их динамика.
Природные условия Северного Тохаристана благоприятные для всех видов скотоводства и для богарного и поливного земледелия. Остатки ирригационных сооружений археологически прослеживаются практически во всех владениях-уделах Северного Тохаристана. Необходимо отметить, что к раннесредневековому периоду происходит заметное сокращение орошаемых площадей по сравнению с кушанским периодом. Перестают функционировать ирригационные сооружения в долинах правых притоков Сурхандарьи, в Яванской долине перестает использоваться часть каналов в Кобадиане, значительно сокращается площадь обводненных земель в Гиссарской долине. Но, несмотря на суммарное уменьшение доли ирригационной сети, в VI–VIII вв. сооружаются новые каналы, в том числе и большой протяженности. Возникает предположение, что в раннесредневековом Северном Тохаристане изменяется соотношение между двумя основными видами хозяйственной деятельности — земледелием и скотоводством. Правда, археологические материалы позволяют нам с уверенностью наблюдать только одну сторону этого процесса — сокращение ирригационной сети, но, возможно, расширение площадей под пастбища (за счет ранее орошавшихся полей) связано с появлением здесь сперва эфталитов, затем тюрок. В Северном Тохаристане существовали разные типы ирригационных систем: от каналов небольшой протяженности и веерных систем, выведенных из небольших горных речек, до крупных магистральных каналов, длиной до 100 км и более, с разветвленной сетью отводов (канал Кафыр в Вахшской долине, канал Занг в правобережье Сурхандарьи и др.). Большинство ирригационных систем, действовавших здесь на протяжении раннего средневековья, уже существовали к V–VI вв. В западной части Северного Тохаристана, между горами Кугитанг на западе и массивом Бабатан на востоке, существовало несколько ирригационных систем, для изучения которых много сделали Б.Н. Кастальский, Д.Д. Букинич, Л.И. Альбаум (Кастальский, 1930; Букинич, 1940, 1945; Альбаум, 1955, 1965), Наиболее крупная система — магистральный канал Занг с отходящими от него большими отводными ветками, который, как полагал Л.И. Альбаум (Альбаум, 1965, с. 88), был построен в последние века до н. э., но функционировал и на протяжении V–VIII вв. (там же, с. 135–136). Шерабадская ирригационная система, существовавшая уже в эпоху поздней бронзы, состояла из серии каналов, выведенных непосредственно из Шерабаддарьи, и имела сравнительно небольшую протяженность. Продолжал действовать и древний канал, выведенный из Сурхандарьи примерно в 10 км от Термеза (Букинич, 1945, с. 191–194) или в районе Джаркургана (Кастальский, 1930, с. 16). В среднем течении Сурхандарьи, в треугольнике между Сурхандарьей, Санггардакдарьей и Тентаксаем, Т.Д. Аннаев выделяет среднесурханский ирригационный район, где расположены такие крупные города, как Будрач и Дальверзинтепе. Остатки каналов и их трассы остаются здесь невыявленными (Аннаев, 1984, с. 4). Ирригационные сооружения существовали по рекам Тупалангдарья, Обизарант и в левобережье нижнего течения Сурхандарьи (Альбаум, 1962; Ртвеладзе, 1976, с. 93–100). В Гиссарской долине орошенной в раннесредневековый период оставалась самая западная ее часть, правобережье Каратагдарьи, где в качестве магистрального канала использовалась р. Ширкентдарья (не исключено, что ее русло в долинной части — это трасса древнего канала, превратившаяся в реку почти за две тысячи лет функционирования), проходившая в самой северной части долины в направлении восток-запад и подводившая воду к городищу (Узбеконтепе и его округе с помощью нескольких отводов (Балагардансай, Мавляносай и др.) (Зеймаль, 1961, с. 127). Об остальных ирригационных системах Гиссарской долины в V–VIII вв. можно судить только по расположению там раннесредневековых городищ и поселений. В междуречье Каратагдарьи и Ханакадарьи их нет, в левобережье Ханакадарьи они немногочисленны, а в долине Варзобдарьи (Дюшамбинки) сосредоточены главным образом в южной части, в районе ее слияния с Кафирниганом. В предгорьях Гиссарской долины раннесредневековых памятников больше, чем в собственно долине. В среднем течении р. Кафирниган даже значительные городища (Гиссарская крепость, городище Кафирниганкала), видимо, получали воду с помощью сравнительно небольших по протяженности каналов, выведенных непосредственно из реки. В Кобадиане (долина нижнего течения р. Кафирниган) несомненные остатки раннесредневековой ирригационной системы сохранились в правобережье, а в левобережье, вероятно, продолжал действовать, хотя и не в полную мощность, магистральный канал Нахри Калон. Более подробно исследованы раннесредневековые каналы Вахшской долины (Зеймаль Т., 1969, 1971). В северной и западной частях долины (до городища Лагман-Золи Зард близ Узуна) продолжал функционировать сооруженный в древности магистральный канал Джуйбар с отводами (Каунтепинский, Заргарский, Таштепинский и др.), первоначально подводивший воду и к окрестностям городища Кафыркала в Колхозабаде. Затем, видимо в VII в., в восточной части левобережной долины Вахша, вдоль подножия Акгазинского плато, был проложен большой магистральный канал Кафыр, головной участок которого находился в 2,5 км ниже по течению от Калининабада (валы высотой до 3 м, расстояние между их гребнями 6–7,5 м). По трассе канала Кафыр было расположено несколько групп поселений. Центром самой северной из них, примерно в 7 км вниз от начала канала, было городище Чоргультепе, а всего в этой группе не менее пятнадцати поселений и усадеб. В эту группу входил и буддийский монастырь Аджинатепе. Следующая группа поселений вниз по трассе Кафыра располагалась близ современного поселка Октябрьск; центральное место в ней занимало большое и высокое тепе с крутыми склонами (остатки за́мка), а вокруг него веером, на разных расстояниях, разбросаны укрепленные и неукрепленные усадьбы, отдельные дома (всего около 20 тепе). На участке канала Кафыр между Акгазинским плато и Кзылтумшукской горловиной находилась третья группа поселений, наиболее крупными памятниками в которой были городище Кафыртепе (около 9 га) и неукрепленное поселение Кухнашахр (около 10 га) с расположенным на нем за́мком. Далее трасса канала Кафыр поворачивала (за северной оконечностью гор Кзыл-Тумшук) на юг и разделялась на несколько ответвлений, одно из которых подходило к городищу Кафыркала — столице владения Уша-Вахш. Видимо, с сооружением канала Кафыр это городище перестало получать воду из Джуйбарской системы. Трасса магистрального канала Кафыр была прослежена на протяжении около 100 км, но его реальная протяженность в VII–VIII вв. была еще больше (Гаевский, 1924, с. 28). Сложная и разветвленная ирригационная система функционировала в VI–VIII вв. в Сарайкомарской котловине. Здесь несколько веток в направлении с востока на запад пересекали долину (ее протяженность более 40 км), а наиболее крупный памятник, к которому подводила воду эта система, — городище Файзабадкала находилось в западной оконечности котловины. Ирригационные сооружения раннесредневекового периода в низовьях р. Кзылсу (Пархар) и в других долинах Кулябской области (владение Хутталь) исследованы лишь рекогносцировочно. В долине р. Кзылсу действовал сооруженный еще в кушанскую эпоху канал Зульм, частично совпадающий с действующим здесь и сегодня магистральным каналом. Вдоль его трассы расположены поселения и городища, имеющие, судя по подъемному материалу, раннесредневековые слои.Городища и поселения.
Общее число раннесредневековых поселений разных размеров, зарегистрированных в Северном Тохаристане, превышает 250, включая и памятники, на которых наряду с раннесредневековыми есть более ранние и (или) более поздние слои. Если принимать во внимание не только формально-типологические, но и функциональные признаки, можно выделить семь основных групп северотохаристанских археологических памятников (Ртвеладзе, 1977, с. 90–91; 1982, с. 104–106). Первая группа. Города — крупные поселения, обнесенные оборонительными стенами и имеющие укрепленную цитадель, жилую квартальную застройку и ремесленное производство. Это в первую очередь столицы владений-уделов: городище Старого Термеза — Будрач, площадь внутри стен 50–60 га (табл. 84, 1) (Пугаченкова, 1963, с. 49 и сл.); Узбеконтепе (длина около 500 м, ширина от 200 до 250 м) — предполагаемая столица владения Ахарун (Зеймаль, 1961, с. 135–136); Гиссарская крепость и Душанбинское городище — «претенденты» на отождествление со столицей владения Шуман; городище Кафыркала (табл. 87, 1, 2) на окраине г. Колхозабада (360×360 м) — столица владения Вахш (Зеймаль, 1969, с. 10; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 120). Городище Кафирниганкала в среднем течении р. Кафирниган и другие городища следует рассматривать как остатки административных центров более низкого ранга. Всего в Северном Тохаристане выявлено более 30 таких городов, в непосредственной близости от которых на площади в несколько квадратных километров располагались, как правило, предместья (или пригороды), фиксируемые как скопление больших и малых тепе, например, находящиеся вокруг городища Будрач памятники — Каракезтепе (40×30 м), Культепе (50×50 м), Чаганактепе (90×80 м) и целый ряд безымянных тепе (Ртвеладзе, 1982, с. 104). Они тяготели к округе города, что связано с возможностью укрыться за его стенами в случае военной опасности; но это не торгово-ремесленные предместья, из которых в дальнейшем могли бы вырасти рабады (Литвинский, Соловьев, 1985, с. 122–123). Вторая группа. Крепости, обнесенные оборонительными стенами (с цитаделью или без нее), предназначенные в первую очередь для небольшого гарнизона и, как правило, не имеющие обычной жилой застройки. Расположение таких крепостей связано с ключевыми в стратегическом отношении пунктами, например, крепость Нижний Уртабоз контролировала и южные ответвления каналов Джуйбарской системы, и важную для магистрального канала Кафыр Кзылтумшукскую горловину. Другой пример — крепость Утенкала (200×200 м) близ Джиликуля. Третья группа. За́мки — хорошо укрепленные отдельно стоящие здания (как правило, на высоком стилобате-платформе) с парадными, жилыми и хозяйственными помещениями, иногда с укрепленным дворищем; их размеры от 80×80 до 20×20 м. И функционально и конструктивно такой за́мок очень близок к цитадели, видимо (как и в Согде), генетически предшествует ей. Отдельно стоящие за́мки (табл. 87, 5, 6) лучше исследованы в долине Сурхандарьи (Альбаум, 1960; Нильсен, 1966, с. 140–163; Аннаев, 1984, с. 5–6): Джумалактепе (30×30 м), Балалыктепе (30×30 м), Зангтепе (60×60 м), Куевкурган (18×20 м). Остатки более крупных за́мков отмечены в Чаганиане Э.В. Ртвеладзе (Ртвеладзе, 1982, с. 105): Бульбультепе (80×80 м), Сары-Мазар (45×45 м) и Коайтытепе (72×72 м). В Южном Таджикистане за́мки встречаются реже и не раскапывались полностью: Заргартепе (70×70 м), безымянное тепе в Октябрьске (110×90 м), Шортепе (70×70 м). Четвертая группа. Укрепленные усадьбы — система жилых и хозяйственных помещений (иногда с дворищем), защищенных оборонительными сооружениями (Ртвеладзе, 1982, с. 105). В Вахшской долине — Таштепе (48×45 м) и Каунтепе (150×150 м с дворищем), в долине Сурхандарьи — Игризтепе (100×60 м). Пятая группа. Неукрепленные поселения — жилые и хозяйственные постройки, сконцентрированные на одной площади, но без упорядоченной планировки и четких границ в рельефе. Иногда занятая ими площадь достигает значительных размеров (до 10 га), в некоторых случаях такие поселения возникают в непосредственной близости от за́мков или укрепленных усадеб (например, Кухна-Шахр на трассе канала Кафыр). Шестая группа. Неукрепленные усадьбы — отдельно стоящие здания, как правило, в непосредственной близости от укрепленного города или за́мка, например, усадьба К6 близ Чоргультепе (55×55 м) и усадьба К7 (50×30 м). Седьмая группа. Здания особого назначения. Их планировка и размеры имеют индивидуальный характер. К ним прежде всего относятся различного рода культовые постройки. Так, буддийский монастырь Аджинатепе представляет собой сложный комплекс сооружений общей площадью 100×50 м, со святилищами и сводчатыми коридорами, залами и купольными кельями (табл. 87, 4). Другой пример — холм Чор-Дингак в Чаганиане — монолитное сооружение (диаметр холма около 15 м, высота 11,5 м), напоминающее буддийские ступы (Ртвеладзе, 1982, с. 106). Индивидуальный облик имеют и светские здания особого (или невыясненного) назначения. Таково здание «Курган» на городище Старого Термеза — с осевым коридором, по сторонам которого расположены однотипные помещения (по пять с каждой стороны). Возведенное не ранее VI в., здание имело оборонительное назначение и являлось казармой, а с конца VIII–IX вв., видимо, использовалось как странноприимный дом при мечети Чор-Сутун. Чоргультепе II на берегу Тентексая (Сурхандарьинская область) и здание у городища Бабатепе в Шерабадском районе, по предположению Э.В. Ртвеладзе, являлись караван-сараями или рабатами (Ртвеладзе, 1982, с. 105; Аршавская и др., 1982, с. 53). Приведенная классификация не охватывает всего многообразия памятников и применима в первую очередь к сооружениям, облик которых не искажен более поздними перестройками и наслоениями.Фортификация.
Остатки оборонительных сооружений городов, крепостей и за́мков Северного Тохаристана исследованы на многих памятниках — Кафыркала близ Колхозабада (Литвинский,Соловьев, 1985, с. 88–95); Нижний Уртабоз (Зеймаль, 1984); Зангтепе (Альбаум, 1965) и др., но, как правило, не выявляют полную картину фортификации каждого из них, позволяя судить лишь об отдельных элементах и приемах. Оборонительные стены толщиной от 3 до 5 м из пахсы с применением сырцового кирпича возводились на пахсовом цоколе, реже на уплотненном грунте. Бойницы (стреловидные или щелевидные для навесного боя) в VI–VII вв. еще делались сквозными (хотя, видимо, не всегда являлись боевыми), во второй половине VII — первой половине VIII в. они становятся ложными. Основное оборонительное значение в VII–VIII вв. приобретают бойницы, устроенные в бруствере. Обычно они не фиксируются археологически, так как верхние части стен, как правило, не сохраняются. Башни в раннесредневековом Северном Тохаристане прямоугольные, помещения внутри угловых башен к VII–VIII вв. уже имеют не боевое, а вспомогательное значение (например, для пандусного подъема на боевую площадку), а промежуточные башни становятся монолитными, без помещений внутри. Галереи вдоль стен, как и бойницы в стенах, перестают быть боевыми и превращаются в обходные коридоры, а иногда в складские и хозяйственные помещения. Арочные ниши в стенах (Кафыркала и др.), некогда служившие для повышения маневренности прицела стрелков, сохраняются как «рудимент». Ремонтно-строительные работы на оборонительных сооружениях VII в., выявляемые раскопками, часто связаны с закладкой бойниц или превращением их в ложные, а также с утолщением оборонительных стен: к основной стене пристраивались дополнительные кладки, закрывавшие бойницы в основной стене, что было вызвано стремлением увеличить толщину оборонительных стен. Вероятнее всего, эти противотаранные мероприятия были вызваны применением арабами стенобойных устройств — манджаник (Беленицкий, Маршак, 1978). Важную роль в системе оборонительных сооружений играли рвы, окружавшие весь город (Кафыркала) или только цитадель (Узбеконтепе, Кафирниганкала и др.). Глубокий (около 5 м) и широкий (около 50 м) ров вокруг городища Кафыркала являлся труднопреодолимой преградой для нападающих. Существовали и протейхизмы (Кафыркала), но они имели, скорее всего, противопехотное назначение, так как стали неэффективными с появлением таранных орудий. В VIII в. они окончательно утратили свою роль.Строительная техника и архитектура.
Широкий круг раннесредневековых памятников, детально исследованных в Северном Тохаристане (Аджинатепе, Кафыркала, Кафирниганкала и др.), свидетельствует о существовании в VI–VIII вв. северотохаристанской школы зодчества (Литвинский, Зеймаль, 1971, с. 56; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 49–88, 130–134) со своими планировочными и архитектурно-декоративными принципами, для осуществления которых применялся богатый арсенал конструктивных решений и приемов (арки клинчатые и выложенные из кирпичей, расположенных плашмя к архивольту; перспективно-арочные тромпы; своды клинчатые и выложенные наклонными отрезками, перекрывавшие пролеты до 3,5 м, с использованием как прямоугольного кирпича, так и трапециевидного; сооружение пазушно-разгрузочных сводиков; разные типы сложных купольных перекрытий и т. п.). Специфические отличия архитектуры Северного Тохаристана от архитектуры Согда и других областей Средней Азии отчасти, видимо, объясняются влиянием здесь традиций буддийского зодчества (Литвинский, Зеймаль Т., 1971, с. 43–45), оказавшего впоследствии несомненное влияние и на мусульманскую архитектуру. Еще B.В. Бартольд писал о генетической зависимости планировки мусульманского медресе от буддийского монастыря и указывал, что, вероятно, «родиной медресе были местности по обе стороны Амударьи» (Бартольд, 1964, c. 30). Возможно, тохаристанские буддийские купольные святилища «участвовали» в сложении среднеазиатского центрического мавзолея (Литвинский, Соловьев, 1985, с. 132–134).Оружие.
Практически на всех раннесредневековых памятниках Северного Тохаристана широко представлены наконечники стрел из железа, повторяющие в целом набор, характерный и для остальных среднеазиатских областей в VII–VIII вв. (Литвинский, Соловьев, 1985, с. 101–103): трехлопастные наконечники с треугольным и ромбическим контуром головки (табл. 89, 19–24); трехгранно-пирамидальные и бипирамидальные, четырехгранно-пирамидальные, конусовидные, пулевидные черешковые наконечники с повышенной пробивной способностью (табл. 89, 18); двух- и трехлопастные вильчатые наконечники, видимо применявшиеся при охоте (табл. 89, 13, 17, 25). Несколько железных трехлопастных черешковых наконечников дротиков были найдены в слое середины VIII в. на Аджинатепе (табл. 89, 11, 14). Известны и наконечники копий (табл. 86, 15). Парадным оружием знати были кинжалы (табл. 89, 9), известные по изображениям в живописи (Литвинский, Зеймаль Т., 1971, с. 166–167; Зеймаль Т., 1985, с. 165, 171, 187).Орудия труда.
Археологические находки дают представление о наборе орудий труда и инструментов, использовавшихся в раннесредневековом Северном Тохаристане: ножи однолезвийные, с вогнутым или прямым лезвием, насаживавшиеся на ручку с помощью черешка (табл. 89, 7, 8); ножницы разных размеров (табл. 89, 12); долотовидный инструмент (клиновидный втульчатый, с шириной лезвия 4 см); гвозди, круглые в сечении, со шляпкой (от 3 до 12 см); скобы в виде двух параллельных пластин, скрепленных штырями (табл. 89, 4). К концу VII в. относятся найденные на Аджинатепе мотыга (треугольной конфигурации, со штырем для крепления рукояти, рабочая плоскость слегка изогнута, размер 25×12 см), наконечник лемеха (табл. 89, 1–3) и скоба-обойма (плоская железная пластина с загнутыми по длинной стороне краями, сохранившаяся длина 16 см, ширина 6 см).Керамика.
Опираясь на стратиграфические наблюдения, керамику можно подразделить на несколько хронологических групп. Первая группа — от второй половины IV — первой половины V в. (слой Яван I, горизонты 2, 3; поселение Актепе в Кобадиане; верхний Болдай; верхний слой на городище Зартепе; верхний слой на цитадели Шахринауского городища и др.). Вторая группа — конец V — середина VI в. Куевкурган, средний слой Безымянного городища; верхний слой на цитадели Зартепе, за́мок Амирбобо III и др.). Третья группа — вторая половина VI — первая половина VII в. (Хосиеттепе, Хайрабадтепе, закрытый комплекс в крепости Нижний Уртабоз — замурованная кладовая и часть коридора, слой КФ II на городище Кафыркала и др.). Четвертая группа — вторая половина VII — середина VIII в. (Аджинатепе — основной слой, слой КФ I на городище Кафыркала; Нижний Уртабоз — слой I–II; за́мок Амирбобо — I–II; Кулаглытепе и др.). Керамика второй половины IV — первой половины V в. (так называемый кушано-сасанидский комплекс (Зеймаль Т., Седов, 1979), или «комплекс зартепинского типа» (Археология СССР, 1985, с. 256)) типологически непосредственно продолжает традиции керамического производства кушанского времени, не только сохраняя изящество формы и высокое качество отделки, но и развивая их. Именно в это время появляются новые способы отделки поверхности сосудов: узорчатое лощение по ангобу, резьба, штампы, налепы. На обширной территории наблюдается поразительное единство в репертуаре форм и декоративных приемах. Особенно это проявляется в парадной столовой посуде, усиливается воздействие на керамику металлической посуды. Появляются ранее неизвестные типы посуды, явно подражающие металлическим изделиям: одноручные кувшины, ойнохоевидные сосуды, мелкие кувшинчики с ручками и типа бутылочек, кубки-чаши с ручками и без них. Для керамики приамударьинских районов характерен плотный темно-красный, иногда более светлый или желтоватого оттенка ангоб. Локальные различия проявляются в оттенках ангоба, в предпочтении каким-то определенным модификациям форм, определенным видам налепов-оберегов или узорам лощения. Но эти различия не нарушают общего единства стиля, свидетельствующего о высоком уровне ремесленного производства и явной технологической общности керамического производства по всему Северному Тохаристану. Нет оснований связывать трудности в определении верхней хронологической границы керамических комплексов, относящихся к первому этапу, с нерешенностью проблемы абсолютных дат кушанской хронологии (Археология СССР, 1985, с. 256–257), так как основные датирующие материалы — монеты сасанидских кушаншахов, подражания монетам кушанских царей, штамп на керамике с изображением сасанидского кушаншаха Хормизда не имеют непосредственного отношения к «дате Канишки» (Зеймаль Т., 1975, с. 269; Зеймаль Т., Седов, 1985, с. 139, и др.). Верхнюю дату первого этапа в пределах V в. подтверждают материалы верхнего слоя городища Зартепе (Завьялов, 1979, с. 153; 1984) и уточненная датировка периода запустения на Каратепе и Фаязтепе. Захоронения в развалинах зданий и заброшенных пещерах совершались в конце IV и по крайней мере в начале V в. Об этом свидетельствуют находки в погребениях серебряных подражаний драхмам Пероза и медных монет термезского чекана эфталитского времени. Горизонты 2, 3 в слое Яван I относятся к последним десятилетиям IV и первым десятилетиям V в. Керамические сосуды горизонта 1 (уровень свалки): лепные корчаги с двумя, тремя и четырьмя ручками; хумчи; котлы с шаровидным туловом — с четко выраженным горлом и без него; горшки с горизонтально отогнутым краем и двумя ручками; глубокие миски с округлыми стенками; сосуды баночного типа с ручками и без них; лепные крышки и мелкие сосуды; лепные светильники-чашечки — должны относиться к середине V или второй половине V в. (табл. 94, 40–60). По сравнению с предшествующим периодом в керамике конца V — середины VI в. заметно возрастает количество лепных сосудов (Аннаев, 1984, с. 14) и меняется ассортимент форм: исчезают двуручные кувшины и малые кувшинчики; ойнохоевидные кувшины становятся более приземистыми и менее изящными; становятся грубее и тагора с ручками, исчезает штамп как элемент декора; чаши с перегибом сохраняются, но их внутренняя поверхность и край снаружи украшают полосы лощения петли, «букеты», зигзаги; появляются кружки с вертикальным горлом и с одинарными или двойными петлевидными ручками — форма, явно пришедшая из северо-западных районов (табл. 94, 17). Во второй половине VI — начале VII в. в керамике еще ощутимо наследие кушанских традиций: изготавливаются полусферические чаши с желобками по внешней стороне края; сохраняются чаши с перегибом стенок, но уже без фигурного полосчатого лощения (табл. 94, 20, 23–25); продолжают существовать кувшины с изогнутым носиком, становятся более крупногабаритными кувшины со сливом; исчезает тагора с орнаментированным отогнутым краем. В кухонной посуде появляются горшки с вытянутым туловом и ручками, круглодонные лепные миски. С лепными котлами (шаровидное тулово, вертикальное низкое горло) сосуществуют шаровидные котлы, изготовленные на круге; и у тех и у других на плечиках — ручки-подковы, иногда плетеные (табл. 94, 21, 39). Менее многообразны профили венчиков хумов и корчаг: преобладают подквадратные, округлые в сечении профили отогнутых утолщенных закраин (с наружной стороны часто с вдавлениями от пальцев). Видимо, только в начале VII в. появляются высокие светильники-чаши на полой (с рельефными валиками у основания) конической подставке, сосуществующие со светильниками на конической ножке, украшенной прорезным орнаментом в виде стрелы (табл. 94, 11, 53, 54). В керамике второй половины VII — первой половины VIII в. типологические связи с керамикой кушано-сасанидского времени окончательно утрачиваются. Со второй половины VII в. получает распространение так называемый пачкающий ангоб. Он наносился после обжига и был непрочным, легко осыпался. Им покрывались миски на сплошном или кольцевом поддоне с перегибом у края и небольшие узкогорлые кувшинчики, относящиеся к наиболее распространенным формам столовой посуды этого времени. К столовой посуде следует отнести также ойнохоевидные кувшины (табл. 94, 37) и кувшины с грушевидным туловом, узким горлом и удлиненным носиком-сливом (табл. 94, 29, 30). Это явное подражание металлическим сосудам. Водоносные одноручные кувшины, плоская ручка которых изогнута под прямым углом, сходны с согдийскими (табл. 94, 10). Встречаются и крупногабаритные экземпляры более тщательной выделки, со сложным резным узором на плечиках. Кружек становится больше. Наряду с прежней формой, с коротким вертикальным горлом, округлым туловом и петлевидной ручкой, появляется новая, с цилиндро-коническим туловом. Среди кухонной посуды преобладают плоскодонные горшки небольших размеров, с округлым или чуть вытянутым туловом, с плавно отогнутым наружу верхним краем (с защипами или вмятинами) и с маленькими ручками-выступами или гребенчатыми налепами на плечиках. К горшкам близки по форме и качеству изготовления котлы, но они больших размеров, с округлым дном и ручками-скобками. Из такого же грубого теста сформованы миски-тагора с чуть округлыми стенками, одноручные кувшины, сосуды-хумча с двумя ручками, сковороды-жаровни. У всех хумов низкое горло с крутым переходом к плечикам; дно, как правило, плоское, устойчивое. Хумчи меньших размеров повторяют форму хумов. К тарной посуде относятся и корчаги — широкогорлые, с ручками и без них. Светильники стандартной формы и размеров встречаются в большом количестве на буддийских памятниках у статуй, в святилищах, кельях. Они имеют вид неглубокой чашечки с плоским донцем, загнутыми внутрь краями и носиком для фитиля тщательной выделки. Такие же светильники, но попроще, служили для бытовых целей наряду со светильниками на высокой полой конической ножке (табл. 94, 2, 5, 19). Аналогии всем этим формам можно найти в Согде, Фергане и других среднеазиатских областях. Объяснение этому, видимо, следует искать не только в политических, экономических и культурных контактах между разными областями, но и в нарастающей унификации культуры раннесредневековой Средней Азии — процессе, прерванном арабским завоеванием и получившем особенно широкий размах и окончательное завершение только в IX–X вв., уже на совсем иной социально-политической и идеологической основе.Стеклянные сосуды.
Стеклянные изделия встречаются в слоях V–VIII вв., но только для второй половины VII — первой половины VIII в. можно составить представление о распространенных в Северном Тохаристане видах стеклянных сосудов. Преобладающий тип сосудов — флаконы (табл. 98, 58, 60, 62) с шаровидным туловом, узким цилиндрическим горлом; чаще всего встречаются сосуды с вогнутым донцем, реже — с уплощенным, а также с плоским устойчивым поддоном. У крупных экземпляров флаконов узкое горло с отогнутым венчиком. Устойчивая разновидность флаконов — бутылочки с цилиндрическим (реже коническим) туловом и массивным вогнутым донцем (табл. 88, 37–42). Флаконы изготовлялись способом свободного выдувания, стекло прозрачное, бесцветное или зеленоватого оттенка. Бокалы-рюмки представлены сосудами на высоких ножках, с плоским основанием и расширяющимся кверху коническим резервуаром. Чаши неглубокие, большого диаметра (до 22 см), край их часто утолщен и слегка отогнут (табл. 88, 45–48, 54–57). Стенки сосудов украшены рельефным узором, что является признаком выдувания стеклянной массы в форму (табл. 88, 63–68). Но есть также сосуды, украшенные припаянными стеклянными жгутами (табл. 88, 62). На фрагменте одной из чаш встречено украшение в виде тонкого золотого листка, прикрепленного заклепкой к краю (табл. 88, 45).Погребальные памятники.
Исследованные в Северном Тохаристане раннесредневековые захоронения пока не дают связной картины местных идеологических представлений о заупокойном культе. Засвидетельствованы несколько типов погребальных сооружений и большое разнообразие в погребальных обрядах, что отражает не только различия между распространенными в этой области религиями и верованиями, но и, частично, этническую неоднородность населения. В Дальверзинтепе после разрушения буддийского святилища были совершены захоронения предварительно очищенных костей. Кроме того, здесь же обнаружены два трупоположения. Погребенные положены головой на юг. Погребальный инвентарь составляли пять сосудов (Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 92–93). В монастыре Каратепе обнаружено большое количество погребений, совершенных после запустения буддийского комплекса. Это множественные захоронения по 10–13 человек; одиночные погребения умерших, положенных на спину, друг на друга или на пол камеры; сложенные отдельно от других костей черепа. Сопроводительный инвентарь — керамика, украшения, монеты: подражания Васудевы, кушано-сасанидские, эмиссии термезских правителей IV–V вв. н. э. В одном из погребений пещеры № 3 комплекса «В» найдено серебряное подражание Перозу, датирующееся не ранее конца VI в. н. э. (Вайнберг, Раевская, 1982, с. 64–67). Основная масса захоронений, видимо, относится к IV–V вв. н. э., но есть и более поздние — VI в. н. э. После того как храм в Фаязтепе был заброшен, многие его помещения были превращены в склепы. В них совершены захоронения по обряду трупоположения на спине с различной ориентацией. Возле костяков обнаружены скифатные монеты термезского чекана IV–V вв. и серебряная монета Пероза (Альбаум, 1979, с. 22). В восточное и южное «колена» коридора заброшенного здания поселения кушанского времени Актепе II впущены двухчастные погребальные ямы «лопатообразной формы» с захоронениями предварительно очищенных костей и черепов. Погребенных сопровождали керамические и бронзовые сосуды, украшения, орудия труда, раковины. В погребении 2 обнаружено около ста медных сасанидо-кушанских монет. Поселение относится ко второй половине IV–V в., а погребальные ямы — ко второй половине этого периода (Седов, 1987, с. 44–47). На северо-восточной окраине Старого Термеза в двухэтажном здании, известном под названием «Курган», открыты погребения. Нижний этаж здания подквадратный в плане (24,2×23,3 м), с центральным коридором шириной 2,3 м и расположенными по его обеим сторонам, по пять с каждой стороны, прямоугольными сводчатыми камерами (5,8×2,2×3 м). В помещениях 1,2 под первым полом обнаружены захоронения 32 погребенных, положенных друг на друга в несколько ярусов. На некоторых из них сохранилась одежда из хлопчатобумажной ткани синего, зеленого и красного цвета, а также остатки ковровой и шелковой ткани. В других помещениях находились одиночные трупоположения, а в помещении 1 открыто захоронение костей в хуме. Найдены медные скифатные монеты термезской эмиссии V–VI вв. н. э. и подражания монетам Пероза, определенные Е.В. Зеймалем. Могильник датируется V в. н. э. (возможно, концом IV) — первой половиной VI в. н. э. На городище Дальверзин одиночные захоронения обнаружены в заброшенных помещениях ДТ2, ДТ6 и в топке керамической печи, совершены они по обряду трупоположения. Инвентарь незначителен: при одном костяке в ДТ2 обнаружены два сосуда (кружка с петлевидной ручкой и одноручный сосуд), датируемые V–VII вв. н. э., возможно, V–VI вв. н. э. (Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 92–93). В предгорьях Бабатага на левом берегу Сурхандарьи, напротив городища Будрач, расположен могильник Биттепе. Погребальные склепы вырублены в плотных конгломератах на восточном склоне котловины, на высоте 15–20 м от ее подножия, и расположены в основном в один ряд на расстоянии 4–6 м друг от друга. Раскопаны семь склепов (табл. 86, 3, 4). Часть из них оказались поврежденными (Ртвеладзе, 1986). Каждый склеп включает квадратную (2,4×2,4 м; 3,3×3,3 м), прямоугольную (3,2×1,8 м; 4,9×2,3 м), прямоугольную с нишей (2,7×2,2 м) в задней торцовой стене (2,1×0,7 м) или крестовидную в плане камеру с плоским, сводчатым или полуциркульным потолком высотой 1,3–1,9 м. В камеру ведут узкие (0,6–0,8 м), длинные (1,5–1,7 м) сводчатые коридоры высотой 1–1,2 м. Посредине сторон входного коридора в стенах имеются небольшие нишки, в которых сохранились остатки деревянных плах. Входы заложены сырцовым кирпичом (52×26×10 см) и булыжниками, в одном случае — деревянными щитами. Склепы ориентированы с северо-востока на юго-запад, а входами обращены на юго-запад, на заходящее солнце. В камерах находилось от 10 до 18 погребенных (женщин, мужчин и детей). Детские скелеты, как правило, находились на груди, животе или между бедренных костей женских скелетов. Взрослые погребения обычно лежали на спине вдоль стен склепа друг на друге или валетом. Руки вытянуты вдоль костяка, иногда одна рука согнута в локте и покоится на тазовых костях. В некоторых камерах зафиксированы остатки плетеной камышовой подстилки и кошмы, на которых лежали костяки. Погребальный инвентарь довольно разнообразный. В склепах найдены бусы из сердолика, иногда с содовой инкрустацией, гишера, горного хрусталя, из стекла различного цвета, иногда украшенного полосчатым орнаментом или глазками из голубой египетской пасты (табл. 86, 5-10, 14–16, 33–35); бронзовые амулеты в виде миниатюрных кувшинчиков с проросшим крестом (табл. 86, 22, 23), а также бронзовая подвеска-копоушка в виде стоящего божества, держащего в поднятых руках крупную птицу с распахнутыми крыльями (табл. 86, 26). В склепе 2 обнаружена глиняная головка идольчика со схематичными чертами лица. Во всех склепах найдено много фрагментов хлопчатобумажных и шелковых тканей красного цвета и кусков свиной кожи. Здесь же обнаружено 15 серебряных и медных монет, лежащих во рту погребенных и рядом со скелетами. Это чаганианские подражания монетам Пероза (459–484 гг.) и Хосрова I Ануширвана (531–579 гг.) с надчеканами трех головок по кругу; сасанидские монеты Хосрова I и Хормизда IV (590–628 гг.); уникальная чаганианская монета, на аверсе которой изображены бюсты правителя и правительницы, курсивная, на реверсе вокруг тамги находится бактрийская надпись. Присутствует также согдийская монета Урка-Вартармука (конец VII в.) и монета тюргешей (вторая половина VIII в. н. э.). Дальверзинский некрополь занимает северо-восточный обрез городской стены, где на высоте 2–3 м от ее подошвы, в кладке в три яруса вырублены погребальные склепы. В 1981–1982 гг. Б.А. Тургуновым и С. Болеловым на некрополе вскрыты 17 склепов (Болелов, 1994, с. 70–71). Они состоят из прямоугольной или овальной камеры размером (1,8–2,6) × (0,6–1) м и узкого входного коридора, заложенного до середины прямоугольным сырцовым кирпичом и речной галькой. Перед входом, ориентированным на восток, иногда вырубалась небольшая ниша. В камерах обнаружены одиночные, парные и коллективные погребения. В основном погребенные были положены на спину, в одном случае на бок. В склепе 8 часть костей сложена в нишу, а два черепа лежали вместе у восточной стены камеры. В склепе 10 в разных местах камеры обнаружено семь черепов, остальные кости лежали в беспорядке. Три скелета — два взрослых и один детский — лежали на спине. На полах камер иногда отмечены камышовые подстилки. У многих погребенных во рту монета, иногда она лежит под черепом. В двух случаях вместо монеты под черепом находились золотые браслеты, у одного погребенного во рту найден перстень с бирюзовой вставкой. Кроме монет, в склепах обнаружены бусы из сердолика, стекла, кости и горного хрусталя, медные наконечники, кольца, раковины каури, серьги, браслет из тонкой медной проволоки, железный серп и одна керамическая миска на дисковидном поддоне. Среди монет есть серебряные чаганианские подражания монетам Хосрова I Ануширвана с надчеканами-портретами по кругу и медные чаганианские монеты с бюстами правителя и правительницы. Обе группы монет имели хождение в Чаганиане со второй половины — конца VI в. вплоть до второй половины VIII в. Один брактеат сделан с византийского солида императора Анастазия. Однако для датировки наиболее важны чаганианские монеты, которые и определяют время функционирования некрополя концом VI — первой половиной VIII в. н. э.Погребения в наземных наусах.
На западной окраине городища Шуроб-Курган, в 30 км западнее Термеза, раскопано несколько наусов, расположенных на естественных холмах (Ртвеладзе, 1989, с. 60–67). Один из них представляет собой погребальное прямоугольное наземное сооружение, возведенное на пахсовой платформе высотой 0,8 м и состоит из двух частей — открытого айвана и прямоугольной в плане камеры, ориентированной по оси северо-восток — юго-запад, с входом в северо-восточной части, откуда в склепы ведет невысокий пандус. Пол камеры и айвана выложен прямоугольным сырцовым кирпичом размером 52×26×? 54×26×? см в сочетании с квадратным 25×26×? 26×27×? см; толщина стен 0,8–1,1 м. В юго-восточной части айвана — зольное пятно. В камере находились два погребенных: верхний лежал на спине в вытянутом положении, правая рука вытянута, левая рука согнута в локте и прижата к груди. Этот погребенный был положен поверх помещенного в камеру раньше. При совершении позднего захоронения положение ранее погребенного было нарушено. Один из погребенных лежал на подстилке из грубой ткани, остатки которой прослежены на полу. В заполнении камеры обнаружены фрагменты тонкостенной кушанской керамики и грубой кухонной посуды. Судя по размерам кирпича, наус датируется ранним средневековьем. Это подтверждает найденная в промазке пола айвана медная монета из числа подражаний монетам Пероза, обращавшихся здесь с начала V до второй половины VIII в. н. э. До V в., как полагают исследователи, продолжает функционировать некрополь Тепаишах. Более или менее определенно можно говорить о двух наусах — I и II. Наус I представляет собой обширное прямоугольное сооружение с дверным проемом в северной стене и широкими суфами, тянущимися вдоль стен. Разрозненные человеческие кости и погребальный инвентарь располагаются на суфах и на полу. Наус II представляет собой прямоугольную постройку, возведенную на цоколе. Здание разделено осевым коридором на две части. Вход находился в северо-западной стене. По обе стороны коридора находятся четыре камеры, по две с каждой стороны. Разрозненные кости лежат на полу. В четырех камерах науса обнаружен 51 череп, остальных же костей скелетов значительно меньше. Это заставляет предположить, что в наус доставлялись лишь черепа и отдельные кости скелетов. Камеры по мере заполнения закладывались. После того как были заложены все камеры, костями завалили коридор. В наусах, помимо многочисленных украшений и керамических сосудов, найдены терракотовая статуэтка-образок, изображавшая Авалакитешвару (сооружение I), и алебастровый идол в сооружении II (Литвинский, Седов, 1983, с. 41–45) (табл. 86, 65). Могильник в Каратепе расположен в 1 км к северо-востоку от цитадели городища, находящегося на окраине одноименного кишлака в Шурчинском районе. Здесь найден своеобразный керамический саркофаг в форме полого цилиндра. Сохранившаяся длина 155 см (истинная около 2 м), диаметр по центру 48 см, толщина стенок 1,5–2 см. В середине сбоку имеется овальный вырез, по краям которого расположено с каждой стороны по пять небольших дырочек. Вырез закрывался крышкой, по ее краям проколоты отверстия, совпадающие с таковыми на самом саркофаге; видимо, через них продевался шнур, закрепляющий крышку. На противоположных ее концах две грибовидные ручки. В саркофаге находился женский скелет в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. На погребенной обнаружено 17 бус из хрусталя, лазурита, сердолика, стекла, бронзы, пасты, а также три бронзовые подвески, аналогичные найденным в Биттепе. В 500 м к юго-западу от городища Дальверзинтепе Л.И. Альбаум обнаружил керамические фрагменты с гладкими неорнаментированными стенками, понятые им как обломки оссуариев (Альбаум, 1966, с. 63). Последующие обследования показали, что и здесь находились саркофаги, идентичные каратепинскому. Вообще находки оссуариев в Северном Тохаристане чрезвычайно редки: в Дангаре (Смоличев, 1952), в могильнике близ Гиссарской крепости (Абдуллаев А., 1975, с. 49), найден круглый оссуарий в виде здания. В южной крепостной стене Дальверзинтепе Л.И. Альбаум открыл захоронения в хумах. При погребенных найдены монеты. Среди них есть чаганианские VII — первой половины VIII в. н. э. Погребения в хумах обнаружены также на территории Колхозабада (Соловьев, 1979, с. 68). Грунтовые могильники раннесредневекового периода изучены хуже: они не имеют намогильных сооружений. Один из таких могильников — на адырной гряде близ Гиссарской крепости (Абдуллаев, 1975; Литвинский, Седов, 1984, с. 96–99) — содержал могилы с трупоположением на спине, с сопровождающим инвентарем и монетами: подражание драхме Пероза с бактрийской легендой в надчекане и подражание драхме Хосрова I (Зеймаль, 1985, с. 255, № 645; с. 256, № 650). Но в этом же могильнике отмечено погребение с костяком в позе всадника (без инвентаря), погребение с захоронением (одно, видимо, впускное) и детское погребение с оссуарием(?). Немногочисленные раннесредневековые погребения были, видимо, и в расположенном по соседству могильнике Тупхона. Несколько иной грунтовой могильник (или остатки разрушенного пещерного склепа?) был обнаружен в юго-восточной части Пянджского района, на склоне возвышенности близ Джулсая (Литвинский, Седов, 1984, с. 101–102). Здесь расчищены остатки трех разрушенных погребений. По инвентарю и монетам (две драхмы сасанидского царя Пероза) Б.А. Литвинский датировал эти погребения VI–VII вв. Еще одна разновидность грунтового могильника исследовалась В.С. Соловьевым в верховьях Каратагдарьи (Гиссарский хребет). К числу грунтовых могильников следует отнести и захоронения VI–VII вв. на уже заброшенном городище Дальверзинтепе, стены которого, по словам Л.И. Альбаума (Альбаум, 1966, с. 63), использовались как кладбище. Ранее, во второй половине IV–V в., совершались одиночные захоронения в заброшенных зданиях городища (Альбаум, 1966, с. 63; Пугаченкова, Ртвеладзе, 1978, с. 73–74, 181). В Гиссаре на открытой возвышенности Бабатага Б.А. Литвинским и А.А. Абдуллаевым вскрыты погребения в грунтовых ямах. Погребенные положены на спину в позе всадника, головой на северо-восток. Имеется коллективное захоронение в подпрямоугольной яме. Открыто погребальное сооружение в виде неправильного овала; в двух ямах — эллипсоидные углубления, заполненные золой, кусками древесного угля и обожженными кусками глины, перенесенными сюда, судя по отсутствию следов огня на стенах ямы, из другого места. Погребальный инвентарь весьма скудный, во рту одного из погребенных найдена монета, отнесенная Е.В. Зеймалем к VI в. н. э., другая монета — подражание монете Евкратида. Грунтовые могильники в раннесредневековый период остаются для местного населения традиционным типом захоронения. Таким образом, для IV–VI вв. характерно бытование традиционных для Северного Тохаристана способов захоронения — трупоположения и погребения предварительно очищенных костей. Сохраняется обычай помещения в погребение разнообразного инвентаря, в ряде случаев, как в погребальных ямах Актепе II, весьма обильного, иногда среднего уровня (Каратепе, Фаязтепе) или очень скромного (Дальверзинтепе). Не исключено, что такая дифференциация связана с социальным рангом погребенных лиц, а не с этническими и культовыми изменениями. Кое-где сохранялся обычай помещения в могилу монет. Для этого времени характерно отсутствие специально отведенных участков в городе или поселении для некрополей и специальных архитектурно оформленных наземных погребальных сооружений. Для погребений используются заброшенные жилые дома, храмы и даже керамические печи. Подобные тенденции наметились уже в позднекушанское время, когда погребения устраивались или в заброшенных оборонительных стенах (Кампыртепе), или в зданиях покинутого города (Кухнакала). На наш взгляд, это очевидный показатель того, что данные явления в погребальном обряде рождены в первую очередь внутриобщественными переменами, а не только результат воздействия внешних факторов. Второе обстоятельство лишь усугубило процесс, выразившийся в отсутствии некрополей Северного Тохаристана, что, вероятно, стоит в одном ряду с общими явлениями значительного упадка многих областей материальной культуры в Средней Азии в период становления феодализма. Однако весьма существенно, что эти изменения коснулись главным образом тех сторон погребального обряда, которые требуют затрат труда большого коллектива людей и средств (возведение погребальных зданий), или наличия социально крепкого сообщества (устройство специальных некрополей в соответствии с общей регламентацией городского благоустройства). Эти изменения не коснулись культовой и совершенно очевидной генетической преемственности. По всей вероятности, ранние некрополи принадлежат коренному бактрийскому населению пришедших в упадок древних городов и поселений Северного Тохаристана. В этом отношении исключительно важны исследованные Т.К. Ходжайовым серии черепов из могильников Дальверзинтепе и Старого Термеза (Курган) IV–V вв. н. э. Этот автор пришел к выводу, что обе серии принадлежали европеоидному населению восточносредиземноморского типа или переходного к типу среднеазиатского междуречья, генетически связанных с населением этих городов кушанского времени (Ходжайов, 1980, с. 137–138). Вероятно, в V в. н. э. уже начинают появляться специально возведенные погребальные сооружения. К ним относится погребальное здание «Курган» в Старом Термезе, но примечательно, что оно следует архитектурным традициям аналогичного типа построек, в частности Дальверзинского науса. Погребальные сооружения последующего времени отличаются достаточным разнообразием: однокамерные склепы, выбитые в скальных грунтах (Биттепе) или в старых крепостных стенах (Дальверзинтепе), наземные одиночные (Шуроб-Курган) и многокамерные («Курган») наусы, керамические саркофаги (Каратепе), грунтовые могильники (Джулусай), курганные могильники (Ляхш II, Байтудашт). Они имеют много общего с погребальными сооружениями предшествующего времени. Так, раннесредневековые склепы Дальверзинтепе и Виттепе продолжают архитектурные традиции кушанского времени. Отличия заключаются в большем разнообразии архитектурно-планировочных композиций. Продолжают сохраняться многокамерные и двухкамерные наусы («Курган», Шуроб-Курган), свойственные Северной Бактрии в кушанское время (Тепаишах, Ялангтуштепе). Можно отметить и общность в строительном материале, приемах кладки стен и сводов и в других элементах строительной техники. Особняком стоят своеобразные керамические саркофаги, зафиксированные в нескольких пунктах Северного Тохаристана (Литвинский, Седов, 1984, с. 138–140). В целом типы погребальных сооружений, существовавших в Северном Тохаристане в раннем средневековье, продолжают развивать традиционную для этой области погребальную архитектуру. Это в какой-то мере свидетельствует об устойчивости здесь погребальной обрядности, подтверждаемой, в частности, почти полным отсутствием, как и прежде, оссуариев, которые в раннем средневековье широко распространяются почти по всей Средней Азии, охватывая, помимо древних областей их бытования — Хорезма и Маргианы, также Согд, Уструшану, Чач и Семиречье. В этом, как нам представляется, одно из главных отличий тохаристанского погребального обряда от погребального обряда центральных областей Средней Азии, в основе которого лежат, возможно, более принципиальные различия в культовых воззрениях. Второе отличие состоит в слабом распространении в Северном Тохаристане способа захоронения, связанного с предварительным выставлением трупов, которое почти повсеместно заменяет трупоположение на спине, что, вероятнее всего, было вызвано какими-то культовыми причинами.Культовые сооружения.
Памятники культового характера, раскапывавшиеся в Северном Тохаристане, целиком подтверждают сведения письменных источников о широком распространении здесь буддизма. Однако нет оснований считать, что в правобережье Амударьи господство буддизма, начиная от его расцвета в кушанскую эпоху и до арабского завоевания страны в VIII в., было непрерывным и безраздельным. В конце IV — начале VI в. все буддийские монастыри, построенные и функционировавшие в кушанское время (Каратепе, Фаязтепе, Уштурмулло и др.), были заброшены, частично разрушены и использовались местными жителями для захоронений. Сейчас выявлены восстановительные работы на этих памятниках, производившиеся, видимо, уже в VI в.: в комплексе Уштурмулло, на берегу Амударьи в Шаартузском районе Таджикистана, неподалеку от Тепаишах (Зеймаль Т., 1987), была восстановлена (а по существу, возведена заново и частично реконструирована) главная ступа, а сам монастырь остался лежать в развалинах; на Фаязтепе была отремонтирована и превращена в крестовидную одна из ступ; на Каратепе возведено небольшое святилище, заново украшенное скульптурой. Разрушение буддийских сооружений в Северном Тохаристане во второй половине IV в. можно связывать с военно-политическими причинами (оккупация правобережья Амударьи сасанидскими наместниками в Кушаншахре). Их частичное восстановление в VI в. косвенно отражает изменение политической ситуации: уже не существовало официального запрета на буддизм и активной ему оппозиции. К VII — началу VIII в. относится сооружение в Северном Тохаристане целого ряда буддийских храмов и монастырей: Аджинатепе (табл. 87, 4), состоявшего из собственно монастырской и храмовой половин и расположенного в непосредственной близости от городища Чоргультепе (Литвинский, Зеймаль Т., 1971, 1973; Зеймаль Т., 1980, и др.); храма (табл. 87, 3) на городище Калаи Кафирниган (Литвинский, 1981, 1983; Litvinskij, 1981); купольной часовни на цитадели городища Кафыркала (Литвинский, Денисов, 1973; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 22–23). О врастании буддизма в социальную жизнь Северного Тохаристана свидетельствуют и находки буддийских текстов в городах и за́мках. Около 50 фрагментов рукописи на бересте письмом брахми было найдено на городище Кафыркала (Литвинский, Соловьев, 1985, с. 143), остатки не менее 12 санскритских рукописей буддийского содержания обнаружены при раскопках Зангтепе (Альбаум, 1963, с. 58–61; 1964, с. 73–83; Воробьева-Десятовская, 1963, с. 93–97, рис. 1, 2; 1983, с. 65–69; Бонгард-Левин и др., 1965, с. 154). Культовых сооружений, связанных с какими-то местными разновидностями зороастризма или иными системами религиозных представлений, пока для раннесредневекового периода в Северном Тохаристане не выявлено. Судя по отдельным находкам культовых предметов, таких, как металлические ложки особой формы, киафы и курильницы в погребальных ямах на Актепе II (Седов, 1987, с. 62–64), круглый оссуарий из окрестностей Гиссарской крепости, изображающий здание храма в Тохаристане, который был оплотом «иранского буддизма» (Бартольд, 1971, с. 469–471), зороастрийские верования продолжали сохраняться, а в конце IV — начале V в., когда буддийские памятники были заброшены, возможно, и господствовали.Памятники искусства.
Художественная культура Северного Тохаристана в V–VIII вв. — явление сложное и многожанровое, тесно связанное с искусством тохаристанских владений, лежавших к югу от Амударьи (Кругликова, 1974, 1979). Пока мы не располагаем памятниками северотохаристанского монументального искусства V в. Датировка V в. живописи и скульптуры Куевкургана (Массон В., 1978, с. 531; Аннаев, 1978, 1984) остается предположительной и нуждается в дополнительном обосновании, особенно если возведение здания на Куевкургане датировать концом V — началом VI в. (Аннаев, 1984, с. 9). Основной памятник, по которому известна светская живопись Северного Тохаристана, — Балалыктепе (Альбаум, 1960), где была открыта сцена пиршества (табл. 91, 2–5), первоначальная датировка которой V в. теперь пересмотрена, а настенная роспись отнесена к VI–VII вв. (Беленицкий, Маршак, 1976, с. 6; 1979, с. 35; Маршак, 1983, с. 53). Наиболее полное представление о буддийской живописи Северного Тохаристана дают Аджинатепе (Литвинский, Зеймаль Т., 1971; Зеймаль Т., 1985, с. 165, 170, 186–187) и Калаи Кафирниган (Литвинский, 1981; Зеймаль Т., 1985, с. 171, 188), а также Кафыркала (Литвинский, Денисов, 1973; Соловьев, 1976; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 140). Видимо, живопись на перечисленных памятниках следует датировать в пределах второй половины VII в. На Аджинатепе живопись покрывала стены и своды многих помещений, постаменты в святилищах. Своды коридоров были заняты тысячами изображений сидящих будд: каждый в особом медальоне, окруженный двуцветной мандорлой, в обрамлении побегов-стеблей с пятилепестковыми белыми цветами; все — сидящие в позе падмасана; жесты рук и поворот головы у соседствующих фигур различаются; различны также покрой одежды, ее цвет, окраска нимбов вокруг головы и цвет фона внутри мандорл (Зеймаль Т., 1985, с. 170). На стенах были представлены различные сцены жизни и деятельности Будды: проповеди, подношения даров и т. п. Присутствуют в росписях (табл. 92, 1–8) и светские персонажи — представители тохаристанской знати (Зеймаль Т., 1985, с. 165, 171). Поскольку имел место несомненный перерыв в распространении буддизма в Северном Тохаристане, приходящийся на конец IV — начало VI в., неправомерно возводить памятники живописи VII — начала VIII в. непосредственно к образцам северотохаристанской буддийской живописи кушанского времени и предполагать существование в Северном Тохаристане непрерывной традиции и своей буддийской живописной школы. Видимо, живописное убранство Аджинатепе, Калаи Кафирниган, Кафыркалы и др. выполнялось «бродячими» буддийскими художниками, приходившими из-за Амударьи — из тохаристанских владений в Северном Афганистане или из областей, расположенных еще далее на юг. К такому же заключению приводит и рассмотрение глиняной скульптуры на буддийских памятниках Северного Тохаристана (Литвинский, Зеймаль, 1971; Литвинский, 1981; Зеймаль Т., 1985, с. 164–188). Не вполне ясно, имела ли буддийский характер скульптура Куевкургана, для датировки которой (как и живописи) ранее VI в., видимо, нет убедительных оснований (Массон В., 1978, с. 531; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 140). Буддийские ваятели, работавшие в Северном Тохаристане, в совершенстве владели как техническими приемами (от использования нескольких видов теста скульптурной массы до широкого применения набора штампов-форм), так и художественными (от сложных многофигурных композиций до раскраски статуй), создавая отдельно стоящие статуи и горельефные сцены (табл. 93, 1-12) из разномасштабных фигур; фигура лежащего Будды в нирване превышала 12 м в длину, размер ступни 1,9 м (Зеймаль Т., 1985, с. 181). В художественномубранстве северотохаристанских зданий важное место занимала резьба по дереву, наиболее полное представление о которой дают материалы из Джумалактепе (Нильсен, 1966, с. 302–309, рис. 107–110) и городища Калаи Кафирниган (Литвинский, 1981). Резные колонны и двери, детали мебели и декоративные панно, их сюжеты, перекликаясь с образцами резьбы по дереву из других областей Средней Азии (Согд, Уструшана), обнаруживают несомненное своеобразие. Пока нет оснований предполагать существование в Северном Тохаристане местной школы торевтики, можно говорить об общетохаристанской школе кушанского и эфталитского времени (Маршак, Крикис, 1969), произведения которой теперь засвидетельствованы к северу от Амударьи (Якубов, 1985; 1985а, с. 161, 166).Терракоты.
Терракоты, обычно составляющие наиболее массовый вид памятников искусства раннесредневекового Северного Тохаристана, сравнительно часто встречаются только в слоях второй половины IV — середины V в. (Завьялов, 1979), и позднее их практически нет. Сходная картина со смещением хронологии к более позднему времени — второй половине VII — началу VIII в. наблюдается и в Согде (Маршак, 1985, с. 197–202). На протяжении всего раннесредневекового периода продолжают бытовать только весьма примитивные, вылепленные от руки фигурки «всадников» или животных (табл. 90, 1-12). Напрашивается предположение о каких-то серьезных переменах в идеологии среднеазиатских народов (как в Северном Тохаристане, так и в Согде), происходивших в IV–VII вв., поскольку весь репертуар терракотовых статуэток обычно связан с культовыми изображениями. Однако, возможно, явный упадок искусства коропластов связан с другими причинами, например, с появлением массовых культовых изображений, изготовленных из другого материала (например, живописные деревянные образки), который сохраняется много хуже. В любом случае за исчезновением терракотовых статуэток в раннесредневековый период стоят серьезные перемены если не в самих верованиях, то в особенностях обрядовости. Находки оттиснутых штампами сложных композиций (Соловьев, 1985, с. 162–163) свидетельствуют о сохранении местными коропластами высокого мастерства, хотя сфера его приложения становится иной.Глава 8 Верхний Тохаристан (М.А. Бубнова)
Высокогорная область, являющаяся юго-восточной окраиной Средней Азии, известная под названием Памир, издавна привлекала внимание исследователей и путешественников. Ученых интересовала этимология названия области, а также ее локализация (Мандельштам, 1957, с. 8). В географической литературе наименование «Памир» закрепилось за областью, ограниченной с севера Заалайским хребтом, с юга Гиндукушем, с востока Сарыколом, а с запада Амударьей. Центром области является Памирское нагорье. Территорию к западу от него именуют Западным Памиром или Горным Бадахшаном, к востоку — Восточным Памиром.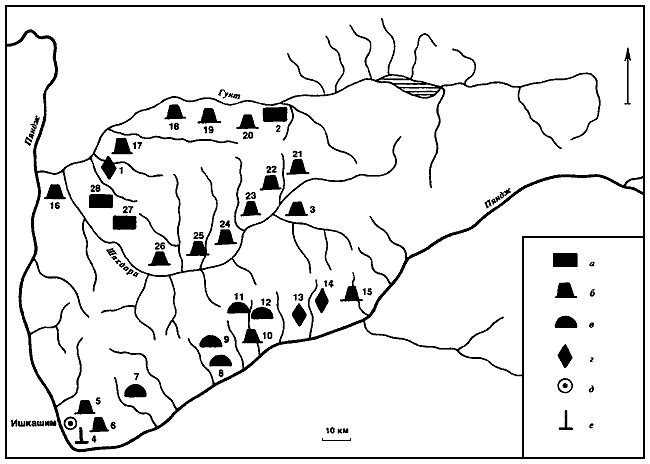
Карта 8. Верхний Тохаристан. а — поселения; б — за́мки и крепости; в — могильники; г — культовые места; д — современные селения; е — пристань. 1 — Храм огня Кафыркала; 2 — сельское поселение Патхур; 3 — крепость Джумангаз; 4 — пристань, Каравансарай Доркышт; 5 — крепость Рын; 6 — крепость Каахка; 7 — могильник Мизылдигар; 8 — могильник Змудг I; 9 — могильник Змудг II; 10 — крепость Ямчун; 11, 12 — могильники Тиун (Намудлыг); 13 — буддийский монастырь Вранг; 14 — Храм огня Зонг; 15 — крепость Ратм; 16, 21–26 — крепости по р. Шахдара; 17, 18, 19, 20 — крепости по р. Гунт; 27, 28 — поселения.
Особые природно-географические условия создали определенную специфику заселения этой области. Пустыни Восточного Памира, орошенные реками только в южной его части, были освоены кочевниками-скотоводами. Западный Памир, отличавшийся хорошим климатом и богатой растительностью, заселялся земледельцами и пастухами-скотоводами. Жизнь сосредоточивалась в узких межгорных долинах. Площадь земель, удобных для возделывания, здесь весьма ограниченна. Поэтому поселения, как правило, возводились на землях, непригодных для возделывания, и существовали на одном месте длительное время. При этом постройки неоднократно ремонтировались и перестраивались (Бернштам, 1952, с. 281, 283). На территории Западного Памира в древности находились три области, упоминавшиеся в письменных источниках. Это Вахан, Шугнан и Рушан. Вахан занимал долину Вахандарьи, оба берега р. Пяндж от слияния рек Вахандарья и Памир до Ишкашима на западе области. Шугнан располагался в долине р. Гунт и ее левого притока р. Шахдара. Рушан находился в долине р. Бартанг (Мандельштам, 1957, с. 96, 101, 122–123; Грюнберг, Стеблин-Каменский, 1976, с. 9). Сведения древних авторов о Памире отличаются краткостью и фрагментарностью. Они главным образом сосредоточены в сообщениях китайских путешественников и буддийских монахов. Есть основание предполагать, что упоминаемое в «Бейши» владение Цзабей, со столицей Хэмо, следует искать на территории Вахана (Бичурин, 1950, т. II, с. 264; Мандельштам, 1957, с. 96). В той части «Бейши», которая относится к началу VI в., приводится краткое описание владения Бохо-Вахана. Там холодный климат и большие снежные горы. Жители обитали в землянках вместе со скотом. Одевались в одежды из войлока и меха. Основной пищей были печеный хлеб и жареное зерно. Отсюда вели две дороги: одна — на запад, во владения Еда (эфталитов), другая — на юго-запад, в Удьяну, владение, подчинявшееся эфталитам (Бичурин, 1950, т. II, с. 270; Мандельштам, 1957, с. 101). Сюань Цзян упоминает владение Дамоситеди. Из описания этого автора следует, что данное владение представляет собой узкую и длинную долину, к востоку от которой лежала долина р. Памир (Мандельштам, 1957, с. 119). Кеннингем и Маркварт отождествляли Дамоситеди с Ваханом. Маркварт полагал, что Дамоситеди является транскрипцией санскритского названия Вахана (Мандельштам, 1957, с. 119). В начале VIII в. в Китай из Индии возвратился Хой Чао. Он прошел через Тохаристан, Памир и Восточный Туркестан. В его записках есть раздел, специально посвященный владению Хуми-Вахану. В китайских источниках названо еще одно владение, расположенное севернее Вахана. Сюань Цзян называет его Шицини, а Хой Чао — Шини, что соответствует Шугнану (Мандельштам, 1957, с. 119). Хой Чао подробно описал эти владения. В Хуми-Вахане климат более холодный, чем в соседних районах. Селения небольшие. Население бедное, разводит крупный рогатый скот и овец. Питаются печеными и вареными мучными изделиями. Одежду шьют из меха и войлока, только владетели используют хлопчатобумажные и шелковые ткани. Мужчины подстригали волосы и бороды, женщины носили длинные волосы. Столица находилась в 20 днях пути восточнее Тохаристана. Владетель имел небольшое войско, поэтому был вынужден подчиниться арабам и выплачивать им ежегодную дань шелком. Во владении были буддийские монастыри и буддийские монахи. Все женщины были ревностными последовательницами учения Будды и исповедовали хинаянистский толк этой религии. Иноверцев и еретиков не было (Мандельштам, 1957, с. 122). Шини-Шугнан характеризуется чрезвычайно холодным климатом. Эта область состояла из девяти владений. Каждый владетель имел свое войско, которое постоянно находилось при нем. Владения были независимы, и только один владетель подчинялся Вахану. Одежда такая же, как и в Вахане. Язык населения особый, отличался от языка жителей других владений. Буддизм не имел распространения (Мандельштам, 1957, с. 122–123). Памир и припамирские области до начала XIX в. оставались фактически «белым пятном» на карте Азии. Представление об этой области складывалось главным образом на основании сведений, полученных в результате расспросов местных жителей. Интерес к Центральной Азии, который проявляла Англия, был обусловлен политическими причинами. В связи со стремлением Англии распространить свое влияние за пределы Индии предпринимались экспедиции на Памир и в среднеазиатские ханства. Первым европейцем, совершившим путешествие через Бадахшан, был Дж. Вуд. Исследования Вуда, Гумбольдта положили начало научному изучению Памира. Вуд отметил в Вахане развалины трех крупных крепостей — Зумри, Кахкаха вблизи Наматгута и Калаи Зангибар. Эти постройки приписывались кафирам-огнепоклонникам. Наличие памятников древности отмечали и другие английские исследователи. С середины XIX в. активный интерес к Средней Азии, и к Памиру в частности, начинает проявлять Россия. В этой части Азии идет постоянное соперничество между Россией и Англией. Деятельность англичан сосредоточивалась в Южном и Восточном Припамирье. Северная часть этой области и Северное Припамирье входили в сферу влияния России. Русские исследователи с 80-х годов играли ведущую роль в изучении всего Памира. Разграничение сфер влияния между Россией и Англией, произошедшее в 1895 г., практически прекратило доступ англичанам на территорию этой области. С конца 70-х годов русские исследователи начали систематическое изучение Памира и Северного Припамирья. Результаты исследований, проведенных во второй половине XIX в., нашли отражение в труде И. Минаева. Это было первое полное систематическое описание всех проделанных работ на Памире. Первую большую экспедицию на Памир в 1883 г. возглавил офицер Генерального штаба Путята. Им самим и сотрудниками этой экспедиции составлены описания многих памятников в долинах рек Вахан, Пяндж, Гунт. Дальнейшие исследования Памира были связаны с именами таких выдающихся ученых, как В.Ф. Ошанин, Н.А. Аристов, А.Е. Снесарев, А.А. Семенов, И.И. Зарубин, А. Бобринский. Труды этих ученых важны для изучения истории Памира. В них обобщены сведения древних авторов и сделана привязка конкретных памятников к пунктам, упоминаемым в источниках. Ученых интересовали проблемы этнической истории и заселения Памира. Статья В.В. Бартольда о Бадахшане в «Энциклопедии ислама» содержит краткий очерк истории этой области. На начальных этапах исследования Памира большое значение имели работы географов, военных топографов и картографов. Именно они были первооткрывателями древностей Памира. Ими были сняты планы многих крепостей и поселений и даны предварительные публикации сведений о памятниках этой области. До начала 40-х годов XX в. археологические памятники Памира не подвергались специальному изучению. Их отмечали в своих отчетах ученые различных специальностей, посещавшие Памир (географы, геологи, этнографы). Только после Великой Отечественной войны началось планомерное изучение археологических памятников Памира и Северного Припамирья. В 1946 г. А.Н. Бернштам начал работы в Алае, а в 1947 г. — на Памире. В центре его внимания находились памятники кочевников. Большое количество их открыто этим исследователем в Алайской долине, а затем на Восточном Памире. Результаты раскопок позволили А.Н. Бернштаму прийти к важным выводам о времени и путях заселения этой области. На Западном Памире он обследовал памятники, принадлежавшие оседлому населению. А.Н. Бернштам первым обратил внимание на то, что Восточный и Западный Памир были двумя различными мирами не только в природно-географическом, но и в культурно-историческом отношении (Бернштам, 1952). Культурные отличия этих двух районов, несомненно, обусловлены их природными особенностями. Долины Западного Памира были сферой деятельности оседлого населения, а пустыни Восточного Памира — кочевников-скотоводов. Н.А. Бернштам особое внимание обратил на систему укреплений, расположенных на границе между Западным и Восточным Памиром. Крепости, как полагал ученый, возводились земледельческим населением для защиты от вторжения кочевников. На основании анализа подъемного материала А.Н. Бернштам определил время возникновения крепостей и выделил три периода их существования: греко-бактрийский, кушанский и раннесредневековый, условно названный исследователем эфталитским (Бернштам, 1952, с. 281). А.Н. Бернштам дал детальное описание памятников и отметил их особенности в каждой из долин. Он считал, что крепости в долине Вахана более внушительных размеров, чем в других районах. Поэтому ее нужно рассматривать как столичную область. Через нее проходил основной торговый путь с востока на запад (Бернштам, 1952, с. 283). Большое значение для изучения Памира и припамирских областей имеет труд А.М. Мандельштама. В нем дан полный анализ письменных сведений об этой области с древнейших времен до X в. (Мандельштам, 1957). В 1957 г. исследование крепостных сооружений в этих же районах продолжил А.Н. Зелинский. Повторное изучение крепостей было связано с проблемой древних торговых путей, проходивших через территорию Восточного и Западного Памира. Принципиально новых открытий, которые изменили бы выводы А.Н. Бернштама, за исключением обнаружения нескольких ранее неизвестных крепостей, не было сделано. Исключение составила передатировка крепости Ямчун. Ее возникновение Зелинский связывал с кушанским временем (Зелинский, 1964, с. 120–141). С 1960 г. в изучение Западного Памира включился Западно-Памирский отряд под руководством А.Д. Бабаева. Впервые А.Д. Бабаевым были проведены раскопки в крепостях Рын, Каахка, Ямчун, Абрешимкала, исследована и подробно описана их планировка (Бабаев, 1962, с. 55–68; 1964, с. 29–31; 1973; 1989, с. 9, 22–24), при этом датировка крепостей осталась прежней, в пределах III в. до н. э. — VII в. н. э. Существенным вкладом в изучение раннесредневековых памятников региона явились открытые и полностью или частично исследованные А.Д. Бабаевым могильники Змудг, Змудг I–II, Конкор, Пштут, Новобад (Бабаев, 1965, с. 71–81; 1971, с. 102–115; 1975, с. 5–21; 1989, с. 9, 24–29). С 1976 г. к работам на Западном Памире подключился Восточно-Памирский археологический отряд, позже переименованный в Памирский археологический отряд, под руководством М.А. Бубновой. Были открыты и раскопаны ранее неизвестные памятники: сельская усадьба Патхур (Бубнова, 1982, с. 173–178); пристань караван-сарая Доркышт; серия культовых сооружений; храм огня в Зонге и храм Кафыркала I–IV (Бубнова, 1982, с. 179–183; 1990, с. 301–310; 1991, с. 227–238); буддийский монастырь Вранг (Бубнова, 1986, с. 249–263; 1988, с. 386–394; 1990а; 1991; 1997, с. 14–16). Все раннесредневековые памятники региона вошли в археологическую карту Горно-Бадахшанской области, где в качестве Приложения опубликован отчет А.Н. Бернштама о полевых исследованиях 1947 г. (Бубнова, 1997а). Все исследователи, посещавшие Памир, отмечали мощные, хорошо укрепленные крепости, при сооружении которых использовался рельеф местности; крепости, как правило, возводились на высоких надпойменных террасах, скалистых останцах. Система укреплений содержала мощные стены, сложенные из камня на известковом растворе, а стены заключали свободное от построек пространство. Примером таких сооружений является крепость Ямчун. Она занимает утес, на трех уступах которого расположены стены; все повороты стен защищают круглые или прямоугольные башни. Стены и башни снабжены бойницами. Верхнюю часть утеса занимает треугольная в плане цитадель, стены которой также укреплены башнями. А.Н. Бернштам отождествляет крепость Ямчун (табл. 95, 1) со столичным городом Вахана — «сакским городом Гашень» (Бернштам, 1952, с. 285). Второй по значению была крепость Каахка. Она также построена на утесе. Ее стены сложены из сырцового кирпича и возведены на каменном фундаменте. Стены окружают края утеса, а внутри стен находились узкие жилые комнаты. Въезд в крепость осуществляли с запада. В восточной части крепости сохранились прямоугольные башни со стреловидными бойницами. А.Н. Бернштам отождествляет эту крепость с городом Ябгукат — «городом Ябгу», городом наместника Тохаристана (Бернштам, 1952, с. 283). А.Н. Зелинский отмечает два периода функционирования крепостей в долине Вахана. Первый период охватывает время с I в. до н. э. до II в. н. э. В это время возводятся мощные крепости. Их строительство обусловлено возможной экспансией Китая на Памир. Наибольший размах крепостного строительства падает на I в. н. э. Крепости играли важную роль в обороне восточных рубежей Бактрии. Второй период крепостного строительства А.Н. Зелинский относит к эпохе эфталитов. Но его масштабы при эфталитах не были такими мощными, как в предшествующий период, что было связано с изменением в расстановке политических сил на Востоке. Роль Китая в Центральной Азии значительно уменьшилась. Он уже не обладал прежней военной мощью. Многие пограничные крепости превратились в за́мки местных владетелей, находившихся под протекторатом эфталитов. К середине VII в., когда область посетил Сюань Цзян, крепости утратили свое былое значение и лежали в руинах. Помимо крепостей, исследователи отмечают укрепленные поселения и сельские усадьбы. Выделяются небольшие по площади укрепленные поселения. Для них характерно наличие оборонительной стены, иногда только с угловыми башнями. Внутри все пространство занимают жилые и хозяйственные помещения, разделенные одной или несколькими «улицами». Вход один. Как правило, поселения располагаются на возвышенностях в устье ущелий. Наиболее ярким примером этого типа поселений является Рын в Ишкашиме, защищенный стеной с двумя башнями — прямоугольной и круглой (Бабаев, 1962, с. 57–58; 1973, с. 82, 84). В Шугнане открыта единственная для этого периода усадьба. Она занимала две площадки естественной двухступенчатой возвышенности. Нижнюю площадку занимал двор, разделенный поперечной стеной на две части. В одной из них была выкопана хозяйственная яма. Верхняя площадка отведена под жилые и хозяйственные помещения, оборудованные суфами и углубленными в пол очагами. Постройку разделял на две половины центральный коридор, в северной части которого находились два небольших помещения. Одно из помещений выполняло роль домашнего святилища огня, где был оборудован специальный очаг. Помимо него, в помещении имелся очаг для хозяйственных нужд. Усадьба, вероятно, была обнесена стеной (табл. 95, 6). Вблизи от крепости Каахка находилась переправа через Пяндж. На правом берегу реки открыто сооружение, которое автор интерпретирует как пристань караван-сарай. Сооружение в плане напоминает ромб. Оно обнесено двойной стеной с внутристенными помещениями. Стены укреплены круглыми башнями. Здание имело два входа. Один из них обращен к реке и блокирован одной башней (табл. 95, 5). Выход в сторону долины блокирован двумя башнями. Стены и башни имели щелевидные бойницы (Бубнова, 1982, с. 184). До принятия ислама население Памира поклонялось огню. Одни исследователи видели в этом влияние зороастризма, другие — один из вариантов языческого верования. Высказывались предположения, что крепости Западного Памира принадлежали огнепоклонникам. Назывались даже храмы огня и сооружения, напоминавшие башни молчания. Культ огня ведет свое начало от культа домашнего очага и культа солнца. Археология Памира дает массу предметов, связанных с культом огня. Это и курильницы, и жертвенные столики, и алтари. Интересен костяной сосуд, на котором изображены жертвенник с пылающим огнем и две человеческие фигуры, молящиеся возле него (Бабаев, 1977, с. 101). Храмы огня Западного Памира открыты и демонстрируют индивидуальную планировку, не имеющую аналогий в храмовой архитектуре Средней Азии и Востока в целом. Храм огня в Зонге (Вахан) состоит из двора, огороженного стеной, и собственно храма, имеющего планировку свободного креста (максимальная длина по крестовинам 5,5–6,5 м). В каждом отсеке были встроены суфы, в северо-западном перед двухступенчатой суфой находился очаг подковообразной формы с большим (0,4×1,2 м) приемником золы в виде прямоугольного ящика из хорошо подогнанных сланцевых плиток. Через коридор, смежный с северо-восточным отсеком, храм сообщался с двориком. С внешней, западной стороны к храму были пристроены жилые помещения с суфами и очагами. На каком-то этапе юго-западное помещение было замуровано и заменено новым, северо-западным, с более примитивным внутренним интерьером (табл. 96, 14). Храм Кафыркала I–IV (табл. 96, 1) первоначально интерпретирован А.Н. Зелинским как крепость Кафыркала (Зелинский, 1964, с. 121–122). Собственно крепость, Кафыркала I, расположена над храмовым комплексом на площадке скального выступа. Вторая оборонительная система (Кафыркала IV) защищала подход к храмам со стороны р. Бочивдара. Кафыркала представляет собой храмовый ансамбль, состоящий из двух круглых храмов — Кафыркала II диаметром 11,4 м и Кафыркала III диаметром 9,8 м (табл. 96, 2, 3). Оба храма были воздвигнуты на мысу горного отрога Шугнанского хребта, труднодоступного со стороны долины р. Гунт и имеющего подход только со стороны р. Бочивдара. Для интерьера обоих храмов характерно наличие сплошной кольцевой суфы, прерываемой невысокой «эстрадой», и присутствие в центре очагов. Снаружи с северо-восточной стороны в обоих случаях пристроены смежные жилые помещения. Отличительной особенностью является форма очагов. В Кафыркале III очаг круглой формы (диаметр 1,2 м), с бортиком и примыкающим к нему круглым приемником для золы. В Кафыркале II очаг прямоугольной формы, с северной стороны от очага в пол вкопан четырехугольный в сечении каменный столбик. Со стороны р. Бочивдара легкодоступный склон укреплен стеной с башнями. Сторожевые башни и ограда сооружены на узкой площадке гребня скального отрога (Кафыркала I). Присутствие одинаковых храмов в комплексе объясняется тем, что храм III функционировал очень короткое время, о чем свидетельствует слабо прокаленная внутренняя поверхность очага. Храм II претерпел перестройки, был разрушен очаг, зато около каменного столбика сильно прокалена поверхность пола. Вход частично разрушил «эстраду». В письменных источниках отмечены многие памятники буддийской религии. Сюань Цзян писал, что большой буддийский монастырь с каменной статуей Будды размещался в центре городка Хуньтоди — столицы Вахана. Буддийский монастырь Вранг расположен на труднодоступном скальном мысу у подножия Ваханского хребта, на выходе р. Врангдарьи из ущелья. Комплекс состоит из трех частей, обведенных стеной протяженностью по периметру около 180 м, с двумя овальными башнями по восточному фасу. Западная группа построек включает центральное сооружение, расположенное на возвышенной части мыса, и представляет собой трехступенчатую ступу, верхняя часть которой разрушена. Восточную нижнюю группу составляют однотипные смежные помещения с выходом во двор, пристроенные к наружной стене. Центральную часть комплекса занимал открытый двор. Наружные входы расположены с северной и восточной сторон (табл. 96, 19). Сводчатые помещения, вырытые под культовым комплексом в склоне левого берегового обрыва р. Врангдарьи, составляли единое целое с буддийским монастырем. Наличие буддийского монастыря следует рассматривать не как принятие населением буддизма, а как отражение активности Ваханского пути, по которому шли не только купцы, но и буддийские паломники и миссионеры. Крепости, поселения и общественные сооружения Вахана были надежно защищены мощными стенами с башнями. С одной стороны, этого требовала внутриполитическая обстановка. При самостоятельности обоих владений военные столкновения между ними были неизбежны. С другой стороны, защита международных караванных дорог, проходивших через Шугнан и Вахан, требовала их охраны. Наконец, нельзя исключить военные столкновения с соседними государствами. Последнее нашло отражение в письменных источниках (Мандельштам, 1957, с. 143–151). Культовые сооружения имели сплошную оборонительную систему, как Вранг, состоявшую из мощной стены и башен. Храмы Кафыркалы имели частичную оборону: двойная стена с круглыми башнями и щелевидными бойницами была возведена только на слабозащищенном участке. Дополняли оборону сторожевые башни на вершине гребня, тоже защищенного стеной на уязвимом участке. Мощную и очень сложную оборонительную систему имели крепости Ямчун (табл. 95, 1) и Каахка (табл. 96, 1). Фортификация этих поселений сочетала тройную систему обороны двух площадок и цитадели. Продуманно использовался рельеф местности, особенно при строительстве Ямчуна. Его оборону дополняло наличие форта Зулькомар, выстроенного на неприступном утесе. В системе укреплений были многочисленные башни круглой, квадратной и прямоугольной формы, со щелевидными бойницами. Аналогичные бойницы размещались в стенах. На Каахке одна башня имела стреловидные бойницы, разъединенные декоративной бойницей, имитирующей стреловидную форму за счет квадратных углублений, расположенных в шахматном порядке (Бернштам, 1952, с. 284, рис. 118, 2). Надежная система обороны шугнанских и ваханских поселений свидетельствует о том, что местные строители были хорошо знакомы с искусством фортификации своего времени. Основным строительным материалом служил камень (сланцевый плитняк и речные валуны) в сочетании с сырцовым кирпичом. Кладка велась на глиняном растворе, заполнявшем вертикальные и горизонтальные швы. Иногда раствор делали из более светлой глины по сравнению с той, из которой формовался кирпич. Кладка велась вперевязку. На ряде памятников обнаружены кирпичи с тамгами в виде буквы «3» и креста. В строительной практике в качестве цоколя использовались естественные всхолмления, заключенные в каменный футляр (ступа во Вранге). Кроме того, при сооружении монолитных башен практиковалась послойная кладка из глины, цоколь башни облицовывался камнем, а ее тело — сырцовым кирпичом, как это отмечено во Вранге. При строительстве этого же комплекса использована кладка из слоев камня, переложенных стволами облепихового дерева и ветками. Деревянное перекрытие зафиксировано только в храме Кафыркала II. Учитывая сейсмичность региона и климатические условия, можно допустить, что все постройки имели деревянные плоские перекрытия в сочетании с чорхонами. Диаметр круглых зданий Кафыркалы (более 10 м) позволял перекрыть не только с помощью чорхона. При этом стоит обратить внимание на одну из функций чорхона. В быту раннесредневекового населения Памира она выполняла роль и своеобразного календаря, и солнечных часов, которые основаны на принципе изменения угла падения солнечного луча, проходящего в помещение через квадратное отверстие «руз» (Мамадназаров, Якубов, 1985, с. 191), что для культового сооружения, каким являлась Кафыркала I–IV, должно было иметь большое значение. В этой связи, возможно, найдут объяснение три больших камня, вмонтированные в стену на уровне суфы с внутренней стороны здания (Кафыркала II). При этом выдержана ориентация камней, с незначительными отклонениями, по странам света. Стены в жилых постройках имели небольшую ширину (0,7–0,8 м), толщина оборонительных стен доходила до 2 м. В жилых и общественных зданиях суфы — обязательная и неотъемлемая часть интерьера. Конструкция их стандартна: основание и края закреплены каменной кладкой. Пороги и двери делались из дерева. Полы и стены обычно штукатурили глиной, для чего в храмах Кафыркала II, III использована белая глина. Архитектура жилых построек проста. Укрепленные поселения и сельские усадьбы имели простые геометрические формы. При простоте архитектурных решений общественных сооружений их отличает монументальность и разнообразие композиционных решений. Пока преждевременно говорить о типологическом сходстве или различии культовой архитектуры Шугнана и Вахана с подобной архитектурой Средней Азии в целом и соседних регионов. Прямые аналогии неизвестны. Вместе с тем круглая планировка, свободный крест, ступенчатая ступа как планировочные элементы, решенные с учетом местных традиций, безусловно, восприняты из общих архитектурных традиций Востока и Средней Азии. Архитектурный декор отмечен только в крепости Каахка. Здесь юго-западная стена у входа украшена орнаментом, выполненным сырцовым кирпичом (40×40×10 см). Он состоит из полуциркульных ниш с композицией в виде радиально расходящихся от треугольника лучей из положенных торцом кирпичей. Полуциркульные ниши чередуются с треугольными, середина которых выложена торцами кирпича, создающими фигуру «сасанидского городка». Одна из башен имела семь стреловидных бойниц, причем в рисунок стрелы вписан выложенный из трех кирпичей тот же тип «сасанидского городка», что и на фасаде стены. При отсутствии городских центров и крупных ремесленных мастерских неизбежно господствовало домашнее производство. Находки зернотерок свидетельствуют о том, что значительное место в жизни населения занимала переработка продуктов сельского хозяйства, а некоторые формы глиняной посуды — о переработке молочных продуктов (сосуды типа «сита»). Следов металлургического производства в виде плавильных печей не обнаружено. Исключением являются несколько кусков шлака, найденные на территории сельской усадьбы Патхур. От плавки каких руд остались шлаки, не установлено. Отсутствие здесь железных месторождений не способствовало развитию этого производства. Разработка Ванчских железных месторождений в этот период ничем не подтверждена (Бабаев, 1991, с. 36). Представлено оружие: железные трехлопастные наконечники стрел, пластинчатые колечки кольчуги, ножи вотивные, шила, пряжки. Деревообрабатывающее производство было широко развито, во Вранге обнаружены его отходы. Вероятно, поделки из дерева служили предметами обмена и торговли с паломниками и проезжими купцами. Из камня изготовляли оселки, лощила, зернотерки; из шерсти — войлоки. Текстильное производство представлено хлопчатобумажными тканями полотняного производства. Из растительных волокон, включая древесную кору, делали веревки. Как и железоделательное производство, производство бронз и латуней не имело своей сырьевой базы. Основой экономики Вахана и Шугнана в данный период, безусловно, было сельское хозяйство. Древность земледелия в этих районах подтверждена лингвистическими исследованиями (Стеблин-Каменский, 1982). О наличии земледелия свидетельствуют письменные источники, сообщая, что в Вахане выращивают бобы и пшеницу, а почва хороша для плодовых деревьев (Бичурин, 1950, т. II, с. 324). Последнее подтверждают находки косточек абрикоса в одном из погребений в могильнике Змудг и двух деревянных изделий, изготовленных из древесины груши, в том же могильнике (определение кандидата биологических наук М.И. Колосовой. Лесотехническая академия им. С.М. Кирова). О наличии скотоводства свидетельствуют находки костей домашних животных. Примечательно, что на раннесредневековых памятниках не найдено ни одной монеты. При существовании торговых путей международного значения отсутствие монет свидетельствует о том, что велась преимущественно меновая торговля. По сведениям письменных источников и археологическим данным можно судить о существовании нескольких путей через Памир и Припамирье, по которым шла торговля между Китаем и западными странами. Главным был Великий Памирский путь по Вахану. Он связывал оазисы Памира с Бактрией и другими областями Средней Азии. Помимо торгового, этот путь имел стратегическое и большое культурное значение, особенно благодаря буддийским паломникам, продвижение которых в течение нескольких столетий шло именно по Великому пути. Второй по значению Шугнанский, или Малый Памирский, путь пролегал севернее Великого пути и шел по долинам рек Гунт и Шахдара. Наиболее ранние сведения о Шугнанском пути относятся к VII в. и связаны с движением буддийских паломников между Кашгаром и Индией. Крепости, связанные с Шугнанским путем, не такие мощные, как ваханские, но все же представляли реальную силу, противостоявшую внешним вторжениям. Третий путь, Кашмирский или Гибиньский, пролегал по восточной окраине Памира от Кашгара до Сарыкола и далее на юг, через Ташкурган, висячий мост до Кашмира. Это один из древнейших путей, пролегавших через горные районы. Именно по этому пути во II в. до н. э. сакские племена вторглись в Индию. В Северном Припамирье с I в. н. э. функционировал Каратегино-Алайский путь. В силу сложных природных условий этот путь не играл сколько-нибудь значительной роли в связях провинций Восточного Туркестана с западными странами. Ферганский путь пролегал по южным склонам Тянь-Шаня и Ферганской долине. Он начал действовать со II в. до н. э. и функционировал в течение многих веков.
Керамика.
А.Н. Бернштам первым определил место керамических комплексов Памира в общем единстве среднеазиатской гончарной продукции. Он отметил сходство памирской керамики с изделиями Согда и Ферганы, выразившееся, в частности, в характере обработки поверхности, в составе формовочной массы (Бернштам, 1952, с. 281). В настоящее время раннесредневековая керамика наиболее полно представлена материалами из раскопок (табл. 95, 12–18) сельской усадьбы Патхур (Бубнова, 1982, с. 176–179), культовых сооружений Кафыркала I–IV (табл. 96, 4-12), Вранг (табл. 96, 20–27), Зонг (табл. 96, 15–18) и могильников (Бабаев, 1971, с. 102–114; Бубнова, 1982, с. 176–183). Керамика в основном лепная, фрагменты гончарной посуды единичны. Полная классификация раннесредневековой керамики Вахана и Шугнана в настоящее время решена частично, в основном по материалам могильников. В целом выделяется кухонная и столовая посуда. Для первой характерно грубое тесто с примесью песка или шамота; для второй — тесто без примесей. Как первую, так и вторую группу отличает неравномерность обжига, но наряду с этим значительная часть посуды хорошей выделки. Слюда в большей или меньшей степени присутствует во всех изделиях и является естественной примесью, поэтому не может служить датирующим признаком, как считали А.Н. Бернштам и А.Д. Бабаев (Бернштам, 1952, с. 281; Бабаев, 1971, с. 105; 1973, с. 90). Лощение посуды — характерная особенность раннесредневековой керамики Вахана и Шугнана. В зависимости от состава глины и режима обжига лощеная поверхность сосуда приобретала светло-желтые, розовато-красные, светло- и темно-коричневые оттенки. Отмечается разнообразие форм: котлы, горшковидные сосуды, кувшины узкогорлые и широкогорлые, миски полусферической формы, сосуды-«корзинки» (местная форма), кружки, миниатюрные сосуды. Особое место в керамических комплексах из могильников Змудг занимают кружки с округло-приземистым туловом. Фрагменты таких сосудов найдены также в культовом сооружении Вранг. Для них характерны ручки, которые, как полагает А.Д. Бабаев, имитируют кость животного, в виде полых или частично полых цилиндров, горизонтально посаженных на короткую вертикальную ножку. Вторая особенность этого вида посуды — роспись, выполненная красной или темно-коричневой краской (табл. 95, 7-24; 96, 4-12, 15–18, 20–27). А.Д. Бабаев специально анализировал расписную керамику Вахана и пришел к выводу, что аналогии ей надо искать в ранних материалах Ферганы, Афганистана и Индии, но их форма соответствует кружкам V–VII вв. (Бабаев, 1971, с. 112–113). Металлические изделия с поселений и общественных сооружений единичны. Оружие представлено железными трехлопастными наконечниками стрел, колечками кольчуги (табл. 96, 28). Найдены железные вотивные ножи, шилья, пряжки.Деревянные и костяные изделия.
Из дерева изготовлялись ножны, древки стрел, лопаты, посуда (чаши, блюда), коробки, гребни односторонние и двусторонние, «пробки», приборы для добывания огня. В погребениях обнаружены костяные флейта и деталь арфы. Костяные изделия найдены в могильниках: рукояти ножей мундштукообразной формы, проколки (Бабаев, 1965, с. 75). Особое место среди костяных предметов занимает прямоугольная пластина — талисман. На одной стороне ее изображен бегущий олень, архар или козел; на другой — две фигуры, стоящие у горящего жертвенника в виде чашевидного сосуда с широкой закраиной на устойчивом поддоне. Исследовавший талисман А.Д. Бабаев интерпретирует его как подражание каменным переносным жертвенникам и объясняет его появление в Вахане тем, что здесь был распространен культ огня. В.Г. Шкода отмечает распространение переносных жертвенников не только в Согде и Тохаристане, но и значительно шире — «даже на Западном Памире» (Шкода, 1985, с. 82–83, 85).Одежда и украшения.
Как отмечено в письменных источниках, население носило одежду из шерсти и войлока. Обрывки войлока найдены при раскопках Врангского комплекса. Оттуда же происходят несколько фрагментов хлопчатобумажной ткани полотняного плетения. Украшения найдены преимущественно при раскопках могильников. Из славянских бронз и латуней изготовлены браслеты, перстни, подвески, серьги, колокольчики (Бабаев, 1965, с. 72–75). Бусы делались из пасты, стекла, янтаря и камня (лазурит, сердолик, мрамор), из косточек миндаля и каких-то ягод. За исключением бус из косточек, все остальные были привозными.Раннесредневековые могильники.
Раннесредневековые могильники известны только на территории Вахана. На поверхности погребения отмечены каменными оградами четырехугольной, квадратной или округлой формы. Сложены из одного или двух-шести рядов камней (табл. 95, 3, 4). В некоторых могильниках ограды пристраивали к большим камням (Змудг). Есть ограды подковообразной формы со входом и «усами» (Канкор), кольцевые выкладки из одного ряда камней, в центре положены три-четыре камня (Новобад). В одном случае по периметру ограды через каждые 90 см врыты четыре деревянных щита высотой 40 см, в другом — в центре вкопан деревянный столбик высотой 25 см. Умерших хоронили в скорченном положении на правом боку; на животе, с неестественно подогнутыми ногами; на спине; есть несколько скелетов в одном погребении. Головой ориентированы на север, северо-восток, восток, юг. Автор раскопок раннесредневековых могильников в Вахане А.Д. Бабаев пришел к выводу, что в погребальном обряде переплетаются зороастрийские и древние местные погребальные традиции (Бабаев, 1989, с. 26–28). Изолированность района, продиктованная природно-ландшафтными особенностями, способствовала сохранению древних хозяйственных, культурных и религиозных традиций оседлого населения на протяжении многих столетий. В целом в раннесредневековый период области Вахан и Шугнан представляют собой, с одной стороны, самобытные районы с преобладанием натурального хозяйства; с другой стороны, обе области выступают активными преемниками общих достижений культуры соседних регионов, что особенно ярко проявилось в искусстве фортификации и строительстве культовых сооружений.Глава 9 Семиречье (К.М. Байпаков, В.Д. Горячева)
В IV в. на обширной территории Средней Азии происходила консолидация племен в государственное объединение раннефеодального типа — Тюркский каганат. К концу 60-х годов Тюркский каганат включается в систему политических и экономических отношений крупнейших государств того времени — Византии, Сасанидского Ирана, Китая. В Суябе на р. Чу находилась ставка Западнотюркского каганата (Clauson, 1961, s. 1-13; Кляшторный, 1964, с. 21–22). Став политическим гегемоном на обширных просторах Центральной Азии и взяв под контроль торговлю по трассе Великого шелкового пути, тюркские каганы установили прочные связи с согдийцами. Политические и экономические связи с Согдом не только стимулировали, но и в известной мере определили своеобразие городов и селений в Семиречье.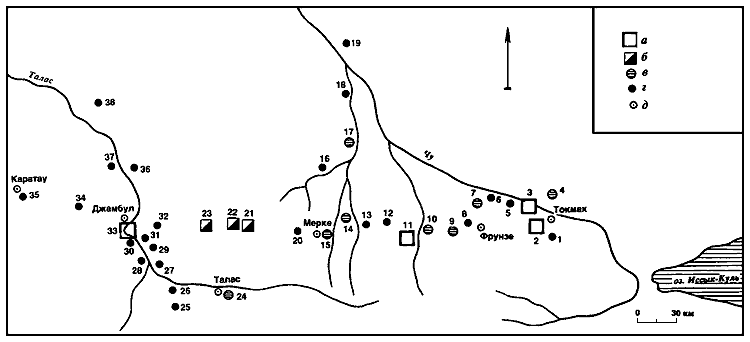
Карта 9. Семиречье. а — крупный город; б — караван-сарай; в — средний город; г — малый город; д — современное селение. 1 — Бурана; 2 — Акбешим; 3 — Краснореченское; 4 — Кысмычи; 5 — Покровка; 6 — Чумышское; 7 — Грозненское; 8 — Ключевское; 9 — Сокулук; 10 — Беловодское; 11 — Ишимтобе; 12 — Полтавское; 13 — Каиндинское; 14 — Аспара; 15 — Мерке; 16 — Сретенское; 17 — Толекское; 18 — Актобе Степнинское; 19 — Ташкуль; 20 — Луговое; 21 — Молдыбай; 22 — Ахыртобекуль; 23 — Касрибас; 24 — Актобе Таласское; 25 — Чалдавар; 26 — Актобе Орловское; 27 — Садыр Курган; 28 — Майтобе; 29 — Садыр Бешагач; 30 — Джувантобе; 31 — Джалпактобе; 32 — Торткуль; 33 — Тараз; 34 — Бектобе; 35 — Тамды; 36 — Таймакент; 37 — Охкум; 38 — Шарва.
Письменные источники свидетельствуют о расселении согдийцев по трассе Великого шелкового пути, где ими был основан ряд городов (Pulleyblank, 1952, s. 317–356). Первые сведения о согдийцах в Чу-Таласском междуречье содержатся в сообщении Менандра о посольстве Земарха к западнотюркскому кагану Истеми (568 г.). К этому же времени относится сообщение Нершахи о переселении из Бухары группы согдийских дехкан и купцов, основавших в Таласской долине город Хамукат (Джамукат) (Волин, 1960, с. 178; Нершахи, 1891, с. 12–13). В VII в. широкую известность приобретают города Тараз, Суяб, Навекат, в которых имелись согдийские общины. Становление раннефеодальных отношений привело к обострению социальных противоречий в Тюркском каганате, к росту богатства и влияния тюркской аристократии, обеднению массы рядовых общинников, военным поражениям, голоду и в итоге — к распаду каганата в начале VII в. на два самостоятельных владения — Восточный и Западный. В состав Западно-Тюркского каганата вошли южные и юго-восточные районы Казахстана. Центром его стали земли Семиречья (Кляшторный, 1964, с. 21–22). Отсюда началось завоевание тюрками Средней Азии. Постепенно тюрки осваивают систему административного управления среднеазиатских владений. При кагане Туншеху местные среднеазиатские правители были превращены в наместников кагана и получили соответствующую титулатуру (Бичурин, 1950, т. I, с. 238). Но вскоре внутренние и внешние события привели к гибели Западнотюркского каганата и образованию на его развалинах в конце VII в. каганата тюргешей (Кляшторный, 1964, с. 139–140). В начале VIII в. арабы, укрепившись на территории Хорасана, начинают захват Мавераннахра. Внешняя опасность заставила объединиться тюргешей и согдийцев, и они сумели нанести поражение арабским войскам, но, пользуясь тактикой обмана, арабам все же удалось добиться успеха и занять Бухару, а затем Самарканд. В 712–713 гг. против арабов выступили объединенные силы тюрок, согдийцев, шашцев и ферганцев. Эта коалиция превращается в главного противника арабов. Благодаря ей ни средняя Сырдарья, ни Семиречье не были завоеваны арабами (Кляшторный, 1964, с. 152–155). Борьба тюргешей с арабами ослаблялась междоусобицами вкаганате, чем не замедлили воспользоваться китайцы, которые временно захватили Суяб. Однако в Таласской битве китайская армия потерпела поражение от арабов и карлуков (Волин, 1960, с. 80; Большаков, 1980, с. 132–136). В 766 г. власть в Семиречье захватили карлуки. Они активно поддерживали антиарабские и антимусульманские мятежи в Средней Азии, что вызывало со стороны арабов ответные действия. Так, исторически засвидетельствованы походы арабов на среднюю Сырдарью, когда они под предводительством Фадла бен Сахля вторглись в область Отрара, убили начальника пограничной крепости и взяли в плен сыновей карлукского джабгу (Михайлова, 1951, с. 11–12). Более успешно действовали Саманиды. В 839–840 гг. Нух ибн Асад совершил поход против владетеля Испиджаба, подчинил город и построил стену вокруг виноградников и посевов жителей (Волин, 1960, с. 75; Бартольд, 1968, с. 46). В начале второй половины IX в. Наср I Ахмед завоевал Шавгар (Бартольд, 1968, т. I, с. 268), и лишь во второй половине IX в. Саманиды распространили свое влияние до Таласа (Волин, 1960, с. 76; Бартольд, 1968, т. I, с. 46). Таким образом, юг Казахстана и Семиречье по крайней мере в первой половине IX в. сохраняли известную самостоятельность и поэтому позже других областей Средней Азии были втянуты в процесс исламизации, сохраняя традиции раннесредневековой, или «домусульманской», культуры. На фоне этих политических событий, в условиях становления феодальных отношений в долинах Таласа и Чу развивалась городская культура, способствовавшая включению развитых оседло-земледельческих областей Согда и Тохаристана в состав Тюркского каганата. В раннее средневековье культурные взаимосвязи были теснее, чем в предшествующие времена, и это предполагает «подтягивание» социально-экономических уровней и сопоставимость (адекватность?) социально-экономических моделей не только для Согда и Тохаристана (Литвинский, 1986, с. 198), но и для всей области «страны Сули» — от р. Чу до Железных ворот — Чу-Таласское междуречье (Гафуров, Литвинский, 1976, с. 7–8). Однако до настоящего времени остается дискуссионным вопрос о степени влияния Согда на формирование городов Семиречья. В.В. Бартольд полагал, что городская культура здесь появилась благодаря согдийской колонизации (Бартольд, 1964, т. II, с. 265–302, 461–470). С.Г. Кляшторный, вслед за В.В. Бартольдом, пишет о федерации согдийских городов Семиречья (Кляшторный, 1964, с. 123–135). А.Н. Бернштам и П.Н. Кожемяко считают памятники оседлой культуры Семиречья согдийскими, а памятники кочевой культуры — тюркскими (Чуйская долина, 1950, с. 145–147; Кожемяко, 1959, с. 167–184). Существует другая точка зрения, согласно которой Семиречье не было объектом колонизации Согда, а было самостоятельным регионом развития городской культуры (Агеева, 1962, с. 125). По мнению Т.Н. Сениговой, население Тараза и его округи состояло из местных тюрок-карлуков (Сенигова, 1972, с. 205). В настоящее время благодаря интенсивным исследованиям в самом Согде и в Семиречье выделены составные компоненты раннесредневековой культуры Южного Казахстана и Семиречья и выяснена интегрирующая роль согдийского культурного комплекса (Массон В., 1979, с. 5; Байпаков, 1979, с. 7–10). В нем находит воплощение и функция города как центра административной власти, ремесла, торговли и сельского хозяйства. Показательно сложение городского быта, который представлен устойчивыми канонами жилой архитектуры, терракотой, керамическими коллекциями, надписями на керамике, монетами, погребальными сооружениями, обрядом захоронения. Распространение согдийского культурного комплекса не только было результатом непосредственного расселения согдийцев, о чем достаточно четко свидетельствуют письменные источники, но и отражало процесс культурной интеграции. Согдийским образцам как эталонам подражали в Чаче, на юге Казахстана и в Семиречье. Одновременно с согдийским распространяется и тюркский культурный комплекс. Тюркское влияние все отчетливее обнаруживается при исследовании материальной культуры не только Юго-Западного Семиречья и Южного Казахстана, но и Ферганы, Уструшаны, Тохаристана, Согда (Гафуров, 1972, с. 222–223). Под воздействием тюрок вырабатывались новые типы вооружения, украшений и металлической посуды, в частности кружек, которые распространялись на обширной территории Евразии (Распопова, 1970, с. 86). Некоторые формы керамических сосудов подражают металлическим (Маршак, 1965, с. 25–26). Велико было тюркское воздействие на искусство, имело место также взаимовлияние тюркской, ирано-таджикской и арабской поэзии, эпоса и литературы (Гафуров, 1972, с. 223). В результате в VI — первой половине IX в. складывается своеобразный культурный комплекс, который можно назвать тюркско-согдийским. Одно из проявлений его — единообразие городской культуры Согда-Мавераннахра, Тохаристана, Чача и Юго-Западного Семиречья (Байпаков, 1986, с. 92–98), в котором сказывался градостроительный опыт согдийцев. Причем Семиречье наряду с Ферганой и Восточным Туркестаном, выступает в известной мере ретранслятором ремесленно-торговых и культурных традиций. Однако при общем согдийском облике городской культуры здесь существенную роль играли элементы несогдийского происхождения (Маршак, Распопова, 1983, с. 78–80).
Топография и типология городищ.
Согласно письменным источникам, в VII–X вв. в Семиречье насчитывалось 27 городов и селений, которые в большинстве своем отождествляются с конкретными городищами. На территории Чуйской и Таласской долин зафиксированы 36 городищ, имеющих слои VII–VIII вв. Все они продолжали жить и в последующее время. У городищ выделяется центральная часть, состоящая из цитадели и шахристана. К ним примыкает территория, окруженная стеной, протяженностью от трех до нескольких десятков километров. Кроме внешнего вала, встречаются участки оплывших внутренних стен (Кожемяко, 1959, с. 65–130; 1963, с. 145–224). Цитадель, как правило, не превышает 1 га и занимает меньшую часть шахристана. «Длинные стены» защищают сельскохозяйственную округу города с усадьбами и земельными участками, садами и огородами горожан. В расположении городищ с «длинными стенами» намечается строгая закономерность: в долине Таласа они находятся на расстоянии 15–20 км одно от другого в наиболее удобных участках долины, в местах впадения в Талас мелких горных речек. В Чуйской долине закономерность расположения городищ еще более четкая: 13 городищ расположены в предгорной зоне на конусах выноса горных речек на расстоянии 15–35 км одно от другого; остальные образуют северную внешнюю цепь в местах впадения стекающих с Киргизского хребта речек в р. Чу. Считая площадь городища одним из наиболее существенных признаков его значимости, можно предложить типологию их и сопоставить с городами письменных источников. Так, к первому типу относятся городища, площадь центральных развалин которых исчисляется несколькими десятками гектаров (от 30 и более). Соответственно большими размерами отличаются и территории, окруженные «длинными стенами». Эти городища сопоставляются с известными по письменным источникам столичными и крупными городами региона: развалины в Джамбуле — с Таразом; Ак-Бешима — с Суябом; Красной Речки — с Навекатом; Шиштобе — с Нузкетом. У городищ второго типа площадь составляет от 10 до 30 га; часть из них удается отождествить: городище Актобе Таласское — с Текабкетом; Чалдовар — с Сусом; Мерке — с Мирки; Аспара — с Аспарой; Сокулук — с Джулем; Беловодскую крепость — с Харанджуваном; Толекское — с Йага; Грозненское — с Сарыгом; Касымчи — с Бунджикетом. Согласно ал Макдиси, Текабкет и Сус являются «городами». Ибн Хордадбех и Кудама называют Мирки, Аспару, Харанджуван, Джуль «большими селениями». Однако для этой группы характерны развитые ремесла, в первую очередь гончарное. Наличие монет и расположение на торговых путях свидетельствуют о развитой экономике. Эти города следует отнести к категории средних. Площадь городищ третьей группы составляет менее 10 га. Часть их отождествляется с городами, названными в источниках: Джувантобе — с Атлахом; Торткольтобе — с Нижним Барсханом; Тоймакент — с Адахкетом; Оххум — с Дех-Нуджикесом; Луговое — с Куланом; Чумышское (по одной версии Новопокровское) — с «селением тюркского кагана»; Новопокровское (по другой версии Милянфанское) — с Кирмирау (Байпаков, 1986, с. 228–235; Горячева, 1988, с. 100–103). Это небольшие города, или городки. К городским поселениям Чу-Таласа можно отнести еще несколько десятков поселений, являющихся городками-спутниками или крепостными форпостами на подступах к крупным городам (Малый Ак-Бешим, Ивановское, Старопокровское, Кенешское, Маевское, Кызыласкерское и др.). В их структуре нередко выделяются цитадели и шахристаны, пригородные участки с некрополями. Некоторые поселения имели мощные крепостные сооружения. В ряду городищ типа торткулей (дословно «четырехугольник») выделяются ставки, поселения, караван-сараи (Кожемяко, 1959, с. 131–184; Байпаков, 1986, с. 128).Структура и застройка городов.
О формировании городов в долинах Таласа и Чу высказывались разные точки зрения. А.Н. Бернштам сопоставлял города региона с согдийскими и выделял в их структуре три составные части: цитадель, шахристан, рабад. П.Н. Кожемяко комплекс холмов шахристанов именовал центральными развалинами, отрицая наличие в семиреченских городах развитых шахристанов и рабадов. Городской застройкой он считал всю территорию, окруженную «длинной стеной». По его мнению, в поселениях Чуйской долины до X в. не произошло полного отделения ремесла от сельского хозяйства (Кожемяко, 1959, с. 183). К.И. Петров считал, что в отличие от большинства среднеазиатских городов поры раннего средневековья чуйские не имели сельскохозяйственной округи. Она была как бы инкорпорирована в самом городе, в пределах его оборонительных валов (Петров, 1981, с. 132–133). Хотя ремесло было четко отделено от земледелия, «город» территориально не отделялся от «деревни». Поэтому для чуйских поселений этот автор предлагает термин «аграризированный город» (там же, с. 134). Источники свидетельствуют, что города были административными центрами. Каждый из городов выставлял определенное число воинов в случае опасности. Административный характер города подчеркивают и письменные источники, сообщая, что владетель города Керминкет носил титул «Кутегинлабан»; городом Яр управлял феодал с титулом «Тексин»; владетель Невакета назывался «Яланшах», а Семекны — «Йиналтегин» (Бартольд, 1963а, т. II, ч. I). Наиболее укрепленной частью города была цитадель, служившая в это время резиденцией правителя города или всей округи. В Таласской долине археологически наиболее изучена цитадель Садыркургана, отождествляемого с Шельджи. Она восьмигранная в плане, размером 170×135 м по основанию, высота 21 м. Центральные развалины имеют площадь 7500 кв. м (2270×280 м). Их окружают ремесленные кварталы. На цитадели Шельджи раскапывалось дворцовое сооружение. Вскрыты четыре помещения площадью 230 кв. м, относящиеся к пятому строительному горизонту; ниже вскрыты еще три горизонта с остатками построек VIII–IX вв. Внутреннее пространство города (шахристан), по наблюдениям П.Н. Кожемяко, не было плотно застроено. Интенсивное освоение его территории проходило в более позднее время. В топографии Садыркургана зарегистрировано явление, не встречавшееся при изучении других городов долины: к западному отрезку «длинной стены» примыкает значительный участок городской застройки, включавший серию смежных усадеб с жилыми и производственными комплексами (Кожемяко, 1970, с. 35–38). Раскопки цитаделей городищ Джамбул (Тараз) и Луговое (Кулан) в слоях VI–VIII вв. выявили остатки построек за́мкового типа (Байпаков, 1986, с. 73). Интересные наблюдения сделаны при раскопках цитадели городища Костобе в Таласской долине, отождествляемого с Хамукатом. Цитадель городища представляла собой пирамидальный холм высотой 12–15 м с верхней площадкой размером 30×40 м. Первоначальная постройка цитадели, относящаяся к VI–VIII вв., представляла собой сооружение за́мкового типа, поставленное на высокий стилобат. По периметру его проходили обходные галереи. Городища Ак-Бешим и Красная Речка — наиболее ранние и крупные поселения региона. Они являлись столичными городами, возникли и развивались одновременно, хотя и имеют некоторые структурные отличия. Представляется, что городище Ак-Бешим (Суяб) по своей структуре соответствует городу согдийского происхождения. Первоначально он имел высокую цитадель и шахристан. Их общая площадь равнялась 35 га. Во второй половине VIII в. (по-видимому, после разрушения Суяба в 748 г.) с юго-востока пристраивается новая часть города, возможно ставка кагана, площадью 60 га. Окружавшие шахристаны земли с за́мками феодалов и рядовой застройкой горожан, с постройками религиозных общин и некрополя, пашни и сады были обведены кольцом «длинных стен» (табл. 99, 1). Культурный слой датирует город VI–X вв., и лишь на отдельных участках жизнь продолжалась и в XI в. (Кызласов Л., 1959, с. 237; Кожемяко, 1959, с. 78; Байпаков, Горячева, 1983, с. 74–75). Развалины городища Красная речка состоят из цитадели, двух шахристанов, некрополя с культовым комплексом (табл. 97, 1). Топография городища в совокупности с материалами раскопок послужила основным источником для создания схемы формирования города и суждений о характере его застройки. В свое время А.Н. Бернштам писал о сложении города из отдельных за́мков согдийской знати, поселившейся здесь в V–VII вв. (табл. 97, 2, 3, 5). Древнейшим укрепленным ядром города был квадратный в плане шахристан II площадью 19 га в северо-западном углу центральных развалин, он застраивался одновременно с возведением за́мков в его округе. К VII в. за́мки приходят в запустение в связи с возведением укреплений шахристана I, а в VIII–IX вв. здесь формируется город (Бернштам, 1941, с. 73; Чуйская долина, 1950, с. 11–12, 14, 20). Типичным за́мковым сооружением являлась цитадель города, построенная в юго-восточном углу шахристана I на высоком стилобате размером 110×110 м. Стилобат же был возведен на естественном возвышении. Раскопками выявлены три строительных горизонта, относящиеся к VII–XII вв., причем со второй половины X и до середины XI в. отмечен период запустения на цитадели. Первоначально здесь находился за́мок с обходной галереей. В его центре размещались парадный зал, служебные и жилые помещения с богатым декоративным убранством (Байпаков, 1986, с. 73). В VII–VIII вв. происходит рост города за счет застройки территории между шахристаном II и за́мком-цитаделью. В общую оборонительную систему включается вся территория; цитадель усиливается двумя выносными башенками, а рвы со стороны города превращаются во внутренние водоемы-хаузы. О структуре шахристанов без широких раскопок судить трудно, однако россыпи шлаков и наличие производственных отвалов позволяют предполагать размещение здесь и ремесленных мастерских. За пределами шахристанов ремесленные комплексы зафиксированы пока только для X–XII вв. (Кожемяко, 1967, с. 63–90).Фортификация.
Крепостное строительство занимало важное место в градостроительстве региона. В состав городских укреплений входили цитадели и оборонительные стены с башнями. В свое время на основании хорезмийских материалов С.П. Толстов высказал предположение, что крепостные стены раннесредневековых городов представляли собой монолитные сооружения без внутренней стрелковой галереи (Толстов, 1962, с. 51). Разрезы крепостных стен цитаделей, шахристанов и длинных валов показывают, что в строительстве использовались пахса, сырцовый кирпич и их комбинации. Наиболее показательна фортификация городища Красная Речка. Оба его шахристана, цитадель и некрополь имели мощные укрепления. Стены сохранили башни и предвратные сооружения. С внешней стороны шахристаны были окружены рвами шириной до 50 м. Разрез крепостной стены шахристана II выявил следующую конструкцию: на вырубленной в лессовом грунте платформе высотой 2,5 м возведена стена из нарезных пахсовых блоков. Ширина ее по основанию 12,3 м, сохранившаяся высота 5 м. Перед крепостной стеной с внутренней стороны оставалась свободной незастроенная полоса. Стена участка, примыкающего к шахристанам с запада, была построена в процессе формирования здесь некрополя в VII — середине VIII в. Она глинобитная и возведена на гребне естественного возвышения на пахсовой платформе; ширина по основанию 10,5 м, кладка сохранилась на высоту 2,7 м. Индивидуальные ограждения из глинобитно-сырцовых стен имели отдельные усадьбы, культовые комплексы и расположенные в пределах «длинной стены» за́мки. В Таласской долине наиболее мощными стенами был окружен Тараз. Ширина стены, возведенной из пахсовых блоков, чередующихся со слоями гальки, достигала 15–20 м (Сенигова, 1972, с. 65). Разрез крепостной стены Актобе Таласского выявил пахсовую кладку, в качестве наружной облицовки которой применялся рваный камень (Кожемяко, 1963, с. 167–171). Разрезы «длинных стен» показали, что они возводились из пахсы ленточной техникой с использованием в конструкциях сырцового кирпича, слоев гальки и гравия. Параметры стен различны: при ширине стен от 2 до 7 м сохранившаяся высота их, как правило, не превышает 5 м. При сравнении стен раннесредневековых городов Семиречья с укреплениями городов Средней Азии и Южного Казахстана обнаруживается их близость и однотипность как в устройстве, так и в строительной технике (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 14–23; Воронина, 1959; Нильсен, 1966, с. 224–232).Строительство и архитектура.
Развитие экономики и расширение торговли способствовали расцвету строительного дела, монументального искусства и архитектуры, о которых можно судить главным образом по жилым и общественным постройкам, культовой архитектуре и погребальным комплексам. В период начальных этапов градостроительства четко выделялись согдийские культурные эталоны и навыки, привнесенные переселенцами из Согда, Чача, Тохаристана, Уструшаны. Особенно наглядно это проявляется в за́мковых сооружениях. За́мки раскапывались на городищах Ак-Бешим, Красная Речка, Тараз, Луговое, Актобе Таласское. Они возводились из пахсы, сырцового длинномерного кирпича на лессовом растворе, с применением комбинированной кладки (табл. 97, 8, 9). Это монументальные здания, возводившиеся на высоких искусственных платформах. Нередко использовались естественные возвышения. Постройки имели один или два этажа с множеством узких полутемных помещений, коридоров. Обычно нижний этаж имел по шесть-восемь длинных комнат, толщина стен которых достигала 2 м и более. Нижние этажи освещались через специальные люки в сводах или с помощью светильников. Пандус или перекидной мостик вел на второй этаж, а уже по лестнице можно было попасть в комнаты нижнего этажа. К за́мку обычно примыкал обширный двор, обнесенный глинобитной стеной. Гребни стен, как правило, венчали уступчатые парапеты, откуда можно вести обстрел. Весь облик построек свидетельствует о том, что за́мок был не только жилым, но и оборонительным сооружением. Коробовые своды выводились наклонными отрезками, арки — клинчатой кладкой. Квадратные помещения перекрывались куполами. Переход к куполу осуществлялся с помощью арочно-ступенчатых тромпов (табл. 105, 2). Примером такой постройки могут служить за́мки Краснореченского городища. А.Н. Бернштам в предвоенные годы раскопал за́мок, расположенный в 1 км к югу от шахристана, и относил эту постройку к типу согдийских кешков. Здание прямоугольной формы. Длинный коридор вытянут с востока на запад. С севера и юга к коридору примыкают однотипные длинные прямоугольные помещения, перекрытые коробовыми сводами (табл. 97, 2). К зданию примыкал небольшой дворик с хозяйственными постройками, обнесенный стеной (Бернштам, 1950, с. 32–36, табл. V). На Краснореченском городище исследованы еще два за́мка. Оба они расположены к югу от центральной части городища. Первый находился в 200 м южнее юго-западного угла городища и представлял собой прямоугольное в плане монументальное сооружение, ориентированное по странам света. Площадь здания 24×29 м. К нему примыкал дворик, окруженный валами. Монументальность и архитектурно-планировочный принцип сооружения подчеркивают его оборонительные функции. Здание включает три длинные узкие комнаты, соединенные между собой широкими проходами, расположенными в середине стен. В восточной (торцовой) стене среднего помещения находился вход в за́мок (табл. 97, 3). В здании неоднократно проводился ремонт, сводившийся к промазке полов и очень незначительным перестройкам (Кожемяко, 1989, с. 66–67). Третий за́мок открыт неподалеку от юго-западного угла шахристана II и представлял собой прямоугольную постройку, ориентированную углами по странам света. Три угла за́мка, кроме южного, обращенного во двор усадьбы, укреплены башнями подтреугольного и пятигранного очертаний. Башни выступают за линии стен на 2,8 м. Мощные глинобитные стены, толщиной до 6,7 м, образуют периметр здания. Внутренние стены выложены из длинномерных сырцовых кирпичей. Здание принадлежит к постройкам коридорно-гребенчатого типа. По центральной оси с северо-востока на юго-восток на всю внутреннюю длину прямоугольника проходит коридор. По обе стороны коридора расположены параллельно однотипные длинные помещения (по четыре с каждой стороны). На каждой из внутренних стен в центре — полуциркульная арка, скорее всего декоративная (табл. 97, 8). На плоскостях стен, образующих коридор, выложено по три арки. Они закрыты торцами стен, образующих комнаты. В здании не выявлено ни одного дверного проема: ни между помещениями, ни внешнего, выводящего из за́мка наружу. Автор раскопок за́мка П.Н. Кожемяко предполагал наличие в за́мке второго этажа, пандуса или перекидного моста от какого-то сооружения, по которым входили в помещения второго этажа, а оттуда по деревянным лестницам спускались на первый этаж (Кожемяко, 1989, с. 33–37). За́мок разрушен в VIII в., на нем была сооружена глинобитная платформа, на которой возведен буддийский храм (табл. 97, 4). Замок «Луговое А» включал семь помещений, прямоугольных в плане и вытянутых в направлении восток-запад. Размеры их варьируют: (2,6–3,6) × (7–7,5) м (табл. 105, 5–7). Массивные стены полутораметровой толщины сложены комбинированной кладкой из глинобитных блоков и сырцового кирпича. В основании их лежат блоки размером 100×50×20 см, затем три ряда кирпичей размером 48×22×11 см. Сводчатое перекрытие выложено наклонными отрезками из кирпичей такого же размера (табл. 105, 2, 4). В конструкции за́мка прослеживаются два строительных горизонта, соответствующие двум периодам жизни здания. В первый период высота помещения с коробовым перекрытием составляла 2,25 м, а купольного — 2,5 м. В этот период все помещения объединялись в единый жилой комплекс и сообщались между собой арочными проходами. Наружные и внутренние стены толщиной 1,7–4,5 м. Углы здания укреплены четырехугольными контрфорсами, выступающими за периметр стен (табл. 105, 6). Первый период датируется VI–VIII вв. Второй период характеризуется рядом существенных перестроек. Помещения изолированы одно от другого. Часть арочных проходов первого периода заложены кирпичом, зато прорублены новые в толще наружных стен, и каждая комната имела свой выход во двор. Уровень нового пола поднялся почти на целый метр. Стены покрыты глиняной штукатуркой и слоем алебастра. Судя по остаткам деревянных балок, для этого периода характерно использование для поддержания сводов дополнительных деревянных опор у внутренних стен в завалах. Верхний строительный горизонт датируется VIII-Х вв. (Байпаков, 1966, с. 61–66).Культовые сооружения.
В городах Семиречья открыты буддийские храмы и монастыри, христианские (несторианские) церкви, зороастрийско-маздеистские наусы и храмы. Их наличие засвидетельствовано и письменными источниками. Персоязычный автор Худуд ал Алам сообщает, что на поселениях в Семиречье жили христиане, зороастрийцы и «сабби» (буддисты?) (Бартольд, 1964, т. II, ч. 2, с. 465–466). При взятии Тараза Сасанидами в 893–894 гг. христианская церковь была перестроена в мечеть. Соборная мечеть города Мирки также прежде была церковью (Бартольд, 1964, т. II, ч. 2, с. 228). В колофоне манихейской рукописи из Ходжо (Турфанский оазис) «Священная книга двух основ» перечислен ряд городов Чуйской и Таласской долин, где в VIII–IX вв. имелись манихейские общины. Это Тараз, Йаканенд, Ордукенд, Чигильбалык (Кляшторный, 1964, с. 131). Судя по археологическим памятникам, наибольшее распространение в области получили зороастризм, буддизм и христианство несторианского толка. Памятники буддийских общин Семиречья VII–X вв. открыты в разные годы на городищах Ак-Бешим, Красная Речка, Новопокровское, Новопавловское. Это храмы, монастыри, часовни, а также находки скульптур, статуэток и стел с буддийскими персонажами и сценами, характерными для других областей Средней Азии, и для Восточного Туркестана середины и второй половины I тысячелетия н. э. Полностью раскопаны остатки двух буддийских храмов Ак-Бешима, датированных концом VII — началом VIII в. (Кызласов Л., 1959, с. 155–227) и VI–VII вв. (Зяблин, 1961, с. 3–73). Частично раскрыты два храма на Краснореченском городище, первый из них датирован IX–X вв., а второй VII–VIII вв. (Кожемяко, 1989, с. 18–24, 37–41). Храмы имеют некоторые отличия в планировке, но они одинаковы в основной планировочной части. В их комплекс входили внутренний двор, святилище с обводным коридором, жилые и хозяйственные помещения. Стены построек сложены из сырца и пахсы, мощность их от 1,5 до 3 м, коридоры перекрывали своды, а целлы — купола. Портальную нишу входа в храм перекрывала арка. Первый акбешимский храм имел прямоугольную форму и вытянут с востока на запад. Вход в храм находился с восточной стороны и представлял собой пандус с суфами по сторонам. Вход вел в небольшой вестибюль, по сторонам которого располагались привратные помещения. Проход из вестибюля вел в большой открытый двор площадью 576 кв. м. Вдоль стен были айваны — навесы с суфами. Двор, видимо, предназначался для отдыха богомольцев. Дверь в западной стене вела в обширный зал, в котором проходили богослужения (табл. 99, 2, 3). Плоское перекрытие зала опиралось на восемь колонн. В западной стене находились три двери. Две из них вели в обходную галерею, третья — в святилище. В зале были четыре постамента, на которых размещались статуи Будды. Две из них были около западной стены по сторонам от входа в святилище. Две другие — в юго-западном и северо-восточном углах зала. На северном пьедестале помещалась статуя Будды Майтрея. От нее сохранились лишь ноги, стоявшие на лотосовидных возвышениях, и куски торса, перед ногами находился круг для жертвоприношений. На южном постаменте сидел Будда с подогнутыми ногами. От него сохранились куски торса и головы. Перед постаментом был глиняный круг для жертвоприношений. Из зала происходит бронзовая бляха, изображающая Будду с поджатыми ногами. Судя по находкам, зал был богато украшен живописью и скульптурой. В святилище из зала вела лестница, сложенная из сырцовых кирпичей, она имела марш из пяти ступеней. Святилище квадратное в плане, площадью около 40 кв. м. Посреди пола находилось прямоугольное углубление. Его стенки выложены кирпичом. Исследовавший этот памятник Л.Р. Кызласов полагает, что в этом углублении стояла основная статуя Будды из бронзы (Кызласов, 1959, с. 185). Около западной стены святилища найдены 12 бронзовых блях, лежавших вместе. На них изображен Будда, или один, или в сопровождении бодисатв (табл. 100, 1–3, 5–8). Бляхи, видимо, являются частью иконостаса, располагавшегося около западной стены святилища. Вокруг святилища проходила обходная галерея. Вдоль галереи шли суфы. По всей галерее на суфах были размещены скульптуры и даже скульптурные группы. Их обломки обнаружены в галерее в большом количестве. Второй храм Ак-Бешима имел квадратный план (38×38 м) и был обращен входом на север. Крестовидная в плане целла (10,5×10 м) была обведена двумя коридорами, выходящими в квадратный дворик (табл. 101, 1). В стенах святилища и коридоров имелись ниши для скульптур, сами стены покрыты росписями. По мнению Л.П. Зяблина, святилище храма имело деревянную конструкцию перекрытий, характерную для памятников Восточного Туркестана. Среди остатков глиняной скульптуры выделены различные персонажи буддийского пантеона, в том числе будды, бодисатвы Докшита и др. (табл. 102, 9, 11, 12). Несколько отличался от акбешимских храмов первый краснореченский храм, датированный IX–X вв. Он состоял из целлы с обводным коридором и зала, открытого на юго-восток. Центральное святилище имело площадь 3,2×3,2 м. На стенках его сохранились небольшие участки росписей по белой подгрунтовке голубыми, коричневыми и красными красками. На одном из фрагментов сохранилась надпись, нанесенная черными «чернилами», которую, однако, отнести ни к согдийской, ни к индийской невозможно. Обходная галерея окаймляет святилище с трех сторон, ширина коридоров от 2,3 до 2,7 м. В комплекс храма входили два открытых во двор помещения, пристроенные по бокам от святилищ. Вдоль стен этих залов имелись суфы (табл.97, 4). Скульптуры в храме не обнаружено (Кожемяко, 1989, с. 18–20; Горячева, 1991). Второй краснореченский храм по планировке аналогичен первому акбешимскому. Вскрыты святилища и небольшой участок двора перед ним, два обводных коридора. Целла имела квадратный план (6×6 м) и купольное перекрытие; сохранились подкупольные конструкции в виде тромпов с фестончатым очертанием арки. Святилище украшали сложные скульптурные композиции, конструктивно связанные с кладкой стен с помощью деревянных столбов и креплений. Время не сохранило до наших дней эту пристенную массивную скульптуру, но в завалах поднята масса фрагментов мелкой пластики (размещавшейся поверху, в нишах или сочетавшейся с основной скульптурной композицией). Остатки двух глиняных скульптур подняты у входа в целлу. Они стояли по бокам на постаментах; по отдельным частям торса и голов реконструируется их высота в полтора человеческих роста. Скульптура разрушена еще в древности. Обводные коридоры имели длину по 12 м. На стенах сохранились остатки полихромной живописи по лессу. В один из периодов эта роспись была перекрыта живописными композициями по ганчу. В западном коридоре находилась скульптура «усопшего Будды». (Сохранилась часть торса.) Длина скульптуры 8 м при ширине торса 1,5 м. Скульптура лежала на правом боку на постаменте, окрашенном в красный цвет. Одеяние Будды, драпированное в складки, также красного цвета. Скульптура конструктивно была связана с кладкой стены и выступала за линию стены лишь на 3/4 объема (табл. 102, 17). Фоном для Будды, пребывающего в нирване, служили живописные сцены и, возможно, пристенные барельефы, не дошедшие до наших дней. Храм разрушен в IX-Х вв. (Кожемяко, 1989, с. 21; Горячева, Байпаков, 1989, с. 73–75). К этому же времени относятся частично вскрытые на Акбешимском и Новопавловском городищах монастыри (сангарамы) и часовни с комплексом жилых помещений, украшенных живописью и орнаментальной росписью, монументальной скульптурой и барельефами (Бернштам, 1950, с. 48–55, 91–93). Подобный же памятник разрушен при строительстве в с. Новопокровка, расположенном между Ключевским и Краснореченским городищами. Отсюда происходят часть собранной скульптуры из ганча и глины, бронзовые и каменные предметы индийского импорта (Goryacheva, 1980, p. 50–51). О храмовой архитектуре христиан-несториан Семиречья дает представление церковь, раскопанная в северо-восточной части шахристана городища Ак-Бешим. В плане это прямоугольное сооружение с арочным оформлением входа, размером 36×15 м. Здание ориентировано по оси запад-восток; с западной стороны располагается двор, вдоль стен которого первоначально были навесы. В восточной части размещалась сама церковь. Крестообразная в плане, церковь перекрыта куполом, стены расписаны яркими красками. Вскрытые здесь захоронения с инвентарем датируют весь комплекс VII–VIII вв. (табл. 99, 4). Небольшая, простая по форме акбешимская церковь сходна с парадной несторианской церковью V–VI вв. в Мерве (Хароба-Кошук). В отличие от храмовой христианской архитектуры Ближнего Востока в Средней Азии сложился особый тип церкви, где неф заменен открытым двором (Высоцкий, 1983, с. 25; Кызласов, 1959, с. 231–233). Культовые постройки зороастрийцев не раскапывались. Один комплекс, возможно храмового назначения, связанный, по-видимому, с отправлением зороастрийской погребальной обрядности и возжиганием священного огня, располагался в западной части Краснореченского городища (Горячева, 1989, с. 85–86). Это массивная коническая башнеобразная постройка в окружении разного рода помещений, выходящих во двор и образующих ограду. Весь комплекс занимает площадь 220×160 м. Коническая башня высотой 12 м стоит на массивной платформе диаметром 40 м. Наверху находилась площадка, вымощенная сырцовым кирпичом с ганчевой обмазкой. Ниже ее на 2,3 м проходила, по-видимому, галерея. Арка свода перекрытия выведена наклонными отрезками, проход в нее заложен кирпичом. У подошвы холма, с северо-восточной стороны, скопилось большое количество прокаленной многослойной глиняной промазки (пола?). При храме, по всей видимости, были производственные мастерские, в которых изготовлялись храмовый инвентарь и различные культовые атрибуты. В храме-башне мог храниться священный огонь, который при общественных церемониях выносили наверх, как это было принято в Иране и Хорасане сасанидского периода. Там подобные постройки назывались «сигналами» (Godard, 1938; Филанович, 1978, с. 32–43). Многочисленные находки культовых очажков, заслонок, курильниц и подставок для них на поселениях Чуйской долины служат неопровержимым доказательством широкого распространения среди оседлого населения культа огня. Некоторые из этих курильниц копируют башнеобразные постройки. Поэтому не исключено существование храма огня и в среде семиреченских зороастрийцев.Погребальные комплексы. Некрополи.
Некрополи изучались на городищах Ак-Бешим, Красная Речка, Беловодская крепость. Наиболее многочисленны и лучшим образом стратифицированы погребения на Краснореченском комплексе, где в разное время открыты четыре оссуарных кладбища, наусы VIII — начала X в., в которых находились захоронения. А.Н. Бернштам раскопал оссуарный некрополь при за́мке начального периода освоения территории города в V–VII вв. (Бернштам, 1950, с. 30–35). Л.Р. Кызласов на городище Ак-Бешим вскрыл за пределами шахристанов кладбище VII–VIII вв. с захоронениями предварительно очищенных костей в хумах, сосудах и ямках, в камере науса и его овальном склепе и с погребениями по обряду трупоположения (табл. 99, 10) на прилегающей открытой площадке (Кызласов, 1959, с. 230–231). Оссуарные захоронения были впущены в платформу разрушенного за́мка на Ак-Бешиме (Кызласов, 1959, с. 230–231). В Таласской долине городские некрополи изучались в Таразе (Тектурмас) и Костобе. Распространение оссуарного обряда на Таразском некрополе прослеживается с VI по IX в. (Ремпель, 1957, с. 102–110). Наряду с захоронениями по зороастрийскому обряду здесь же отмечены захоронения христиан (Пацевич, 1948, с. 98–104) в грунтовых и сырцовых могилах по обряду трупоположения. При раскопках Тектурмаса обнаружены захоронения в деревянных гробах и оссуариях. Они, видимо, принадлежали христианским и зороастрийским общинам города. На городском кладбище Хамуката открыты одиночные и коллективные захоронения в наусах из сырцового кирпича. В коллективных захоронениях находилось до 20 погребенных. Как правило, анатомическое положение скелетов нарушено подзахоронениями и грабительскими раскопками. В наусах найдены серебряные серьги, перстни со щитками и выступами, серьги с бусинами, железные браслеты, бусы, бляшки в виде двух павлинов в геральдической позе, бронзовый нательный крест, ручка бронзового зеркала в виде фигурки сидящего человека. Здесь же находились захоронения костей в хумах и скопления костей. Встречены трупоположения в позе всадника, в вытянутом положении на спине. Среди керамики — котлы, кружки, кувшины, характерные для VI–X вв. Самые верхние, поздние захоронения принадлежат мусульманам. Городской некрополь Краснореченского городища располагался в 300–350 м к западу от шахристанов, на площади около 5 га, и содержал наусы и могилы под курганными насыпями, характерными для полуоседлого населения этого региона, а также Ферганской долины (Брыкина, 1982), Чач-Илака (Буряков, 1982, с. 139) середины I тысячелетия н. э. Отмечено несколько видов подкурганных захоронений — в грунтовых ямах, подбоях и катакомбах, — получивших массовое распространение на некрополе с конца VII — начала VIII в., что может быть связано с оседанием в городе кочевого населения (табл. 98, 8-14). Курганные насыпи были снивелированы в начале VII в., когда на территории города стали строить зороастрийское святилище. С этим же горизонтом связаны несколько ям, заполненных золой, перемешанной с углями, песком и гумусом; в других ямах содержались зола, закопченная кухонная посуда и кости животных. На участке в 300 кв. м расчищены семь таких ям, причем разного диаметра и глубины. Захоронения этого периода включают следующие типы: полуземляные склепы; кирпичные камеры; подбои; грунтовые ямы, в которые ставили оссуарии и хумы с предварительно очищенными костями; захоронения в хумах; трупоположения с различной ориентацией без сопроводительного инвентаря. Преобладали же погребения в виде скоплений костей в ямках и небольших склепах. Следующий этап в формировании некрополя города Невакета связан с горизонтом подбойных и катакомбных могил, разрушивших постройки предшествующего горизонта. Под стенами и суфами алтарного помещения хоронят по тюркскому обряду. Наиболее интересны захоронения с конем. Они производились в подбоях, устроенных в северных стенах могильной ямы, с восточной ориентацией людей и западной — коня. Одно из тюркских захоронений парное: мужчины монголоидной расы в возрасте 55–60 лет и европеоидного типа женщины (по всей видимости, согдианки) 23–29 лет; на приступке в южной половине могилы была положена лошадь в полном боевом снаряжении с седлом. Рядом с черепами людей сохранились кости барана (лопатка и грудинка) и четыре железных черешковых наконечника стрел (Горячева, 1985, с. 41–422). Захоронения этого горизонта свидетельствуют о процессе интенсивного внедрения в городскую среду тюрок-кочевников. Парные захоронения с конем подтверждают свидетельства письменных источников о практике смешанных браков, особенно среди феодальной знати. Показателен в этом отношении так называемый брачный контракт из Мугского архива согдийских документов, датированный 711 г., из которого следует, что самаркандский князь по имени Уттегин (тюрок по происхождению) брал себе в жены согдиянку Дугдгончу из города Невакета (Лившиц, 1962, с. 17–45). Верхний, четвертый горизонт Краснореченского некрополя, датирующийся серединой VIII — началом X в., представлен новым обрядом погребений в наусах, однокамерных склепах, на открытых площадках, в нишках под основаниями стен наусов, в крепостной стене, черепов и разрозненных костей — в хумах, оссуариях, корчагах (табл. 98, 1–6). На всей площади раскопа в 300 кв. м наусы подстилала мощная (до 40–50 см) платформа из плотной утрамбованной земли. Попадающиеся при этом костные останки людей и кости животных (следы поминальных тризн) были сложены в яму, специально вырытую у крепостной стены, но за пределами наусов. В ней оказались разрозненные кости и черепа не менее 24 человек. Слой костей в яме (диаметром 1,75 м) составил 30 см; поверх костей насыпан чистый лёсс (Байпаков, Горячева, 1981, с. 491). Открыт 21 наус. Наусы, заключенные в небольшие оградки, представлены и двухкамерными и однокамерными постройками из глины и сырцового кирпича и перекрыты сводами или куполами. Площадь внутренних камер этих «мавзолеев» различна — от 1 до 10 кв. м, при толщине стен от 0,7 до 1,5 м и высоте 1,2–1,8 м. В наусы вел узкий лаз, заложенный кирпичом, но разбиравшийся при необходимости нового захоронения. Внутри стояли оссуарии, хумы, горшки или лежали кучки костей и отдельные черепа. У входа некоторых наусов сохранились трупоположения. Между группами наусов оставались незастроенными площадки, где и было сконцентрировано наибольшее количество керамики, костей животных, следов кострищ. Здесь проводились поминальные обряды. Наблюдается также захоронение предварительно очищенных костей в небольших индивидуальных ямках, под полами наусов и в нишках. Одна из вскрытых погребальных построек была квадратной в плане формы, с длиной стен 12,3 м по внешнему фасу. Центр науса занимал широкий коридор во всю длину здания, по сторонам которого располагалось шесть камер — по три с каждой стороны (табл. 98, 6). Вход оформлен двумя выступающими пилонами. Наус перекрыт сводами, а входы в камеры — клинчатыми арками. Размеры их примерно одинаковые, (1,1–1,85) × (0,9–1,1) м, при высоте до 1,8–1,9 м. Входы в камеры замурованы сырцовым кирпичом, в каждой из них было по одному-два захоронения в виде скоплений или россыпей костей. На полу камер и по углам отмечены надувные слои, свидетельствующие о долгом пребывании костей в открытых и продуваемых помещениях. Это согласуется с сообщением ал Бируни о том, что в наусах огнепоклонники выставляли трупы умерших, которые там должен обдувать ветер (Бируни, 1957, с. 478). В северном конце коридора выявлена большая яма, заполненная чередующимися слоями рыхлой глины, песка с золой и угольками, камышового тлена, органических и зольно-гумусных пятен. Пространство между двумя уровнями полов также заполнено золой, прокаленной глиной, небольшим количеством косточек барана, фрагментами кухонной керамики VIII–IX вв. По-видимому, в яму сбрасывалось все то, что оставалось от обряда очищения костей и манипуляций с огнем (сжигание одежды, носилок). Зола перекрывала слой органического содержания. Очищенный, но еще сохраняющий связки скелет переносили в камеры, а где он истлевал окончательно. По истечении определенного времени кости либо собирались в сосуд, либо складывались в уголок камеры, а вход в нее замуровывался. Так восстанавливается обряд погребения и хранения костей в наусе, который одновременно совмещал функции «ката» — «дахмы». При некрополях для совершения обрядов поминовения ижертвоприношения находились небольшие святилища, ритуальные площадки и специально вырытые ямы для захоронения костей жертвенного животного, остатков жертвенных костров и тризн. Святилище на Краснореченском городском некрополе (горизонт VII в.) представляло собой двухкамерное сооружение небольших размеров (6×4,3 м), сложенное из пахсы и сырца. Вдоль трех его стен устроены широкие суфы, покрытые ганчем. В центре помещался небольшой постамент с «экраном» в виде невысокого валика для установления на него жертвенника-алтаря с огнем. Святилище как бы прикрывало тамбурное помещение, в углу которого находилась яма с золой и угольниками, небольшим числом закопченной керамики, чередующимися со слоями песка и лёсса. С запада к святилищу примыкало помещение, где и стены и полы были прокалены на большую глубину. Здесь зачищены остатки очагов, кухонной посуды и костей животных (по-видимому, жертвенных). Многообразие культовой и храмовой архитектуры в раннесредневековых городах Притяньшанья подтверждает свидетельства письменных источников о веротерпимости тюркских каганов, с одной стороны, а с другой — об этнической и конфессиональной пестроте населения Семиречья. По своим планировочным и архитектурно-строительным особенностям семиреченские постройки находят прямые аналогии с раннесредневековыми, а порой и с более ранними культовыми сооружениями Согда и Тохаристана, истоки зодчества которых кроются в греко-бактрийских пластах культуры.Памятники искусства.
Художественное творчество городов Притяньшанья отличается большим разнообразием. Выделяются прежде всего хорошо представленные виды художественной керамики и металла, мелкой пластики (терракота), оссуарии, монументальная (буддийская) скульптура и живопись. В архитектурном убранстве домов появляется резная глина — прообраз ганчевого архитектурного декора и резной терракоты. Большим спросом пользовались изделия согдийских ремесленников. Отдельные предметы утвари отличались высоким художественным мастерством. Многие сюжеты из металла и резного дерева были перенесены на глину, осваивались новые технические приемы в искусстве орнаментики, в частности лепка, тупой и острый стэк, пунсон, штамповка. В гончарном производстве широкое развитие получили тонкий резной орнамент и лощение, воспринятые от керамического искусства эпохи кушан. Весьма разнообразны и сюжеты орнаментов: символы и эмблемы культово-магического характера, антропоморфные и зооморфные мотивы, а также линейные и геометрические, как продолжение орнаментальных традиций украшения металлических изделий в среде кочевников. Тюрко-согдийское взаимовлияние особенно хорошо прослеживается в искусстве мелкой пластики. Раннесредневековая терракота представлена образами согдийцев, степняков-кочевников, тюрок с характерными типами лиц, прическами и одеждой. Они запечатлены в антропоморфных сосудах, в налепах на сосудах (чаще всего ритуальных). В терракотах представлены самые различные эпические и культовые персонажи; некоторые из них связаны с образами божеств зороастрийско-маздеистской и буддийской иконографии. Характерен в этом отношении образ обожествленной царственной персоны или божества Ардвахишт с курильницей-жертвенником в левой руке (табл. 100, 10), в сложносоставной короне и с нимбом из перлов на терракотовой плакетке из Красной Речки (Гренэ, 1987, с. 50–51). Краснореченские оссуарии представлены многообразием художественно-орнаментальных образов, выполненных глубокой резьбой по глине, штампом, налепами и раскраской. Навершия их крышек нередко оформлены в виде человеческих головок, птиц и зверей, фантастических мифологических образов. Налепы на оссуарии составляют особую группу изображений, генетически связанных с искусством древнего Согда и Бактрии-Тохаристана. Особенный интерес представляют два оссуария: овальный в плане с налепами на фасадной стене сцены оплакивания, где центр композиции занимают три человеческие фигуры с молитвенно сложенными на груди руками (табл. 107, 4), и прямоугольный, так называемый ящичный, оссуарий со сценой возжигания священного огня в храме. По центру изображен высокий ступенчатый алтарь с языками пламени, а по сторонам от него — жрецы в рубахах, драпирующихся мелкими складками и трижды обвитых поясами. В руках жрецов и вокруг них — различные символы, связанные с заупокойным обрядом, совершаемым в храме (табл. 107, 1–3). Монументальное искусство (буддийская живопись и скульптура) повествовало о жизни богов и эпических героев и было тесно связано с религиозными представлениями. Росписями покрывались большие плоскости стен, но наиболее распространенной манерой украшения храмов, монастырей и частных домов буддистов являлась орнаментальная роспись. Однако, как отмечает А.Н. Бернштам, в краснореченских домах встречены и такие сцены, как похороны Будды, подношение даров Будде (Бернштам, 1952, с. 151). В скульптурной пластике буддийских общин Семиречья господствуют канонизированные образы. Лица будд широкие, с мягким овалом, полуопущенными веками, оттянутыми мочками ушей, очерк глаз утрированно удлинен. На краснореченских скульптурах поверх ганча, нанесенного на глину, красным контуром обводились верхние части глазного яблока, крылья носа, края губ; глаза прорисовывались двумя черными линиями, тонко сходящимися у виска. Четко очерчены линии бровей, крупные завитки волос, подкрашенные в синий и черный цвет, массивные налепные украшения в виде височных полушарий-бубенцов, нагрудных ожерелий, браслетов на запястьях и т. п. Все это, вместе взятое, свидетельствует о преемственности искусства от поздней античности Средней Азии и в то же время отражает становление в раннем средневековье новых художественных форм и направлений (Пугаченкова, Ремпель, 1982, с. 86–87). Достаточно широко представлен индийский импорт: бронзовые и серебряные с позолотой и инкрустацией драгоценными камнями статуэтки будд и бодисатв, бронзовые бляшки и пластины, каменные рельефы в виде мелких поделок и стелы с сюжетами буддийской иконографии, оформлявшие некогда иконостасы и реликварии буддийских храмов и монастырей. Особый интерес представляет найденная в 1982 г. гранитная стела из Краснореченского храмового комплекса. Лицевая сторона поделена на три изобразительных пояса, где вверху под аркой изображена триада — восседающий на лотосе Будда и стоящие бодисатвы по сторонам. Их лица сбиты, очевидно, при разгроме храмовой скульптуры. Средний пояс изображает сидящих по сторонам ножки лотоса фантастических зверей, а нижний — донаторов (табл. 100, 4). На боковых гранях в цветочном обрамлении даны божества индийского пантеона, исполненные в технике тонкой гравировки. На обороте стелы сохранились следы индийской надписи (не дешифрованы). К числу привозных изделий относится также горельеф на двух сторонах миниатюрного кубического камня (из Новопокровского буддийского комплекса), копирующий сцену в стиле искусства Аджанты: Будда в миру и сцена джатак. Акбешимскому храму принадлежала гранитная плита с рельефным изображением переплетенных между собой двух хищников. Наиболее распространены фигурки стоящих бодисатв с разными атрибутами и положением рук. Изделия имеют снизу и с тыльной стороны штыри для крепления. Т.В. Грек относит их к Кашмиру и Бихару VIII–IX вв. (Грек, 1983, с. 81–83). Таким образом, буддийские и индуистские памятники Семиречья свидетельствуют о достаточно широких международных контактах населения городов и селений Притяньшанья с Северной Индией.Ремесла.
Развитие городов, как торгово-ремесленных центров сопровождалось значительным расширением ремесленного производства. В нашем распоряжении пока мало данных о становлении ремесел в раннесредневековом городе. Пока раскопаны единичные мастерские, по которым можно судить об уровне ремесленного производства, известного главным образом по готовой продукции. Это прежде всего керамика, изделия из металла, кости и камня. Письменные источники свидетельствуют о группе городов и поселков, где добывались и обрабатывались полезные ископаемые. Это отмечается для городов Таласской долины, известной как область по разработке серебра и меди. Область Шельджи (верховья Таласа) в этой сфере соперничала с Илаком и Ферганой. Техника горного дела основывалась на тяжелом ручном труде. Орудия представляют железные кирки, кайла, каменные кувалды, молотки, деревянные и железные клинья. Руду на поверхность доставляли в кожаных мешках, корзинах. Добытая руда проходила стадию обогащения, ее дробили каменными кувалдами или жерновами, затем промывали и обрабатывали вручную. Обогащенную руду доставляли затем в ремесленные центры, где производилась плавка. Обнаруженные у с. Орловка (г. Куль) печи для плавки железа, частично заглубленные в землю, на поверхности сложены из сырцового кирпича. Печи овальные в плане, размером 2,2×1,6 м. В них загружали руду и топливо. Железо получали сыродутным способом. Естественно, качество его было низким. Свинец и серебро плавили в несколько этапов. Вначале получали черный свинец, повторной плавкой его очищали, и только на третьем этапе серебро отделяли от свинца. Из железа кузнецы изготовляли различные орудия труда, быта и оружия. Кроме орудий сельскохозяйственного назначения, известны предметы для упряжки рабочего скота, для повозок. Для бытовых нужд изготовлялись железные сосуды, котлы, весы, гири, ножницы, ножи, замки, скобы. Кварталы гончаров с остатками печей для обжига и мощными отвалами шлаков зафиксированы на некоторых поселениях как в черте крепостных стен, так и за их пределами. Одна из керамических печей обнаружена вблизи центральных развалин Краснореченского городища. Ее топка имеет форму округлой ямы диаметром 2,6–2,8 м и высотой немногим более 2 м. Под печи поддерживал столб, устроенный в центре топки, из подтесанных кирпичей. Стенки и столб ошлакованы. Прослежены щели и дыры — жароходы, ведущие в камеру обжига. Способы формовки посуды восстанавливаются по характерным следам на ней. Конструкция гончарного круга представляла собой сочетание ножного круга с элементами ручного и плоским диском из обожженной глины, на котором формовался сосуд. Посуда VII–VIII вв. имеет неровное дно, что характерно для ручного гончарного круга. Готовый сосуд снимался с круга вместе с диском, а после просушки легко от него отделялся. Некоторые изделия сохраняют следы обработки после формовки: на нижней части некоторых сосудов имеются вертикальные срезы и виден след зачистки дна острым ножом (или ниткой по сырому изделию). Продукция керамистов VII–VIII вв. отчасти копирует формы сосудов, бытовавших в Согде не позднее V–VI вв. С одной стороны, это указывает на сохранение гончарами Семиречья традиции, привнесенной ранее из Согда, а с другой — возможно, на некоторое отставание здесь этого вида ремесла. Основную продукцию раннесредневековых гончаров составляли разной величины и назначения сосуды — хумы, хумчи, корчаги, кувшины, кружки, чаши, тазы, котлы, оссуарии и другие изделия. Кухонная керамика представлена котлами со сферическим туловом и широким устьем. Венчик обычно загнут внутрь или нередко прямой. Тулово украшалось налепными жгутами, манжетовидными накладками, рядами кольцевых вдавлений. Ручки петлеобразные, но встречаются и налепные в виде скобы. В комплексе с котлами идут массивные подставки, крышки плоские либо слегка выпуклые, асимметричной формы, с невыразительными украшениями в виде наколов, защипов по краю. Хумы имеют яйцевидное тулово с подквадратными или округлыми венчиками. Аналогии широко известны в керамике Чача и Согда (Тереножкин, 1948, с. 112–113; Бентович, 1964, с. 266, рис. 1). Водоносные кувшины также имеют яйцевидное тулово и короткую горловину. Коленчатая ручка соединяет венчик и плечики (табл. 103, 1, 9). Различаются два типа кувшинов — со сливом и без него; и те, и другие имеют аналогии в Пенджикенте (там же, с. 269–271, рис. 6). Следует отметить, что в Семиречье водоносные кувшины — одна из наиболее распространенных форм посуды, лучше всего исследованная по коллекции керамики VII–VIII вв. из Ак-Бешима. На горловине кувшина из «Лугового А» имелся налеп в виде стилизованной фигурки человека (Байпаков, 1966а. Рис. 3). Аналогичные налепы встречены на керамике Нижней Сырдарьи. По мнению Л.М. Левиной, они, как и другие элементы на керамике джетыасарской культуры, характеризуют тесные связи этого района с Семиречьем (Левина, 1971, с. 69). Антропоморфные налепы на месте соединения ручки с туловом — нередкое явление для керамики других поселений (Сокулук, Красная Речка). Среди кувшинов наиболее распространены грушевидные сосуды с массивными треугольными сливами, характерными для керамики Согда (Маршак, 1965, с. 224). Кружки представлены несколькими типами: биконической формы с маленькими ручками на ребре; приземистые с широким устьем и вдвое меньшим дном (табл. 103, 2, 3, 6–8). Встречены кружки с «раздутым» туловом со слегка расходящимися кверху стенками, покрытые красным ангобом и украшенные налепами в виде человеческой головки, идентичные кружкам из верхних слоев Пенджикента (Бентович, 1964, с. 281, рис. 21, 1). Есть кружки с волнистым краем и кружки с плоским налепом на ручке. Светильники представлены массивными, выполненными из грубого теста столбообразными подставками с полусферическими резервуарами наверху. Другие светильники — на высокой полой ножке с зубчатой чашей-резервуаром, покрытые красным или светлым ангобом и лощением. Они находят аналогии в материалах Пенджикента (там же, с. 288, рис. 28). Широко распространены светильники на трех ножках, иногда с зооморфными налепами (табл. 103, 19–21, 23, 24). Широко бытовали очажные керамические подставки в виде стилизованных животных. Керамический комплекс из Юго-Западного Семиречья датируется VI — первой половиной IX в. Керамики, которую можно датировать раньше VI в., здесь нет, хотя отдельные ее формы (котлы, водоносные кувшины) и характерны для Согда V–VI вв., в семиреченских городах, в частности в Ак-Бешиме, они бытовали в VII–VIII вв. (Распопова, 1960, с. 162–163). Сейчас можно довести верхнюю границу существования согдийской керамики в Юго-Западном Семиречье до IX в. О производстве тканей можно судить по находкам пряслиц; об изготовлении кожаной посуды — по глиняным краснолощеным кувшинам с рельефным орнаментом, подражающим тиснению на коже. Такие кувшины найдены в слоях VII–IX вв. Тараза (Сенигова, 1972. табл. VI). Ювелирное дело в городах развито повсеместно. Ювелирам были известны такие технические приемы, как фигурное литье, чеканка, тиснение, инкрустация, зернь, скань, гравировка, позолота. В ходе археологических исследований найдены украшения (табл. 104, 1–3, 11–17, 27–30), предметы женского туалета, наборные пояса (табл. 104, 4–8, 12–15, 18–24, 31–35), отдельные изделия в виде флаконов, подставок, печаток, чернильниц. Распространены зеркала, серебряные и бронзовые браслеты, серьги, перстни, бубенчики, подвески, именные печатки. Поделки из металла сочетались с нефритом, бирюзой, жемчугом и сердоликом. Излюбленным камнем был нефрит, который добывался в горах Тянь-Шаня. Им отделывали рукоятки ножей. Из нефрита вытачивали женские браслеты, кольца, подвески и серьги, нательные кресты. Коллекции женских украшений и наборных поясов отличаются разнообразием форм, конструкций, обусловленным способом ношения, размещения на одежде и головных уборах, социальным положением хозяина украшений. Комплексы бус (табл. 104, 37), драгоценных вставок, пластин и бляшек, а также монет с просверленными отверстиями предполагают существование довольно сложных композиций налобных, височных, нагрудных украшений.Торговля.
Торговля была одним из важнейших факторов развития города. Город не только производил, но и торговал, причем вторая его функция в глазах современников была едва ли не важнейшей. В городе сходились три основных направления товарообмена: между странами, между городом и его округой, между городом и кочевой степью. Хорошо известна для этого времени международная караванная торговля, в развитии которой важная роль принадлежала согдийцам и тюркам (Кляшторный, 1964, с. 101–103). Именно северная ветвь Великого шелкового пути проходила через Чач, юг Казахстана и Семиречье. Известно описание его участка, который шел через города Суяб, Тараз и Испиджаб (Зуев, 1960, с. 87–96). В Испиджабе от него отходило ответвление на северо-запад, в Фараб, Шавгар и дальше в низовья Сырдарьи и в степи Центрального Казахстана. Торговля приносила тюркской аристократии значительную выгоду, и в частности позволяла реализовать захваченную в набегах добычу. Не случайно уже в 567 г. каган Истеми направил два посольства в Иран для налаживания торговли (Бартольд, 1963, т. II, ч. 1, с. 31). Посольства успеха не имели. Тогда каган направил посольство в Византию, и между двумя государствами был заключен торгово-политический союз (Пигулевская, 1951, с. 202–204). Из Китая вывозили шелк, лаковые изделия, бумагу, зеркала. В Китай со Среднего и Ближнего Востока из Византии везли краску для бровей, вавилонские ковры, драгоценные камни, кораллы и жемчуга, стекло, ткани (там же, с. 90–94). Согдийцы производили и продавали серебряные изделия, цветное стекло, лекарственные и красящие вещества, ковры (Шефер, 1981, с. 164, 270, 312; Распопова, 1974, с. 83). В числе центров производства серебряных сосудов, видимо, были города Семиречья (Даркевич, Маршак, 1974, с. 213–232). Часть предметов роскоши из Византии, Согда, Китая и других стран оседала в ставках тюркской знати, в домах горожан. Известны серебряные кувшины с подражанием византийским клеймам, золотые византийские монеты, китайские зеркала (Городецкий, 1926, с. 77–81; Бернштам, 1950, с. 48). Обменная торговля с кочевниками осуществлялась на ярмарках, которые устраивались в городах Тараз, Суяб, Невакет, Дех-Нуджикес, Кулан. Важным торговым центром Юго-Западного Семиречья был Тараз, о котором источники сообщают как о «городе купцов» (Волин, 1960, с. 73). В Чуйской долине таким городом являлся Суяб, где «смешанно живут торговцы из разных стран», а половину жителей города составляли купцы (Зуев, 1960, с. 90–91). О развитии денежной торговли в городах Чуйской долины свидетельствуют монеты тюргешей и тухусов (Смирнова, 1981, с. 59–61), которые выпускались в каганатах в VII–VIII вв., но находились в обращении вплоть до XI в. Семиреченские монеты представляют собой медные литые кружки диаметром от 12 до 28 мм, с квадратным отверстием в центре. Наиболее распространены монеты тюргешские и так называемые круга тюргешских, в том числе тухусские. Тюргешские монеты выпускались от имени кагана, о чем свидетельствует круговая согдийская надпись на одной из сторон: «Господина (Божественного) тюргешского кагана деньга»; или: «Господин тюргешский каган Фан». Наиболее типична легенда «Тухусский господин» (Смирнова, 1958, с. 531; Настич, 1988, с. 96–120). Тухусские монеты были меньших размеров и худшего качества. Установлены четыре типа семиреченских монет, внутри которых выделяются группы, отмеченные различными вариантами тамг, наличием или отсутствием легенды, разницей в весе и технике изготовления (литые и чеканные).Сельское хозяйство.
Важную роль в жизни городского и оседлого населения играли земледелие и животноводство. Выращивали зерновые (пшеницу, просо), занимались виноградарством, садоводством и огородничеством. Сведения о производстве вина в городах содержатся в эпиграфических находках. Судя по согдийским надписям на венчиках хумов из Краснореченского и Новопокровского городищ, эти сосуды с вином предназначались в дар. Одна из надписей гласит: «Этот сосуд — дар общины Пакапа. Это вино в радостное время пей, государь… Государь ал Сильге, получивший счастье от богов, да будет счастливым, благоденствующим!» (Лившиц, 1981, с. 70–77). Остатки винодельни VII–VIII вв. обнаружены на городище «Луговое Б». Она находилась в одном из помещений жилого комплекса усадьбы и состояла из нескольких соединенных трубами давильных площадок, откуда виноградный сок стекал в емкость, где отстаивался, очищался, а затем разливался в сосудах. Здесь же из сока варили бекмес — патоку (Байпаков, 1966, с. 88–91). Винодельня обнаружена и на городище Торткуль (Нижний Барсхан) в Таласской долине (Сенигова, 1972, с. 68). Средневековые авторы свидетельствуют, что достаточно большое количество жителей городов занималось сельским хозяйством. По сообщению автора начала VII в., в Чуйской долине «тех, кто возделывает поля, и тех, кто преследует выгоду (торгует), поровну» (Зуев, 1961, с. 90–91). В источнике середины VIII в. характеризуется Таласская долина: «…с третьего до девятого месяца не бывает дождей, а для полива полей пользуются снеговой водой. Здесь произрастают ячмень, пшеница, рис, горох, бобы. Жители пьют виноградные и конопляные вина, айран» (Зуев, 1960, с. 93). В Таразе и Краснореченском городище обнаружены косточки урюка, винограда, арбузные и дынные семечки, зерна пшеницы, проса, риса. Таким образом, сельское хозяйство играло немаловажную роль в жизни средневекового горожанина. Находки зерна, семян садовых и бахчевых культур свидетельствуют о подсобных занятиях горожан полеводством, садоводством, бахчеводством.Глава 10 Среднее течение Сырдарьи (К.М. Байпаков)
Географический очерк.
Южный Казахстан, или Присырдарьинская географическая провинция, ограничивается на севере степями Центрального Казахстана, на юге Таласским Алатау, на востоке Джувалинским плоскогорьем, на западе песками Кызылкумов (Чупахин, 1970, с. 186–188, 339–349). Наиболее удобна для жизни и развития земледелия предгорная зона Таласского Алатау, по своим природным условиям во многом сходная с северными районами Средней Азии, и прежде всего с Ташкентским оазисом.
Карта 10. Среднее течение Сырдарьи. а — крупный город; б — малый город; в — современное селение. 1 — Актобе; 2 — Чардара; 3 — Сейидтепе; 4 — Актобе; 5 — Баиркум; 6 — Сайрам; 7 — Турткультобе; 8, 9 — Балыкчи; 10 — Казатлык; 11 — Шортобе; 12 — Джувантобе; 13 — Кокмардан; 14 — Оксус; 15 — Отрар; 16 — Куйруктобе; 17 — Бузук; 18 — Кумтобе; 19 — Каратобе; 20 — Артык-Ата; 21 — Мейром; 22 — Баба-Ата; 23 — Кумкент.
В пределах Южного Казахстана находятся горы Каратау. Склоны хребта на всем протяжении орошены многочисленными реками. Среди них наиболее крупные Боролдай, Чаян, Бугунь, Баялдыр, Икансу. Особое место занимает долина Сырдарьи. Древнее ее название, переданное греками в форме «Яксарт», сохранялось вплоть до арабских завоеваний. В средневековье она именуется в письменных источниках Сейхун, Кангар, Гюль-Зариун, Йинчуугуз, и лишь в XVI в. вновь приобретает популярность ее первоначальное название «Сыр» (Кляшторный, 1964, с. 74–76). Природные условия способствовали развитию в районе комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства (Андрианов, 1969, с. 227). В последние столетия до н. э. — первые века н. э. на Сырдарье находился центр государственного объединения Кангюй, а в средние века здесь формируются несколько крупных центров городской культуры: предгорья Таласского Алатау и верховья р. Арысь, где находились округ Испиджаб и одноименный город, столица Южного Казахстана IX–XII вв. (Бартольд, 1963, т. I, с. 232), в среднем течении Арыси локализуется средневековый округ Кенджиде (Бартольд, 1963, т. I, с. 233); Отрарский оазис соответствует средневековому округу Суараб (Бартольд, 1963, т. I, с. 233); Туркестанский оазис занимает часть среднего течения Сырдарьи. Судя по письменным источникам, здесь в раннем средневековье размещался округ Шавгар (Бартольд, 1963, т. I, с. 234), а в позднем средневековье находился главный город Южного Казахстана — Туркестан (Пищулина, 1969, с. 19–21). В низовьях Сырдарьи в IX–X вв. располагался центр государства огузов. В XI — начале XIII в. здесь находилась столица кипчакского государства, а в XIV–XV вв. — Ак-Орды (Бартольд, 1963, т. I, с. 235–237; Агаджанов, 1969; История Казахской ССР, 1979).
История изучения оседлой и городской культуры.
Начальный период накопления исторических знаний о древностях южных районов Казахстана охватывает XVII — первую половину XIX столетия. В это время усиливаются торговые, дипломатические и экономические связи России с Казахским ханством и среднеазиатскими владениями. В дошедших до нас записках, дневниках, донесениях служилых людей обстоятельно описываются обычаи и нравы, хозяйство народов Казахстана и Средней Азии (Масанов, 1968). Сведения о древних памятниках чаще встречаются у русских топографов, геодезистов, картографов, инженеров (Книга к Большому Чертежу, 1950). Во второй половине XIX в., после присоединения Средней Азии и южных районов Казахстана к России и образования Туркестанского генерал-губернаторства, включавшего Сырдарьинскую (Туркестанскую и Семиреченскую) область, усиливается интерес к новому краю, к его прошлому. Интересную страницу в истории русской восточной археологии представляют работы по изучению развалин города Джанкента (Янгикента). Сведения о нем впервые появились на страницах печати в 1867 г. (Макшеев, 1867; Григорьев, 1867). Весной того же года Джанкент осмотрел известный русский ориенталист П.И. Лерх. Он обследовал также городища Сауран, Туркестан, Сыгнак (Лерх, 1870). В.В. Бартольд в 1893–1894 гг., проехав по маршруту Ташкент-Чимкент-Аулие-Ата-Пишпек-Верный, обследовал Южный Казахстан, долины Таласа и Чу, Илийскую долину (Бартольд, 1966б, т. IV, с. 21–91). С именем В.В. Бартольда тесно связана деятельность Туркестанского кружка любителей археологии, организованного в 1895 г. в Ташкенте (Лунин, 1958). Наиболее деятельными его членами от Семиречья и юга Казахстана были Н.Н. Пантусов и В.А. Каллаур. В.А. Каллауру принадлежит большое число статей и заметок, посвященных главным образом средневековым памятникам Таласской долины и юга Казахстана (Каллаур, 1896, с. 25–27; 1897а, с. 1–9; 1897б, с. 1–7; 1900а, с. 6–19; 1900б, с. 78–89; 1901, с. 69–78; 1903, с. 11–18; 1908, с. 31; 1904, с. 48–55; 1905, с. 37–39). В 1902 г. члены кружка А.К. Кларе и А.А. Черкасов сняли топографический план Отрара, а в 1904 г. провели на этом городище небольшие раскопки (Кларе, Черкасов, 1904, с. 13–39). Таким образом, в дореволюционный период специалистами-востоковедами, членами ТКЛА, деятельность которого протекала при научной поддержке В.В. Бартольда, была проделана большая работа (фиксация, описание памятников, небольшие раскопки на них). Нельзя не отметить усилия, направленные на охрану древностей, организацию хранения коллекций, пропаганду прошлого Средней Азии и Казахстана. В первые годы советской власти изучение археологических памятников фактически продолжало традиции ТКЛА. В этот период небольшие по объему работы, связанные в основном с регистрацией памятников и описанием их, проводит организованный в 1921 г. Туркомстарис, позднее преобразованный в Средазкомстарис. Достигнутый к 1936 г. уровень развития археологии Средней Азии и Казахстана отразила сессия ГАИМК, где с докладами выступили С.П. Толстов, А.Ю. Якубовский, А.Н. Бернштам, М.Е. Массон. Новый этап в развитии археологии, в том числе и средневековой, связан с организацией в 1946 г. Академии наук Казахской ССР и в ее составе Института истории, археологии и этнографии АН КазССР. Южно-Казахстанская археологическая экспедиция, организованная отделом археологии ИИАЭ АН КазССР и ЛОИА АН СССР, в течение 1948–1951 гг. вела исследования в Южном Казахстане. Ею руководил выдающийся историк-востоковед и археолог А.Н. Бернштам. Изучение топографии городищ, типология памятников, классификация керамики позволили составить представление об узловых культурно-исторических этапах, об уровне развития ремесла, а следовательно, и всей городской культуры Казахстана (Бернштам, 1950, с. 59–99; 1951, с. 81–97; Агеева, 1949, с. 100–118; 1951, с. 98–110; Агеева, Пацевич, 1956, с. 3–215). Центрально-Казахстанская археологическая экспедиция отдела, возглавляемая А.Х. Маргуланом, помимо основной задачи — изучения памятников эпохи бронзы, большое внимание уделяла вопросам возникновения и развития городской культуры в районах с преобладанием кочевнических традиций. С этими целями исследовались города на северных склонах Каратау, в низовьях рек Сарысу, Кенгира, Джезды, в предгорьях Улу-Мау (Маргулан, 1948, с. 109–115; 1951, с. 3–53). Удалось установить наличие городов в районах, находящихся далеко к северу от сырдарьинских очагов городской культуры. В 1945 г. в Казахстане начала работать Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция АН СССР, руководимая С.П. Толстовым. Экспедицией в Кзыл-Ординской области были зарегистрированы и открыты десятки археологических памятников, а в 1948 г. начались стационарные раскопки на городище Алтын-Асар. С.П. Толстовым была выделена джетыасарская культура (Толстов, 1948, с. 125–140; 1949, с. 246–254; Сенигова, 1959, с. 215–231). На основе изучения керамики наметились пути распространения джетыасарской культуры и ее связи с отрарско-каратауской и каунчинской культурами, афригидским Хорезмом, Согдом и Семиречьем (Левина, 1966, с. 45–90). Интересные данные получены в результате обследования группы городищ в низовьях Сырдарьи, связанных с огузами, жители которых на протяжении всего периода средневековья сохраняли традиции полуоседлого комплексного хозяйства (Толстов, 1947, с. 55–102). На протяжении 1953–1959 гг. Южно-Казахстанская археологическая экспедиция во главе с Е.И. Агеевой исследовала памятники оседлой культуры северных склонов Каратау. Основным объектом исследования стало городище Баба-Ата. Его раскопки позволили выявить процесс постепенного превращения (VI–VII вв.) поселения в раннефеодальный город (Археологические исследования, 1962). С конца 60-х годов работы на юге Казахстана разворачиваются в широких масштабах. В долине р. Арысь ведутся раскопки Борижарского могильника и параллельно исследуются оседло-земледельческие поселения и городища в среднем течении реки. На небольшой площади здесь было открыто свыше двух десятков памятников первых веков н. э. — XV–XVI вв. (Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1969, с. 5–42). В 1969 г. в регионе начинает работы Отрарская, а с 1971 г. — Южно-Казахстанская комплексная археологическая экспедиция (ЮККАЭ). На Отраре, помимо периода позднего средневековья, исследовались слои VIII–XII вв., а также памятники оседло-земледельческой культуры Отрарского оазиса (Акишев, Ахинжанов, Байпаков, Ерзакович, 1978, с. 509–510; Байпаков, 1986; Бурнашева, 1975, с. 60–69; Воронина, 1975, с. 70–74; Настич, 1975, с. 97–105; Грошев, 1978, 1980; Нурмуханбетов, 1974, с. 85–94). Фактологическая база, созданная археологическими исследованиями, дает возможность по-новому, более аргументированно ответить на вопросы развития средневековой оседлой и городской культуры на юге Казахстана.Города и поселения.
В настоящее время на территории средней Сырдарьи, включающей Отрарский и Туркестанский оазисы, верхнюю и нижнюю Арысь и склоны Каратау, открыто свыше трех десятков городищ и поселений. К сожалению, «чистых» раннесредневековых памятников известно мало, поскольку подавляющее большинство городищ и поселений продолжали развиваться в последующее время и топография их изменялась и усложнялась. Поэтому о характере городов и поселений VI — первой половины IX в. можно судить по таким городищам, как Кок-Мардан, Пшук-Мардан, Алтынтобе, Мардан-Куюк в Отрарском оазисе (табл. 110, 1), Каратобе в Туркестанском, Джувантобе на средней Арыси. Верхние слои последнего относятся к VI–IX вв. Для всех городищ характерна трехчастная структура с выделением цитадели, собственно города (шахристана) и рабада (торгово-ремесленной части). По внешним особенностям можно выделить три типа городищ. Для первого характерны значительные размеры центрального тобе (цитадель и шахристан). Примером служит городище Кок-Мардан, состоящее из центрального бугра, овального в плане, площадью 3,2 га и высотой до 16 м. Северная, наиболее возвышенная часть городища — подквадратная в плане цитадель площадью 25×25 м возвышается над городом на 15 м. От остальной части городища она отделена ложбиной. Вокруг центрального бугра, окруженного рвом, до сих пор заполненным паводковыми и родниковыми водами, расположен рабад. Он имеет вид подпрямоугольных всхолмлений высотой до 2–2,5 м со следами «читаемой» планировки. Площадь рабада около 4 га. С центральной частью городища он соединяется дамбой, подходящей к единственному восточному въезду на городище. От въезда отходила «центральная» улица шириной 2–3 м, пересекавшая городище с востока на запад. «Диагональная» улица пересекала городище с юго-востока на северо-запад, а «кольцевая» опоясывала шахристан по периметру на расстоянии 5-15 м от него и упиралась в незастроенный участок, отделявший шахристан от цитадели. Ко второму типу городищ относятся такие, у которых размеры центральных развалин тобе невелики. Однако в топографии тобе различается наиболее возвышенная часть, занятая цитаделью. К этому типу можно отнести такие городища, как Алтынтобе и Пшук-Мардан в Отрарском оазисе. Например, центральные развалины тобе у городища Алтынтобе представляют собой высокий холм с крутыми склонами высотой до 15 м и площадью в основании 100×100 м. В юго-восточной части верхней площадки выделяется куполообразный бугор цитадели. К центральным развалинам с юга примыкает рабад в виде подпрямоугольной в плане площадки высотой 6 м и размером 100×160 м. И наконец, к третьему типу раннесредневековых городищ относятся такие, у которых центральные развалины «тобе» окружены кольцевым рабадом, отделенным широким и глубоким рвом. Яркий пример такой топографии дает городище Джувантобе. Общая площадь, занимаемая городищем, около 14 га. Центральная часть его имеет вид бугра-тобе площадью 110×100 м в основании и высотой 17 м. Наверху бугра имеется площадка размером 65×55 м с цитаделью в южной части. Бугор окружен рвом шириной около 40 м. За рвом расположен рабад в виде гряды высотой 6–8 м и шириной до 60 м. В рабаде различаются ряды построек вдоль ложбины — улицы. Как правило, средневековые города Южного Казахстана развиваются на месте поселений отрарско-каратауской и каунчинской культур, включая их в свою структуру (Максимова, Мерщиев, Вайнберг, Левина, 1968, с. 172–173; Байпаков, 1986, с. 189). Определение характера городища, выяснение роли, которую тот или иной памятник играл в разные периоды своей жизни, — сложный вопрос. Какие из городищ можно считать городом, какие сельскими поселениями, без проведения широких раскопок определить крайне трудно. Бесспорно, что городами были те из них, которые названы так современниками (Большаков, 1973, с. 165). Исследователями предлагаются количественные и качественные методы, при определении характера памятников — размеры их, соотношение цитадели и всей площади городища, трехчастность и правильный план (Заднепровский, 1954, с. 12; Распопова, 1979, с. 22–26; Ртвеладзе, 1973а, с. 24–25; Соловьев, 1979, с. 60–62; Байпаков, 1986, с. 63–71). Важную роль играет типологизация городищ в связи с рассмотрением групп поселений как систем с иерархической внутренней структурой (Массон В., 1976, с. 3, 8). Опираясь на совокупность перечисленных признаков, к числу городов на территории Средней Сырдарьи в указанный период следует отнести Кок-Мардан и Куйруктобе, Мардан-Куюк в Отрарском оазисе, Джувантобе на средней Арыси, Баба-Ата на северных склонах Каратау. Кроме того, городом был Испиджаб, расположенный в предгорной зоне (Бартольд, 1963, т. I, с. 232–233). Впервые он упоминается в «маршрутнике» Сюань Цзяна 629 г. как «город на Белой реке» (Зуев, 1960, с. 91). Позднее Махмуд Кашгарский сообщает: «Сайрам — название белого города, который называется Испиджаб. Про него говорят также Сайрам» (Волин, 1960, с. 78, 80). Этимология топонима Испиджаб в значении «белая вода» на основе согдийского языка предложена В.К. Шуховцовым (Шуховцов, 1978, с. 151–152). Город под названием «Сайрам» дожил до настоящих дней. Вблизи Испиджаба, на отрезке пути, соединявшем его с Шашем, находился город Газгирд. Как установлено, средневековый путь проходил через перевал Турбат и шел на Сайрам (Бартольд, 1966, т. IV, с. 27). В одном из пунктов этого пути, на территории с. Шарапхан, обнаружено городище VII–X вв., которое может быть отождествлено с Газгирдом. Древний топоним Газгирд, видимо, сохранился в современном названии «Кызы-Курт». Так называется горная гряда между Ташкентом и Чимкентом, у подножия которой и находятся развалины города. Восточнее Испиджаба на Шелковом пути находились города или населенные пункты Шараб и Будухкет (Волин, 1960, с. 76), расстояние между которыми соответствует указанному в источниках расстоянию в фарсахах от Сайрама и между собой. Шарабу соответствует городище Тортколь Балыкчи, а Будухкету — городище Казатлык (Агеева, Пацевич, 1958, с. 134–135, 143). Уточненные на основе шурфовок датировки городищ соответствуют времени сообщений средневековых авторов. В низовьях Арыси находился округ Фараб (Отрар) с центром в городе Отрар. В письменных источниках название «Отрар» появляется в VIII в. Одновременно стало известно и другое название города — «Фарадб». Идентичность Отрара с городищем Отрартобе не вызывает сомнений (Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1972, с. 26–43). Однако до сих пор не все ясно в локализации находившегося здесь города Тарбанд (Тарбан), упоминавшегося в древнетюркских надписях и арабских исторических сочинениях. С.Г. Кляшторный отождествляет Тарбанд (Тарбан) с городищем Отрартобе, опираясь на сведения арабского географа Якута (XIII в.): «Турарбанд, город за Сейхуном, из самых отдаленных городов Шаша, примыкающих к Мавераннахру. Народ этой страны по-разному произносит это имя, и они говорят Турар и Отрар» (Кляшторный, 1964, с. 155–161). Раскопки Отрара по уровню слоев VI–VIII н. э. и памятников оазиса этого же периода дали нумизматический материал, который также подтверждает тождество Тарбанд-Отрар (Бурнашева, 1973, с. 162). Было бы крайне интересно выяснить этимологию всех трех названий. Пока бесспорно лишь, что Фараб можно объяснить, как согдийское название «заречного», «берегового» места (Шуховцов, 1978, с. 152). Этимологию топонима Отрар предложил в свое время Н.С. Лыкошин. По его мнению, этот топоним можно объяснить, исходя из тюркского «ут» в значении «огонь», «пепелище» (Лыкошин, 1899, с. 70–74). Возможны и другие толкования. Так, в языке огузов существовали понятия, связанные с длительными остановками, стоянками. Среди них «тураси йер», напоминающее по звучанию Турар и Отрар (Агаджанов, 1969, с. 88; 1972, с. 165–170). Ниже Отрара по Сырдарье находился округ Шавгар с центром в одноименном городе. В.В. Бартольд помещал Шавгар в районе Туркестана (Бартольд, 1965а, т. III, с. 225). Город Шавгар отождествлялся в свое время с городищем Чуйтобе, расположенным в 8 км юго-восточнее Туркестана (Агеева, Пацевич, 1958, с. 94; Байпаков, 1986, с. 26). В переводе с согдийского Шавгар означает «Черная гора» (Шуховцов, 1978, с. 153). Расположение городища в предгорьях Каратау (Черных гор) может служить дополнительным аргументом в пользу тождества Чуйтобе-Шавгар. К городским центрам на Средней Сырдарье периода раннего средневековья следует отнести также городища Турткольтобе и Казатлык.Городская застройка.
Цитадели являлись необходимым элементом городской застройки, играя важную роль в жизни города, став необходимым элементом его фортификации. Цитадели раннесредневековых городов невелики, занимая, как правило, площадь от 0,1 га до 0,5 га. Раскопки проводились на цитаделях городищ Куйруктобе, Баба-Ата, Актобе. Наиболее полно исследована цитадель Куйруктобе, где открыты строительные конструкции трех разновременных строительных периодов (XI–XII, IX–XI, VII–VIII вв.). Конструкции нижнего, первоначального горизонта принадлежали дворцовой постройке цитадели. Она возведена на искусственной платформе площадью 80×80 м, высотой до 10 м, которая представляла собой сложное сооружение из нескольких рядов стен из блоков пахсы, разделенных поперечными перегородками из сырцового кирпича на отсеки, забитые лёссом, строительным мусором (табл. 113, 4). Сама постройка сохранилась плохо, ее наружные края, особенно северо-западный, полностью смыты, часть внутренних стен срублена при позднейших перестройках. Нетронутыми остались лишь капитальные стены, сложенные из пахсовых блоков и длинномерного сырцового кирпича размером (46–48) × (23–24) × (8-10) см. Здание представляло собой прямоугольное в плане сооружение, вытянутое с северо-запада на юго-восток. Как полагают исследователи, по всему его периметру вдоль стен тянулись обводные галереи (или коридоры). По углам здания находились сегментовидной формы башни, которые узкими коридорами соединялись с обводными галереями. Прямоугольное пространство, ограниченное обводными галереями, занимали парадные и жилые помещения. В центре находился большой парадный зал, площадью 157,5 кв. м, с выходом в юго-восточном углу в обводную галерею. Парадное назначение зала подчеркивается его богатым декором. Именно здесь обнаружены обугленные резные доски фриза, украшавшего зал. На них изображены боги и светские персонажи (табл. 116, 1, 2; 117, 1-10). К западу от зала находился культовый комплекс, включавший два помещения (табл. 112, 1, 2). Одно из них, площадью около 30 кв. м, соединено с залом дверным проемом. Вдоль двух стен этой комнаты тянутся широкие суфы. В южном углу находилась лестница, которая, по мнению автора раскопок, вела в несохранившийся юго-западный обходной коридор. В центре комнаты находился большой круглый подиум, на который ставился светильник для возжигания огня во время церемоний (табл. 113). Большой парадный зал был перекрыт бревенчатым дарвази и благодаря этому возвышался над всеми остальными помещениями дворца. В последний период жизни дворца его площадь была несколько расширена за счет пристройки к северо-восточной галерее ряда помещений, которые вместе с башнями выполняли оборонительные функции. Верхняя поверхность крепостных стен служила обзорной площадкой. Вероятно, вдоль всей кромки стены был выложен парапет, венчавшийся многоступенчатыми зубцами. Дворец погиб при пожаре в первой половине IX в. (Байпаков, 1986, с. 71). На цитадели городища Баба-Ата в VI–VII н. э. было выстроено монументальноездание высотой до 6 м, обнесенное стеной из пахсовых блоков и сырцовых кирпичей. Здание имело площадь 15×16 м и возведено из сырцового кирпича размером (40–41) × (20–22) × (9-10) см. Постройка была двухэтажной, в нижнем, цокольном этаже находился восьмигранный в плане зал диаметром 5,8 м, перекрытый куполом. В центре зала располагался колодец с диаметром устья 1,1 м, стенки которого обложены битым камнем. Из зала на второй этаж вели три наклонно поднимающиеся галереи со ступенями из сырцового кирпича. Галереи были перекрыты стрельчатыми сводами, сложенными методом поперечных отрезков. Ширина галерей 1–2 м, высота 2,85 м. На втором этаже находились шесть помещений, три из которых расположены анфиладой вдоль северной стены здания. Все они были перекрыты куполами (табл. 113, 5). Два помещения имели одинаковые размеры 3,7×3,7 м, третье 3,2×3,2 м. Купола помещений опирались на арочно-ступенчатые тромпы, расположенные на высоте 0,44 м от уровня пола. Высота стен всех помещений 2,85 м. В центральной комнате вдоль южной стены имелась суфа. Освещение помещений осуществлялось через люки в центре куполов (табл. 113, 6). Очаги определяются по пятнам прокала на полах. В VIII–IX вв. первоначальные сооружения были забутованы, на образовавшейся платформе возведена прямоугольная в плане двухэтажная постройка с полукруглыми башнями по углам (Агеева, 1962, с. 119). В результате площадь постройки увеличилась до 300 кв. м. Снаружи здание было обнесено стеной из пахсовых блоков толщиной 1,18 м. Центром комплекса по-прежнему оставался восьмигранный купольный зал размером 3,82×3,82 м, вокруг зала располагались квадратные и прямоугольные помещения, соединенные арочными проходами. На полах помещений расчищены очажные пятна. Сохранились две башни, включенные в систему обводных стен. Диаметр юго-восточной башни внизу составлял 5,6 м, а на высоте 2 м — 4,05 м. Кладка башни состоит из чередования ряда кирпичей, положенных плашмя, и ряда кирпичей, положенных на ребро, узкой стороной наружу. Вход в здание в этот период находился в северной стороне, обращенной к шахристану. Таким образом, раскопки цитаделей показали, что они выполняли роль укрепленных резиденций правителей городов либо округов. В строительной технике применялись приемы, характерные для всей Средней Азии.Городской квартал.
Раскопки на широких площадях городищ, на территориях шахристанов Кок-Мардана, Куйруктобе, Мардан-Куюка и цитадели Куйруктобе дали возможность составить представление о характере квартальной застройки раннесредневековых городов. Деление города на кварталы было обусловлено тенденцией к изолированности общественных групп и людей, связанных родственными узами, общей профессией, религией. Уже у Нершахи в «Истории Бухары» встречаются термины «ку» и «махала» («махаллат»), означавшие кварталы Бухары (Нершахи, 1897, с. 69). Широко оперируют понятием «квартал» исследователи средневековых городищ (Кабанов, 1956, с. 95–125; Князев, 1945, с. 163–175; Лунина, 1962, с. 218–409; Массон М., 1940, с. 98–99; 1949, с. 56; Шишкина, 1970, с. 15–18; Федоров-Давыдов, 1958, с. 84–104). Раскопки раннесредневековых городищ Кок-Мардан, Куйруктобе и Мардан-Куюк позволили выделить в их застройке отдельные кварталы и определить квартал как массив городской застройки, состоявший из нескольких домовладений, объединенных внутриквартальной улочкой или же отрезком магистральной улицы. Фасад квартала глухой, границы с соседними кварталами проходили по задним стенам всех домов и боковым стенам крайних домов. На городище Кок-Мардан выявлены три квартала VI — первой половины VII в. Каждый из них формируется тупиком, отходящим от магистральной «северной» улицы и упирающимся в крепостную стену. Длина тупиков 15, 12, 10 м; площади, занимаемые кварталами, соответственно равны 370, 350 и 300 кв. м. В квартале «А» пять домов, в кварталах «Б» и «В» — по четыре дома (табл. 109, 3–7). На городище Куйруктобе раскопан квартал второй половины VII — первой половины IX в. Он находился в восточной части шахристана и представлял собой до раскопок куполовидный бугор диаметром около 30 м. Верхние слои, вплоть до построек VII — первой половины IX в., были смыты. Разрушенными оказались и периферийные участки квартала, но центральная его часть сохранилась достаточно хорошо. Площадь сохранившейся части квартала 306 кв. м. В составе квартала насчитываются четыре дома, расположенные по обе стороны от внутриквартальной улочки. Три домовладения сохранились полностью, а от четвертого — лишь одно помещение. Из трех полностью сохранившихся домов один однокомнатный и два двухкомнатных. Внутриквартальная улочка закрывалась деревянной калиткой; в месте выхода ее на магистральную улицу сохранились остатки паза от порога. Одной из своих сторон (западной) квартал примыкал к городской стене; южная стена отделяла его от остальной городской застройки; восточная часть квартала разрушена. По своей планировке и характеру застройки квартал не отличается от более ранних кварталов (VI–VII вв.) на Кок-Мардане. Середина I тысячелетия н. э. у народов Средней Азии и Казахстана была переломным моментом в переходе от патриархальных семейных общин к малой семье (Кисляков, 1969, с. 17). Для этого времени характерно также сложение своего рода переходной формы семьи. Она состояла уже не из трех или более поколений, а из двух. Старшее поколение было представлено отцом и матерью, с которыми жили все женатые сыновья, как это наблюдалось и в XIX — начале XX в. (Сухарева, Бикжанова, 1955, с. 173–177; Ходжаева, 1956, с. 235). У полуоседлых и оседлых каракалпаков такие семейно-родственные группы именовались «коше». Во главе каждой группы стоял старшина — «коше бий» или «коткуда», который выбирался из числа наиболее богатых или влиятельных стариков. Обычно коше составлял аул, иногда несколько кошей объединялись в более крупные селения, выделяясь в них компактными группами. Семьи вместе пасли скот, вместе отмечали семейные события, сообща выполняли обряды (Жданко, 1968, с. 80–82). Отчетливо прослеживаются семейно-родственные группы и у оседлого населения. У таджиков они называются «кавн» или «каун». Как правило, такая группа проживала в одном квартале, каждая семья владела индивидуальным приусадебным и пахотным участком земли, но все семьи объединялись для пастьбы скота, оказывали друг другу помощь в уборке урожая, в строительстве, вместе справляли общие семейные праздники, имели общую мечеть и общее кладбище (Кисляков, 1969, с. 18). У кочевников также наряду с малой семьей появилось и более широкое объединение с признаками экономического и территориального единства. Группы состояли из семей, находившихся в родстве и связанных сознанием общего происхождения. Каждая группа называла себя «детьми одного отца»: «ата баласы» — у казахов; «бир аталык балдары» — у киргизов; «бир ата» — у туркмен. Количество семей в группе колебалось от 2–5 до 10–15. Они кочевали одним аулом, на зимовках селились рядом, скот выпасали совместно, по очереди, практиковали трудовую взаимопомощь, устраивали совместные праздники, совместно готовили ритуальную пищу. Однако каждая семья имела свое тавро для скота (Абрамзон, 1957, с. 32–34; Курылев, 1978, с. 132–143). Население кварталов Кок-Мардана и Куйруктобе, видимо, представляли семейно-родственные группы. В квартале насчитывается от четырех до шести домовладений, принадлежавших родственным семьям. Логично предположить, что известный по этнографическим данным коше бий, «коткуда» — глава семейно-родственной группы — соответствует средневековому раису (старшина, староста) квартала (Большаков, 1973, с. 334) и аксакалу квартала позднесредневековой Бухары (Сухарева, 1976, с. 33). Пока мало данных для того, чтобы судить об общественно-социальном характере кварталов, можно лишь констатировать, что для всех раскопанных кварталов характерна социальная однородность.Городское жилище.
Для VI — первой половины VII в. характерны два типа домов. Дома первого типа однокомнатные, наземные, прямоугольные в плане. Один из таких домов, площадью 43 кв. м, раскопанный на городище Кок-Мардан, имеет коленчатый коридор длиной до поворота 4 м. Вход тамбурный. Вдоль западной и северной стен устроены суфы с выступами-«эстрадами» по центру. Ширина суф 1 м, выступов 1,2 м, высота 40–45 см. Напротив входа, в центре, находился прямоугольный очаг с глиняными бортиками. Слева от входа, в тамбуре, находились два стеновых очага размером 0,2×0,2 м. Юго-восточный угол помещения отделен глиняным бортиком — это хозяйственный отсек. В полу помещения расчищены три прямоугольные ямки от опорных столбов. Всего их должно быть четыре. В потолке, видимо, был устроен световой люк, он же служил дымовым отверстием. Дым, кроме того, выходил через дверь, именно поэтому очаг и камины приближены к выходу. Дома этого типа различаются формой суфы: Г-образная у двух стен и П-образная у трех стен; двухступенчатая с выступом в центре. Напольные очаги бывают прямоугольными или с закруглением передней части. По периметру очаги оконтурены глиняным валиком. Встречаются овальные очаги. Очаги открытого типа, служившие и для обогрева жилищ, и для приготовления пищи, широко распространены в Южном Казахстане и Средней Азии и как реликтовая форма дожили до настоящего времени (Писарчик, 1982, с. 72–77). Стеновые очаги представляют собой выбитые в стенах полусферические ниши, на дно которых устанавливалась на специальных выступах жаровня с невысокими бортиками. Функциональное назначение напольных очагов и каминов различно: первые использовались для обогрева помещения и приготовления пищи, вторые — для выпечки хлеба. В домах имелись тумбовидные поставы для зернотерок. Хумы, горшки для хранения запасов продуктов, располагались в углах на суфах. Кроме того, в качестве хранилищ использовались бочковидные сосуды из необожженной глины и корытообразные емкости, также слепленные из глины. В каждом доме в одном из углов жилого помещения, на стене, на высоте 0,5–0,6 м глиняным валиком вылепливался овал, под ним располагался угловой подиум-алтарь, обычно покрытый толстым слоем золы. Видимо, это было место для отправления культа, домашнее святилище. Площади домов варьируют от 12 до 45 кв. м, причем 85 % домов имеют площадь 20–35 кв. м. От размера дома зависел характер перекрытия. В больших домах кровля опиралась на четыре столба, в средних в качестве опоры мог использоваться один столб, на который опирались одна прогонная балка или две перекрещенные. В маленьких по площади помещениях крыша удерживалась на балках, положенных на стены. Дома второго типа двухкомнатные, с линейной планировкой. Второе помещение выделено из первоначального общего помещения перегородкой либо стеной. Такие дома составляют 15 % общей массы всех раскопанных жилищ. Кладовые могли находиться в разных частях дома. Площадь кладовых не превышала 8 кв. м. Оба типа жилищ традиционны для Южного Казахстана и прослеживаются начиная с конца I тысячелетия до н. э. На Кок-Мардане такие жилища зафиксированы в нижнем строительном горизонте (третьем), датированном III–V вв. (табл. 109, 3–7), и на расположенном рядом поселении Костобе того же времени. Много общего прослеживается при сопоставлении жилищ Средней Сырдарьи и жилищ первой половины I тысячелетия н. э., раскопанных на поселении Алтын-Асар на Нижней Сырдарье. В однокомнатных домах Алтын-Асара устраивались так называемые лотковые входы, Г-образные и П-образные суфы, прямоугольные очаги и камины, поставы для зернотерок. Дома здесь сооружались также из сырцового кирпича (Толстов, 1962, с. 189–190, рис. 108, 109; Левина, 1971, с. 12–22, рис. 2). Жилище второй половины VII — первой половины VIII в. известно по раскопкам Мардан-Куюка и Куйруктобе (табл. 110, 2; 111, 1–6). Двухкомнатные дома продолжают традицию предшествующего времени. Например, один из домов состоял из жилого помещения и кладовой. Жилая комната имела площадь около 19 кв. м. У восточной стены находилась суфа шириной 1,5 м, высотой 0,4 м. Ее края выложены сырцовым кирпичом. В центре помещения был устроен напольный подпрямоугольный в плане очаг размером 1,2×1,2 м. Его бортики высотой 0,1–0,5 м, шириной 0,15 м сделаны из глины. От очага идет невысокая стенка, соединяющая угол очага с углом помещения. Она отгораживает на поверхности пола хозяйственную зону. При расчистке помещения собраны раздавленные обломки кувшинов, кружки с геометрическим орнаментом, кухонные банкообразные сосуды, покрытые густой копотью. Возле очага на полу найдена литая бронзовая монета VI–VII вв., а также железные пластины доспехов. Второе помещение дома — кладовая, соединенная дверным проемом с жилой трапециевидной в плане комнатой. Другой дом тоже состоял из жилого помещения и кладовой. Вход в него вел со стороны тупичка, отходившего от магистральной улицы. В проходе шириной 1,2 м сохранился паз от дверной коробки. Из коридора шириной 1,2 м, длиной 6 м вел проход в комнату площадью около 19 кв. м. В помещении вдоль двух стен была устроена Г-образная суфа шириной 1,2 м у восточной стены и 1,3 м у северной. Высота суфы 0,4 м, ближе к углу ее устроена ступенька. Северный угол помещения занят прямоугольным закромом. Еще один закром устроен в конце коридора. Это, собственно, часть коридора, отгороженная глинобитной стенкой. Размер закрома 2×1 м. В центре помещения находился прямоугольный, частично разрушенный напольный очаг размером 1,5×1,5 м. Его топочная часть имеет прямоугольный выступ. Бортики очага сделаны из глины, их ширина 0,15 м, высота 0,1 м. На полу возле очага расчищена коническая ямка диаметром 15 см, глубиной 10 см. В ней найдены бронзовая литая монета VII–VIII вв. и косточки персика. Керамика представлена столовыми кувшинами, кружками, кухонными банками. Кладовая имеет размеры 1,2×5,2 м. В ней вдоль длинных стен стояли восемь хумов. В семи хумах находилось обугленное зерно, в одном — не очищенный от семян хлопок. На полу были рассыпаны обгоревшие яблоки (табл. 110, 2). Датировка раскопанных домов, как и всего второго строительного горизонта, основывается на находках монет VII–VIII вв. и керамики, среди которой выделяется кангарская. Это кружки с кольцевыми ручками и кувшины со сливами; светильники, покрытые темно-вишневым, коричневым и черным ангобом и вдавленным орнаментом геометрического характера. Элементы росписи — рамки из косых линий, сетка, полуовалы. Такая керамика в Отрарском оазисе относится ко второй половине VIII — первой половине IX в. (Байпаков, 1986, с. 58). Ко второму типу жилищ относятся «большие» многосекционные дома. Один из таких домов раскопан на городище Куйруктобе. Размер дома 17×18 м (306 кв. м). Он включал три отдельные секции, объединенные коридором и имевшие общий для всего дома зал площадью 63,8 кв. м. Вход в него вел с улочки, уровень которой выше пола зала, поэтому вход сделан в виде пологого пандуса. В дверном проеме сохранились пазы от дверной рамы и порога. Вход отделен от помещения стенкой-экраном. По трем сторонам помещения устроена суфа высотой 0,4 м. Ширина суфы у южной и западной стен 1 м, у северной 0,7 м. В центре западной стены имеется выступ-«эстрада», ее длина 2,4 м, ширина 1,35 м. На поверхности северной суфы прослежены четыре овальные ямки. Почти в центре помещения располагался напольный очаг овальной формы с бортиком по периметру (табл. 113, 1, 2). Раннесредневековое жилище на юге Казахстана представляет собой явление многовекового развития. Параллели ему есть в материалах соседних районов. Это одно- и двухкомнатные дома согдийского поселения VII–VIII в. Гардани Хисор (Якубов, 1982, с. 115–116, рис. 1, 3, 4). Планировка сближает четырехколонные помещения в домах Пенджикента с залом «большого» дома второй половины VII–VIII вв. на городище Куйруктобе, перекрытие которого опиралось на четыре колонны, а суфа имела своеобразный выступ-«эстраду». Помещения с тамбурными входами, с суфами вдоль двух, трех или всех стен характерны для тохаристанского за́мка Балалыктепе (Альбаум, 1960, с. 108, 116, рис. 62) и раннесредневековых памятников Уструшаны (Негматов, 1966, с. 55–59, рис. 24). Определенное сходство наблюдается при сопоставлении среднесырдарьинского жилища с жилищем Юго-Западной Ферганы (Брыкина, 1982, с. 48–50), а также с жилищем афригидского Хорезма (Неразик, 1966, с. 68–76; Гудкова, 1962, с. 50). Этнографические параллели такому жилищу есть на Памире, в Фергане, равнинной части Зеравшана (Неразик, 1966, с. 74; Кандауров, 1944, с. 422–60; Давыдов, 1969, с. 99–101). Несмотря на сходство с раннесредневековым жилищем северных районов Средней Азии, жилище Средней Сырдарьи сохраняет черты, традиционные для сырдарьинских культур первой половины I тысячелетия н. э.: линейную планировку, прямоугольные и овальные открытые очаги, специальные хозяйственные площадки, которые использовались, на наш взгляд, для приготовления хлеба, угловые налепы культового назначения. В дальнейшем планировка домов и их интерьер, видоизменяясь, продолжали сохраняться и развиваться в домах средневековых городов Средней Сырдарьи.Святилища.
В застройке городищ Южного Казахстана удалось выявить святилища. Значимость их в жизни горожан, видимо, была различна: одни принадлежали жителям квартала, другие — крупным религиозным общинам города. Одно из святилищ находилось в квартале «А» городища Кок-Мардан. Это была квадратная в плане однокомнатная постройка размером 4×4 м, заглубленная в землю. Напротив входа в стене на высоте 0,5 м от пола находилась прямоугольная ниша, обрамленная налепом в виде рогов барана. Под ней располагался подиум с толстым слоем золы на нем. Суфы шириной 1 м находились у юго-западной и северо-восточной стен. Прямых аналогий этому святилищу нет, но некоторое сходство его прослеживается с постройкой на Гяуркале в Хорезме, датированной кушанским временем (Толстов, 1958, с. 193, рис. 87).Погребальные памятники.
Рядом с городищами находятся курганные могильники, изучение которых позволило проследить изменения в характере погребальных сооружений, погребальном обряде и сопровождающем инвентаре. В топографии могильника Кок-Мардан выделяются три части: возвышенные площадки с курганообразными насыпями в центре; сооружения в виде вала длиной до 700 м, шириной 12–15 м, высотой 0,5–1,5 м; отдельно стоящие курганы диаметром 10–30 м, высотой до 2,5 м. Возвышения в виде площадок представляли собой подквадратные в плане пахсовые платформы. Размер одной из них 8,6×8,8 м, высота в центре 1,5 м, а по краям 1,3–1,4 м. Валы, расположенные на территории могильника, являются остатками поставленных впритык погребальных платформ. Одиночные курганы также были сооружениями типа платформ небольших размеров. Могилы для взрослых выбивались в толще пахсы по периметру площадки. Каждое из таких погребальных сооружений состоит из входного коридора-дромоса и погребальной камеры. Ширина входного дромоса 0,5–0,6 м, длина 0,6–1,2 м, высота 0,5–0,6 м. Погребальная камера является продолжением дромоса; она более широкая у входа и сужается книзу. Ширина у изголовья от 1 до 1,3 м, в ногах 0,5–0,7 м, длина до 2,2 м. Умершие укладывались на спину, головой к входу, руки вдоль туловища. В головах ставили кувшины с грушевидным туловом и носиком-сливом. Вместе с погребенным в могилу клали оружие: железные наконечники стрел, ножи, костяные накладки луков. Найдены украшения: бусы, амулеты. В могилах обнаружены железные пряжки с подвижным язычком, бронзовые пряжки овальной формы с хоботовидным язычком. Детские погребения устраивались по краю платформы в нишах и подбоях, размеры которых зависели от роста умершего. Так, в одной из раскопанных платформ расчищено 18 погребений, из которых три принадлежали взрослым, а девять — детям. В другой расчищены 24 захоронения, в третьей — 15. Наиболее поздние захоронения в могильных ямах, подбоях, катакомбах на Средней Сырдарье относятся к VI–VII вв. Вторым типом захоронений являются погребения в наусах — подпрямоугольных сооружениях из пахсы и сырцового кирпича с купольными перекрытиями. Впервые в Казахстане такие сооружения были открыты на Борижарском (Буржарском) могильнике на средней Арыси. Здесь в 1949–1951 гг. раскопаны 15 курганов, и в девяти из них обнаружены остатки прямоугольных пахсовых оградок (перекрытия не сохранились). На уровне древнего горизонта на подстилках из речной гальки, а в одном случае из черепков посуды находились остатки коллективных погребений. Они совершались в разное время, при этом более ранние захоронения сдвигались в сторону. Ориентация погребенных различная. Сами курганы имели диаметр до 20 м при высоте 3–4 м. Типичное захоронение такого рода содержал курган 32. Насыпь овальная, диаметром 14–16,5 м, высотой 2 м. Стены науса подпрямоугольной формы сложены из пахсы. Площадь камеры 7,5 кв. м. Внутрь ее ведет коридор длиной 2,5 м, шириной 0,75 м. Стены сохранились на высоту до 1,4 м (табл. 115, 1, 2). На полу камеры встречены разрозненные остатки костяка. Погребения сопровождались глиняной посудой: кувшинами с носиком, кувшинами со сливом, кружками, покрытыми красным лощением (табл. 115). Найдены также железные однолезвийные черешковые ножи, в одном случае железный меч, трехлопастные железные наконечники стрел. В других наусах обнаружены (табл. 115) серебряные лировидные бляхи от наборных поясов, пряжки с подвижным язычком (Агеева, Пацевич, 1956, с. 53–55). Вопросы хронологии наусов Борижарского могильника остаются дискуссионными. Е.И. Агеева и Г.И. Пацевич датировали их вначале VIII–X вв. (Агеева, Пацевич, 1953, с. 55), а затем VI–VII и VI–VIII вв. (Агеева, Пацевич, 1958, с. 176). В.И. Распопова, проанализировав поясные наборы из раскопанных погребений, сочла возможным датировать наусы VI–VII вв. (Распопова, 1965, с. 88). Л.М. Левина отнесла Борижарский могильник к VI–VIII вв. (Левина, 1971). По мнению К.М. Байпакова, наусы датируются второй половиной VII–VIII в. (Байпаков, 1986, с. 58). Аналогичные погребальные сооружения обнаружены и на могильнике Шага в Туркестанском оазисе. Здесь раскопаны пять курганов, скрывавших остатки наусов. Один из таких курганов (№ 67) диаметром около 30 м, высотой 2,2 м. Под насыпью находилось погребальное сооружение — наус. Это прямоугольная постройка площадью 5,2×5 м из сырцового кирпича размером 50 × (20–25) × (9-10) см. Сохранившаяся высота стен 2,2 м. Постройка ориентирована по странам света углами. К наусу пристроен тамбур длиной 3,3 м, шириной 0,9 м, высотой 1,15 м. Судя по остаткам конструкций и завалам, коридор имел перекрытие в виде свода, выложенного из поставленных на ребро кирпичей размером 40×30×10 см. В замке свода использован кирпич трапециевидной формы. Наус, скорее всего, был перекрыт куполом. Вдоль северной и восточной сторон устроены суфы высотой 15 см, шириной 75 см. Стены, суфы и пол обмазаны и побелены. Наус был разграблен. В северной его части на суфе сохранились разрозненные кости трех скелетов. В одном из курганов (№ 68) расчищены кости от 25 погребенных, расположенных в три яруса. Во входном коридоре находился скелет собаки. Археологический материал представлен керамикой — краснолощеными эйнохоевидными кувшинами и кружками с кольчатыми ручками, краснолощеными мисками с перегибом в средней части стенок. Интересна кружечка с подковообразным налепом. Встречены кувшины грушевидных пропорций, обломки хумов с потеками ангоба. Железные изделия представлены трехперыми наконечниками стрел, обломком ножичка, пряжками с подвижным язычком. Среди украшений обнаружены бронзовый браслет и обломки серьги с шариком. В одном из наусов найдена медная согдийская монета конца VII — первой половины VIII в. По мнению А.Г. Максимовой, могильник Шага датируется концом VII — первой половиной VIII в. (Максимова, 1974, с. 117). Помимо могильников Борижарского и Шага, трупоположения в наусах, датируемых в пределах VI–VIII вв., отмечены в северных районах Средней Азии, в Семиречье (Костобе, Пскент, Тюлбугус) (Байпаков, 1987, с. 564; Агзамходжаев, 1962, с. 71–79; Буряков, 1968, с. 57–62). В характере и планировке погребальных построек, в обряде погребения, в керамике, украшениях прослеживаются традиции местных каунчиноидных культур, тюркское и согдийское влияние. Наличие этих компонентов в материальной и духовной культуре населения Средней Сырдарьи доказывает своеобразие в развитии местной земледельческо-скотоводческой и городской культуры области в период раннего средневековья.Памятники искусства.
На цитадели городища Куйруктобе был открыт дворцовый комплекс, центром которого служил парадный зал площадью 157,5 кв. м. Комплекс построек погиб в результате сильного пожара. Рухнувшая кровля парадного зала законсервировала остатки древнего перекрытия, в том числе и обломки украшенных резьбой обугленных балок, и обгоревшие доски от резного подпотолочного фриза. Находки из слоя пожара: керамика, терракота, бронзовые монеты двух типов с изображением идущего льва на одной стороне, а на другой рунических монограмм «н + уш» или «ат» — датируют сгоревшие сооружения VII — первой половиной IX в. На сохранившихся и расчищенных досках фриза представлены изображения богов и светских сцен, видимо когда-то связанных единой сюжетной художественно-смысловой идеей (табл. 116, 117). Ближайшие аналогии резному дереву из цитадели Куйруктобе происходят из Согда и Уструшаны. Розетки, ромбы, крестики, орнаментальные мотивы резьбы встречались на резном дереве из Пенджикента, Шахристана, Уртакургана (Воронина, 1957а, рис. 16–18, 26а; Негматов и др., 1966, табл. X; Негматов, Пулатов и др., 1973, рис. 32–34). К интересным деталям, украшавшим перекрытия, балки или арки входов, относятся парные изображения «сирен». Сюжет с изображением «сирен» широко распространен в раннесредневековом искусстве. Они есть и на резном штуке Варахши, и в глиняных рельефах Пенджикента (Беленицкий, 1964, с. 193–194). Парные изображения «сирен» под аркой или по бокам от нее сохранились на ступах Санчи и Бхарутты, в гротах Бамиана (Godart A., Godart G., Hackin J., 1928, fig. 6, pl. XXII), в резной кости Беграма (Hackin, 1928, fig. 100). Эти мифические существа упоминаются в буддийских текстах в качестве мужской и женской пары под именами Кинара и Кинари. К числу уникальных находок относятся остатки досок подпотолочного фриза, некогда украшавшего парадный зал цитадели. У стены, находившейся напротив центрального входа в зал, расчищено, «законсервировано» и поднято девять фрагментированных досок. Лучше других сохранилась доска (табл. 117, 1) с изображениями божеств на зооморфных тронах. Ее длина более 122 см, сохранившаяся ширина 25 см. В арках показаны восседающие на тронах божества. Слева мужское божество на троне в виде фигур крылатых (?) верблюдов (?). Сохранилась морда одного из них с характерной удлиненностью и торчащим ухом. Мордами верблюды повернуты друг к другу. Божество изображено в фас. В правой руке, согнутой в локте, с кистью на уровне груди, бог держит предмет с тремя изогнутыми побегами. В левой руке у него сосуд с зубцами-мерлонами по краю. На голове зубчатая корона. Божество справа, видимо его супруга, сидит на троне из двух горных баранов. В правой руке, согнутой в локте и поднятой вверх, треугольный предмет, в левой — жезл, на голове повязка с бантом на лбу и развевающимися за спиной концами. Найден и сохранился фрагмент еще одной доски фриза. На ней изображения подножий тронов в виде зооморфных существ с крыльями. Видны изображения ковров или попон, которыми были покрыты троны. У подножия трона с горными баранами изображены маленькие фигуры коленопреклоненных людей, возможно хозяев куйрукского за́мка (табл. 117, 7). Архивольты заполнены четырехлепестковыми розетками, а межарочные пространства — изображениями сидящих персонажей (табл. 117, 1). Изображения богов на зооморфных тронах известны в росписях Согда. В Варахше на стенах Восточного зала дворца бухар-худатов центральная фигура восседает на троне с опорами в виде крылатых верблюдов. Они, так же, как и куйрукские, похожи на грифонов, и не случайно В.А. Шишкин называет их «желтыми грифонами с верблюжьими головами, шеями и ногами». У подножия трона, так же, как и на куйрукской доске, даны коленопреклоненные персонажи (Шишкин, 1963, с. 160). Близки к куйрукским сцены на росписях Пенджикента (объект XXIV). Здесь показана чета божеств. Мужское божество сидит на троне, опора которого оформлена в виде верблюда. Супруга его сидит на троне с опорой в виде горного барана. Бог держит в поднятой руке фигурку верблюда (Беленицкий, Маршак, 1976, с. 81). Особенно близкое сходство прослеживается при сравнении изображения мужского божества с чашей из Куйруктобе и со штампованным рельефом на одной из стенок оссуария, найденного в Южном Согде, в предгорьях Гиссарского хребта (Крашенинникова, 1986, с. 45–46). Еще одна доска от фриза, со сценой осады за́мка сохранилась фрагментарно, ее длина 93 см, ширина 23 см. Центральная часть доски занята композицией, где в арке, украшенной четырехлепестковыми розетками, на стене, видимо за́мка или города, увенчанной пирамидальными зубцами, изображены два лучника. Здесь же на переднем плане изображено божество с поднятыми руками, в одной из них находился круглый предмет. На голове божества корона с крыльями. Межарочные пространства были заполнены изображениями стоящих за зубчатой стеной персонажей, сохранность которых крайне плохая. Божество, судя по дошедшим до нас деталям, имело четыре руки, две из них, как отмечалось, были подняты вверх; вторая пара рук опущена (табл. 117, 2). Возможно, сцену осады за́мка или города следует сопоставить с согдо-манихейским текстом, в котором рассказывается о падении города, осажденного врагами. В нем упоминается имя «Наны-госпожи». По мнению В.Б. Хенинга, это имя богини Анахиты. Анализ культа Наны (Анахиты) в Согде, предпринятый Н.В. Дьяконовой и О.И. Смирновой, приводит исследователей к выводу, что Нана-Анахита была одним из основных божеств Согда, а в Пенджикенте, вероятно, культ Наны — богини-матери, покровительницы города — был главным (Дьяконова, Смирнова, 1967, с. 71–83). Судя по аналогичному изображению на доске из Куйруктобе, этот образ почитаем и на Средней Сырдарье. Интересна деревянная прямоугольная доска размером 125×35 см, где в отличие от упомянутых досок изображены не боги, а представлена, видимо, светская сцена. В центре вполоборота друг к другу стоят мужчина и женщина, безусловно, знатные особы. У женщины (она стоит слева) округлое лицо с широким плоским носом, миндалевидные глаза. На голове плоская шапочка, на лбу диадема. Из-под шапочки на правое плечо спускается косичка, перехваченная через равные промежутки завязками. В правом ухе серьга с овальной подвеской, на шее ожерелье из крупных, неправильной формы бусин, на плечах накидка. Лицо мужчины сохранилось плохо. На голове у него шапочка с околышем, одет он в халат с запахом на левую сторону (правая пола наверху). Под халатом видна рубаха со стоячим воротником. Правой рукой мужчина обнимает женщину, кисть его правой руки лежит на плече женщины, а левая, поднятая ладонью вверх, поднесена к ее лицу. На ладони лежит круглый предмет. Женщина правой рукой сжимает левую руку мужчины у локтя. Персонаж, стоящий слева от пары, изображен в фас, у него округлое лицо с плоским носом, на голове нечто вроде тюрбана, на лбу узкая повязка. В мочки ушей продеты серьги с овальной подвеской, на груди гривна с шариками на разомкнутых концах. Одет он в халат, на груди которого орнамент в виде розетки из перлов. Под халатом рубаха со стоячим воротником. В левой согнутой руке персонаж держит какой-то предмет. Фигура, помещенная справа от знатной четы, тоже изображена в фас. Голова и черты лица разрушены. Персонаж одет в халат, из-под которого видна рубаха со стоячим воротником, в руках он держит что-то, похожее на поднос или блюдо (табл. 116, 1, 2). Справа от центральной группы изображены еще две фигуры, но от них сохранились лишь контуры; слева от группы прослеживается силуэт одиночной фигуры. Фигуры находятся в арках. Межарочное пространство заполнено четырехлепестковыми розетками и пальметтами с обращенными вниз листьями. Полных аналогий куйрукской композиции в изобразительном искусстве других памятников нет. Некоторое сходство обнаруживает сцена в росписях из Афрасиаба, на северной стене зала I. Среди изображенных персонажей привлекают внимание три женщины в лодке. Одна из женщин поддерживает кисть правой руки сидящей с ней рядом женщины, которая, в свою очередь, положила левую руку на плечо правой (Альбаум, 1975, с. 69, рис. 21). Аналогичная сцена встречена в живописи Балалыктепе (Альбаум, 1960, с. 128–129, рис. 97, 98), где изображены двое мужчин и сидящая на заднем плане женщина. По мнению Л.И. Альбаума, такие сюжеты с характерными «жестами рук» связаны с обрядовыми сценами сговора между сватами жениха и невесты. Возможно, и на резной доске из Куйруктобе также изображена аналогичная сцена. Полная характеристика и анализ резного дерева из Куйруктобе еще не сделаны, но уже сейчас ясно, насколько богатая информация о духовной жизни прошлого в нем скрыта. Бесспорно и то, что на Сырдарье получили развитие согдийская архитектура, керамика, искусство, причем изобразительные сюжеты на резном дереве уходят в античные традиции.Керамика.
Пока известна лишь одна печь гончара VIII–IX вв., раскопанная на территории северного рабада Отрара. Она имела грушевидную форму, длину 2,7 м, ширину 2,5 м. Топочная камера несколько меньших размеров, чем обжигательная. Под печи опирался на перевернутый венчиком вниз хум без дна, поставленный на три «рогатые» подставки. Хум обложен снаружи сырцовым кирпичом. Керамика VI — первой половины VII в. делится на кухонную посуду (котлы, горшки, крышки, сковороды, подставки), тарную посуду, предназначенную для хранения и транспортировки продуктов (хумы, хумчи, горшки, кувшины, крынки) и столовую посуду (кувшины, миски, кружки). Отдельную группу керамических изделий составляют светильники, детские игрушки, грузики ткацких станков, пряслица (табл. 112, 115). В кухонной лепной керамике преобладают горшки. Это приземистые сосуды с округлым туловом, невысоким горлом со слегка отогнутым наружу венчиком. Диаметр горла обычно меньше размера дна, ручки петлевидные, вертикальные и налепные в виде полукруглой скобы или зубчатого выступа. Встречаются горшки, у которых по две ручки — одна петлевидная вертикальная, другая налепная полукруглая. Крышки различных диаметров — от небольших, диаметром 10–12 см, до крупных, диаметром 25–30 см. Есть крышки с петлевидной ручкой в центре или сбоку, с овальным отверстием для выхода пара. Края крышек иногда украшены насечками, вдавлениями, на их поверхности имеются украшения в виде прочерченных кружков. В группу керамических изделий входят подставки в виде стилизованных изображений головы быка с подчеркнуто массивными рогами («рогатые» подставки). Их поверхность украшалась ямочными вдавлениями. Посуда для хранения и транспортировки воды и продуктов питания вылеплена от руки. Преобладают хумы и хумчи. Для хумов характерны массивные прямоугольные в сечении венчики с валиком посредине. Есть венчики подквадратные и подтреугольные в сечении (табл. 110, 3–8). Овальное яйцевидное тулово с выделенной шейкой переходит в плоское дно, иногда с отпечатками грубой ткани типа мешковины. Хумчи имеют удлиненное асимметричное тулово, венчики прямоугольные или овальные в сечении. Большинство хумов покрыты светло-коричневым, розовым, реже светлым ангобом, поверх которого ангобом более темного цвета, иногда почти черным, наносили потеки и брызги. На плечиках хумов встречаются прочерченные до обжига знаки: овалы, зигзаги, кресты, параллельные линии, проведенные пальцами. Большую группу составляют горшковидные сосуды. Они в большинстве своем сверху покрывались белым ангобом, а также розовым и красным. На тулове, как правило, видны следы заглаживания каким-то округлым предметом, видимо черепком. Ручки у горшков двух видов — вертикальные и горизонтальные. Первые опираются на край венчика и тулово. Они обычно овальные и круглые в сечении. Реже встречаются уплощенные, в сечении подпрямоугольные. Горизонтальные ручки налеплялись на плечики сосудов, они овальные в сечении, снизу уплощены. Орнамент на сосудах однообразен и располагается обычно на шейке. Состоит он из продавленных концентрических кругов, оттисков палочки на шейке и ручках, горизонтальных и вертикальных борозд, а также из прочерченных волнистых и зигзагообразных линий на тулове. Водоносные кувшины лепились от руки. Они имеют широкое короткое горло, диаметром 12–20 см, с заостренным, слегка отогнутым наружу венчиком. Тулово с покатыми, обвислыми плечиками заканчивается широким плоским дном, которое в полтора-два раза шире диаметра устья. Оно покрывалось розовым, красноватым или коричневым ангобом, снаружи затиралось пучком травы, мокрой тряпкой или специальным инструментом, оставляющим тонкие частые бороздки. Ручки овальные в сечении, прямоугольные с желобком. Они соединяют венчик с плечиками, иногда их верхний конец закреплен чуть ниже венчика. Особый тип представляют водоносные кувшины, для которых характерно сочетание коричневого ангоба и рифления горла. Зачастую это не рифление, а зона частых резных или вдавленных линий (табл. 112). Кувшины украшались потеками или пятнами ангоба и вдавленными концентрическими линиями, отпечатками гребенчатого штампа, налепами. На горло одного из кувшинов были нанесены гребенчатым штампом ряд наклонных линий, рамка из двух резных линий, а на тулово — волнистый узор, проведенный тем же гребенчатым штампом. Налепы обычно встречаются на ручке или тулове. На ручке налепляли выступ или элементы, придававшие ручке зооморфный вид (табл. 115). Под ручкой имеются налепы, имитирующие рога барана; налепы в виде кружка, иногда обрамленного шариками. На тулове некоторых кувшинов просматриваются прочерченные тамгообразные знаки. Столовая посуда в основном представлена красноангобированными кувшинами и кружками, сделанными на круге и, реже, вылепленными от руки. Красный ангоб сочетается с лощением. Формы краснолощеной столовой посуды разнообразны. Это кувшины со сливом, обычно вылепленные от руки. У них короткое горло раструбом, раздутое тулово, ручка соединяет край венчика и плечики. Кувшины с носиками большого объема, как правило до 10 л. Кружки нескольких типов. Наиболее распространены сосуды изящных пропорций с прямой шейкой, отогнутым венчиком и округлым туловом (табл. 112, 12, 13). Ручка соединяет тулово с краем венчика. Другой тип кружек представлен сосудами с ручкой, налепленной посредине тулова (табл. 112, 11; 115). Встречаются кружки с зооморфными ручками. Группу бытовых изделий из керамики составляют светильники, изготовленные из рыхлого теста с шамотом. Резервуар с расширяющимися стенками опирается на коническую ножку (табл. 110, 3-10). Керамику I тысячелетия н. э. исследуемого района как особый комплекс Л.М. Левина отнесла к отрарско-каратауской культуре и выделила в ней три хронологические группы в пределах с I в. до н. э. до VIII в. н. э. Наиболее поздняя группа отнесена ею к VI–VIII вв. Для керамики этого периода характерны орнамент в виде насечек, ямок, налепных шишечек, налепного валика на горле или тулове; распространение хумов с подквадратными в сечении венчиками (Левина, 1971, с. 233–234). Однако сейчас представляется возможным более четко различать комплексы керамики не по рубежу VI–VII вв., а по середине VII в. Основанием служит тот факт, что в VII в. на юге Казахстана, и в частности в Отрарском оазисе, появляются элементы нового стиля в керамике. В целом для керамики VI — первой половины VII в. характерно преобладание типов и форм, относящихся к керамике третьего этапа отрарско-каратауской культуры. Но есть и новые типы посуды. Это эйнохоевидные краснолощеные кувшины, аналогичные кувшинам из Борижарского некрополя и могильника Шага. В группе столовой керамики встречены краснолощеные кружки с кольцевыми ручками ребристых очертаний с признаками подражания тюркской торевтике, которые проявились в керамике Средней Азии в VII–VIII вв. (Маршак, 1965, с. 25). В комплексе имеются экземпляры сосудов с резным растительным орнаментом, находящие аналогии в комплексах посуды Кескен-Куюккала VII–VIII вв. из низовьев Сырдарьи (Левина, 1971, с. 80–81, рис. 20, 85, 86, 111). Появление новых признаков дает основание датировать керамический комплекс Кок-Мардана VI — первой половиной VII в., поскольку во второй половине VII в. новые признаки в керамике получают широкое распространение, что отмечается для комплекса керамики второй половины VII — первой половины IX в.Керамика второй половины VII — первой половины IX в.
Керамика этого времени получена при раскопках Отрара, Куйруктобе и Мардан-Куюка. К этому же времени относятся и комплексы посуды из Борижарского могильника и некрополя Шага. Кухонная керамика в основном продолжает традиции предшествующего периода. Это котлы и плоскодонные горшки, лепленные от руки. То же можно сказать и о посуде, предназначенной для хранения продуктов и их переноски. Появляются новые типы столовой посуды, сделанной на круге. Это керамика «согдийского облика»: кружки с кольцевыми ручками, эйнохоевидные кувшины, а также керамика «кангарского типа» (Байпаков, 1986, рис. 6). Она представлена кувшинами и кружками, покрытыми красным, вишневым и черным ангобом и украшенными вдавленным орнаментом в виде сеток, овалов, елочки, гирлянд (табл. 110, 3-10). Для некоторых кружек характерны зубчатые ручки, ручки с выступами (Байпаков, 1985, рис. 12).Изделия из металла, украшения.
Состав металлических изделий, встреченных при раскопках поселений и могильников, свидетельствует о развитии кузнечного, медницкого и ювелирного ремесел. На городище Кок-Мардан найдены железные крицы. Остатки медеплавильного производства обнаружены при раскопках Тоткультобе. Ноты, серпы, ножи, мечи и кинжалы, наконечники стрел изготавливались местными кузнецами. Из серебра и бронзы делали пряжки, украшения, амулеты. Из кости изготавливались накладки сложносоставных луков, различного рода заколки. Использовались в качестве поделочного материала кости и рога домашних и диких животных. Высокого уровня развития достигло ювелирное ремесло. Украшения из золота со вставками цветного камня и стекла, бусы из хрусталя, сердолика, бирюзы украшали и дополняли женский костюм (табл. 114). Камень шел для производства зернотерок, жерновов, терочников, оселков. Из гальки изготавливалась сурьматаши — часть туалетногоприбора, использовавшегося для сурмления бровей (табл. 115).Торговля.
Торговля была одним из важнейших факторов развития региона. Обменная торговля с кочевниками осуществлялась на ярмарках в Испиджабе и Отраре. Большую роль играл Великий шелковый путь, одно из ответвлений которого проходило через южно-казахстанские степи (Зуев, 1960, с. 87–96). Наличие денежной торговли подтверждают находки местных монет VII–VIII вв., обнаруженные в большом числе на Отраре, Куйруктобе, Мардан-Куюке, Алтынтобе, Бузуке правобережном. Монеты трех типов, и те, и другие литые, бронзовые. У монет первого типа на одной из сторон изображен идущий вправо лев на подставке в обрамлении круга из перлов, на оборотной — руническая монограмма «н+уш», возможно принадлежавшая кангарам. Монеты второго типа имеют на одной стороне такого же льва, на другой — монограмму «ат», представляющую собой родовую тамгу тюргешей (Бурнашева, 1973, с. 81–87; Байпаков, 1985, с. 64–71). И наконец, к третьему типу монет относятся такие, у которых имеется тамгообразный знак в виде «ключа» (Бурнашева, 1987, с. 152). Если местные монеты свидетельствуют о внутриобластной торговле, то монеты ихшидов Согда VII в., древнетюркские монеты Чача конца VII — начала VIII в., тюркских правителей Ферганы, китайской династии Тан и бухарского типа «гитрифи» (Бурнашева, 1975, с. 60–68) подтверждают важную роль городов в системе международной торговли.Глава 11 Согд V–VIII вв. (Б.И. Маршак)
Идеология по памятникам искусства.
Еще в 1930-е годы о согдийском искусстве можно было судить только по терракотовым статуэткам (Толстой, Кондаков, 1890, с. 27–30; Веселовский, 1917; Trever, 1934) и по оссуариям, историко-религиозное значение которых было оценено уже в дореволюционное время (Иностранцев, 1907, 1908, 1909; Бартольд, 1966а, б). Их изучение было продолжено перед войной в работах А.А. Потапова (Потапов, 1938) и А.Я. Борисова (Борисов, 1940). С находки в 1933 г. расписного щита в одном комплексе с согдийскими документами начала VIII в. на горе Муг в верховьях Зеравшана началось изучение согдийской живописи (Якубовский, 1939, с. 27). Затем в 1938 г. В.А. Шишкин обнаружил штуковую скульптуру и настенные росписи на окраине Бухарского оазиса, в Варахше. Новый этап исследования наступил после открытия экспедицией под руководством А.Ю. Якубовского росписей в Пенджикенте, где с 1948 г. ежегодно находят произведения монументального искусства V–VIII вв.: скульптуру из алебастра, глины и дерева и, главным образом, живопись на стенах храмов, дворца правителя и многочисленных частных домов. В 1950–1954 гг. были сделаны новые открытия росписей в Варахше (Шишкин, 1940, 1947, 1956, 1963). С 1965 г. раннесредневековую настенную живопись неоднократно находили на городище Афрасиаб в столице Согда Самарканде. Для понимания согдийских росписей весьма важны также открытия произведений искусства в Тохаристане, Хорезме, Уструшане, Семиречье, о которых речь идет в других главах этого тома. В результате полувековой работы ряда ученых появились монографические исследования и сборники по Варахше, Пенджикенту, Афрасиабу (Шишкин, 1963; ЖДП, СЖДП; Беленицкий, 1973; Belenizkij, 1980; Альбаум, 1975). В этих работах в науку введен огромный материал, даны описания памятников, обоснованы с той или иной точностью датировки, определены многие сюжеты, рассмотрены техника и стиль, поставлены вопросы об идеологии и культах. Прочитанная В.А. Лившицем надпись на росписи Афрасиаба помогла опознать в этой росписи отражение современной художнику действительности второй половины VII в. (Альбаум, 1975, с. 52–56; см. также: Belenitski, Marshak, 1981, p. 61–63). В Пенджикенте выявлены иллюстрации к сказанию о Рустаме (Belenitsky, 1963; Беленицкий, 1973, с. 47), к басням Эзопа, к индийским притчам из Панчатантры (Беленицкий, 1973, с. 49; Маршак, 1977) и к «Махабхарате» (Belenitski, Marshak, 1981, p. 28; Семенов, 1985), выделены культовые сцены с изображениями богов (Беленицкий, Маршак, 1976; Шкода, 1980). Много работ посвящено проблеме отражения в искусстве религии Согда (Беленицкий, 1954, 1959; Беленицкий, Маршак, 1976; Азарпай, 1975; Azarpay, 1975, 1976, 1976а, 1981; Duchesne-Guillemin, 1979). Все пишущие об этом признают значительную роль культов многочисленных богов. Установлены имена Наны (богини на львином троне), Вешпаркара (трехликого бога с трезубцем) и некоторых других (Дьяконова, Смирнова, 1976; Azarpay, 1975, 1976, 1981, p. 126–143; Belenitski, Marshak, 1981, p. 29, 35). Хорошо известно, что Согд был охвачен воздействием зороастризма, но дискутируется вопрос о том, насколько сильным было это воздействие (Henning, 1965; Widengren, 1965, s. 320–332; Boyce, 1982, p. 240). Влияние других догматических религий было ограниченным, хотя известно, что многие согдийцы исповедовали манихейство, буддизм и христианство. Эти религии были особенно распространены в их колониях. Никаких манихейских памятников на территории Согда пока не обнаружено. Буддизм в Согде, видимо, в какой-то момент играл известную роль, но к 630 г. он уже навсегда потерял значение в метрополии (Litvinsky, 1968, p. 41–46; Литвинский, Зеймаль, 1971, с. 114, 115, 119, 121, 123, 124). Христианство археологически засвидетельствовано в Пенджикенте (Пайкова, Маршак, 1976) и в Самарканде (Тереножкин, 1950, с. 167, рис. 2), но христианских росписей или икон там нет. Культовая архитектура раннесредневекового Центрального Согда известна по храмам местной религии в Пенджикенте. Эти два храма были построены в V в. и многократно перестраивались до начала VII в. В Южном Согде к началу этого периода относятся наиболее поздние перестройки храма Еркургана (Исамиддинов, Сулейманов, 1977; 1984, с. 18). В социологическом аспекте росписи Пенджикента как памятник идеологии складывающегося феодализма рассматривал А.Ю. Якубовский (Якубовский, 1954). Позднее была предпринята попытка выявить существенные черты мировоззрения согдийцев на основании росписей Пенджикента (Беленицкий, Маршак, 1976). Изучение монументального искусства стимулировало исследование других его видов. Были опубликованы сводные издания по терракотам (Мешкерис, 1962, 1977). Новые находки лицевых оссуариев привели к возобновлению споров о значении их рельефов и к открытию на некоторых из них зороастрийских изображений (Пугаченкова, 1984; Павчинская, 1983; Лунина, Усманова, 1985; Grenet, 1984, 1986; Грене, 1987). В восточной торевтике VI–IX вв. были выделены школы, в той или иной степени связанные с Согдом (Маршак, 1971а; Даркевич, 1976). В настоящее время еще нет обобщающей работы по искусству Согда. Б.Г. Гафуров дал краткий обзор раннесредневекового согдийского искусства с культурно-исторических позиций (Гафуров, 1972, с. 274–280). Популярный очерк написал Б.Я. Ставиский (Ставиский, 1974, с. 188–230). Отдельные главы отвели Согду в своих книгах по искусству Центральной Азии М. Буссальи и Б. Роуленд (Bussagli, 1963, p. 42–51; Rowland, 1970, s. 52–78). Их работы интересны в искусствоведческом плане, но в них нет историко-культурной проблематики. У Л.И. Ремпеля культовые, эпические, сказочные сюжеты, определенные его предшественниками, без разграничения трактуются как «эпос в живописи Средней Азии» (Ремпель, 1984). Специально живописи Согда посвящена монография американской исследовательницы Г. Азарпай (Azarpay, 1981), в которую включен большой раздел советских авторов. В этой книге, написанной в 1976 г., затронуты культовые и светские аспекты согдийской культуры. В кратком обзоре нельзя даже перечислить многочисленные статьи, в которых идет речь о тех или иных мотивах согдийского искусства, однако надо упомянуть отчеты в серии «Археологические работы в Таджикистане» (за 1954–1961 и 1970–1982 гг.), где сообщается о всех произведениях искусства, найденных на территории этой республики, и приводится каталог выставки «Древности Таджикистана» (Душанбе, 1985). Строительной истории пенджикентских храмов, реконструкции и интерпретации совершавшихся в них ритуалов посвящена диссертация В.Г. Шкоды (Шкода, 1986). Изучая проблемы идеологии, необходимо учитывать данные согдийской литературы, к сожалению, по большей части переводной, обзор которой сделан В.А. Лившицем (Лившиц, 1981, с. 350–362). Нельзя забывать и о многократно прокомментированных историками скудных сведениях иноязычных, в основном китайских и арабо-персидских, авторов. Однако задача данной главы не исследовать все имеющиеся сведения, а представить в качестве исторического источника совокупность добытых археологами художественных памятников.Памятники V в.
Хронологическая последовательность для всего периода раннего средневековья установлена главным образом на материалах Пенджикента. К V в. в этом городе относятся основание и первые перестройки двух храмов и первые наусы. Священный участок пенджикентских храмов площадью около 1,3 га располагался в центре укрепленного стеной города, занимавшего несколько более 8 га. Прямоугольный священный участок был разделен стеной, ориентированной с запада на восток, на две части, каждая из которых была отведена для одного храма (южный храм — объект I, северный храм — объект II). Ранняя история храмов еще не вполне выяснена, в частности с какого времени дворы каждого из храмов были разделены на восточный и западный; однако это членение появилось достаточно рано, уже в V в. (восточные дворы — объект X). Главные здания храмов находились в западной половине участка, а вход с улицы — на востоке. Эти здания представляли собой изолированные сооружения на прямоугольной в плане платформе (табл. 31, 2, 3). На объекте I прослеживается ранний план главного здания. С востока на платформу вел узкий пандус. С восточной стороны на ней стояла колоннада портика, а с трех других сторон — глухие стены. Позади портика был виден четырехколонный зал с широкой дверью в западной стене, за которой находилась прямоугольная целла. Стены между залом и портиком не было. Зал и целла с севера, запада и юга были обведены обходным коридором. По сторонам от входа в целлу в торцовой стене зала располагались две арочные ниши, предназначенные, видимо, для статуй богов. Архитектурная композиция храма, несомненно, родственна композициям храмов греко-бактрийского и кушанского времени на территории Бактрии (Ай-Ханум, Тахти-Сангин, Сурх-Котал, Дильберджин). Особенностью пенджикентских храмов является открытый в портик четырехколонный зал перед целлой. В этом проявилась характерная вообще для Согда публичность ритуала. К V в. относится первая значительная перестройка первого храма. К южной стене были пристроены три помещения, самое восточное из которых, с окрашенными в черный цвет стенами и хранилищем для чистой золы, предназначалось для священного вечного огня. Из этого помещения выходили во двор ступени специально пристроенной к платформе лестницы; по ней поднимались с огнем в главное здание. Симметрично этой была сооружена лестница у северного края платформы. Одно из помещений у южной стены главного здания было святилищем с нишей в торцовой стене. В нише не было стационарного изображения божества, но низ стены под ней оформлен в виде пьедестала и украшен глиняными рельефами, значение которых определил П. Бернар: два тритона, подняв руки, поддерживают драпировку, как бы свисающую с потолка нити. Найдены и фрагменты орнаментов от живописного обрамления. Около юго-западного угла платформы обнаружены пристенный алтарь-пилястр и остатки пня большого дерева. В результате перестройки здания культы огня и воды, столь характерные для зороастризма, начали играть большую роль, не предусмотренную первоначальной композицией плана. Это не изолированный факт: к V в. относятся наиболее ранние оссуарные погребения Пенджикента. В более раннее время, в первые века н. э., в Согде известны трупоположения в курганах и грунтовых могильниках (Суджина, Зосун). Для того же периода надо упомянуть и обычай выкладывания трупов в пещере в сопровождении инвентаря (пещера Гори-Гург близ Пенджикента). Как известно, оссуарный обряд не был обязательным для зороастрийцев и практиковался не только зороастрийцами. Но в Хорезме и в Согде этот обряд определенно связан с зороастрийской средой (Рапопорт, 1971; Ставиский, 1952; Потапов, 1938; Павчинская, 1983; Grenet, 1984; Грене, 1987). Само изменение обряда, несомненно, отражало стремление к упорядочению ритуалов, о том же, вероятно, свидетельствует перестройка храма в Еркургане, где приблизительно в то же время появляется стационарный алтарь огня и множество ранее неизвестных культовых предметов, связанных с почитанием огня (Исамиддинов, Сулейманов, 1977; 1984, с. 18; Сулейманов, 1987, с. 135–143). К концу V в. относится сооружение дополнительных капелл с севера от главных зданий обоих храмов. В северной капелле второго храма местами сохранилась настенная живопись на боковых стенах, в том числе изображение богини с предстоящими. Это не основное божество, культу которого была посвящена капелла. Богиня с систром и знаменем в поднятых разведенных руках сидит на троне с опорами в виде протом крылатых псов (?) (Belenizki, 1980, taf. 18–20; Belenitskii, Marshak, 1981, fig. 34). Элементы эллинистической иконографии Исиды и греческого костюма, а также эллинистические приемы передачи объема и пространства (позем), которые позднее в Согде исчезают, сочетаются с сасанидской царской позой, сасанидскими пряжками и лентами. Надо отметить зооморфный трон, переносной жертвенник с зонтом, трубчатое знамя — особенности позднейшей согдийской культовой иконографии, появившиеся уже в V в. Сочетание эллинистической и сасанидской традиций восходит, вероятно, к кушано-сасанидскому искусству Тохаристана[10], но согдийцы смело перерабатывали заимствованные схемы. Рисуя богиню, художник первоначально собирался изобразить ее с мечом. Однако в ходе работы было решено изменить ее атрибуты или, скорее, заменить на этом месте одну богиню другой, с другими атрибутами (табл. 32, 8).Памятники VI в.
Если V век в Согде был временем неуклонного подъема, то к началу VI в. в Пенджикенте относятся разрушения, связанные, возможно, с эфталитским завоеванием. В первой половине VI в. храмы были перестроены, причем было заложено сырцом помещение для вечного огня. Таким образом, пенджикентский первый храм недолгое время сочетавший особенности двух типов иранских культовых сооружений досасанидского времени, т. е. храмов богов и храмов огня (Boyce, 1979, p. 60–61, 88–90), снова стал только храмом богов. Эта перемена имела, видимо, лишь местное значение, поскольку хорошо известно, что во времена арабского завоевания в VIII в. в Согде функционировали храмы огня. В VI в. после нескольких перестроек окончательно сложился план пенджикентских храмов, который с VII в. уже почти не менялся. Главное здание второго храма в результате осталось изолированной постройкой среди двора, тогда как фасад главного здания первого храма протянулся на всю ширину двора. Сами главные здания обоих храмов очень похожи друг на друга. Портики и залы храмов, несколько капелл получили богатое скульптурное и живописное убранство. Архитектура предоставила живописи и скульптуре возможность развернуть перед посетителями храмов множество композиций, среди которых были сцены поклонения божеству, процессии, культовые театрализованные представления, пиры и иллюстрации к мифологическим повествованиям. Это изобилие изображений, не свойственное зороастризму Ирана, здесь, в Согде, должно быть, помогало местной религии успешно конкурировать с манихейством и буддизмом, которые использовали религиозное искусство в своей пропаганде. В V–VI вв. в ходе борьбы сложилась согдийская культовая иконография, в которую с VI в. за короткий срок вошло много новых для Согда иноземных элементов. Это стало возможным потому, что ранее у согдийцев вообще не было сколько-нибудь развитого представления о зримом облике богов. В дальнейшем, в VII–VIII вв., наступает определенная стабилизация и нет новых значительных заимствований. В VI в. в Согде широкое распространение получили керамические иконки-образки, на некоторых изображены божества в храмовой нише (Маршак, 1964, с. 237–240, рис. 25–26; Мешкерис, 1962, с. 40–43, 92–95, табл. XIX–XX; 1977, с. 60–71, рис. 7, табл. XIV–XVIII, XXX). Надо отметить, что статуэтки без ниш часто были изображениями тех же богов, что и на образках. Нана, сидящая на льве (табл. 30, 22), бог на троне в виде верблюда (табл. 30, 1, 6, 11) и некоторые другие персонажи терракот засвидетельствованы, кроме того, в росписях и на деревянной скульптуре VII–VIII вв. Многие терракоты, вероятно, были массовыми репродукциями известных в свое время храмовых статуй. Скульптор лепил и вырезал из подсохшей глины исходную патрицу каждой серии. Патрицу обжигали, оттискивали в сырую глину, а затем после обжига оттиск превращался в матрицу для формовки терракот. Во время сушки и обжига фигурки становились меньше, чем матрицы, в которых их делали. Многие гончары использовали в качестве патриц готовые изделия и делали с их помощью новые матрицы, которые, высыхая, становились меньше терракот, послуживших патрицами. Иногда полученные оттиски подправляли после формовки. В результате появились большие серии терракот разного размера (известны серии с шестью-семью градациями), но целиком или в основных чертах, механически воспроизводивших немногочисленные исконные патрицы, выполненные скульпторами-профессионалами. Этих патриц было так мало, что не приходится думать об особых скульпторах-коропластах. Те, кто выполнял глиняные статуи и рельефы храмов или резные деревянные фигуры и рельефы, очевидно, лишь от случая к случаю делали образцы для мастеров-керамистов. С терракотовыми образками высокопрофессиональное искусство и новая иконография богов вошли в дома рядовых горожан. Некоторые, обычно более крупные, терракоты раскрашивались, как, вероятно, и вся монументальная скульптура. Во втором храме к VI в. относится глиняная монументальная скульптурная композиция входного портика восточного двора с изображением реальных и фантастических обитателей вод, среди которых есть и тритон с рыбьими хвостами вместо ног, похожий на более ранних тритонов первого храма. Тогда же в северной капелле второго храма напротив входа сделали специальную нишу с росписью, посвященной культу водного божества — четверорукой (по индийскому образцу) богини, сидящей на троне в виде дракона. Таким образом, почитание водной стихии засвидетельствовано во второстепенных помещениях. От статуй главного зала почти ничего не сохранилось, а в целле, по-видимому, вообще не было стационарного убранства. Там только голые стены и остатки деревянных конструкций, вероятно, от механизма с воротом какого-то подъемного устройства для храмовых чудес[11] (табл. 31, 4). Таким образом, неясно, относились ли второстепенные культовые изображения храма к его основному культу. В портике и четырехколонном зале росписи отражают мифологические сюжеты и ритуалы, совершавшиеся в храме (процессии едущих в храм на боковых стенах портика, фигуры молящихся с переносными жертвенниками на торцовой стене зала). Мифологически композиции — это какие-то плохо сохранившиеся батальные сцены на задней стене портика и росписи боковых, южной и северной, стен четырехколонного зала. На восточной части южной стены показана сцена оплакивания, в которой участвуют люди и божества (ЖДП, табл. XIX–XXIII; Якубовский, 1950, рис. 4, 5). Ее считали изображением погребения Сиявуша — героя, почитавшегося в Бухаре и, возможно, в Хорезме, или его сына Форуда (Дьяконов, 1951; Дьяконова, Смирнова, 1960), однако более вероятно, что оплакивают не юношу Форуда или мужа-воина Сиявуша, а какую-то молодую женщину (Рапопорт, 1971, с. 82), хотя такой миф в Согде неизвестен[12]. Оплакивание с участием четверорукой богини, по мнению исследователей Дьяконова, Смирнова, 1967, с. 76, 82, 83; Grenet, 1984, p. 275), соответствует согдийско-манихейскому тексту, в котором в связи с «порчей» веры магов упоминаются богиня Нана и оплакивание, но этот текст (Henning, 1944, p. 137, 142–144; 1965, p. 252) слишком отрывочен, чтобы судить о предании в целом. Западнее изображены вздыбленный красный конь и сцена разрушения стен города или крепости с падающими вниз головой людьми. Это не Чинватский мост, который должны преодолеть души умерших, поскольку при падении в ад грешников сам мост сужается, но не разрушается. На северной стене показана процессия пеших мужчин, ведущих красного оседланного коня, видимо того же, что и на южной стене, причем перед конем становятся на колени какие-то люди. В отличие от процессий на северной и южной стенах портика, которые движутся в том же направлении, что и посетители, идущие от входа к главному зданию, здесь движение обращено наоборот от целлы к портику, как бы продолжая композицию южной стены. О связи северной и южной композиций говорит и повторное появление красного коня. Видимо, художник изобразил не совершаемый в храме ритуал, а обряд, исполненный персонажами иллюстрируемого мифа. Жертвоприношение коня, известное в древности у ряда иранских народов, могло быть связано с погребальным обрядом, на что указывают рельефы одной группы согдийских оссуариев, где показаны жрец в закрывающей рот повязке, переносной алтарь и оседланный конь у этого алтаря (Крашенинникова, 1977, 1986). Люди с такими же повязками сопровождают оседланного коня на росписи VII в. из Афрасиаба. Если согласиться с Л.И. Альбаумом, что там изображен приезд невесты к самаркандскому царю, то оседланный конь, возможно, участвовал не только в погребальном, но и в других обрядах. Однако его толкование не бесспорно. Во втором храме эпизод с конем лишь часть погребального ритуала, но никак не развязка мифологического сюжета. Продолжение могло бы находиться на соседнем участке торцовой стены портика. Но трудно допустить возможность, что композиция на этом участке — сражение в горах с мелкомасштабными фигурами, среди которых различимы воин, поднявший боевой топор, и как будто слон, — может без всякого перехода быть продолжением торжественной, даже несколько растянутой процессии на северной стене. Сюжет сцены на этом северном участке торцовой стены портика, видимо, тоже мифологический, но в этой сцене продолжается не роспись зала, а композиция на южном участке той же стены, где показаны тела поверженных воинов. Таким образом, тематика росписей боковых стен главного зала была полностью раскрыта на этих двух стенах. Если, как неоднократно предполагали, здесь находились иллюстрации к мифу об умирающем и воскресающем божестве (мужском или женском), то, поскольку стены были много выше, чем сохранившиеся росписи, для сцен, связанных с воскрешением или апофеозом, могли бы быть отведены верхи стен. Оплакиваемая имеет статус божества или близка к этому статусу, поэтому художник показал ее в большем масштабе, чем оплакивающих ее людей. Возможно, что роспись, как и согдийский текст с упоминанием Наны, посвящена какому-то квазиисторическому событию, поскольку в тексте назван реальный город, находившийся на территории Тохаристана. В этом случае также надо учитывать неполноту сохранившейся композиции. В первом храме росписи VI в. частично сохранились в южной и северной капеллах и в портике главного здания. В портике это мелкомасштабное изображение какого-то ритуального пира и две далеко отстоящие друг от друга композиции: с божественным воином-лучником на колеснице, запряженной четырьмя кабанами, и с изображением Захака. Захак представлен дважды — стоящим и лежащим (Беленицкий, Маршак, 1973; Belenitskii, Marshak, 1981, fig. 14, 33). Этот царь, позднее тиран «Шахнаме» со змеями, выросшими из его плеч, восходит к авестийскому трехголовому змею Ажи-Дахаку. По сочинениям сасанидского времени, он играет важную роль в зороастрийской эсхатологии. Побежденному, но не убитому в древности[13], ему предстояло участвовать в последней битве Добра и Зла. С темой извечной борьбы этих мировых сил, вероятно, связаны батальные сцены в росписях портиков главных зданий храмов Пенджикента. В росписях их северных капелл отразились театрализованные представления, приуроченные к весенним и летним праздникам. Стилистически живопись VI в. в отличие от скульптуры далеко отходит от эллинистических традиций. В обоих видах искусства заметную роль начали играть индийские мотивы. Колорит росписей стал более ярким и контрастным, возросла их декоративная выразительность в синтезе с архитектурой. Судя по трактовке лица и прически, к VI в. относится деревянная нагая фигура сидящего мужчины, найденная в пещере в верховьях Зеравшана вместе с остатками одежды (Мухтаров, 1982, с. 15–20). Эта кукла в половину натуральной величины, возможно, служила переносным идолом во время праздничных процессий подобно фигуре Омана (Вохумана?), которого носили в храмах магов Каппадокии (Страбон, География, XV, 15, с. 680; Boyce, 1984, p. 63). Изображения светил и жезл с головами горных козлов, которые найдены вместе с этой статуей, также находят аналогии в зороастрийской символике. К VI в. относятся наиболее ранние согдийские серебряные сосуды, для которых характерны сохранение древних ахеменидо-парфянских традиций и почти полное отсутствие изобразительных мотивов (Маршак, 1971а).Основные изменения в VII — первой половине VIII в.
На протяжении VII в. в Согде произошли значительные перемены. Ускорение демографического и хозяйственного роста привело к качественным сдвигам и во всех видах ремесла, от которого в то время было неотделимо искусство. Внешние обстоятельства способствовали этому ускорению. С конца VI в. вхождение в систему тюркских каганатов, а с середины VII в. фактическая независимость под сюзеренитетом Танской империи, сначала почти, а затем и полностью номинальным, падение под ударами арабов в конце первой половины VII в. Сасанидского Ирана, связанное со всем этим перемещение на север основной трассы международной торговли на Азиатском континенте вывели Согд из относительной обособленности более раннего периода. Приблизительно с середины VII в. начинается расцвет согдийского искусства, который продолжался до середины VIII в., несмотря на неоднократные нашествия арабов в конце VII и особенно в первой половине VIII в., которые привели к полному подчинению Согда. В Пенджикенте удается датировать росписи VIII в. с точностью до десятилетий, но стилистически и по реалиям на протяжении VII — первой половины VIII в. выявляются два более длительных периода: VII в. и конец VII — первая половина VIII в., поскольку, восстанавливая Пенджикент, вернувшиеся около 740 г., после заключения договора с арабами, согдийцы в новых росписях 740-х годов отразили ту же доисламскую идеологию, которая воплощена в росписях начала VIII в., выполненных до прихода арабов в 722 г. в этот город. После середины VIII в. горожане и знать исламизировались, что прослеживается археологически по преднамеренной порче росписей и алтарей-очагов. К первому из этих периодов относятся основные росписи Афрасиаба (между 650 и 675 гг.), а ко второму — росписи Варахши (Беленицкий, Маршак, 1979). Наиболее поздний период богато представлен в Пенджикенте, и поэтому разрозненные росписи VII в. с точки зрения идейного содержания приходится рассматривать вместе с поздними. Насколько сейчас можно судить, живопись конца VII — первой половины VIII в. отличалась особо развитой нарративностью и разнообразием иллюстрируемых литературных сюжетов, тогда как ранее преобладали сложные ритуальные сцены. В VII в. ярко проявилось стремление к декоративному богатству, но в это время уже наметились и тенденции, нашедшие полное развитие в первой половине VIII в., когда согдийцы достигли высокого мастерства в разработке эпических повествований. Остаются непревзойденными их фризовые композиции со сложным ритмом повторяющихся сцен и мотивов при обязательной неполноте повторов и своеобразии каждой из фигур и каждой из сцен (принцип повторов ближе к рифмовке, чем к рефрену). Эволюция шла ко все более ясной и при этом эмоциональной передаче развития действия, ко все большей эластичности форм и контуров и все большей каллиграфичности линии. Произведения торевтов с середины VII в. до начала второй половины VIII в. отличаются особенно высокохудожественным выполнением (Маршак, 1971а). В VII в. обогащается набор форм серебряной посуды, распространяется сложный рельефный и гравированный декор, становятся обычными изображения реальных и фантастических животных. В торевтике этого времени проявился интерес к иноземным культурам, что выразилось в заимствовании тюркских и византийских форм, сасанидских изобразительных и китайских орнаментальных мотивов. В Хорезме на серебряных чашах изображали богов, иногда тех же, что и на согдийских росписях, но согдийцы предпочитали видеть на сосудах зооморфные символы. Возможно, это связано с согдийской торговлей. Зарубежные или инаковерующие потребители могли, не понимая согдийского осмысления, воспринимать эти, как будто нейтральные, образы в соответствии со своими собственными представлениями. Согдийские сосуды распространялись в тюркских и хазарских степях, их влияние заметно в Китае и в Восточном Иране, подвластном арабам. В эту эпоху подъема благосостояния рядовые горожане в своем быту подражали знати: их столовая посуда (керамические реплики серебряных сосудов), одежда с наборными поясами, монументальные дома похожи соответственно на утварь, костюм и жилища аристократии. Значительные перемены произошли и в коропластике. Техника ее не изменилась, но образки почти исчезли, зато широко распространились фигурки всадников со штампованным изображением человека на вылепленном от руки ездовом животном (табл. 30, 5). Такие фигурки, но обычно целиком лепные, издавна были известны в Согде. Эти своего рода праздничные игрушки, связанные с древними обрядами земледельцев, напоминают, в частности, фигурки, изготовляемые зороастрийцами к Фарвардагану[14]. В VII в. иногда на спину животного прилепляли небольшой образок, но в целом всадники в отличие от образков — это не изображения богов пантеона. Исчезновение терракотовых образков едва ли можно объяснить отказом от обычая иметь в домах изображения богов. Скорее всего, в богатеющих городах Согда дешевые штампованные иконки сменились живописными, известными, например, по Восточному Туркестану той эпохи. В парадных залах богатых домов живописцы обязательно изображали богов как объект поклонения главным образом в виде особой сцены на торцовой стене в реальной или изображенной живописцем нише. Именно для VII в. характерны лицевые оссуарии с рельефными культовыми изображениями. Сюжеты рельефов оссуариев существенно пополняют представления о согдийском пантеоне и согдийских ритуалах.Развитие культовой иконографии.
Попробуем теперь дать краткий обзор культовых сюжетов по всем видам изобразительного искусства Согда VI–VIII вв. Культовое искусство Согда имело весьма скромное начало. В Пенджикенте в капелле, расположенной в северо-западном углу двора второго храма, в слое начала VIII в. найдена алебастровая статуя сидящей богини, смонтированная из отлитых в форме частей и раскрашенная (Maršak, 1990, fig. 6). Датировка этой портативной фигуры высотой около 32 см не соответствует дате слоя. Ее иконография и стиль восходят к эллинистическим статуям сидящей богини, хотя и с некоторыми искажениями и огрублением. Еще нет ни сасанидских, ни индийских деталей. К сожалению, определить, какая именно богиня изображена, нельзя, поскольку не сохранились ни головной убор, ни руки, которые обычно держали предметы, являющиеся атрибутами определенного божества. Можно только сказать, что ближе всего к пенджикентской фигуре изображение Ардохш на некоторых монетах Канишки III (Зеймаль Е., 1983, табл. 25, XVII, 01). Такого рода небольшие серийные, сменные и довольно простые изображения, вероятно, в позднеантичное время привозились из какого-то производственного центра, обслуживавшего большую территорию. Следует отметить, что известные для более позднего времени росписи каждый раз без припорохов создавались заново. Уже к концу V в. изображения богов, как показывает роспись с богиней из северной капеллы, сохранив некоторые особенности (в частности, в костюме), характерные для античной традиции, становятся гораздо сложнее, обогащаясь элементами сасанидской царской иконографии: диадема и пояс с лентами, зооморфный трон, ноги сидящей фигуры с расставленными коленями, образующие ромб. Сасанидский вклад прослеживается и по позднейшим памятникам, но с VI в. его несколько заслоняет сильное индийское влияние, столь же отчетливо видное в произведениях более позднего периода. Индийские заимствования связаны не с буддийской, а с индуистской иконографией. Только в одном зале дома начала VIII в., в котором на почетных местах помещены крупномасштабные изображения богов согдийского пантеона, в маленькой арке над дверью был изображен Будда, выполненный художником-небуддистом, допустившим грубые иконографические ошибки (помещение 28 объекта XXV) (табл. 33, 2). Заказчик также явно не был буддистом, но, имея недогматическое религиозное сознание, видимо, не видел ничего дурного в том, чтобы заручиться покровительством и этого иноземного божества. Согд в некоторых китайских источниках отнесен к числу стран, где почитают Будду, однако побывавшие в нем буддийские паломники VII–VIII вв. свидетельствуют о негативном отношении согдийцев к буддизму. Вероятно, наиболее тесный контакт с этой религией нужно отнести к VI в. В Пенджикенте на хуме есть согдийская надпись «сутра» (чтение В.А. Лившица), хотя именно в этом городе буддисты никогда не играли заметной роли (табл. 34, 3). Возможны контакты согдийцев с индуизмом помимо буддийского посредничества. Как недавно напомнил Ф. Грене, в долине Инда еще в XIX в. существовала группа населения, название и занятия которой свидетельствуют о ее происхождении от согдийских торговцев (Grenet, 1985, p. 37–38). Эти люди стали индуистами, но практиковали ряд неортодоксальных обычаев. Множество согдийских надписей обнаружено на скалах вдоль дороги в верховьях Инда (Humbach, 1980). Там, в Индии, стремление потомков согдийцев приспособиться к индуизму вполне понятно, особенно если учесть длительность их пребывания в этой стране, но могли ли возвращавшиеся из Индии купцы так повлиять на своих сограждан, остается неясным. В кушанском царстве, по мнению Е.В. Зеймаля, «боевой шиваизм», отрицавший иные культы, дважды становился царской религией (при Виме Кадфизе и Васудеве), что было связано со стремлением иноземных завоевателей Индии с помощью неортодоксальной индийской религии внедриться в замкнутую структуру общества этой страны (Зеймаль Е., 1963). Однако за пределами царства, в Согде, все это не имело значения, да и специфики «боевого шиваизма» нет в согдийской иконографии. Связанный с Вишну Гаруда, вероятно как-то переосмысленный, изображен в виде орла, опутанного змеей и несущего в когтях полуобнаженную нагини. В той же нише парадного зала одного из домов VIII в. (помещение 1 объекта XXII) помещена крупномасштабная фигура трехглавого божества, подобного Шиве. Очень похожие изображения Гаруды открыты в Зартепе в Тохаристане (Реутова, 1986). Наиболее вероятным представляется, что в Согд индуистскую иконографию занесли буддисты. Экспансия буддизма — это мощный процесс, охвативший Тохаристан и вообще все страны к югу и востоку от Согда, который не мог не сказаться, пусть косвенным образом, и в нем, тем более что вне метрополии хорошо известны согдийцы-буддисты. О согдийско-буддийском «субстратном элементе» искусства Согда предположительно писал Б.А. Литвинский (Литвинский, Зеймаль, 1971, с. 124). Индуистские божества, и в частности Шива, засвидетельствованы в буддийском искусстве VI–VII вв. Восточного Туркестана, долины Кабула и Дуньхуана. Вне Индии эти божества отождествлялись с местными богами. Так, в согдийском буддийском тексте Зрван приравнен к Брахме, Адбаг (видимо, Ахура-Мазда) — к Индре, а Вешпаркар — к Махадеве, т. е. к Шиве (Humbach, 1975). В другом буддийском тексте эти три бога фигурировали только под своими согдийскими именами, но при этом упоминаются особенности их облика, прямо связанные с индийской иконографией: третий глаз Адбага, три лица Вешпаркара. Г. Хумбах сопоставил согдийского Вешпаркара с бактрийским Вишей-Шивой, который на некоторых кушанских монетах представлен трехликим. Это сопоставление подтверждается, в частности, надписью с именем Вешпаркар (чтение В.А. Лившица) на ноге трехглавого, вооруженного трезубцем шивоподобного бога пенджикентской живописи (помещение 1 объекта XXII) (Белиницкий, Маршак, 1973, рис. 11). Вешпаркар почитался не только согдийскими буддистами, но и манихеями, а также, судя по росписям Пенджикента, адептами местной религии. Согдийский Вешпаркар, скорее всего, согласно Г. Хумбаху, соответствует авестийскому Вайу — богу Ветра. Не все его атрибуты в отличие от кушанского Виши присущи Шиве. Когда в кушано-сасанидское время иранские зороастрийцы захотели приспособить образ Виши к своим представлениям, в кушанских землях Вишу-Шиву не отождествляли с каким-либо авестийским божеством, что сделало возможным его отождествление с Митрой (Луконин, 1981; Carter, 1981). Созвучие в именах, скорее всего, разной этимологии помогло согдийцам узнать своего Вешпаркара в бактрийском Више, а тем самым и в Шиве. Возможно, и другие фигуры шивоподобного, но не трехголового божества, известные в терракоте с VI в., а в живописи с VII в. (Banerjee, 1969), также могут быть поняты как изображения Вешпаркара. В V–VI вв. буддийские миссионеры могли, пользуясь отсутствием стойкой местной иконографии, не только ввести в свой пантеон почитаемых согдийцами богов, но и отождествить их с адаптированными буддизмом индийскими. В буддийских храмах согдийцы увидели вместе с изображениями Будды и других буддийских персонажей своих собственных богов в чужеземном обличье. Можно думать, что вскоре храмы и дома небуддистов обогатились подобными росписями и статуями, а в VII–VIII вв. восторжествовавший культ местных богов сохранил ставшую уже привычной индийскую иконографию. Считают, что в пенджикентской сцене оплакивания тоже сказалось влияние буддийского искусства (Jettmar, 1961). Если образы индийских богов пришли в Согд с буддизмом, то занесены они были не при кушанах, а позже, во время упадка буддизма в Тохаристане, поскольку индийские мотивы согдийской иконографии часто явно посткушанские. В живописи Красного зала дворца Варахши много раз повторяется варьирующая только в деталях композиция: герой в короне, сидящий на слоне, сражается с двумя хищниками или чудовищами. Этот герой и его противники показаны огромными, как слон, и только погонщики масштабно соответствуют слонам. Над фризом с этими сценами проходит другой фриз с изображением шествия оседланных животных — реальных и фантастических, которые символизируют всю совокупность богов пантеона, обычно изображавшихся сидящими на спине зверей или на зооморфных тронах. Еще выше были помещены райские деревья, охраняемые грифонами. Особый культовый характер зала виден и в его планировке (Шишкин, 1963, с. 54–58, 152–158, табл. I–XII). Вероятно, внизу многократно повторено изображение истребляющего чудовищ Абдага, который уподоблен восседающему на слоне царю богов Индре. Скорее всего, тот же бог изображен на пенджикентском образке в виде царя с лирой в руке на троне, опоры которого — протомы двух слонов. Бог с лирой или кифарой есть и на других терракотах из Пенджикента и Самарканда (Веселовский, 1917, с. 60, рис. 1; Маршак, 1964, с. 239–240, рис. 26, 7–8) и как будто на росписи VI в. в северной капелле пенджикентского второго храма (Маршак, Распопова, 1991). Слово «Адбаг», по Н. Симс-Уильямсу, означает «высшее божество», соответствуя буддийско-санскритскому adhideva (палийскому atideva) и представляя собой «индоиранский гибрид» с индийским префиксом и иранским корнем (Sims-Williams, 1983, p. 138–139). Влияние индийской буддийской терминологии на лексику согдийского языка, сказавшееся в манихейских и христианских текстах, считают результатом успехов буддизма в Согде (Henning, 1936; Asmussen, 1965, p. 136–137). Хотя согдийцы-манихеи могли уже в Восточном Туркестане, а не в своей метрополии воспринять многие буддийские понятия и термины, но индийские слова в христианских текстах показывают, что были и полностью «натурализировавшиеся» в согдийском языке ранние заимствования такого рода (Sims-Williams, 1983, p. 136, 140). Для понимания иконографии важно, заменило ли у согдийцев индоиранское «гибридное» слово «Адбаг» имя Ахура-Мазды, как считает Г. Хумбах, или оно применялось ими к разным богам, как считает Н. Симс-Уильямс. Манихеи-согдийцы называли Адбагом Первочеловека, которому Мани дал имя Хормизда (Ахура-Мазды). У монголов-буддистов, следовавших за уйгурами, имя Хормизд вообще заменило имя Индра. Если считать согдийский текст, в котором Адбагом назван «царь богов» (Sims-Williams, 1976, p. 46–48), манихейским, то окажется, что это слово относилось не только к Первочеловеку, но и к Отцу Величия (Sims-Williams, 1983, p. 138). Однако данный текст, возможно, зороастрийский (Лившиц, 1981, с. 353–354), что сразу возвращает к идее об Адбаге — Ахура-Мазде. Кроме того, сам Н. Симс-Уильямс отмечает, что есть согдийский манихейский отрывок, в котором вместе упомянуты как разные персонажи и Азва-Зрван (Отец Величия), и Адбаг (Sims-Williams, 1983, p. 138). Задача сопоставления образов богов со сведениями письменных источников затрудняется крайней скудостью текстов.Образы богов согдийского искусства и боги Авесты.
Поскольку известны согдийские формы имен почти трех десятков авестийских богов (Henning, 1965), представляется необходимым найти в иконографии все, что сопоставимо с этими божествами. Однако все эти отождествления сугубо гипотетичны, поскольку только в случае с Вешпаркаром отождествление подтверждается надписью, а иконография не знает общезороастрийских норм в Согде и сильно отличается от иранской. На образке и статуэтках VI–VII вв., восходящих к одной патрице, показан юный бог без короны, стоящий с разведенными в стороны стопами (Маршак, 1964, рис. 27). Единственный обращающий на себя внимание атрибут — это повязанный сложным узлом тройной пояс, концы которого держит юноша. Это, скорее всего, вариант зороастрийского кусти, который развязывали и завязывали молясь. В двух других вариантах тройной кусти есть на жрецах рельефов оссуариев из Краснореченского городища и из района Китаба(Горячева, 1985; Крашенинникова, 1986). Из зороастрийских богов с молитвой связан прежде всего Сраоша (Срош) — «послушание», который первым из творений Ахура-Мазды совершил молитву (Ясна, LVII, 2, 67), он — вестник Ахура-Мазды, воплощение дисциплины, лучший учитель религии. Как будто весьма разнообразно представлен согдийский Вашагн (авестийский Веретрагна) — бог Победы, от которого, судя по его популярности в согдийском искусстве, ждали удачи во всяком деле. На образках VI в. это юноша в короне в виде крылатого верблюда, сидящий в индийской царской позе на лежащем верблюде и держащий в руках маленького верблюда (Маршак, 1964, рис. 26, 9; Беленицкий, 1977, рис. 46; Belenitski, Marshak, 1981, fig. 9). Верблюд в Авесте связан с Веретрагной, будучи одной из его инкарнаций. В живописи Варахши этот бог сидит на троне с опорами в виде крылатых верблюдов, тогда как в той же композиции на ножке жертвенника он изображен на лежащем верблюде, причем в руке у него храмовый жертвенник («огонь Варахрана» — Веретрагны), неподалеку от трона в воздухе летит крылатый верблюд с павлиньим хвостом (Шишкин, 1963, табл. XIV, XV). В Пенджикенте такое фантастическое существо в живописи первой половины VIII в. имеет несколько вариантов, показано оно и на согдийском серебряном кувшине (Беленицкий, 1973, рис. 39; Маршак, 1971а, табл. 7). Ж. Дюшень-Гийомен считает, что фантастические существа в согдийских росписях, летящие около голов людей, символизируют различные воплощения Веретрагны (Duchesne-Guillemin, 1979). Несколько подобных фигур могут быть поняты так, но многие из них ассоциируются с другими богами (дракон с изогнутой шеей, крылатая девушка, лев с крыльями и хвостом дракона и др.). Магические изображения фантастических существ с головой человека или животного и, видимо, змеиным хвостом по-индийски названы нагами в непереводном согдийском тексте, в котором прослеживаются буддийские и местные (например, гимн Ветру) элементы (TSP, 1940, p. 59–73; обзор литературы об этом тексте см.: Лившиц, 1981, с. 354). Хварена (фарн) — божественная слава, удача, по Ж. Дюшень-Гийомену — кольцо с лентами или ленты, которые несет летящее существо, однако возможно, что и сами эти существа воспринимались как воплощения фарна (Azarpay, 1976; 1981, p. 110–112; Belenitskii, Marshak, 1981, p. 70, 73). «Крылатые лисицы», по Бируни, олицетворяли счастье кеянидов и назывались «хурасан хварра», т. е. «восточный (райский) фарн» (Бируни, 1957, с. 237). Эти сведения восходят к Сасанидскому Ирану, цари которого якобы унаследовали фарн кеянидов. В сасанидской символике наиболее соответствующим тексту Бируни представляется так называемый сенмурв (Duchesne-Guillemin, 1978), в подражание которому согдийцы выработали свой образ крылатого верблюда. Разнообразие летящих существ могло быть связано с представлениями о фарне того или иного бога. В живописи Афрасиаба (помещение 9) и Пенджикента Вашагн, держащий в руке чашу с фигуркой верблюда[15], сидит на одном троне с богиней (Беленицкий, Маршак, 1973, с. 61–62; 1979, рис. 7). В Пенджикенте в трех домах этот трон опирается на две фигуры: верблюда со стороны Вашагна и горного барана со стороны богини. В терракоте есть как будто и отдельные изображения этой богини (Кызласов, 1959а, с. 208–209; Мешкерис, 1977, рис. 7, 1, 3). Ванинда, женское божество Победы в виде Ники, изображена на некоторых кушанских монетах, горный баран — одно из воплощений Веретрагны, а в Сасанидском Иране и фарна кеянидов (Литвинский, 1968, с. 55–56). В Пенджикенте около этой четы показаны Ветры в виде полуобнаженных фигур с кожаными мешками. У горла одного из мешков клубятся облака. Ветер — первая инкарнация Веретрагны, который, кроме того, осеняет хвареной дом праведного, как дождевые тучи (Яшт., 14, 41). На бронзовых бляхах из буддийского храма согдийцев Семиречья (Ак-Бешим, VIII в.) оба божества держат в поднятых руках одну фигурку лежащего верблюда (Кызласов, 1959а, с. 206–209, рис. 38, 7). В изображениях этой пары только поза мужского божества имеет индийское происхождение. Акбешимские бляхи — прямое свидетельство включения согдийских богов в буддийский культ, подтверждение взаимодействия буддийского и местного искусства (табл. 100, 1–3, 5–8). Видимо, те же боги изображены на отдельных тронах в соседних арках резного фриза из Куйруктобе близ Отрара (Байпаков, 1986, с. 54–57, рис. 10). Акбешимский Вашагн отличается большой бородой, в его сложном не вполне ясном головном уборе звериное ухо (Кызласов, 1959а, с. 206–209). Божество с гротескным бородатым лицом и головным убором с козлиными рогами и ушами, которое держит знамя на длинном древке, есть в живописи Пенджикента (Беленицкий, Маршак, Распопова, Исаков, 1983, с. 198–200, рис. 3). К сложной композиции, в которую входит это изображение, мы еще вернемся. Вполне возможно, что и это Вашагн, уподобленный индийскому Найгомейе — козлоголовому спутнику или воплощению Сканды — бога войны. Г. Азарпай сравнила с Найгомейей бога, с головой козла и с копьем-флагом на хорезмской серебряной чаше (Azarpay, 1969, p. 201; Смирнов, 1909, № 45). Надо учесть, что Сканда изображался с копьем[16] и что козел — тоже одна из инкарнаций Веретрагны. Вашагн, или Срош, представлен в виде сидящего в индийской позе принца с павлином на руке в арке рельефа деревянного панно из Пенджикента. Павлин в Индии — символ (ездовое животное — вахана) Сканды, который по своей функции близок к Веретрагне, но возможно, что павлин был в Согде приравнен к петуху Сроша. В Индии Сканда-Картиккейя держит в руке петуха, но не павлина. Только с Веретрагной связан в Авесте кабан, что позволяет видеть Вашагна и в божественном воине в доспехах на колеснице, запряженной кабанами, изображенном в портике первого храма (Беленицкий, Маршак, 1973, с. 55–56, рис. 3). Зооморфные символы при антропоморфных изображениях у согдийцев, видимо, часто были смягченным отражением зооморфных инкарнаций богов Авесты. Не исключено, что тот же бог в виде Геракла, с которым его отождествляли в Иране, изображен на серебряной чаше VII в. с нанесенной до позолоты согдийской надписью (Смирнов, 1909, № 67; Альбаум, 1960, с. 177–178; Ставиский, 1960; Лившиц, Луконин, 1964, с. 172). Наконец, видимо, был прав А.Я. Борисов, считавший, что божество в виде царя с мечом и с гротескной маской у ног — это Веретрагна, ассоциировавшийся с планетой Марс (Борисов, 1945). Такая иконография известна по налепам самаркандского «оссуария Веселовского» и по росписи VI в. северной капеллы пенджикентского второго храма (Веселовский, 1917, рис. 5; Беленицкий, 1973, табл. 2; Маршак, Распопова, 1991). Таким образом, если мы выбираем отождествляемых персонажей среди авестийских богов, то для пяти-шести иконографических вариантов наиболее подходящим оказывается Веретрагна, согдийское имя которого Вашагн известно, в частности, по названию посвященного ему двадцатого дня каждого месяца. Есть и еще несколько изображений воинственных богов в доспехах, которые трудно отождествить. Надо признать, однако, что все предложенные отождествления логичны, только если исходить из авестийского списка, что не является абсолютной необходимостью, поскольку согдийцы почитали и других богов. Не всегда можно выбрать, к кому из богов, даже в пределах списка, надо отнести тот или иной атрибут, как, например, колесницу или пару коней. С такими атрибутами могут быть изображены Миш (Митра), природное божество Солнца (Хвар), Тиш (Тиштрия), Друвасп (Друваспа) и др. Божество на коне с веревкой в руке (Беленицкий, Маршак, Распопова, Исаков, 1983, с. 190–191) иконографически напоминает кушанского Друваспу, огромный сияющий нимб за его спиной заставляет подумать о солнечных богах, однако надпись на его руке, хотя и плохо сохранившаяся, не дает подтверждений для соответствующих отождествлений. Иногда по связи с природным явлением или по функции можно подыскать в Авесте подходящие имена: например, Раман для бога, похожего на Силена и индийского Куверу (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1980, с. 240; 1986, с. 330; Беленицкий, Маршак, Распопова, Исаков, 1983, с. 201), или Апамнапат для водного бога, символом которого был дракон (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1980, с. 239). Однако согдийцы поклонялись не только авестийским богам (Henning, 1965, p. 253–254; Лившиц, 1979), а в качестве божества вод в Бактрии и Хорезме засвидетельствован Вахш. Список божеств согдийского пантеона, как он представлен в искусстве, может быть пополнен уже упоминавшейся богиней с систром и богиней на драконе (Анахитой?), какой-то богиней типа Тюхе с рогом изобилия, сидящей на троне с рогатыми львиными (?) грифонами (в резном дереве Пенджикента) (Беленицкий, 1973, табл. 43), нагой богиней с оленем на серебряном блюде (Маршак, 1971а, табл. 43), богиней, подобной Афине (на афрасиабских и пенджикентских терракотах) (Мешкерис, 1962, рис. 332; 1977, табл. XXX, 94; Маршак, 1964, рис. 26, 7–8), аналогичной богине Дильберджина (Кругликова, 1976, с. 96–101, рис. 57–59) и отчасти богине монет Хувишки (ее возможное отождествление с авестийской Арштат) (Grenet, 1984а, p. 258–162), а также еще несколькими достаточно отличающимися от всех рассмотренных или перечисленных образами. Однако по обилию изображений ни одно божество не может сравниться с Наной на льве и, по-видимому, с Вашагном в его разных обличьях. Третье место занимает шивоподобный бог, в его трехглавой иконографии определенный как Вешпаркар. Обычно в разных пропорциях в иконографии прослеживаются три пласта: античный, сасанидский и индийский. Создавая все новые и новые образы богов, согдийцы конструировали их из привычных элементов. Это хорошо видно по росписям VII в. во внешних дворах храмов, где показано множество божественных персонажей. Как правило, каждому божеству давался какой-то отличительный атрибут, но в одном случае во внешнем дворе второго храма изобразили целую толпу прекрасных дев с булавами-жезлами и поднятыми знаменами. Отдельные фигуры отнюдь не идентичны, но у них нет особых индивидуальных атрибутов. Возможно, это многочисленные фраваши «с поднятыми знаменами» — идеальные прообразы всего сущего, которые почитались зороастрийцами как духи-покровители каждого существа и как духи предков, этот культ был распространен и в Согде (табл. 32, 9).Культовые композиции в живописи и на оссуариях.
Судя по совместным изображениям двух или нескольких богов в одном зале, почти все божества согдийских росписей входили в один пантеон. Каждая семья имела одного-двух собственных божественных патронов, крупномасштабные фигуры которых вместе с маленькими донаторами помещали в реальную или нарисованную нишу напротив входа. В роли патронов известны Вешпаркар, четверорукая Нана, сидящая на льве, Вашагн (как один, так и вместе с богиней), бог на троне с конями (Митра?). Нана встречается чаще остальных, но иерархия богов прослеживается плохо, и притом не по этим сценам, где особо выделены не главные боги, а патроны семей. Ее элементы заметны в иллюстрациях к мифологическим повествованиям. Так, в Пенджикенте и в Шахристане к Нане на льве, держащей солнце и луну в поднятых руках, со стороны руки с солнцем на запряженной крылатыми конями колеснице подъезжает коленопреклоненный (сидящий на пятках) бог (Belenitski, Marshak, 1981, p. 67, fig. 32; Негматов, 1973, с. 192–195, рис. 8, 9). Это обычная поза молящихся перед божеством. Она показывает, что бог на колеснице в иерархии ниже Наны. Этот бог, видимо, солнечное божество, но не столь высокого ранга, как Митра. Хотя согдийцы и воспринимали бога договора Митру и как солнечного бога, но, видимо, у них сохранилось представление и о Хваре как божестве этого светила. Сложнейшая культовая сцена в Пенджикенте (помещение 12 объекта XXV) вписана в высокую арку (Беленицкий, Маршак, Распопова, Исаков, 1983, с. 197–204, рис. 2–4; Maršak, 1990, p. 305–307, fig. 15). Наверху в ней помещены патроны данного дома: четверорукая Нана на льве и несколько ниже нее водный бог в шлеме с протомой дракона. Внизу по сторонам стоят со знаменами два божественных стража. Один из них в короне-диадеме, надетой на фригийский колпак, и с фигуркой льва на чаше в поднятой руке, а другой — Вашагн в головном уборе с козлиными рогами и ушами и с демоническим лицом, о котором уже шла речь. В паре с Веретрагной в Авесте назван Ама (Сила). Они названы двумя стражами. В иконографии есть элементы, известные по западному митраизму (фригийский колпак, лев), но нет столь характерного для всех восточных изображений Митры нимба. Скорее всего, это искусственно сконструированный образ абстрактного божества Силы. Около бога со львом помещен трон, опирающийся на две человеческие фигуры, на котором сидел какой-то царственный бог. К трону подвешен винный кувшин. Это какое-то божество довольства и богатства, поскольку вахана Куберы человек, а в Индии Кубера-Вайшравана — владыка севера и кладов — иконографически уподоблен пирующему Силену, у греков игравшему ту же роль божка богатства. В Бактрии, судя по Тахти-Сангину, Силен связан с культом Вахша, но там он показан не пьющим вино, а играющим на двойной флейте. Однако нередкий в согдийском искусстве Силен всегда ассоциируется не с водами, а с вином. Середина нижнего яруса занята двумя постройками, одна из них символизирует ад, которого опасаются благочестивые хозяева дома, а другая — рай, в который они стремятся попасть после смерти. Оба изображения едва ли могут быть поняты иначе, но они мало в чем соответствуют представлениям о будущей жизни, изложенным в среднеперсидских сочинениях (Gignoux, 1968). Ад представлен в виде покрытой чешуей постройки, охраняемой свирепым, похожим на льва, зверем. Над ней летит дракон. Ее фланкируют две струйки дыма. Перед входом гневный бог в доспехах (Срош?) стоит перед упавшим демоном[17]. Арка рая украшена драгоценностями. В нем множество окон, из которых выглядывают красавицы в богатых головных уборах, олицетворения добрых дел достойных рая людей. Охраняют его крылатые девы с булавами-жезлами (фраваши?), а фланкируют два трубчатых знамени, подобные знаменам богов. К той же большой композиции относятся фигуры молящихся перед жертвенником огня, музыканта, танцоров. Видимо, на боковой стене ниши находился шивоподобный бог с трезубцем, попирающий череп, а на своде ниши — небожительницы музыкантши и танцовщицы, а также летящие колесницы с конями, видимо принадлежащие астральным божествам. Эта композиция самая теологическая из всех согдийских росписей, но более яркие проявления влияния зороастрийских доктрин можно увидеть на рельефах оссуариев. К таким проявлениям относятся сцены с бесспорно зороастрийскими жрецами в кусти (Горячева, 1985; Крашенинникова, 1977, 1986) и падане — повязке, закрывающей нос и рот (Павчинская, 1983; Горячева, 1985; Крашенинникова, 1977, 1986), и со стационарным храмовым алтарем огня (Павчинская, 1983; Горячева, 1985). Зороастрийские объяснения находят и другие оссуарные изображения: сцена загробного суда бога Рашна (Потапов, 1938; Grenet, 1986), сцены жертвоприношения и прибытия души умершего в рай (Крашенинникова, 1986), хотя в последнем случае многие детали остаются неясными. Надо отметить, что жертвенник здесь не стационарный, а такой же, как в сценах поклонения богам в живописи Согда и Тохаристана (Кругликова, 1979, рис. 24). Много неясностей возникает при рассмотрении группы прямоугольных оссуариев VII в. из района Миянкаля в Центральном Согде (табл. 36, 4) с изображениями богов под храмовой (?) аркадой (Борисов, 1940; Пугаченкова, 1984; Грене, 1987; Grenet, 1986, и др.). Ф. Грене считает, что на всех этих оссуариях в разных иконографических вариантах помещены фигуры не более чем шести персонажей. Нередко персонажей всего четыре, поскольку на коротких боковых сторонах оттиснута половина того же штампа, которым выполнена длинная сторона с четырьмя фигурами. Вероятно, рядовые согдийцы не считали, что судьба души погребенного зависит от того, шесть божеств или четыре изображено на оссуарии. Между тем две гипотезы о значении изображений связаны с числом персонажей: А.Я. Борисов думал, что это воплощения четырех священных стихий зороастризма, а Ф. Грене полагает, что это Амеша-Спенты — шесть божеств, ближайших к Ахура-Мазде. Вместе с Ахура-Маздой чаще насчитывали семь Амеша-Спентов. Как отмечает Ф. Грене, совместные изображения всех шести пока нигде не засвидетельствованы. Гипотеза Ф. Грене наиболее детально обоснованная из всех предложенных толкований. Рельефы оссуариев нельзя воспринимать изолированно от всех других данных по согдийской культовой иконографии. Это показывает оссуарий из долины Кашкадарьи с божествами под двумя арками, под одной из которых помещена четверорукая Нана с солнцем и луной в руках, хорошо известная по живописи Пенджикента и Шахристана (Лунина, Усманова, 1985). Не исключено, что справедливо мнение А.Я. Борисова, видевшего в сидящем на троне длиннобородом царе с топориком в короне со звездой на биянайманских оссуариях Зурвана (согд. Азва), божество вечного времени, уподобленное Сатурну-Кроносу в иллюстрациях астрологических трактатов. Кроме приведенных им аргументов, надо вспомнить, что в том согдийском тексте, который сообщает об облике Азвы, Адбага и Вешпаркара, длинная борода названа в качестве единственного признака, позволяющего узнать первого из этих богов. Непонятно, почему этот отличительный атрибут, если согласиться с Ф. Грене, дан Хшатра Вайрья (Шахревару), на кушанских монетах безбородому. Зурванизм, вероятно, господствовал в согдийском зороастризме, как и в зороастризме среднесасанидского Ирана (Widengren, 1965, s. 320). Если на оссуариях из Миянкаля и Кашкадарьи с жертвенником огня в поднятой руке показан один и тот же персонаж, то его отождествление, очевидно, должно помочь понять, что означали остальные фигуры. Жертвенник огня, кроме Вашагна, могли бы держать Хварена (согд. Фарн), как Фарр в Бактрии, Аша-Вахишта (согд. Артахушт) или Атар (Аш). Кто из них изображен с алтарем в руке на согдийских оссуариях, невозможно решить однозначно. Наименее вероятен здесь Фарн, предположительная связь которого с посмертным существованием души базируется лишь на истолковании этнографических представлений о роли жертвенного барана, переносящего душу через Чинватский мост (Литвинский, 1968, с. 97–98). На кашкадарьинском оссуарии со сценой прибытия души в рай под троном бога, держащего жертвенник, помещены два барана. Горный баран — одна из инкарнаций Веретрагны, но здесь животные в отличие от опор зооморфных тронов не соприкасаются с ковром, на котором сидит бог. Между баранами — небольшой сосуд. Возможно, художник, создавая композицию, отчасти воспроизвел привычную схему трона, но изобразил не трон, а жертвенник животных. Конь, стоящий возле алтаря огня за спиной жреца, тоже помещен под фигурой сидящего божества, но явно не служит ему опорой. Вероятными остаются толкования, предложенные для миянкальских оссуариев А.Я. Борисовым — Атар (согд. Аш), т. е. Огонь, или Ф. Грене — Аша-Вахишта (один из Амеша-Спентов, покровитель огня). Последний вариант, пожалуй, наиболее соответствует деталям композиции кашкадарьинского оссуария. Светлый радостный рай Аша-Вахишты упомянут в Авесте (Ясна, LXVIII, 13), а с представлениями о рае, несомненно, связаны музыканты по сторонам бога. Само по себе это ничего не решает, поскольку небесные музыканты в живописи Пенджикента и Шахристана фланкируют и Нану, и бога на троне с конями, но на оссуарии есть и другие, видимо райские, атрибуты — чаша и ожерелье. В верхней части композиции, кроме бога с алтарем и двух музыкантов, есть еще три фигуры: это Ден — воплощение добрых деяний покойного в виде девушки, его душа в виде нагого ребенка и еще одно сидящее в царской позе мужское божество, которое вместе с Ден держит или, скорее, опускает перед душой преграду на пути в рай. Около сидящего бога клетчатая подушка, крытая той же тканью, что и сиденье бога с жертвенником. Это гах — почетное сидение, приготовленное в раю для почившего. Второй бог, который пускает в рай, — Рашн, судящий мертвых, или Срош, помощник Аша-Вахишта, помогающий душе достичь рая. В свободной руке каждого из двух богов — барсом (ритуальный пучок прутьев). Возможно, что предмет в руке Сроша не барсом, а дубинка, его атрибут. Если все же принять вариант А.Я. Борисова, то два бога соответствуют Адуру (авест. Атар) и Срошу, которые, по среднеперсидскому сочинению «Арда Вираз Намаг», приветствовали «иранского Данте» Арда Вираза и сопровождали его по раю и аду (Gignoux, 1968). Едва ли эти двое — Митра и Рашну — судьи душ, поскольку тогда непонятен жертвенник огня в руке одного из них. Конечно, штампованные рельефы оссуариев, предназначенные для массового тиражирования, не отражали столь же массовый обряд погребения. Жертвоприношение коня или вообще участие верхового коня в обряде было доступно только знатнейшим. В этих рельефах сказалось стремление рядовых согдийцев освоить, пусть даже только в имитациях и изображениях, то, что было достоянием знати. Согдийские художники, исходя из умозрительных идей и привычных элементов иконографии, смело создавали ранее невиданные сложные культовые композиции. При этом представления, отраженные согдийским искусством, не идентичны тем, которые зафиксированы в Авесте и в позднейшей зороастрийской литературе. Художники участвовали в процессе упорядочения идеологии быстро развивающегося Согда, они с помощью атрибутов и композиционных приемов стремились разъяснить широкой аудитории то, что бытовало не столько в виде писания (не случайно, что в текстах почти не представлена собственно согдийская религия), сколько в виде обрядов и неканонизированной устной традиции.Неавестийские божества, демоны. Календарные обряды.
Согдийцы издавна поклонялись Нане, почитавшейся не только в Бактрии, но и в Парфии. В Согде известны религиозные представления, которые, казалось бы, не только чужды, но и прямо враждебны зороастризму (Henning, 1965, p. 252–254; Лившиц, 1979). Хеннинг считал, что, хотя зороастрийское отрицательное отношение к дэвам отразилось в лексике согдийского языка, на периферии, особенно в Уструшане, слово «дэв» сохранило значение «бог», но археология показывает, что в Уструшане, Семиречье, Отраре — везде, где жили согдийцы, почитали одних и тех же богов. Вероятно, дело не в локальных различиях, а в том, что догматика зороастризма без принуждения со стороны мощного государственного аппарата не могла побудить людей отказаться от стремления избежать вражды или даже заручиться поддержкой всех могущественных творений, в существование которых они верили. В VI в. в терракоте Пенджикента были многочисленны статуэтки и образки с арочной нишей, на которых изображалась женщина в пышной короне (табл. 30, 23), со сложенными на груди руками (знак повиновения) и со звериными ногами (Маршак, 1964, рис. 26, 1–6), напоминающая демонические образы Вавилонии (ИДВ, 1983, с. 453, рис. 127, г) и античных «сирен» (Кобылина, 1967). Эта же фигурка в виде налепа на стенку оссуария снабжена пририсованными крыльями (Мешкерис, 1977, табл. XX, 1), но обычно в отличие от приведенных аналогов она бескрыла. Демонические головы украшают оссуарии (в том числе и оссуарий со сценой прибытия души в рай) и еркурганную курильницу (Исамиддинов, Сулейманов, 1977, с. 65–69). Представления о том, что, изображая демонов, можно заставить их служить оберегом против злых сил, едва ли не повсеместно. Даже на сасанидских печатях изображения ненавистной зороастрийцам нечисти должны были способствовать преодолению вреда от нее (Борисов, Луконин, 1963, с. 35). Однако пенджикентские терракоты не вполне соответствуют таким представлениям. На них покорная поза чудовища сочетается с аркой, которая обрамляет и образки с фигурами богов пантеона, свидетельствуя о существовании культа такого божества. В пенджикентских иллюстрациях к эпосу демоны нередко уподоблены богам. Так, трехголовый демон с трезубцем и нимбом очень схож с Вешпаркаром, и лишь его гибель в одном из эпизодов от руки героя показывает, что это отнюдь не божество, даже не «злой Вайну», которому тоже не пристала такая гибель[18]. Наконец, иконография богов пантеона повлияла и на образ Духа урожая, сидящего на фоне кучи зерна, воплощением которой он, судя по таджикской этнографии, представлялся. В этой сцене увоза зерна с гумна, входящей в композицию всемирного пира по поводу нового урожая (помещение 28 объекта XXV), древний земледельческий культ принял обычную для согдийской иконографии форму: у Духа урожая — трон (табл. 35, 5), царские сасанидские ленты, нимб, языки пламени над плечами и т. д. (Маршак, Распопова, 1985; Maršak, Raspopova, 1987). В росписях Пенджикента есть изображения и других сезонных обрядов, которые, однако, не нужно жестко привязывать к Наврузу (Новому году), Михрагану и вообще к календарным праздникам такого рода. Поскольку согдийский зороастрийский календарь был подвижным, сдвигаясь на 30 дней за каждый 120 лет, и не корректировался, его месяцы не соответствовали своим первоначальным сезонам[19]. Новый год у согдийцев в начале средних веков был летом. К нему, возможно, относится изображение летнего празднества с купанием, венками, состязанием борцов в одном из домов Пенджикента (помещение 14 объекта XVII) (Беленицкий, Маршак, 1976, рис. 19). Михраган в Иране считался годовщиной победы Феридуна (Афридуна) над Захаком. Бируни, называя зороастрийских богов ангелами, писал: «В этот день спустились ангелы (с неба) на помощь Афридуну, и из-за этого пошел такой обычай в домах царей: во дворе дома, во время восхода зари, становился смелый человек и говорил самым громким голосом: „Ангелы, спускайтесь на землю, поразите дьяволов и злодеев, отгоните их от мира“» (Бируни, 1957, т. I, с. 233–234). Этот день иранские толкователи сделали «вестником дня воскресения и конца мира» (там же, с. 234). В Шахристане, во дворце правителей Уструшаны и в зале одного из домов Пенджикента первой половины VIII в. (помещение 6 объекта III) стены заняты батальными сценами, в которых разные боги (Нана, Солнце, в Шахристане также Вешпаркар) вместе с людьми участвуют в грандиозной битве с демонами (Belenitskii, Marshak, 1981, p. 67, fig. 6, 32; Belenizki, 1980, s. 54–56; Негматов, 1973). Сохранность не позволяет определить, был ли отражен, в частности, сюжет борьбы с Захаком. Возможно, что здесь нет старого соответствия мифологической хронологии. В пенджикентском зале в сцене с коленопреклоненными дэвами перед троном с тремя алтарями огня, из которых третий имеет на ножке фигуру Вешпаркара, среди победителей помещен Рустам в его характерном облачении, опознаваемом по атрибутам, зафиксированным известной пенджикентской «Рустамиадой». По иранским преданиям, Рустам принадлежал к другому поколению героев, чем Феридун, но тоже был неутомимым борцом против дэвов и чудовищ. Битва богов и людей с демонами в росписях, возможно, соответствовала происходившему в зале обряду торжественного призывания богов, которых, так же как на живописи, звали вступить вместе с праведными людьми в битву с демонами и отогнать их от мира. В Согде, где цари были лишь «первыми среди равных», такой сюжет представляется уместным и во дворце, и в частном доме представителя городской знати. В Иране Михраган был вторым по значению годовым праздником после Навруза. Сведений о праздновании Михрагана в Согде нет, но в согдиизированном Чаче начала VII в. китайские авторы называют только два праздника: 6/I и 15/VII (Бичурин, 1950, т. II, с. 272–273, 282). Если считать, что нумерация месяцев в их текстах местная, а не китайская, то 6/I соответствует Большому Наврузу, а 15/VII — это канун Михрагана[20]. По Бируни, именно 6/I Джам, т. е. Йима Авесты, объявил «чтобы разрушили старые „наусы“ и не строили в такой день нового науса» (Бируни, 1957, с. 228). Именно в этот день в Чаче сосуд с останками родителей владетеля[21] устанавливали на престоле в специальном здании близ резиденции, совершали ритуальный обход престола и жертвоприношения, устраивали пир. Вынос этого сосуда, видимо оссуария, из места захоронения, из места мертвых в мир живых вполне соответствовал бы празднованию для годовщины исчезновения смерти и сноса погребальных построек в Золотой век Йимы. В «Бэйши» в отличие от «Суйшу» говорится лишь о первом чачском празднике. Возможно, что описанные обряды и относятся только к первому, а не ко второму, о котором в таком случае сообщена только календарная дата.Сцена приема в росписи Афрасиаба и вопрос о гражданской религии Согда.
Пенджикентские данные позволяют предложить новую интерпретацию сцены царского приема в живописи Афрасиаба (Альбаум, 1975). Эта сцена занимает всю торцовую стену парадного зала (помещение 1). На сохранившейся нижней части стены показаны процессии фигур, направляющихся с двух сторон к середине зала. Выше помещен ряд сидящих фигур. Верхняя половина стены не сохранилась. По Л.И. Альбауму, процессии направляются к трону согдийского царя Вархумана (около 650–675 гг.). На самой живописи есть прочитанная В.А. Лившицем согдийская надпись, в которой говорится, что Вархуман принял послов из Чаганиана и Чача (Альбаум, 1975, с. 52–56). Композиция включает также группы представителей нескольких народов, которые рассматриваются как посольства из разных стран (табл. 35, 1, 3). Та же надпись, однако, говорит, что не чаганианский посол подошел к Вархуману, а царь сам «подошел к нему». Это место понятно, если считать, что Вархуман обходил послов, а не сидел на троне. Тогда в соответствии с прослеженным по другим залам обычаям центр главной композиции был бы занят изображениями божеств, а не царя. Если согласиться с этим, то станет ясно, почему речь посла в надписи содержит, кроме приветственной формулы, только такое обращение к царю Самарканда: «Вовсе не имей подозрений относительно меня — о самаркандских богах, а также о письменности я хорошо осведомлен, и я не причиню никакого зла (самаркандскому) царю» (Альбаум, 1975, с. 55–56). В.А. Лившиц понимает слова посла как обещание не пытаться вводить чаганианскую веру и связанную с ней письменность в Самарканде. «Согдийцы, пережившие к середине VII в. много религиозных потрясений и вернувшиеся в лоно маздеизма, имели основание опасаться нового усиления буддизма — религии, которая в это время, судя по источникам и археологическим находкам, господствовала в Чаганиане» (примечание В.А. Лившица см.: Альбаум, 1975, с. 55, примеч. 155). В начале VIII в. в Чаганиане заметную роль играло манихейство (Беленицкий, 1954, с. 44–45), но в Тохаристане в целом в VII в. преобладал буддизм (Литвинский, Зеймаль, 1971, с. 120–121). Во второй половине VII в. буддизм, поддерживаемый могущественной Танской империей, распространился также в Семиречье и в Фергане. Поэтому в момент наибольшей танской экспансии Вархуману, формально признававшему сюзеренитет империи, понадобилось в отвергшем буддизм Самарканде провести грандиозный прием послов перед изображениями богов. Делегации приносили дары, был, видимо, устроен пир. Подобные процессии, подношения даров и ритуальные пиры хорошо известны по росписям храмов Пенджикента. Китайская делегация проходит первой, за ней стоят какие-то горцы (?) и корейцы. Люди из тюркской свиты китайских послов, беседуя, дожидаются конца церемонии. Большая группа тюрок сидит в верхнем ряду. Представители среднеазиатских государств (Чаганиана, Чача и др.) ждут своей очереди. В.А. Лившиц любезно сообщил мне свои чтения надписей на этих фигурах. На шее человека в кафтане из ткани с сенмурвами полустертая надпись, наиболее вероятное чтение которой «Вархуман», за ним следует «чаганианский дапирпат» (титул посла). Это поздние посетительские надписи, возможно, ошибочные, но все же согдийский посетитель и в VIII в. не мог бы, видя в центре композиции царя на троне, приписать его имя второстепенному персонажу. На других стенах показаны процессии с участием Вархумана (который здесь, как мне кажется, представлен крупномасштабным всадником на желтом коне) и картины жизни чужих стран — Китая и (по мнению Л.И. Альбаума) Индии. Когда в Согд через согдийских купцов и колонистов или через прибывавших в него миссионеров хлынули чужеземные верования в виде мировых религий — буддизма, манихейства и христианства, то в колониях согдийцы охотно принимали эти религии, поскольку там перемена веры сулила сближение с жившими рядом партнерами из других народов. Недаром именно к таким религиям относится почти вся литература согдийцев диаспоры. Свои боги при этом могли занять лишь очень скромное место в системе идей мировых религий, но сохраняли социально важную роль покровителей отдельных семей и общин земляков. В колониях согдийцы нередко подчинялись иноземной администрации и иноземным законам. Там почитание тех или иных богов было частным делом, и человек мог, сохраняя культ своего божественного патрона, сменить веру. В метрополии, где, по сведениям китайских источников, в самаркандском храме, т. е. под покровительством богов, хранились законы страны[22], отказ от религии гражданской общины был гораздо более редким. Многие из часто встречающихся в Пенджикенте образов богов известны и по памятникам Самарканда, Уструшаны, Кеша, Семиречья, Отрара. Это были боги, почитавшиеся везде, где жили согдийцы. Зороастризм, судя по религиозной терминологии по согдийскому тексту с молитвой «Ашем Воху» (Sims-Williams, 1976, p. 46–48; Gershevithch, 1976; Лившиц, 1981, с. 354), а также по сообщениям Хой Чао (Fuchs, 1938, s. 452) и других авторов, был религией Согда. Однако этот поверхностный зороастризм прикрывал отнюдь не догматические представления. Согдийцы метрополии далеко не всегда крепко держались зороастрийских богов своих гражданских общин. Уверения посла, что он знает богов и письменность и что его нечего опасаться, видимо, имели не только религиозное, но и юридическое значение, если речь шла об уважении иностранцами санкционированного богами писаного закона. Во включавшем в себя Чаганиан Тохаристане, как показали росписи Дильберджина (Кругликова, 1976, 1979), с буддизмом сосуществовали культы богов, сходные с согдийскими по обряду и по иконографии с ее античными, сасанидскими и индийскими элементами. Значение культов богов, с одной стороны, и высших религиозных доктрин — с другой, видно при сравнении стенных росписей и рельефов оссуариев. В росписях преобладают частные культы богов, тогда как на оссуариях, напротив, важную роль играют специфически зороастрийские концепции и ритуалы. Даже жреческое одеяние и ритуальный пояс зороастрийцев показаны на оссуариях, но не в росписях. Дело, вероятно, в том, что штампованные оссуарии рассчитаны на любого, кто их приобретает, и соответствовали тому, во что верили все, а росписи писали по заказам отдельных семей, династий, городских общин, имевших в рамках общей религии своих собственных богов-покровителей. Отметив, что для Согда характерно сочетание культов многочисленных, нередко неавестийских богов с проявлениями воздействия учения Зороастра, В.Б. Хеннинг писал, что остается неясным, насколько сильным было это воздействие на местное язычество (Henning, 1965, p. 250–254). Во всяком случае, после открытия последних десятилетий речь должна идти не о том, что сами местные народные верования были согдийским огнепоклонничеством, причем собственно зороастризм настолько «проникся местными языческими культами», что «можно даже отказаться от применения термина „зороастризм“ к культу огня и связанному с ним религиозному дуалистическому миропониманию в Средней Азии» (Якубовский, 1954, с. 21–22), а о том, что учение Зороастра надо считать наряду с культами богов важным компонентом согдийской религии. Хотя согдийцы раннего средневековья считались зороастрийцами, но археология показывает, что это не мешало языческой пестроте их верований. Зороастризм проник в Согд очень рано (Gershevithch, 1976), но здесь не могло произойти то государственное урегулирование, которое имело место в истории сасанидского зороастризма, как не было и сасанидского навязывания зороастризма другим народам. Это различие связано с несравненно более слабым развитием в Согде правительственного аппарата и с огромным значением, которое имели в нем такие малые ячейки социального организма, как общины, семьи и т. д. Тенденция к упорядочению, однако, заметна и в Согде. В V в. она сказалась в росте значения культа огня и во введении оссуарного обряда, ранее известного в основном в Хорезме, а в VII в. — в гонении на буддистов, в попытке обеспечить международное признание самаркандских богов и «письменности». Однако, за исключением оссуарного обряда, все это очень эпизодично: недолговечным оказался на деле «вечный» огонь пенджикентского храма, в котором в VI в. помещение для огня было забутовано, в небуддийской среде засвидетельствовано, хотя и в очень ограниченной степени, почитание Будды (Maršak, 1990, p. 304–305, fig. 14). Кроме того, не случайно, что в афрасиабской надписи речь идет именно о самаркандских богах и письменности, хотя по изображениям видно, что от Бухары и Кеша до Чуйской долины согдийцы молились богам одного пантеона[23]. Когда чаганианский посол говорил перед царем о богах, вероятно, этого пантеона, он имел в виду их особое значение для Самарканда, как почитаемых небольшим самаркандским государством и покровительствующих именно этому государству, т. е. говорил не о мировой, а о своего рода «полисной» религии. Надо напомнить также, что патронами согдийских семей были прежде всего боги, дарующие удачу и благосостояние, независимо от места этих богов в иерархии, соответствующей теологическим концепциям жрецов.Три ранга росписей. Светские сюжеты в парадных залах первой половины VIII в.
В конце VII — первой половине VIII в. в домах всех сколько-нибудь состоятельных горожан обязательно были росписи или резные деревянные изображения, а чаще всего и то и другое. Росписи нередко украшали несколько помещений, но основная изобразительная программа реализовалась в парадных залах. Широкие арки, сложные деревянные «своды» с откосами, применявшиеся, по-видимому, перекрытия типа «вписанного креста» (Маршак, 1983) определяли почти храмовую торжественность залов. Из местных привычных материалов создавалось нечто подобное каменным храмам и дворцам Сирии, Малой Азии и Ирана. Те или иные заимствованные мотивы были использованы для решения глубоко оригинальной задачи: выразить высокое самосознание гражданина согдийского города-государства. Зажиточная часть городского населения, составляющая в Пенджикенте более трети домовладельцев, не стремилась противопоставить свою, говоря современным языком, «контркультуру» культуре царей и храмов; напротив, она хотела по мере своих сил освоить достижения этой культуры. Такая тенденция характерна для верхов города и землевладельцев, в какой-то мере для рядовых горожан, а не для массы крестьянства, и все же при всей своей исторической ограниченности она весьма примечательна. Парадных залов открыто много, и ни один из них не повторяет другой. Выбирая сюжеты, каждый заказчик стремился выразить свои идеалы. Заказчики и художники, вырабатывая сложную программу росписей и резьбы по дереву, исходили из конкретных индивидуализированных задач, обычно соблюдая при этом некоторые общие принципы. Почти всегда в деревянной резьбе перекрытий появляется целый набор изображений богов, в том числе божеств-светил (Беленицкий, 1954, с. 76–81; 1973, с. 42–44, рис. 43). Работы последних лет показали, что согдийцы выполняли из дерева даже купол, у многих народов символизировавший полусферу неба (табл. 34, 1, 2). Но основное место божества в зале — это реальная или нарисованная арочная ниша напротив входа. Именно здесь находилось большинство культовых сцен, о которых шла речь выше. Этой нишей — выходом из человеческого мира в мир богов — завершался извилистый путь через сводчатые помещения с низкими проходами. Как правило, фигуры богов в нише были огромны. Их масштаб еще более подчеркивали маленькие фигуры реальных людей, молящихся богам. Иногда архитекторы прибегали даже к специальным приемам, основанным на перспективных эффектах, чтобы подчеркнуть грандиозность защищающих дом богов (табл. 33, 2; 34, 2). В сценах поклонения божество всегда гораздо больше, чем молящиеся, от которых оно глубоко отлично. Однако, судя по китайским источникам, некоторые среднеазиатские государи сидели на зооморфных тронах, подобных нарисованным тронам богов, и уподоблялись своим божественным покровителям. Так, трон правителей Бухары (Бичурин, 1950, т. II, с. 282) был схож с верблюжьим троном Вашагна, почитавшегося в Синем зале Варахши, в помещении 9 Афрасиаба и в трех пенджикентских домах (Беленицкий, Маршак, 1976, с. 80–81; Шкода, 1980). Аналогичное явление засвидетельствовано в Иране: сасанидская царица Шапурдухтак изображалась в роли покровительницы рода Сасанидов Анахиты (Луконин, 1979, с. 40), но, конечно, никто не претендовал на то, чтобы происходить от этой непорочной богини. Поэтому нет оснований думать, что известный по росписям Пенджикента и Шахристана персонаж, показанный, в частности, в нарисованной арочной нише парадного зала шахристанского дворца, — это «обожествленный предок» уструшанских афшинов (Негматов, 1984, с. 147–155, рис. 1, 2; ср.: Шкода, 1980). Когда один и тот же персонаж есть в росписях Согда и Уструшаны, нет необходимости выискивать для него сугубо местное объяснение. В Пенджикенте росписи залов по более или менее почетному месту, занимаемому ими, и по их масштабу делятся на три ранга. Это не только формальная классификация. Она одновременно этическая и дидактическая. Росписи первого ранга, которые в основном рассматривались выше, самые крупномасштабные и расположены на самом почетном месте — прямо против входа. Это сцены поклонения богам, свидетельствующие о благочестии и призывающие к преданности семейному культу. Человек всегда мал по сравнению со своим богом. В Согде не было изображений равного богу царя сасанидских инвеститурных рельефов и монетных реверсов. Другие идеи вложены в росписи второго ранга, располагавшиеся на менее почетных местах, по сторонам от композиции первого ранга в ее реальной или нарисованной нише напротив входа (табл. 33, 2; 34, 2). Это иллюстрации к героическим повествованиям, что особенно характерно для Согда, или героизированные сцены пиров, конной охоты, выводки коней, т. е. благородного образа жизни. Иногда к этому же второму рангу относили второстепенные культовые композиции и сцены с событиями недавней истории.Жесткого правила здесь не было, и все определялось предпочтениями владельца дома или, может быть, отчасти художника. Масштаб этих росписей несколько меньше, чем росписей первого ранга. Их основная этическая идея — самоотверженная доблесть и благородство. С высокой степенью совершенства передавали согдийские художники самый ритм эпического повествования с его нарочитыми замедлениями и напряженной динамикой роковых схваток. Энергично проведенные контуры выделяли фигуры. Участки фона давали простор движению. В эпических фризах, переходящих со стены на стену, зритель должен был, переводя взгляд от эпизода к эпизоду, воспринимать образы всех действующих персонажей, быстро и уверенно опознавая каждого из них, с волнением следуя за героем по его полному опасностей пути. Для этих росписей характерны контрасты, проявляющиеся и в соседстве бурных и спокойных сцен, и в сопоставлении мощи и уверенности вступающих в бой с мучениями и бессилием поверженных. Для Афрасиаба, Варахши, Пенджикента обычны контрастные соотношения красных и желтых охр с ультрамариновыми фонами. В сочетаниях цветов нет сложных, трудно поддающихся гармонизации соотношений зеленого с синим и зеленого с желтым. После первых открытий в Пенджикенте многие западные ученые считали живопись Согда локальным вариантом сасанидского искусства. Действительно, в цветовых построениях, в некоторых особенностях композиции и в реалиях есть определенное сходство, но дух искусства этих стран принципиально разный. В искусстве сасанидской империи герой — это прежде всего царствующий государь, который как бы заранее обречен на победу. Достаточно сравнить изображение стройного всадника на мугском щите, изящным движением пальцев управляющего огромным непокорным напряженным конем, со статичным всадником Таки-Бостана, похожим на «гору, сидящую на горе» (если пользоваться более поздней поэтической формулой), чтобы увидеть все различие не только художественных, но и жизненных идеалов (ЖДП, 1954, табл. V; cp.: Fukai, 1972). Религиозные символы, введенные в композиции с охотой или пиром, как и в иллюстрации к эпосу, показывают, что и росписи второго ранга имели не только светское значение. Картины благородного образа жизни одновременно отражали обряды, связанные с сезонными праздниками. Если в частных домах примерами доблести были эпические герои, подражать которым призывали зрителя, то во дворцах такое же значение могли придавать и реальным событиям недавней истории, прославившим государя. Так, в Пенджикенте в росписях, пострадавших в 722 г., обнаружены изображения арабов и арабских осадных метательных машин, применявшихся во время осады Самарканда в 711 г. (Беленицкий, Маршак, 1978). Были здесь и сцена коронации согдийского царя, которому повязывают корону-диадему, и царь, пирующий с неким арабом (Belenizki, 1980, taf. 60, 62; Belenitski, Marshak, 1981, p. 64–66, fig. 28–31, pl. 23, 24). Возможно, коронация Деваштича — владетеля Пенджикента в качестве царя Согда и господина Самарканда в 718 г. (Лившиц, 1979а) нашла отражение в живописи его дворца[24]. Присутствие арабов понятно, поскольку арабские власти какое-то время признавали за Деваштичем право на царский титул. В пенджикентских домах, кроме фрагментарных росписей с эпической тематикой, можно насчитать циклы иллюстраций к семи различным сказаниям. Сравнительно легко понять сюжет иллюстраций к сказаниям о Рустаме (Беленицкий, 1973, с. 47, табл. 7, 9-14), судя по согдийскому отрывку, видимо переведенному со среднеперсидского оригинала (Sims-Williams, 1976, p. 56–58; Gershevitch, 1969, p. 227; Кауфман, 1968). Рустам узнается по совершаемым им подвигам, находящим аналогии в «Шахнаме», по масти его коня Рахша и по одеянию из шкуры леопарда, упомянутому в согдийском тексте[25]. Удалось также с большой долей вероятности определить другой «переводной» сюжет — из индийского эпоса «Махабхарата» (Belenitskii, Marshak, 1981, p. 28; Семенов, 1985). С циклом о Рустаме связан еще один сюжет, не находящий параллелей в текстах (помещение 50 объекта XXIII) (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1986, с. 324–328; Древности Таджикистана, 1985. Каталог, № 578, 579). Участвуя в грандиозной битве с демонами, главный герой этого сказания убивает трехголового владыку демонов и освобождает от него девушку, затем герой на коленях докладывает Рустаму о своей победе и вместе с девушкой прибывает на прием к царю. Остальные эпические сюжеты, скорее всего, чисто местные. В одном случае в согдийской надписи на самой росписи В.А. Лившиц прочитал имена героев, которые ранее не были известны (Беленицкий, 1973, с. 33–34, 48). Сохранились три эпизода. В поединке победитель выбивает противника из седла, затем сбивает его с ног и, наконец, связывает у стен за́мка, куда тот пытался скрыться. Со стены женщины бросают камни в победителя. Другой местный сюжет имеет кульминацией исход длительного рокового поединка равных по силе героев. В конце концов один из них выстрелом из лука убивает противника, направившего в него копье. Это происходит после трех схваток, в которых были безрезультатно сломаны мечи, булавы, топоры. Тот же эпизод известен и по серебряному блюду (Дьяконов, 1954, с. 119–120, 137, рис. 8, табл. XXIV–XXIX; СЖДП, табл. III–VIII; Смирнов, 1909, № 50). Трагическая тема героической гибели, волновавшая согдийских художников, отразилась и в «битве с амазонками» (Беленицкий, 1973, с. 32–33, 47–48. табл. 23–32). В ярусе росписей, находящемся над «Рустамиадой», действует другой протагонист, отличающийся от Рустама не только одеждой, но и символом божества — подлетающим к нему драконом с длинной изогнутой шеей вместо львиного дракона, подлетающего к Рустаму в нескольких эпизодах (Беленицкий, 1973, табл. 7). Каждому персонажу, видимо, покровительствует особое божество. В верхнем ярусе можно увидеть совместный выезд двух героев, что, возможно, соответствует частому эпическому мотиву богатырского побратимства. Естественно, что большая часть эпических произведений не отождествляется. Эпос — это переосмысленное народом историческое прошлое, поэтому в нем заимствование встречается гораздо реже, чем в других жанрах, а от оригинальной согдийской литературы осталось лишь несколько отрывков. Переходя от второго ранга к третьему, одновременно переходим от волнующей героики к прагматической морали или даже к развлекательной тематике, которая не считалась серьезной. Росписи третьего ранга известны пока только в Пенджикенте. Это мелкомасштабные фризы и прямоугольные панно, которые в нескольких залах первой половины VIII в., замещают обычные орнаментальные бордюры. Сюда относятся иллюстрации к сказкам и притчам, лирические сценки, фриз с бегущими друг за другом животными, изображения музыкантов и танцоров. Оттенка героики в росписях этого ранга обычно нет. Развлекательные и лирические мотивы присутствуют, но отнюдь не преобладают. Основная этическая тема иллюстративных росписей этого ранга — практическая мораль, которой учат притчи. Сказки и притчи здесь, по большей части, знакомые по мировому фольклору, по греческому сборнику Эзопа, по индийской «Панчатантре», которая позднее в арабском переводе стала называться «Калила и Димна» (Беленицкий, 1973, с. 49. табл. 33, 34; Belenizki, 1980, s. 206–207, taf. 49, 50; Маршак, 1977; Беленицкий, Маршак, 1976, с. 87–88, рис. 16, 17; Скульптура и живопись, 1984, с. 35–38, рис. 34, 35; Древности Таджикистана, 1985. Каталог, № 573–576). Можно назвать, например, сказку о дочери, обещанной морскому духу, близкую к согдийскому тексту (Беленицкий, 1973, табл. 16); другую сказку — о царевиче, медведе, волке и шакале (Belenizki, 1980, taf. 34; ср.: Сказки народов Памира, 1976, № 65, с. 480–490); басни Эзопа о гусыне, которая несла золотые яйца, об отце и сыновьях; притчи «Панчатантры» об ученых, воскресивших тигра, который их затем съел, о льве и быке, обманутых шакалом, о льве и зайце, фаблио о женщине и ее поклонниках, о мудром судье и разоблачившем самого себя обманщике. Многообразие иллюстрируемых произведений значительно превышает то, что известно о светской литературе Согда (Лившиц, 1981; Henning, 1945). В манихейских переводах с парфянского и среднеперсидского есть сочинения с притчами из Эзопа и «Панчатантры», но теперь мы знаем, что басни и притчи, восходящие к тем же сборникам, были популярны в светской местной среде. В росписях третьего ранга нет идеализации, которая характерна для других рангов, в них нет никаких подробностей, кроме самых необходимых для передачи содержания, но при этом в типаже и в жестах виден результат живых наблюдений художника. Вся программа показывает иерархию этических норм: росписи первого ранга учат ритуалу, делают человека угодным божеству; росписи второго ранга показывают примеры мужества и благородства; росписи третьего ранга учат, как преуспеть в повседневной жизни, и развлекают. Общий дидактический характер согдийского искусства определил, вероятно, характерную для него сдержанность при передаче эротической тематики: редко встречаются и при этом очень скромно трактованы столь характерные для средневековья рассказы о женском коварстве (Древности Таджикистана, 1985. Каталог, № 574). Согдийское искусство воспитывало членов общества, отличавшегося высоким развитием хозяйства и культуры без централизации и при слабом развитии государственного аппарата. Это искусство отражало вкусы и интересы активного гражданина, а не подданного типичной восточной монархии.Коропластика.
Идеологические представления в какой-то мере отразились в мелкой пластике. Культовые терракотовые фигурки женщин (и очень редко мужчин) известны в южных регионах Средней Азии еще в эпоху бронзы. Произошли ли позднее существенные изменения в культах и обрядах, или божки изображались в другом материале, только терракотовые статуэтки исчезают из культурных комплексов на много столетий. Вновь они появляются, возможно не без влияния эллинистических традиций, в конце IV–III в. до н. э., и на этот раз, как и в древности, основным становится женское божество. Первые образцы терракотовых статуэток поры начала эллинизации местной культуры достаточно точно передают черты античных фигурок. Целая серия мужских головок возводится к иконографии Александра Македонского. Размноженные путем неоднократного репродуцирования колыбов, они просуществовали до V в. н. э. в качестве хорошо смоделированных головок на фигурках музыкантов и плакальщиков примитивной лепки и самостоятельных оттисков на стенках оссуариев. В IV в. еще сохраняется в общем прежняя эллинизованная иконография богини, фронтально поставленной в плаще с плодом, ветвью или зеркалом в поднятой к груди руке, иногда с младенцем на коленях или у ног — древнейший образ, восходящий к заре цивилизации. Сильно меняется стиль статуэток, изображающих музыкантов, которые в древности делались целиком оттиском штампа, теперь примитивно лепятся от руки, голова же формуется оттиском отдельно по эллинизированному образцу. Музыкальные инструменты в их руках передаются простыми валиками, и их разновидности угадываются только по положению инструментов и по положению рук. Согнутый углом валик, видимо, передает кифару, прижатую к груди; а в изогнутом дугой, поддерживаемом у плеча (один конец возле губ) предмете можно видеть музыкальный рог. Но рядом с традиционными появляются новые или неизвестные нам для более ранних периодов образцы. Среди них упрощенные фигурки обнаженных мужчин, женщин и гермафродитов, часто в эротических позах. В V в., вероятно, в связи с широкой волной буддийских влияний в среднеазиатском ареале во множестве изготовляются уплощенные глиняные пластинки с оттиснутым изображением персонажей разной иконографии. Среди них воин, исполнявший какие-то сакральные функции, с кинжалом, поднятым над плечом, в правой и с головой быка (?) в опущенной левой руке. Один и тот же штамп мог служить для изготовления статуэтки божества и демонического существа. Пример тому есть среди терракот Афрасиаба. Один из оттисков украшен мелкими наколами, подчеркивающими надбровия, другому же пытались придать свирепое выражение, расширив наколами зрачки, ноздри, широко прорезав лезвием рот. В этом обилии образов отражались верования и культовая обрядность. Но поскольку в коропластике, как правило, представлены персонажи, не отмеченные в обширном пантеоне, известном по стенописи, можно думать, что терракотовые фигурки изображали второстепенных божков, оберегавших их обладателей в повседневной жизни. Какая-то часть терракот могла представлять популярных героев, быть детскими игрушками. Среди этой категории статуэток наиболее многочисленны были всадники с поднятой на плечо булавой. В отличие от прочих районов долины Зеравшана в Бухарском оазисе в IV–V вв. (?) изготовлялись фигурки женского божества в короне мюралис с человеческими фигурками в ее зубцах. Круглое лицо при всей стилизации тонко смоделировано и обрамлено кольцами округлых буклей. Быть может, так представлена богиня — покровительница города. О сюжетах в искусстве мелких форм дают представление отдельные находки. На фрагменте сосуда из Сеталака красной ангобной краской сделан рисунок, напоминающий сильно стилизованный переносной жертвенник с языками пламени на нем. Возле гончарной печи Еркургана найдена керамическая плитка, покрытая оттисками двух штампов. Оттиск сравнительно крупного штампа, занимающего большую часть плитки с округлым верхним и прямым нижним краями, представляет длиннорогого козлика с повязкой на шее, развевающейся заштрихованным треугольником за спиной. Остальная часть плитки и частично поле уже оттиснутого штампа заняты девятью оттисками маленьких круглых печаток с изображением зайца (Кабанов, 1961, с. 120–122, рис. 17). Так же как и изображения козликов, схематизирован рисунок павлина на оттиске штампа. В иной пластичной манере представлены животные на оттиске штампа на глиняном грузиле из Шортепе и на пронизке с двусторонним изображением кошачьего хищника и коня. Гравировкой на костяной пластинке изображен припавший на колено стреляющий лучник с колчаном за поясом.Глава 12 Монеты раннесредневековой Средней Азии (Е.В. Зеймаль)
Монеты раннесредневекового периода пока исследованы для разных областей Средней Азии с неодинаковой полнотой, отчасти зависящей от того, насколько подробно те или иные области изучены археологически. Конкретный нумизматический материал будет рассмотрен поэтому раздельно — по нумизматическим «провинциям», которые, как правило, совпадают с историко-географическими единицами разного ранга, выделяемыми по данным письменных источников. Преимущественное внимание при этом будет уделено вопросам, которые плохо освещены в литературе, остаются нерешенными или спорными (особенно когда ответы на них заключены в археологических материалах); твердо установленные нумизматические факты, имеющие надежно обоснованную интерпретацию, рассматриваются менее подробно — с отсылкой к соответствующим публикациям. Сводной работы, посвященной монетному делу и денежному обращению раннесредневековой Средней Азии, не существует, хотя накопленные по каждой из областей материалы весьма обширны количественно и достаточно представительны в том, как они отражают состояние денежного хозяйства и процессы, в нем происходившие (Давидович, Зеймаль, 1980, с. 70–80). Начало раннесредневекового периода в денежном обращении Средней Азии, несколько не совпадая с принятыми для этого хронологическими рамками, относится в целом ко второй половине V–VI в. (для отдельных областей возможны некоторые отклонения от этих дат, обусловленные главным образом неравномерностью социально-экономического развития). Заканчивается период, когда полностью прекращается чеканка (а затем и обращение) раннесредневековых монет местного образца. Происходит это примерно в середине VIII в. (несколько позднее — в Хорезме, Уструшане и, видимо, в Чаче), когда Средняя Азия оказывается включенной (хотя и со своей спецификой и отклонениями) в финансово-экономическую систему Ближневосточного региона. Завоевание арабами Средней Азии в первой четверти VIII в. принесло перемены прежде всего в политическую и социальную жизнь, но, создав условия для широкого проникновения сюда монет Омейядского халифата, не сопровождалось немедленным нарушением традиций местного монетного дела и денежного обращения, его отменой. 20-60-е годы VIII в. — период сосуществования на среднеазиатском рынке в обращении монет местной чеканки, с одной стороны, и — с другой, арабских дирхемов и фельсов, завершившийся полным прекращением чеканки монет домусульманского образца (кроме так называемых черных дирхемов — гитрифи и др.) и их исчезновением из обращения. Для денежного обращения предшествующего периода — древнего — в большинстве областей Средней Азии было характерно преобладание «варварских подражаний» и возникших на их основе местных чеканок (Зеймаль Е., 1975, 1978, 1983, 1985), как медных, так и серебряных, стоимостное содержание которых определялось не количеством заключенного в них металла, а установленными для них правилами обращения, «курсом». Такие монеты не отличаются в принципе от монетных знаков, т. е. не являются деньгами в политэкономическом значении этого термина, а ареал, в котором они имеют хождение, строго ограничен той территорией, в пределах которой действует, сохраняет силу установленный для них «курс». С чем соотнесено стоимостное содержание таких монетных знаков, чем оно обеспечивается, кроме авторитета властей, мы, как правило, не знаем. Денежное обращение раннесредневекового периода в Средней Азии строится на принципиально иной основе: в качестве денег во всех (или почти во всех) областях выступают серебряные монеты (всюду, кроме Хорезма, это сасанидские драхмы или подражания им), а в качестве монетных знаков, не имеющих сами по себе стоимостного содержания и соотнесенных по стоимости с серебряными монетами-деньгами, — медные монетные знаки локальной чеканки. Право на выпуск собственной медной монеты могли иметь не только большие области (Бухарский Согд, Самаркандский Согд, Чач и др.), но и менее крупные политико-административные единицы внутри таких областей, как например, Панч-Пенджикент в Самаркандском Согде, Пайкенд в Бухарском Согде и др. Для раннесредневековых медных монет также характерно обращение преимущественно в границах тех территориальных подразделений, где осуществлялась их чеканка, но при этом — в более широких масштабах, чем на протяжении древнего периода, — происходила и их диффузия за пределы основных ареалов. Видимо, нет необходимости напоминать о том, что монетные находки из раскопок раннесредневековых среднеазиатских памятников широко используются (наряду с керамикой, металлическими изделиями, строительными остатками и другими категориями археологических материалов) для датировки слоев, помещений, ремонтов, а также поселений, за́мков, городищ и т. п. в целом. Однако многие нумизматические группы имеют пока слишком широкие и неопределенные даты, для уточнения, сужения которых решающее значение могут иметь археологические данные (стратиграфические наблюдения за распределением монет по слоям, за их взаимовстречаемостью. Так, разработанная для городища раннесредневекового Пенджикента дробная стратиграфическая колонка позволила существенно уточнить датировку целого ряда монетных серий (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1980; 1984, с. 225–262; 1986, с. 305–313). К сожалению, пока нет других археологических памятников, для которых цельная картина последовательности слоев V–VIII вв. была бы разработана столь же тщательно и обоснованно, хотя задача датировки монетных выпусков с помощью археологических данных по мере накопления новых нумизматических материалов становится сегодня остроактуальной. Помимо чисто прикладного — датировочного использования, монетные находки из раскопок, выполняя очень важную связующую роль между «немыми» памятниками материальной культуры и историческими свидетельствами письменных источников, часто служат ключом к широкому историческому осмыслению раскапываемых городищ, за́мков и т. п. (определение их историко-географической и политико-административной принадлежности, сопоставление стратиграфической «судьбы» памятника с известными нам событиями политической истории и т. д.). Надежность и достоверность такого рода заключений во многом зависят от того, насколько строго и объективно используются нумизматические материалы, т. е. от критической оценки монет как источника, например на какие выводы они дают право и на какие не дают; от того, в какой мере учтены общие принципы обращения монет, в частности различия между характером обращения серебра и меди, и специфические особенности данной области и т. п. Именно поэтому оказалось необходимым предпослать рассмотрению конкретных нумизматических материалов по областям эти общие положения.Мерв и его округа.
Основные районы Туркменистана (кроме расположенных в правобережье Амударьи) не входили в состав Трансоксианы — Мавераннахра, а их исторические судьбы в древности и в раннем средневековье были иными, чем у остальных областей Средней Азии. Общеисторическими причинами определяются и весьма существенные различия в монетном деле и денежном обращении раннесредневековой Туркмении. Завоеванный Сасанидами еще в III в., при Ардашире I, Мерв стал не только главным оплотом Ирана на востоке и центром вновь образованного административного округа — марзбанства, но и местом расположения монетного двора Сасанидов, продолжавшего (с некоторыми перерывами) чеканить монеты вплоть до середины VII в. Массовая продукция этого монетного двора (драхмы общегосударственного образца и мелкие медные монеты) целиком соответствует и иконографически и метрологически стандартам, существовавшим в Иране этого времени, что избавляет от необходимости рассматривать здесь эти монеты в деталях: в существующих изданиях по сасанидской нумизматике (Gobl, 1971) отмечены буквенные обозначения, использовавшиеся на мервском дворе для маркировки изготовленных там монет. Применительно к монетным находкам, происходящим с территории Туркмении задача хронологической (и шире — исторической) атрибуции, составляющая основные трудности в исследовании раннесредневековых монет остальных областей Средней Азии, решается с помощью хорошо разработанной нумизматики Сасанидского Ирана, позволяя сосредоточить внимание, во-первых, на тех отличиях от общегосударственной чеканки, которые прослеживаются в продукции мервского монетного двора; во-вторых, на особенностях деятельности монетного двора в Мерве (состав чеканившейся там монеты, перерывы в его работе, наблюдения за интенсивностью чеканки и т. п.); и в-третьих, на составе монеты, находившейся в обращении как в самом Мерве, так и в прилегающих к нему округах. Как удалось установить С.Д. Логинову и А.Б. Никитину, за периодом интенсивной работы монетного двора в Мерве в первой трети V в. (большая серия драхм второй половины правления Варахрана V (421–439 гг.) и его медные монеты; драхмы первых лет правления Йездигерда II (439–457 гг.)) последовал большой перерыв в его деятельности, связанный со сложными перипетиями ожесточенной борьбы за бывшие владения кушанского царства в Тохаристане между Сасанидами, кидаритами и эфталитами (Логинов, Никитин, 1985, 1988). Для периода 440-510-х годов известны только драхмы Кавада и Валаша с надчеканками на лиц. ст., в которых обозначен монетный двор — Мерв (эти драхмы изготовлены на других монетных дворах, а в Мерве они только метились надчеканами). Восстановление Сасанидами своих позиций в Мерве происходит лишь в середине Правления Кавада I (488–531 гг.): его драхмы чеканятся в Мерве с 22-го года его правления, медные мелкие монеты — с 31-го года. После этого сасанидская чеканка в Мерве имеет регулярный характер: при Хосрове I (531–579 гг.) здесь выпускались драхмы, медные монеты с монограммой Мерва и мелкие медные монеты без легенд; при Хормизде IV (579–590 гг.) — драхмы; при Хосрове II (590–628 гг.) — драхмы и медные монеты без легенд; при Ардашире III (632–651 гг.) — драхмы. Возможно, завершение обработки нумизматических материалов ЮТАКЭ, которые пока остаются неизданными, позволит внести в эту картину деятельности сасанидского двора в Мерве уточнения и дополнения, а также составить (с опорой на стратиграфическое распределение находок) более полное представление о составе монетной массы, находившейся здесь в обращении.Бухарский Согд.
Древний период в чеканке этой области, расположенной в нижнем течении р. Зеравшан, заканчивается с прекращением выпуска раннесогдийских монет, следующих подражаниям тетрадрахмам Эвтидема, — их последней серии: л. ст. — правитель в тиаре; об. ст. — «Геракл» на полукруглом омфале (Зеймаль Е., 1978. табл. II, 12), а также наиболее поздних монет «Гиркода» (Зеймаль Е., 1978. табл. III, 24–25), типологическая параллельность которых по отношению к самаркандским монетам с лучником (выпускались до конца V или в начале VI в. — см. о них ниже) позволяет сближать их и хронологически, относя окончание их выпуска к концу IV–V в. Две небольшие группы монет, видимо выпускавшиеся одновременно как серебро (Зеймаль Е., 1978. табл. V, 1, 2) и как медь (Зеймаль Е., 1978. табл. V, 3, 4), явно обнаруживают влияние сасанидской монетной чеканки (в частности, монет сасанидских кушаншахов) и должны быть датированы предположительно концом IV–V в. Наблюдения за стратиграфическим распределением таких монет помогут в будущем уточнить эту датировку, а также определить соотношение этих монет с наиболее поздними монетами «Гиркода». В Бухарском Согде были выпущены первые согдийские подражания драхмам сасанидского царя Варахрана V (421–439 гг.), вошедшие в литературу как «бухархудатские» монеты (Lerch, 1879; Лерх, 1909). Серьезные разногласия среди исследователей вызвал вопрос о том, когда начался выпуск таких подражаний (Смирнова, 1963, с. 39–40, примеч. 119; Давидович, Зеймаль, 1980, с. 75). Те, кто относил наиболее ранние «бухархудатские» монеты к V в., опирались только на даты прототипа — драхмы Варахрана V (421–439 гг.), а также на общее, без детального анализа, сопоставление согдийской легенды на «бухархудатских» монетах с палеографическими особенностями согдийских «старых писем» (мнение В.Б. Хеннинга; Frye, 1949, s. 26). Датировка начала их чеканки VII в. основывается (Лерх, 1909; Walker, 1941), на сообщении Нершахи, что во времена Абу Бакра (632–634 гг.) бухархудат Кана был первым, кто чеканил в Бухаре серебряную монету. Попытка «совместить» эти две точки зрения вынуждала бы признать перерыв в чеканке «бухархудатских» монет — перерыв, который не фиксируется ни типологически, ни палеографически, ни археологически (Смирнова, 1963, с. 39). Существенные уточнения в вопрос о начале чеканки «бухархудатских» серий можно внести, опираясь на то, что прототипом для «бухархудатских» монет послужили не драхмы Варахрана V вообще, а те из них, которые чеканились на мервском монетном дворе, в непосредственной близости к Бухаре, в последние годы правления Варахрана V, когда, по наблюдениям С.Д. Логинова и А.Б. Никитина, в Мерве выпускалась примерно половина всех драхм, чеканившихся в Сасанидском государстве. Когда в деятельности мервского монетного двора наступил перерыв (от 40-х годов V в. до второго десятилетия VI в.), в Бухарский оазис из Мерва могли проникать в массовых количествах только драхмы Варахрана V; другой серебряной монеты там в это время просто не чеканилось, а драхм Варахрана V было выпущено много, и они еще продолжали находиться в обращении. Если Мерв после 80-х годов V в. оказался во власти эфталитов, там могли выпускаться серебряные монеты по образцу драхм Варахрана V с искаженной легендой пехлеви или с полностью нечитаемой имитацией такой легенды (табл. 118, 3). Но прототипами для бухарских подражаний стали не они: ранние серии бухарских подражаний более точно передают пехлевийскую легенду прототипа. Однако подражания драхмам Варахрана эфталитского времени (как и драхмы самого Варахрана V) поступали в Бухарский оазис: об этом говорят экземпляры, надчеканенные явно в Бухаре характерным знаком-тамгой (табл. 118, 4), который широко представлен также на медных монетах Бухарского Согда — уже в качестве самостоятельного элемента монетного типа. Таким образом, нет оснований непосредственно приближать начало выпуска «бухархудатских» монет ко времени правления Варахрана V: их могли начать чеканить и во второй половине V в., и в начале VI в., и позднее. Возможно, возобновление интенсивной сасанидской чеканки в Мерве при Каваде I (второе десятилетие VI в.) сопровождалось — в результате официального запрета или стихийного рыночного предпочтения — вытеснением драхм Варахрана V, если они были неполновесными, а также всех видов подражаний им из обращения в Мервском оазисе. Если поток мервских драхм, устремившихся в Бухару, вызван этой причиной, выпуск «бухархудатских» монет должен был начаться лишь после второго десятилетия VI в. Относительная хронология бухарских эмиссий по образцу драхм Варахрана V пока детально не разработана. В качестве наиболее ранних уверенно выделяются серии с нечитаемой эфталитской легендой и бухарским знаком-тамгой (табл. 118, 4). К ним и типологически и хронологически примыкают серии с такой же тамгой, но с согдийской легендой (табл. 118, 5). Типологическое членение последующих выпусков осложняется тем, что эти монеты в целом обнаруживают необычную для среднеазиатских монет устойчивость типов — и иконографическую, и палеографическую, хотя для типа об. ст. прослеживается вполне очевидная схематизация изображения (табл. 118, 6–8). Пока отсутствуют и надежные арехолого-стратиграфические данные не только для выделения самых ранних серий, но и для определения последовательности чеканки «бухархудатских» монет на всем протяжении их выпуска. Задача выделения разновременных эмиссий «бухархудатских» монет осложняется еще и тем, что со второй половины VII — начала VIII в. такие монеты выпускались не только в Бухарском Согде, но и в других центрах, в частности в Самаркандском Согде (Зеймаль, 1985, с. 254, № 638 — с именем согдийского царя Тургара, 40-е годы VIII в.). Детальный типологический анализ позволил Е.А. Давидович выделить серии «бухархудатского» круга двух центров — Самарканда и Чача-Илака (Давидович, 1979, с. 106, 115). Собственно «бухархудатские» монеты с согдийской легендой пока остаются неразработанной темой. Их детальная хронологическая систематизация может иметь в археологической практике только самые широкие датировки — от VI (или конца V) до середины VIII в. С середины VIII в., при сохранении общего иконографического облика, на этих монетах появляются арабские легенды (табл. 118, 12–14), заметно уменьшается содержание в них серебра, что превращает их в «черные дирхемы», уже целиком принадлежащие (несмотря на «домусульманский» облик) к периоду развитого средневековья: их выпуск продолжался до XII — начала XIII в. Бухарские драхмы VI — середины VIII в., следующие типам Варахрана V, и были теми серебряными монетами, с которыми в денежном обращении были соотнесены многочисленные и весьма разнообразные медные монеты, выпускавшиеся в разных центрах Бухарского Согда. Видимо, общеобластной характер имели медные скифатные бухарские монеты с изображением на об. ст. алтаря (табл. 119, 5-10). Предлагавшаяся для них датировка III–IV вв. (Явич, 1947, с. 218; Шишкин, 1963, с. 60; Смирнова, 1963, с. 36) представляется теперь, как и датировка «бухархудатских» монет V в., неоправданно удревненной (Зеймаль, 1978, с. 210). Более соответствует накопленным в настоящее время данным предположение, что бухарские медные монеты с алтарем выпускались параллельно с серебряными «бухархудатскими» драхмами (с момента начала их чеканки и, видимо, до второй четверти или середины VII в.) в качестве разменной монеты. Один из важных способов проверки этого предположения — накопление данных о стратиграфическом распределении бухарских медных монет с алтарем. Пока такой информации явно мало, так как, хотя раннесредневековые слои раскапывались в разных пунктах Бухарского оазиса (Бухара, Варахша, Пайкенд и др.), ни один из памятников ни по размерам вскрытых площадей, ни по количеству хорошо стратифицированных материалов (в том числе и нумизматических) нельзя сопоставить, например, с городищем раннесредневекового Пенджикента. Предположение, что медные бухарские монеты с алтарем выпускались в VI — второй четверти VII в. параллельно с «бухархудатским» серебром, находится в противоречии с точкой зрения Аллота де ла Фюи (Fuye, 1926, с. 144–145), согласно которой они были посеребренными. Однако мнение это остается неподтвержденным: ни одного достоверного примера покрывания серебром медных бухарских монет с алтарем не зарегистрировано. Литые медные монеты с отверстием в центре по образцу китайских, видимо, начали выпускаться в каком-то из центров Бухарского Согда (как и Самаркандского) не ранее второй четверти VII в. (табл. 119, 15–17). Образцом для них, так же как это было в Самаркандском Согде и в Северном Тохаристане, послужили раннетанские выпуски с легендой «кай юань тун бао» (иероглифы прототипа воспроизведены на одной из сторон). О месте их изготовления свидетельствует «бухарский» знак на об. ст. — такой же, как в надчеканах на «бухархудатских» драхмах и на об. ст. некоторых медных монет, но согдийской легенды на бухарских медных монетах китайского образца нет (Смирнова, 1981, с. 316–318). Их принадлежность к эмиссиям Бухарского Согда документирована находками на Варахше (Урманова, 1956, с. 132 и др.), в Пайкенде и на других памятниках области. Другая группа монет китайского образца, также отнесенная к Бухарскому Согду, пока известна только по находкам в Пенджикенте, что позволяет не считать окончательно установленной предложенную для нее локализацию (Смирнова, 1981, с. 318–323). Выпускались монеты китайского образца (с квадратным отверстием) и в других центрах Бухарского Согда, в частности в Пайкенде (табл. 119, 18, 19). Видимо, и бухарские, и провинциальные выпуски таких монет осуществлялись примерно в одно время, в третьей четверти VII в., с возможными отклонениями в датах в ту и другую сторону, их выпуск в Бухарском Согде продолжался не так долго, как, например, в Северном Тохаристане или в Самаркандском Согде. К последней четверти VII — началу VIII в. могут быть отнесены монеты Бухарского Согда с изображением на л. ст. верблюда, а на об. ст. — алтаря огня (табл. 119, 20–24) или согдийской легенды (табл. 119, 25). Попытки датировать эти монеты вне общего нумизматического и археологического контекста — по аналогиям изображению жертвенника (Шишкин, 1963, с. 67) — дали неоправданно раннюю дату (III — начало IV в.). В «Сводном каталоге согдийских монет» О.И. Смирнова эти серии монет и их датировку специально не рассматривает. Они оказались не включенными в каталожную часть (Смирнова, 1981, с. 28–30). Кроме монет с согдийской легендой в качестве основного элемента типа об. ст. (Смирнова, 1981, с. 312–313) и монет с изображением квадратного отверстия на об. ст. и легендой, по О.И. Смирновой, с именем Фарнбага (Смирнова, 1981, с. 314–315), которые помещены в раздел ранних монет Западного Согда и предшествуют бухарским монетам китайского образца с легендой «кай юань тун бао» на л. ст. и бухарским знаком на об. ст. (табл. 119, 15–17). Более определенно, вслед за B. А. Шишкиным и О.И. Смирновой, датирует эту группу монет А. Мусакаева (IV–V вв.), но развернутого обоснования своей точки зрения она не приводит (Мусакаева, 1985, с. 82). Археолого-стратиграфические данные скорее свидетельствуют в пользу датировки монет с верблюдом последней четвертью VII — началом VIII в., но в целом хронологическая атрибуция этих серий не может считаться окончательно установленной. Решающим аргументом могут стать новые сведения о распределении монет с верблюдом по слоям, имеющим независимые даты. Локальные эмиссии, выпускавшиеся различными провинциальными центрами Бухарского Согда, известны пока много хуже, чем общеобластная чеканка. Так, уже отмечались монеты китайского образца, отливавшиеся в Пайкенде (табл. 119, 18, 19). Возобновившиеся с 1982 г. регулярные раскопки в Пайкенде дают и другие серии монет местной чеканки, однако, как правило, это экземпляры плохой сохранности, остающиеся неопубликованными. Особо следует отметить серии небольших медных монет со схематичным изображением человеческой фигуры на л. ст. (по О.И. Смирновой, «рунообразный знак») и с арабской легендой на об. ст. (Смирнова, 1981, с. 418–419, № 1671–1675), отнесенных О.И. Смирновой предположительно к Пайкенду. Их выпуск, видимо, начался после 20-х годов VIII в. На одной из серий в арабской легенде на об. ст. обозначено соотношение этих медных монет по отношению к серебряным дирхемам — «120 в дирхеме» (Смирнова, 1981, с. 419). Сходные по назначению («60 в дирхеме») легенды засвидетельствованы и на других среднеазиатских медных монетах VIII в., место чеканки которых остается неустановленным (Смирнова, 1981, c. 420–421), подтверждая, что стоимостное содержание медных монетных знаков устанавливалось по отношению к серебряным деньгам (в данном случае к дирхемам), а медь в раннесредневековой Средней Азии не выступала, как полагала О.И. Смирнова, «наравне с серебром в роли всеобщего эквивалента — внутреннего валютного металла» (Смирнова, 1981, с. 66–68). Если бы стоимостное содержание медных монет определялось количеством пошедшего на их изготовление металла (т. е. по весу), в обозначении «120 в дирхеме», «60 в дирхеме» и т. п. не было бы необходимости.Северный Тохаристан.
Начало раннесредневекового периода в денежном обращении Северного Тохаристана (южные районы Таджикистана и Узбекистана), как и Бухарского Согда, связано с широким распространением здесь серебряных монет сасанидского образца в сочетании с медными монетными знаками, имевшими более ограниченные, локальные ареалы. Денежное обращение Северного Тохаристана на протяжении древнего периода испытало на себе значительное влияние кушанской монетной системы (золотые монеты достоинством в 2 динара, 1 динар и 1/4 динара, и медные «тетрадрахмы» и «драхмы»), но к концу IV в. здесь обращались немногочисленные медные кушанские монеты и в большом количестве подражания им (Зеймаль, 1983, с. 141–256). Кратковременным (последняя четверть IV — начало V в.) был период массового проникновения в правобережье Амударьи (особенно в районы, непосредственно примыкающие к реке) монет сасанидских кушаншахов, временно оккупировавших эту территорию (Зеймаль, 1983, с. 257–268). Массовое проникновение в Северный Тохаристан монет сасанидских кушаншахов — это как бы переходный этап от древнего к раннесредневековому денежному обращению. Поступление в широких масштабах серебряных монет сасанидского образца в Северный Тохаристан начинается в V в. и связано с ожесточенной борьбой между Сасанидским Ираном и эфталитским племенным объединением за господство на землях бывшего кушанского царства в Тохаристане. Географическая арена этой борьбы, как теперь удалось установить, лежала к югу от Амударьи (Маршак, 1971), но отголоски ее, несомненно, доходили до Северного Тохаристана, а победа эфталитов и потеря Сасанидами всех своих владений на востоке оказали решающее воздействие на исторические судьбы правобережья Амударьи. После того как сасанидский царь Пероз (459–484 гг.) оказался в 60-е годы V в. в плену у эфталитов, Иран в качестве выкупа за него был вынужден выплатить огромную сумму (в серебряных драхмах). Сведения источников об этом, иногда имеющие легендарную окраску и явные неточности в описании событий, в полной мере подтверждаются многочисленными находками драхм Пероза, в том числе и в Северном Тохаристане (Зеймаль, 1985, с. 255, № 642, 643), где они (а затем подражания им) явно преобладают по сравнению с другими сасанидскими монетами. Таким образом, 60-70-е годы V в. — это время массового проникновения в Северный Тохаристан сасанидского серебра (драхм Пероза), а сложение раннесредневекового денежного обращения здесь происходит несколько позднее — с последней четверти V — начала VI в., т. е. примерно в то же время (или несколько раньше), что и сложение раннесредневекового денежного обращения в Бухарском Согде (с участием подражаний драхмам Варахрана V). Однако в Северном Тохаристане выпуск серебряной монеты сасанидского образца осуществлялся не в виде единообразных серий местного образца (вроде «бухархудатских» эмиссий), а в виде подражаний драхмам Пероза (а затем, видимо, и драхмам других сасанидских царей). Пока нет полной уверенности, что все многочисленные подражания сасанидским драхмам, обращавшиеся в Северном Тохаристане, выпускались здесь же: какая-то их часть могла быть отчеканена и к югу от Амударьи. Но в отличие от «варварских подражаний» древнего периода, все раннесредневековые подражания сасанидским драхмам изготовлялись из полноценного серебра, определявшего их стоимостное содержание. Большинство подражаний драхмам Пероза, находимых в южных районах Таджикистана и Узбекистана, помечено специальными надчеканами, которые можно подразделить на три группы: 1) надчеканы, содержащие легенды бактрийским курсивным письмом (Зеймаль, 1985, с. 255, № 644–646); 2) надчеканы, содержащие легенды согдийским письмом с обозначениями имен, титулов и в одном случае (засвидетельствован более чем в 400 экз. с указанием места или политической принадлежности надчеканки — «тохарский» (Зеймаль, 1985, с. 256, № 649); 3) надчеканы с изображениями людей, животных, геометрических фигур, орнаментальных элементов и т. п. (там же, № 649д — 649з). На некоторых экземплярах встречается по два, три или четыре разных надчекана, в расположении которых (если повторение одинаковых надчеканов засвидетельствовано достаточно представительной выборкой монет) прослеживается упорядоченность, система. Приток сасанидских драхм в Северный Тохаристан нельзя, конечно, связывать только с одним историческим эпизодом — выплатой выкупа за Пероза. Характерный по составу доперозовский клад найден на территории г. Душанбе (Забелина, 1953; Давидович, 1979, с. 61). Проникали в правобережье Амударьи (хотя и в меньшем количестве) драхмы Варархрана V, Валаша, Хосрова I, Хормизда IV и Хосрова II, т. е. пополнение сасанидского серебра в обращении происходило (хотя и с перерывами) и в V, и в VI, и в VII вв. Местные (тохаристанские) подражания монетам сасанидских царей известны только для драхм Пероза и драхм Хосрова I.Подражания драхмам Хосрова I, встречающиеся в южных районах Таджикистана редко (Зеймаль, 1985, с. 256, № 650), представлены большим числом экземпляров с разными надчеканами в долине Сурхандарьи (Пугаченкова, 1981). Затем, на их основе, здесь возникает собственная монетная чеканка чаганхудатов — правителей Чаганиана (северо-западная часть Тохаристана), относящаяся ко второй половине VII — первой четверти VIII в. (Ртвеладзе, 1987, с. 124). Серебряная монета сасанидского образца сейчас представлена в находках из южных районов Таджикистана и Узбекистана намного более представительной (и не только в количественном отношении) выборкой, чем в долине Зеравшана (Бухарский и Самаркандский Согд). Так, в четырех кладах с городища Будрач (среднее течение Сурхандарьи), дошедших до нас не полностью, около 1400 монет (Ртвеладзе, 1987, с. 120); в кладе с городища Чоргультепе (в северной части Вахшской долины, близ Аджинатепе) было более 400 драхм (Давидович, Зеймаль, 1980, с. 80, примеч. 23; Зеймаль, 1985, с. 256). Единичные находки тохаристанских подражаний сасанидским драхмам засвидетельствованы на многих памятниках в южных районах Узбекистана: Актепе, Будрач, Дальверзинтепе, Тураханбайтепе, Савринджонтепе, Кулялтепе, Балалыктепе, Зангтепе, Кулугшахтепе, Каттатепе, Шуроб-Курган, Каратепе, городище Старого Термеза и др. (Ртвеладзе, 1987, с. 120) и Таджикистана: Аджинатепе, раннесредневековое поселение близ Нурека, окрестности Гиссарской крепости, Душанбинское городище и др., в том числе из раскопок с хорошо датированными слоями — Аджинатепе, Кафыркала близ Колхозабада и др. Столь обширные материалы позволяют во многом конкретизировать прежние представления об особенностях обращения серебра в Северном Тохаристане в раннесредневековый период. Наблюдения за территориальным распределением серебряных монет, и в первую очередь местных подражаний сасанидским драхмам, позволяют сделать вывод, что и в этой сфере обращения существовали обособленные ареалы, в которых обращались преимущественно строго определенные серии монет. В западной части Северного Тохаристана (Чаганиан) Э.В. Ртвеладзе выявил явное преобладание подражаний драхмам сасанидского царя Хосрова I (531–579 гг.), а драхмы этого царя, чеканенные в Иране, поступали в Чаганиан в 40-70-е годы VI в. с равномерной регулярностью (Ртвеладзе, 1987, с. 122), тогда как подражания драхмам Пероза в Чаганиане встречаются редко. В другой области Северного Тохаристана — Хуттале (или его южной части — владении Вахш) можно констатировать массовые находки подражаний драхмам Пероза (с согдийской легендой в надчекане «тохарский»), а подражания драхмам Хосрова I здесь почти неизвестны. Точно провести границу между этими двумя ареалами пока трудно: в могильнике близ Гиссарской крепости найдено подражание драхме Хосрова I (Зеймаль, 1985, с. 256, № 650); к востоку от г. Душанбе найдены тохаристанские подражания драхмам Пероза; возможно, граница между ареалами пролегала где-то в Гиссарской долине. Выделение «чаганианского» и «вахшского» ареалов требует комментариев с точки зрения особенностей обращения местных подражаний сасанидским драхмам. Эти подражания (по сравнению с прототипами) пониженного веса: в кладе из Чоргультепе подавляющее большинство подражаний драхмам Пероза с надчеканом «тохарский» имеют вес от 1,7 до 2,1 г; для чаганианских подражаний драхмам Хосрова I Э.В. Ртвеладзе называет несколько более высокий вес — 2,4–2,5 г. (Ртвеладзе, 1987, с. 124), при весе собственно сасанидских драхм того же Хосрова I свыше 3,5 г. Учитывая, что замкнутые зоны обращения для каких-то групп монет возникают, когда стоимостное содержание монеты (в данном случае — количество серебра, пошедшее на ее изготовление) оказывается ниже установленного «курса», можно представить, что обращение тохаристанских подражаний сасанидским драхмам осуществлялось и в «чаганианском» ареале, и в «вахшском» на штуки, без проверки веса монеты, как если бы каждое такое подражание было полновесной драхмой, а за пределами той территории, для которой каждая группа подражаний была предназначена, такая пониженного веса «драхма» значительно обесценивалась, так как ее стоимость уже определяло только количество серебра в монете. В связи с этим получают объяснение и многочисленные надчеканы, которыми удостоверялось право монеты на хождение по определенному «курсу» в определенных территориальных границах. Видимо, контуры монетного ареала должны были совпадать с границами юрисдикции тех властей, которые выпускали такие монеты и метили их надчеканами, т. е. с границами политико-административных единиц (владений), существовавших в раннесредневековый период в Северном Тохаристане и эксплуатировавших право монетной чеканки. И чаганианские, и вахшские подражания содержат примерно одинаковое количество серебра. Вахшские подражания драхмам Пероза несколько ниже по весу, но в чаганианских подражаниях драхмам Хосрова I больше примесей меди, цинка и свинца (Ртвеладзе, 1987, с. 124). Однако свободного хождения их в «чужом» ареале мы не наблюдаем. Недопущение на свой рынок «чужих» монет (при примерно одинаковом содержании серебра и в них, и в «своих»), видимо, определялось не только политическими, престижными и тому подобными внеэкономическими соображениями; их присутствие в сфере обращения представляло бы серьезную экономическую угрозу: ограничение возможностей для выпуска своей неполноценной монеты и извлечения из этого прямой выгоды. Такой подход к интерпретации данных о территориальном распределении разных групп подражаний сасанидским драхмам в Северном Тохаристане может быть использован и при осмыслении собственно археологических материалов, так как письменными источниками, необходимыми для этого, мы не располагаем. Но вопрос о распространении здесь подражаний сасанидским серебряным монетам имеет и другой аспект — хронологический. Сосуществование чаганианских и вахшских серий подражаний фиксируется не ранее 80-х годов VI в. Со второй половины VII в. подражания драхмам Хосрова I сменяются в денежном обращении Чаганиана местной чеканкой, вырастающей из этих подражаний, драхм (также пониженного веса) чаганхудатов (Ртвеладзе, 1987, с. 123), местной династии правителей, просуществовавшей до последней четверти VIII в., — анэпиграфных монет и монет с курсивной легендой бактрийским письмом (Ртвеладзе, 1987, табл. 22, 23). Видимо, вахшские подражания драхмам Пероза (с согдийской легендой «тохарский» в надчекане) хронологически параллельны этим чаганианским выпускам и продолжали чеканиться и оставаться в обращении вплоть до середины VIII в. (совместная находка на Аджинатепе с дирхемом 750/751 г.). К сожалению, надежных критериев для разработки относительной и абсолютной хронологии более ранних эмиссий сасанидского образца в Северном Тохаристане, и в первую очередь местных подражаний драхмам Пероза, пока невозможно предложить. А находки монет из раскопок оставляют слишком большой простор для чисто умозрительных заключений о датах (Вайнберг, Раевская, 1982, с. 66–68 и др.). Даже в фундаментальное исследование Р. Гебля, посвященное монетам «иранских хуннов» и учитывающее основные зарубежные собрания монет эфталитского круга, новые монетные материалы из Северного Тохаристана позволяют внести существенные дополнения и уточнения. Так, вахшская группа подражаний Перозу, фигурирующая в этом труде как эмиссия 290, отнесена Р. Геблем к «хуннским» выпускам в Индии (Раджпутана) второй половины VIII в. (Gobl, 1967, bd. I, s. 200; bd. II, s. 51; bd. III, taf. 80), а согдийскую легенду в надчекане он рассматривает как нечитаемую испорченную легенду пехлеви (Gobl, 1967, bd. II, s. 161, КМ 89; bd. IV, taf. 9). Еще сложнее датировать многочисленные надчеканы, которые встречаются как на подлинных сасанидских драхмах, так и на подражаниях им, так как они могли наноситься на монету не только вскоре после ее выпуска, но и значительно позднее (ср.: Ртвеладзе, 1987, с. 121 и сл.). До появления полной публикации всех накопленных в настоящее время монетных находок из Северного Тохаристана и новых экземпляров с твердыми археолого-стратиграфическими датами на разработку надежной хронологии этих эмиссий, видимо, не приходится рассчитывать, а датировать слои с помощью только таких монет следует с большой осторожностью и вынужденно широко. Предположительно, до появления новых данных, можно представить, что во второй половине V и первой половине VI в. в Северном Тохаристане обращались (наряду с собственно сасанидскими монетами) подражания драхмам Пероза, а обособление «чаганианского» и «вахшского» ареалов, как и значительное падение веса подражаний местной чеканки, происходит, как справедливо отметил Э.В. Ртвеладзе, не ранее второй половины VII в. Независимо от того, был ли Чаганиан завоеван Хосровом I или нет, исходным условием для такого обособления монетных ареалов должно было стать вхождение этих территорий в состав разных политико-административных единиц (владение Чаганиан и владение Вахш). Общая картина обращения медных монет в раннесредневековом Северном Тохаристане пока известна далеко не полно, но принципиальная схема была такой же, как в других областях Средней Азии: медные монеты, выпускавшиеся в качестве монетных знаков, были соотнесены с серебряной монетой данного владения, но внутри такого владения, как, например, Вахш, могло, видимо, существовать несколько центров более низкого административного ранга, каждый из которых изготавливал свою медную монету для своей непосредственной округи (внутри владения с единой серебряной монетой местной чеканки могло существовать несколько самостоятельных ареалов со своей медной монетой в каждом). На данном этапе изучения наибольшие трудности вызывает выделение медных монет второй половины V–VI в. и их ареалов. Предположительно может быть выделена эмиссия Кобадиана этого времени (табл. 121, 8), но она пока известна лишь по трем экземплярам. Два из них найдены на поверхности городища Тахти-Кобад, третий — из коллекции Е.А. Пахомова — беспаспортный. Но не исключено, что эти монеты проникли сюда с левобережья Амударьи. Правда, сведений об их находках на территории Северного Афганистана тоже нет (Зеймаль, 1978, с. 205, табл. V, 18). Более определенно выделяются монеты Термеза: скифатные, анэпиграфные, с изображением на л. ст. правителя в три четверти, а на об. ст. якореобразной тамги (табл. 121, 1–4). Более тридцати таких монет найдено на Каратепе, Фаязтепе, в развалинах Кургана на городище Старого Термеза и на Чингизтепе (расстояние между этими памятниками составляет не более 1,5–2 км). Дополнительную информацию о находках монет этой группы приводит Э.В. Ртвеладзе, упоминая об одном экземпляре с городища Шуроб-Курган и о таких же монетах «на некоторых памятниках низовьев Шерабаддарьи» (Ртвеладзе, 1987, с. 126). Предложенная для этой группы монет датировка концом V–VII в. (Давидович, Зеймаль, 1980, с. 73) не была принята Б.И. Вайнберг. Она датирует их «от второй половины IV в. и, вероятно, до конца V в.» (Вайнберг, Раевская, 1982, с. 66). По мнению Э.В. Ртвеладзе, «нижнюю дату их выпуска следует отнести к началу V в., а период их обращения продлить на весь VII и даже первую половину VIII в.» (Ртвеладзе, 1987, с. 126), т. е. хронологические рамки для термезского локального чекана должны составить около 350 лет. Стратиграфические данные Каратепе, Фаязтепе и Кургана на городище Старого Термеза не содержат каких-либо указаний на принадлежность этих монет к первой половине V в., а в качестве аргумента в пользу распространения датировки этой нумизматической группы на VII — первую половину VIII в. названа только совместная находка одной такой монеты вместе «с вариантом подражаний Перозу, датирующихся концом VI — первой половиной VIII вв.», т. е. предлагаемая для термезского локального чекана дата «омолаживается» путем приплюсовывания к VI в. еще полутора столетий. Уже отмечалось, что для некоторых серий подражаний драхмам Пероза остаются принятыми вынужденно широкие даты, использовать которые необходимо с большой осторожностью. Не считая датировку термезских анэпиграфных монет концом V — началом VII в. окончательно установленной и вполне допуская возможные поправки к ней и в ту, и в другую сторону, необходимо отметить, что для этого нужны более веские основания, чем только что разобранные: три с половиной века на существование этой небольшой количественно серии монет «отпустить» невозможно. Еще две группы медных раннесредневековых монет могут быть локализованы в западной части Северного Тохаристана (без уточнения центра, в котором осуществлялась их чеканка). Одна из них (л. ст. — правитель в заостренном кулахе в фас, по обеим сторонам от головы S-образные знаки) известна пока только по двум экземплярам (Дальверзин и Халчаян) и отнесена была сперва к числу «тюрко-согдийских» монет VI–VIII вв. (Пугаченкова, 1966, с. 123, рис. 78в; № 4, 5); а затем к V — началу VII в. (Ртвеладзе, 1987, с. 124). Вторая группа монет — с парным портретом на л. ст., на об. ст. или ромбовидная тамга, или ромбовидная тамга в сочетании с бактрийской курсивной легендой (табл. 121, 6, 7) — известна по находкам на многих памятниках в долине Сурхандарьи (Халчаян — Пугаченкова, 1966, с. 123, рис. 78; Якшибайтепе — Альбаум, 1962, с. 58; городище Будрач — Пугаченкова, 1981, с. 254; Кулялтепе, Тураханбайтепе, Савринджонтепе, могильник Биттепе — Ртвеладзе, 1980, с. 55–56; Ртвеладзе, 1987, с. 124–125. табл. 121, 24, 25, 28, 29; Ртвеладзе, 1987а, с. 218) и, видимо, синхронна чаганианским подражаниям драхмам Хосрова I. Такая же, как на об. ст. этих медных монет, ромбовидная тамга встречается в виде надчекана на подражаниях драхмам Хосрова I. Начало ее выпуска предложено относить к концу VI — началу VII в., пребывание в обращении вплоть до второй половины VIII в. (Ртвеладзе, 1987, с. 125). Кроме перечисленных групп, сейчас известны находки и других раннесредневековых медных монет из долины Сурхандарьи и окрестностей Термеза, но пока они или представлены единичными экземплярами (табл. 121, 5), или имеют плохую сохранность, что затрудняет их локализацию и датировку. Общее количество раннесредневековых монет, происходящих из западной (узбекистанской) части Северного Тохаристана, не превышает сотни, но делать, исходя из этого, далеко идущие выводы о состоянии денежного обращения, об уровне развития товарно-денежных отношений и т. п. нет оснований: слои V–VIII вв., видимо, раскапывались здесь в сравнительно небольших масштабах, а накопленный нумизматический материал не отражает в полной мере местное монетное дело и денежное хозяйство раннесредневекового периода. В такой же степени это справедливо и для Гиссарской долины (Таджикистан); пока неизвестно, какая раннесредневековая медная монета здесь обращалась. В долине Кафирнигана (Кафирниганкала, Мунчактепе) и в особенности в Вахшской долине медные раннесредневековые монеты исчисляются сейчас сотнями (Аджинатепе, Кафыркала близ Колхозабада и др.). В обращении здесь преобладали литые медные монеты с отверстием в центре (китайского образца), почти неизвестные в западной части Северного Тохаристана. Среди них уверенно выделяются три основные группы: 1) монеты с круглым отверстием и бактрийской курсивной легендой (об. ст. гладкая), видимо связанные с нижним течением Кафирнигана — владением Кобадиан (Мунчактепе, городище Тахти-Кобад и др.), но встречающиеся и в Вахшской долине — Аджинатепе и др. (табл. 121, 9-13); 2) монеты с квадратным отверстием и легендой согдийским письмом имеют на ранних выпусках на другой стороне схематичное воспроизведение китайских иероглифов «кай юань тун бао» (с искажениями, — табл. 121, 14–16), на последующих выпусках при неизменной согдийской легенде на лиц. ст.; об. ст. гладкая (табл. 121, 17–20); 3) монеты с круглым отверстием и изображением на одной стороне нескольких вариантов тамги (другая сторона гладкая), отражающих последовательные стадии ее схематизации: тамгу составляют ободок вокруг центрального отверстия и отходящие от него отростки (табл. 121, 21–35); вторая и третья группы могут быть локализованы только широко — во владении Вахш (Кафыркала, городище Лагман, городище Чоргультепе, Аджинатепе и другие археологические памятники). Исходная дата для определения начала выпуска монет китайского образца во владении Вахш должна отсчитываться от введения монет «кай юань тун бао» в самом Китае (Воробьев, 1963) в 621 г. Применительно к Северному Тохаристану, видимо, следует говорить о появлении во владении Вахш местных монет китайского образца с согдийской легендой и с изображением китайских иероглифов, т. е. наиболее ранних выпусков второй группы — после второй четверти VII в. Насколько позже — определить пока трудно, но, очевидно, в пределах второй половины VII в. В 30-40-е годы VIII в., судя по надежно датированным стратиграфическим комплексам на Аджинатепе (с датами по арабским дирхемам), монеты второй группы (и серии с воспроизведением иероглифов и с гладкой об. ст.) продолжали обращаться, как и монеты первой группы (с бактрийской курсивной легендой) и третьей (анэпиграфные с тамгой). Выпуск монет первой и третьей групп, как и второй, начался также только после второй четверти VII в. Если локализация первой группы в Кобадиане, пока предлагаемая отчасти предположительно, получит подтверждение в новых материалах, т. е. различия между первой и второй группой можно будет уверенно связывать с тем, что они предназначались для разных территорий, можно допустить, что первая и вторая группы начали выпускаться примерно в одно время (или первая группа несколько позже второй, с китайскими иероглифами). Монеты третьей группы количественно явно преобладают в центральной части левобережья Вахша, где находилась и предполагаемая столица владения Вахш — городище Кафыркала близ Колхозабада. В связи с найденным в окрестностях Колхозабада кладом монет (245 экз.) третьей группы (Давидович, 1979, с. 79–84, № 20) В.А. Лившицем было высказано мнение, что изображенные на этих монетах «тамги» «восходят, несомненно, к имитациям четырех иероглифов китайского прототипа и могут рассматриваться как результат схематического и деградировавшего изображения их контуров» (Давидович, 1979, с. 80). Время их выпуска ограничено последней четвертью VII — первой четвертью или серединой VIII в. Однако в наиболее ранних выпусках монет третьей группы, где «тамга» еще не подвергалась заметной схематизации (табл. 121, 21–24), в их контурах невозможно усмотреть даже отдаленное сходство с расположением китайских иероглифов на монетах второй группы, да и центральное отверстие на монетах второй группы квадратное, а на монетах третьей группы круглое. С этой точки зрения скорее можно говорить о связи монет первой и третьей групп. Видимо, не исключено, что все три группы вахшских монет китайского образца начали выпускаться одновременно, но для определения территориальных различий между ними (например, монеты второй группы в северной части левобережья Вахша — в районе Курган-Тюбе и Аджинатепе, а монеты третьей группы — в районе Колхозабада) пока нет надежных данных. В Северный Тохаристан в VI–VIII вв. проникали не только серебряные, но и медные монеты соседних областей Средней Азии, заведомо привозные монеты, находки которых исчисляются единичными экземплярами. Монеты ихшидов Самаркандского Согда, монеты владетелей Панча-Пенджикента зарегистрированы как в западных районах Северного Тохаристана (Ртвеладзе, 1987, с. 126), так и в восточных (Аджинатепе и др.). Известны и единичные привозные экземпляры медных монет, выпускавшихся к югу от Амударьи.Самаркандский Согд.
Монетное дело и денежное обращение этой области благодаря исследованиям О.И. Смирновой (Смирнова, 1952, 1958, 1963, 1981 и др.) составляют сейчас наиболее изученный раздел раннесредневековой нумизматики Средней Азии. Решающую роль в его разработку внесли детальнейшим образом стратифицированные находки на городище раннесредневекового Пенджикента, раскопки которого большими площадями продолжаются более пятидесяти лет. Общее количество полученных здесь монет из слоя уже превысило 4000 экз., и превышает число раннесредневековых монет из раскопок на всех других памятниках Самаркандского Согда (Афрасиаб, Кафыркала под Самаркандом, Кульдортепе, Калаимуг и др.), вместе взятых. Наиболее обстоятельно были рассмотрены О.И. Смирновой классификация раннесредневековых монет Самаркандского Согда, их датировка, локализация и историческая атрибуция. Но и в этом разделе среднеазиатской нумизматики многие конкретные вопросы и общие проблемы, связанные с особенностями денежного обращения, еще ожидают своего решения. Начало раннесредневекового периода в денежном обращении Самаркандского Согда засвидетельствовано выпадением в клады (талибарзинский — 29 +? экз.; афрасиабский — около 1500 экз.; пенджикентский — 26 экз.) раннесогдийских монет с изображением на об. ст. лучника (Зеймаль, 1983, с. 269–276), чеканка которых прекратилась в конце V или в начале VI в. Самые поздние серии монет с лучником — это редуцировавшие до 0,2–0,3 г «драхмы», чеканившиеся из серебра, но обращавшиеся, видимо, как денежные знаки, т. е. по принудительному «курсу», намного превышавшему стоимость серебра в этих монетах. Для них фиксируется строго очерченный ареал, за пределами которого установленный для этих монет «курс» не действовал, а сами монеты резко обесценивались. Массовое выпадение монет с лучником в клады в конце V — начале VI в. можно связать с коренными переменами принципов денежного обращения — с переходом к обращению серебряной монеты нового, сасанидского, образца по стоимости заключенного в ней драгоценного металла. Появление таких монет в Самаркандском Согде, как и в Бухарском Согде, Северном Тохаристане и др., — как собственно сасанидских драхм, так и подражаний им — и должно было привести к обесцениванию монет с лучником и их тезаурации. На протяжении VI в. в сфере серебряного обращения главное место занимали, видимо, драхмы сасанидского царя Пероза и подражания им (Смирнова, 1963, с. 56–57), но находок таких монет в Самаркандском Согде зарегистрировано сравнительно немного (из раскопок в Пенджикенте около 30 экз.). В VII в. их место занимают восходящие к драхмам Варахрана V «бухархудатские» монеты сперва бухарской, а затем и самаркандской чеканки. Пока остается неясным, какие медные монеты обращались в Самаркандском Согде в VI — первой четверти VII в. В Пенджикенте слои этого времени вскрыты на сравнительно небольшой площади и почти не дали медных монет. Пока эту «лакуну» в денежном обращении или в том, что известно о нем (Давидович, Зеймаль, 1980, с. 73, 78), можно заполнить только серией анэпиграфных монет с изображением на л. ст. правителя в фас, а на об. ст. V-oбразного знака-тамги (табл. 122, 16, 17), а также типологически примыкающими к ним монетами с согдийскими легендами (Смирнова, 1981, с. 88–100). Монеты эти, составляющие не менее четырех разновременных серий, представлены в находках как в Самаркандском Согде, так и за его пределами (Бухарский Согд, Северный Тохаристан, Южный Согд — единичные экземпляры). О.И. Смирнова предположительно отнесла их к Самарканду и датировала от V(?) — VI вв. (наиболее ранние анэпиграфные монеты) до конца VI — первой четверти VII в. (в Пенджикенте они встречаются и в более поздних слоях). Сходство тамги-знака в виде «V» на об. ст. анэпиграфных монет этой группы (Смирнова, 1981, с. 88–92, № 1-25) с таким же знаком на наиболее ранних самаркандских монетах китайского образца — полное (табл. 122, 17), но на последующих сериях (там же, № 26–37), уже с согдийской легендой, нижний завиток «ножки» знака повернут не вправо, а влево. Наиболее полно изучены сейчас монеты Самаркандского Согда китайского образца, выпуск которых начался в пределах второй четверти VII в. и продолжался до середины VIII в. Прототипом для этих литых, с центральным отверстием монет послужили (как в Бухарском Согде и в Северном Тохаристане) танские выпуски с легендой «кай юань тун бао»: эти иероглифы воспроизводились на самых первых согдийских выпусках (Смирнова, 1981, с. 101–103, № 43–47). Затем формируется свой облик монеты верховных правителей Самаркандского Согда, носивших титул «ихшид» (на монетах он передавался арамейской гетерограммой MLK): на одной стороне — тамгообразные знаки, как правило не менее двух (табл. 122, 1-11), на другой — согдийская легенда, содержащая имя и титул царя. Всего О.И. Смирновой для периода от середины VII до 40-х годов VIII в. были выявлены монеты десяти ихшидов (Смирнова, 1981, с. 103–227, 308–310) и разработана их абсолютная хронология, так как имена на монетах были соотнесены ею с правителями Согда, упоминаемыми в Таншу, в документах с горы Муг, у Табари, Нершахи и в других источниках (Смирнова, 1981, с. 423–424). Наблюдения за стратиграфическим распределением монет из раскопок (прежде всего в Пенджикенте) и составом кладов показывают, что ихшидская монета имела хождение не только в самом Самарканде и его округе, где осуществлялся ее выпуск, но и в остальных владениях, подчинявшихся «согдийскому царю, самаркандскому государю», а после выпуска монет новым ихшидом принудительного изъятия монет его предшественников не производилось, хотя и происходила (со временем) естественная убыль их количества в обращении. Для датировки слоя (памятника) по единичным находкам монет ихшидов Согда эту особенность их обращения необходимо учитывать. Наряду с царской монетой в Самаркандском Согде осуществлялся выпуск литых монет китайского образца и удельными владетелями (с титулом «государь» — согд. — или арамейская гетерограмма MR’Y/MRY’). Из удельных выпусков Самаркандского Согда лучше других сейчас изучены монеты «государей Панча» (Пенджикента), массовые находки которых происходят из раскопок Пенджикентского городища (Смирнова, 1963, с. 15–19, 91-121; 1981, с. 45–50, 230–305; Лившиц, 1979). Всего их известно сейчас более 800 экз. Свои монеты выпускали три правителя Панча: Гамаукайн (у О.И. Смирновой — Амукиан или Чамукйан) — до начала 90-х годов VII в. (табл. 122, 12), Чекинчур Бильге (Бидйан) — примерно в 694–708/9 или в 690–704 гг. (табл. 122, 13) и «госпожа Нана» (табл. 122, 14, 15) — около 709–722 гг., если считать ее старшей женой правителя Панча по имени Деваштич (Лившиц, 1979, с. 65), носившего какое-то время и титул «самаркандского царя». Деваштич и Чекинчур Бильге упоминаются в документах из за́мка с горы Муг, что несколько облегчает историческое осмысление нумизматических данных, хотя и остаются вопросы, на которые пока ответить невозможно (отсутствие монет с именем Деваштича; полный титул Чекинчура Бильге в мугском документе В-8 — «багдский царь, государь Панча» и др.). Государи Панча явно не составляют династию в обычном понимании, а, видимо, как и цари Согда, могли избираться «знатью („старейшие“, „великие“, „народ“ в источниках), очевидно, не без участия купеческой верхушки и городских магистратов» (Лившиц, 1979, с. 60). В денежном обращении Панча, судя по совместным находкам из раскопок и по кладам, монеты местных владетелей и монеты ихшидов Согда сосуществуют, видимо, как вполне равноправные. Но за пределами Панча и его округи (и в Самарканде, и тем более в северотохаристанских владениях Чаганиан и Вахт) монеты пенджикентских владетелей свободного хождения не имели (известны лишь единичные экземпляры). Монеты других удельных владений Самаркандского Согда выявлены пока предположительно (Смирнова, 1981, с. 228–230, 30&-308). Центры таких княжеств, кроме Панча, пока систематически не раскапывались. Характер обращения медных среднеазиатских монет в раннесредневековый период позволяет использовать их, если будет проделана работа по картографированию как массовых, так и единичных находок, для уточнения политико-административных границ как между областями, так и между удельными владениями внутри областей, а также для реконструкции таких событий политической истории, как расширение границ путем захватов, потеря какими-то владениями самостоятельности и т. п. Это особенно важно для владений, политический статус которых на протяжении раннесредневекового периода менялся или в которых происходило «перераспределение» влияния более могущественных соседей. Во временной зависимости от Самаркандского Согда, видимо, оказывались даже такие крупные владения, как Южный Согд (бассейн р. Кашкадарья) и Уструшана.Южный Согд.
В качестве самостоятельной «нумизматической провинции» бассейн Кашкадарьи выступает сравнительно поздно, с началом чеканки так называемых нахшебских монет: л. ст. — голова правителя влево и согдийская легенда; об. ст. — царь(?), рассекающий мечом стоящего на задних лапах льва (табл. 119, 26, 27). Для их изучения (и в особенности для точной локализации) много сделано С.К. Кабановым (Кабанов, 1961; 1973; 1977, с. 96–97, рис. 16 и др.). Центр, где осуществлялась чеканка этих монет, — город, остатки которого — городище Еркурган — систематически раскапываются, что позволило разработать дробную стратиграфическую колонку большой точности (Исамиддинов, Сулейманов, 1984). Всего сейчас известно более пятисот монет этой группы; подавляющее их большинство — с городища Еркурган и его непосредственной округи, что уверенно подтверждает локализацию, предложенную С.К. Кабановым. Вопрос о времени выпуска «нахшебских» монет пока не имеет столь же определенного решения. Разногласия в их датировке обнаружились уже после первых работ, в которых они рассматривались (I–III вв. н. э. — Drouin, 1896; VI в. — Fuye, 1926, с. 37–40). С.К. Кабанов относил эти монеты к IV–V вв. (Кабанов, 1954, с. 92; 1958, с. 151), затем к V–VI вв. (Кабанов, 1961), а после находки наиболее ранней монеты этой группы из раскопок Пирматбабатепе и он сам (Кабанов, 1973, с. 165; 1977, с. 96), и О.И. Смирнова (Смирнова, 1981, с. 18), отнеся начало чеканки к IV в., расширили датировку группы в целом до IV–VI вв. с возможным перерывом в чеканке: по С.К. Кабанову — между 420 и 486 гг.; по О.И. Смирновой — на рубеже IV–V вв. Против этого выступил М.Е. Массон. По его мнению, эти монеты чеканились «некоторое время на протяжении III и IV вв.» (Массон М., 1977, с. 137). К сожалению, ни общеисторические соображения (попытки, опираясь на не всегда ясные сведения письменных источников, связать монеты с какими-то историческими событиями и, исходя из этого, определить время их чеканки, ср.: Кабанов, 1961; Массон М., 1977, с. 136–137), ни иконографические сопоставления, ни наблюдения за палеографическими особенностями согдийской («парфяно-согдийской») легенды на л. ст. этих монет не могут служить опорой для сколько-нибудь определенных и точных хронологических заключений. Более надежные результаты можно получить, используя для датировки «нахшебских» монет археологические данные, и прежде всего разработанную для Еркургана стратиграфическую хронологию слоев, а также материалы других памятников в низовьях Кашкадарьи (Исамиддинов, Сулейманов, 1984, с. 99 и сл.). Очень важен нумизматический контекст («вертикальный» — в пределах Кашкадарьинской области, «горизонтальный» — через сопоставление с состоянием монетного дела и денежного обращения в соседних областях). Пребывание «нахшебских» монет в обращении, если исходить из археологических материалов Еркургана и его округи, видимо, можно продлить до первой четверти VII в. включительно. Решающее слово в определении, когда началась их чеканка, остается за археологами, но, учитывая, что новая стратиграфическая шкала оказывается «моложе» датировок С.К. Кабанова примерно на столетие, начало массовой чеканки «нахшебских» монет следует теперь отнести к концу V или началу VI в. Нумизматическая ситуация в Кашкадарьинской области может быть пока намечена только пунктиром. Как и в Самаркандском Согде, для конца V — начала VI в. здесь засвидетельствованы находки серебряных «оболов» с изображением лучника. Могли ли «нахшебские» монеты чеканиться и обращаться одновременно с ними, параллельно? Ответить на этот вопрос категорично невозможно, пока остается невыясненным, подвергались ли «нахшебские» монеты покрытию тонким слоем серебра. Об этом высказывал предположение М.Е. Массон, отмечавший, однако, что «следы посеребрения, нанесенного некогда на поверхность тонким слоем, усматриваются не всегда и не сразу, особенно на экземплярах, хранящихся в музеях, где они порой исчезают в результате неумелой чистки объектов» (Массон М., 1977, с. 135–136). Ни в основных собраниях среднеазиатских музеев (Самарканд, Ташкент), ни в музеях Москвы и Ленинграда экземпляров со следами посеребрения нет, как нет их и среди четырехсот с лишним монет из раскопок и разведок в бассейне р. Кашкадарьи. К сожалению, М.Е. Массон не указал, знакомы ли ему экземпляры «нахшебских» монет со следами (или остатками) слоя серебра на их поверхности. Но даже если какие-то экземпляры и были посеребрены, это не может препятствовать отнесению начала массовой их чеканки к концу V — началу VI в., как и приведенное М.Е. Массоном сопоставление «нахшебских» монет с бухарскими эмиссиями (с изображением алтаря) (табл. 119, 5–9), имеющими явно более позднюю дату, чем полагал М.Е. Массон. Состав монетной массы, находившейся в Кашкадарьинской области в обращении одновременно с «нахшебскими» монетами, остается пока не выясненным: «нахшебские» монеты явно преобладали, но к ним были примешаны и другие виды монет, хотя их количество и невелико. Очень смутно мы представляем, какие монеты пришли в Кашкадарьинской области на смену «нахшебским». Присутствие в обращении здесь монет первого согдийского царя, самаркандского государя Шишпира (табл. 122, 1) документировано их находками, в том числе на городище Еркурган (Исамиддинов, Сулейманов, 1984, с. 111). В этой связи необходимо отметить и находку на Культепе «нахшебской» монеты с надчеканом (?), повторяющим V-oбразный знак-тамгу (Кабанов, 1977, с. 96, рис. 16, 6) — такой же, как на монетах Шишпира и последующих самаркандских ихшидов. Однако, интерпретировать эти находки как свидетельство подчинения Кашкадарьинской области во второй четверти — середине VII в. Самаркандскому Согду (со всем «шлейфом» далеко идущих исторических выводов), видимо, было бы преждевременным. Предложенное О.И. Смирновой отождествление Шишпира с упоминаемым в китайских источниках владетелем Шашеби («Таншу», 642 г.), правившим в Кеше (Шы), т. е. в непосредственной близости к Кашкадарьинской области (Смирнова, 1970, с. 275; 1981, с. 36–37), дает основание предполагать, что владетель Кеша Шишпир, став царем Согда, не только сохранил свое владение Кеш, но и распространил свою власть на Кашкадарьинскую область. Какое из этих предположений окажется правильным и появятся ли новые объяснения для этих фактов, во многом зависит от археологических данных о распределении монетных находок, от увеличения их числа. Единоборство царя (или героя) со львом, изображенное на об. ст. «нахшебских» монет, все исследователи единодушно сопоставляли с таким же сюжетом, представленным сходной композиционной-иконографической схемой на монетах города Тарса (Киликия) ахеменидского времени (ср.: Смирнова, 1981, с. 18–19), но оставался загадкой механизм заимствования: через малоазийские монеты IV в. до н. э., оказавшиеся, как и монеты Амударьинского клада, в Средней Азии (Смирнова, 1981, с. 19), через парфянскую среду (ср.: Массон М., 1977) или даже через сасанидскую (Fuye, 1925–1926, p. 39–40). Сейчас отпадает необходимость в столь отдаленных и во времени и в пространстве сопоставлениях, поскольку существование такого же сюжета в согдийской иконографии засвидетельствовано в Согде: в Пенджикенте (объект XXIII, помещение 57) была найдена трапециевидная доска с резным рельефным изображением героя, закалывающего мечом вздыбленного льва, но крылатого (Маршак, 1985, с. 240–241, № 585); доска была одной из деталей деревянного наборного купола с трапециевидными кессонами, датированного концом VII в. К сожалению, в определении исторического места «нахшебских» монет пока не принимает «участия» согдийская легенда (на лиц. ст.). Трудности, которые вызывало ее чтение, пока в распоряжении исследователей были сперва единицы, а потом десятки монет недостаточно хорошей сохранности, теперь, когда счет уже идет на сотни экземпляров, можно считать преодоленными: легенда состоит из семи знаков и (при всех различиях в индивидуальном почерке резчиков штемпелей) устойчиво читается kws MLK’. Но о значении слова «kws» можно с уверенностью сказать только, что это не имя царя, а скорее обозначение его династийной принадлежности или названия владения, неизвестного пока по другим источникам (Droin, 1896; Fuye, 1926, p. 38; Кабанов, 1961; 1973, с. 163–164; Лившиц, Луконин, 1964, с. 170. Примеч. 110; Массон М. 1977, с. 133).Уструшана.
Монетное дело и денежное обращение этой области в раннесредневековый период пока исследованы не в полной мере, особенно если сравнивать с большими достижениями в изучении материальной и художественной культуры раннесредневековой Уструшаны. Правители этой области выпускали бронзовые (без отверстия в центре) монеты (Смирнова, 1971; 1981, с. 324–335; Давутов, Зеймаль, 1985, с. 253): л. ст. — правитель в сложной короне, часто с крыльями (исключение — изображение на л. ст. слона влево; Смирнова, 1981, № 1427–1431); об. ст. — характерный уструшанский V-образный знак-тамга, иногда в сочетании с другими знаками, и согдийская легенда с именем правителя и титулом «государь», переданным гетерограммой MR’Y (табл. 122, 18–21). Из четырех с лишним десятков таких монет, которые сейчас известны, несколько экземпляров и два небольших клада (8 экз. и 10 экз.) происходят из раскопок городища Калаи Кахкаха I в Шахристане, а также из хорошо стратифицированных раскопок на городище раннесредневекового Пенджикента. Хронология уструшанских монет пока не может считаться надежно установленной. О.И. Смирнова в одном случае указывала, что они датируются «археологически не позднее VI — начала VII в.» (Смирнова, 1971, с. 62; 1981, с. 7), в другом — она относила их «к концу VI–VII вв.» (Смирнова, 1981, с. 35). Иконографические аналогии крылатым коронам, приводившиеся О.И. Смирновой (Смирнова, 1971, с. 62; 1981, с. 32), относятся ко второй и третьей четверти VII в., что, вероятно, позволяет исключить из их датировки VI в. и, по крайней мере, первую четверть или первую половину VII в. В Пенджикенте одна из групп уструшанских монет (с именем Сатачари) представлена в слоях и кладах первой половины VIII в. (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1980, с. 15, 18; Беленицкий, Распопова, 1981, с. 11, 13). Все это позволяет предположить, что чеканка уструшанских монет началась не ранее второй половины VII в., и продолжалась в первой четверти VIII в. Такая датировка лучше согласовывалась бы и с общими представлениями о денежном хозяйстве Средней Азии, но решающее слово в уточнении хронологии монет уструшанских правителей должно, видимо, принадлежать стратиграфическим данным — новым находкам на Пенджикентском городище и на памятниках с территории Уструшаны (включая и сведения об обстоятельствах находки двух кладов на Калаи Кахкаха I — объект VI, помещение 8 и объект V, помещение 1, которые пока не опубликованы). Неустановленность точной хронологии затрудняет использование уструшанских монет для археологических датировок, а также в качестве исторического источника: имена правителей (Чирдмиш, Сатачари, Раханч), как их прочла О.И. Смирнова, не встречаются в письменных источниках. Сравнительно скромный титул «государь» (MR’Y), засвидетельствованный монетами, указывает на зависимость уструшанских владетелей от правителей более высокого ранга, что согласуется со сведениями Сюань Цзяна (629 г.) о подчинении правителей Уструшаны тюркам, однако, если монеты начали выпускаться во второй половине VII в., политическая ситуация могла и измениться. Экономическая природа уструшанских монет пока не ясна: были ли они соотнесены в стоимостном отношении с серебряными монетами (и какими), или принудительный курс для них был установлен без такого соотнесения. Присутствие уструшанских монет в Пенджикенте (вне Уструшаны) как будто бы свидетельствует в пользу первого предположения, но в целом вопрос остается открытым. Сведения о находках неуструшанских монет на территории Уструшаны, важные для выяснения и политическо-экономической ориентации этой области, и общей картины денежного обращения в раннесредневековый период, не публиковались. Две находки раннечачских монет на территории Уструшаны: курган 1 могильника Оутсай и поселение Кайрагач в Юго-Западной Фергане (Брыкина, 1982, с. 89, рис. 60) — пока остаются единственными свидетельствами непосредственных контактов Уструшаны с Чачем в период, предшествовавший появлению в Уструшане своих монет. Об определенных связях с Самаркандским Согдом во второй половине VII — первой четверти VIII в. дают представления находки там (в частности, в Пенджикенте) монет уструшанских государей, но стоят ли за этими торговыми контактами и какие-то политические отношения, пока остается не вполне ясным. Еще меньше известно о взаимоотношениях раннесредневековой Уструшаны с Ходжентом в сфере денежного обращения: монеты раннесредневекового Ходжента если и чеканились, то остаются невыделенными. «Белым пятном» в истории денежного обращения Уструшаны остается и период борьбы за независимость против арабов, продолжавшийся в Уструшане дольше, чем, например, в Самаркандском Согде. Можно предполагать, что в последней четверти VIII в. в Уструшане уже обращались арабские дирхемы и фельсы, а хождение местной монеты прекратилось.Чач.
Хотя первые чачские монеты — шагающий лев, «вилообразный» знак и согдийская легенда (табл. 123) — были выделены почти сорок лет назад (Смирнова, 1952, с. 39–43; 1958, с. 251–253; 1961, с. 130–134) среди пенджикентских монет (с учетом находок на Актепе близ Ташкента, Мунчактепе у Беговата и др.), их изучение далеко от завершения. Широкое и систематическое изучение археологических памятников среднего течения Сырдарьи (Канка, Кендыктепе, Ханабадтепе, Юнусабадское Актепе, Мингурюк и др.) дало резкое увеличение монетных находок. Сейчас накопление материала продолжается, разрабатывается (в первую очередь благодаря работам Э.В. Ртвеладзе) систематика чачских монет, решаются вопросы их хронологической и исторической атрибуции, уточняется локализация разных групп монет. О том, что сферу серебряного обращения в Чаче обслуживали в раннесредневековый период драхмы «бухархудатского» образца, было известно давно (Массон М., 1955а), но, как показала Е.А. Давидович (Давидович, 1979, с. 106, 115), здесь осуществлялся и выпуск таких монет («первый тип» по ее классификации). Дальнейшая разработка вопроса о чачском серебре «бухархудатского»образца непосредственно зависит от накопления данных о находках таких монет: они опознаются по сочетанию второстепенных иконографических деталей и не отличаются от «бухархудатских» монет, выпускавшихся в других центрах, ни легендой, ни изображениями, ни дополнительными элементами монетного типа. Дополнительные арабские и согдийские надписи, которые появляются на «бухархудатских» монетах Самарканда и Бухары со второй четверти VIII в., на чачских выпусках не выявлены, что, возможно, связано с иным политическим статусом областей по средней Сырдарье — с их меньшей политической зависимостью от арабских наместников в Хорасане и Мавераннахре. Отсутствие таких дополнительных легенд (с чем бы оно ни было связано) осложняет изучение чачских выпусков «бухархудатских» драхм, разработку их относительной и абсолютной хронологии. Выпуск «бухархудатского» серебра в Чаче начался, видимо, не ранее второй половины VII в. (позднее, чем в Самарканде) и продолжался, по крайней мере, до первой четверти IX в., когда оформилась металлическая, курсовая и «терминологическая» разница между дирхемами мусайаби, мухаммади и гитрифи, также восходящими к «бухархудатскому» серебру (Давидович, 1966, с. 119–125), а возможно, и несколько позднее (Давидович, 1979, с. 114–115). Самые ранние чачские выпуски из меди — монеты (табл. 123) с изображением на л. ст. головы правителя влево (или, значительно реже, вправо), а на об. ст. — особой разновидности тамги и согдийской легенды, в которой В.А. Лившиц с уверенностью читает только титул «государь», переданный гетерограммой MR’Y в измененной форме — MY’R (Археология СССР, 1985, табл. CXLIX, 15; Брыкина, 1982, с. 89, рис. 60). Сейчас известно около 1500 раннечачских монет (в том числе большой клад с городища Канка, находки на Кендыктепе и других памятниках), сильно различающихся по весу (от 3 до 0,15-0,2 г), по степени схематизации изображений, по фактуре кружка и т. п., но явно составляющих единую типологическую группу. Видимо, нет оснований относить начало выпуска этих монет к III в. н. э. (Археология СССР, 1985, с. 303). Характерная для них тамга (на об. ст.) точно повторяет тамгу, с которой начинается согдийская надпись на блюде из Керчева (Смирнов, 1909, табл. XXV, 53), упоминающая «чачского государя» (Лившиц, Луконин, 1964, с. 170–172; Лившиц, 1979, с. 57). Само блюдо с изображением сасанидского кушаншаха Варахрана II (Луконин, 1967, рис. 1, с. 25–26, 31) датируется последним десятилетием IV или самым началом V в., но согдийская надпись на нем (как и тамга) явно была выполнена позднее времени изготовления, уже после того, как блюдо попало в Чач (попытка видеть в этом блюде произведение «местных торевтов» нуждается в более серьезном обосновании, чем обнаружение в Чаче серебряных рудников (Буряков, 1987, с. 36), — блюдо изготовлено в сасанидских традициях и, несомненно, сасанидским мастером, не в «Бактрии или Согде» (Пугаченкова, 1981а; ср.: Буряков, 1987, с. 36) вообще, а в сасанидском Кушаншахре). Так устанавливается терминус-пост-квем для раннечачских монет — не ранее V в. Но это не исключает для них и более поздних дат в пределах VI или ранней части VII в.: монеты, судя по их многочисленности и типологическому разнообразию (разновременные серии с явными признаками постепенного накопления отклонений от исходного образца, схематизации и т. п.), выпускались долго, а смена их другими группами чачских монет происходит только в VII в. Нет никаких оснований предполагать, что существовал перерыв в чачской чеканке, между раннечачскими сериями и выпусками VII–VIII вв. Раннесредневековые чачские монеты VII–VIII вв. подразделяются, как показал Э.В. Ртвеладзе (Ртвеладзе, 1982, с. 181 и сл.), на несколько локальных групп, выпускавшихся владетелями «уделов» в составе Чачской области. К собственно Чачу отнесены монеты с характерным «вилообразным» знаком на об. ст. (Смирнова, 1981, с. 371–393; Ртвеладзе, 1982, с. 32–34 — «первая группа»), а на л. ст. — с изображением или бюста правителя, или льва с поднятой лапой (табл. 123, 1, 8). В согдийской легенде (на об. ст.) указан титул правителя — «государь» (xw..w), иногда с эпитетом «чачский» (ccnk), а также имена правителей. Всего, по классификации Э.В. Ртвеладзе, в эту группу входят монеты шести правителей, относительная хронология которых еще нуждается в уточнении; группа в целом датирована VII — первой половиной VIII в. Отличительная особенность второй группы раннесредневековых чачских монет — сложная пятиконечная тамга на об. ст. (табл. 123, 2, 5, 19). В сочетании с ней засвидетельствованы четыре разных типа л. ст. (два лица — Ртвеладзе, 1982, рис. 1, 8; сидящий правитель — Лившиц, Ртвеладзе, 1982, с. 181–187; Ртвеладзе, 1982, рис. 1, 9; конь вправо — Ртвеладзе, 1982, рис. 1, 10). Эта группа, видимо, выпускалась в Кабарне, одном из городов Чача, соответствующем, по мнению Ю.Ф. Бурякова (Буряков, 1975, с. 86), городищу Кавардан. Третью группу, по классификации Э.В. Ртвеладзе (Ртвеладзе, 1982, рис. 1, 11–13), составляют монеты с изображением на об. ст. тамги (табл. 123), типологически восходящей к «бухарской тамге» или схематичному изображению алтарей огня на монетах Бухарского Согда (ср.: Зеймаль, 1979. табл. V, 5-11). Предположительная локализация этой группы монет — чачский город Фаранкат (или Афаринкат), отождествляемый с городищем Ишкурган близ современного Паркента (Буряков, 1975, с. 99–100), но пока монеты этой группы известны только по находкам в Канке и Бенкете. Четвертая группа (Ртвеладзе, 1982, рис. 1, 14, 15), с дугообразным (с небольшими отростками) знаком-тамгой на об. ст. (табл. 123), предположительно определена как монеты Канки (на л. ст. — погрудное изображение правителя в три четверти вправо). Пока остается неясным, где выпускались монеты еще двух групп: пятой, с якореобразным знаком на об. ст. (табл. 123) (Ртвеладзе, 1982, рис. 1, 16), и шестой, с двумя лицами на лиц. ст. и сложной тамгой на об. ст. (табл. 123, 9, 12, 15, 21, 23) в сочетании с согдийской легендой (Ртвеладзе, 1982, рис. 1, 7-21). Судя по нумизматическим данным, в составе раннесредневекового Чача имелось не менее шести уделов-владений, обладавших определенной самостоятельностью (Ртвеладзе, 1982, с. 38), а правители этих административно-территориальных единиц носили одинаковый титул — «государь» (xw..). Ни сами монеты, ни другие источники, в том числе и документ А-14 из мугского архива (Лившиц, 1985, с. 246–247), не сообщают, кто был сюзереном этих владетелей, кому непосредственно принадлежала верховная политическая власть в раннесредневековом Чаче, вхождение которого в зону политического влияния (и контроля) Тюркского каганата в целом не вызывает сомнений. Совершенно недостаточно исследовано денежное обращение Чача VII–VIII вв. в целом — состав монетной массы (включая и привозные монеты), место серебра в нем и т. п. Пока не имеет объяснения преимущественное распространение за пределами Чача (Афрасиаб, Кафыркала под Самаркандом, Пенджикент и другие пункты) только чачских монет с «вилообразным» знаком («первая группа»). Не выяснены в полном объеме и связи между Бухарским Согдом и Чачем, на существование которых определенно указывают типологические схождения в монетном материале: возникает предположение, что монетное дело раннесредневекового Чача складывалось, испытывая на себе определенное воздействие бухарских монет. Решение этих и других вопросов чачской нумизматики сейчас целиком зависит от дальнейшего накопления новых данных, в первую очередь археолого-стратиграфических, а также от установления надежной относительной и абсолютной хронологии отдельных групп и серий: без этого их эффективное использование как исторического источника и как «мостика» между сведениями письменных источников и собственно археологическими материалами вряд ли возможно. Нумизматические данные могли бы сыграть ключевую роль и в выяснении таких вопросов политической истории, как расширение (или сужение) сфер политического контроля и самого Чача, и каганата в сложной и переменчивой обстановке второй половины VII — первой половины VIII в. (распространение влияния на Уструшану, Ходжент и владения Ферганской долины; взаимодействия Чача и Отрара и т. п.). Пока эти вопросы могут быть только намечены. Так, анэпиграфные монеты с городища Отрартобе и из других пунктов Отрарского оазиса (л. ст. — шагающий лев, об. ст. — тамга), относящиеся к концу VII в. (Бурнашева, 1975, с. 62) или к более позднему времени, обнаруживают явную типологическую зависимость от чачских монет, но для развернутой исторической интерпретации этих нумизматических связей накопленных материалов, видимо, пока недостаточно.Семиречье.
Денежное обращение здесь (как и в Отрарском оазисе) возникает, видимо, позднее, чем в других среднеазиатских областях. В VIII в. в Семиречье выпускались и обращались так называемые монеты тюргешей и тухусов (Смирнова, 1981, с. 61–62, 397–412), находки которых из раскопок Тараза, Ак-Бешима, Краснореченского городища и других археологических памятников — главная опора для их локализации. Относительная и абсолютная хронология семиреченских монет, а соответственно и их историческая интерпретация еще должны разрабатываться и уточняться. Титул «господин тюргешский хакан» (…twrkys v’v’n), засвидетельствованный на монетах как тюргешей, так и тухусов, явно более высокого ранга, чем титул «государь тухусов» (tvwss vw..w), а сочетание обоих титулов на «монетах тухусов» указывает на зависимость «государя тухусов» от тюргешского хакана. К сожалению, большинство стратифицированных монетных находок из Семиречья, сделанных за последние десятилетия, остаются пока не опубликованными. Поэтому о составе монетной массы, обращавшейся в Семиречье, пока невозможно составить полное представление. Не имеет пока надежной локализации группа монет, определенных О.И. Смирновой (Смирнова, 1981, с. 58–59, 338–342) как монеты «тутуков». Предлагавшаяся для них локализация в Ферганской долине (2 экз. таких монет найдены на городище Кува в Ферганской долине) нуждается в более надежном подтверждении (еще 2 экз. — из Отрара, 1 экз. — из Бараши).Хорезм.
Монеты раннесредневекового Хорезма, детально исследованные Б.И. Вайнберг (Вайнберг, 1977), можно отнести (как и монеты Самаркандского Согда VII–VIII вв.) к числу наиболее разработанных разделов раннесредневековой нумизматики Средней Азии. Поэтому, не останавливаясь на них в полном объеме, здесь необходимо затронуть только те вопросы, которые еще ожидают своего решения. В VII в. в Хорезме происходят существенные перемены в иконографии серебряных и медных эмиссий, в содержании легенды, в весе и фактуре монет начиная с группы ГII и соотнесенных с нею медных выпусков, по классификации Б.И. Вайнберг (Вайнберг, 1977, с. 60, 98), отражающие вступление монетного дела и денежного обращения этой области в раннесредневековый период. Следует отметить, что обособленность хорезмийского монетного дела от таковой остальных областей Средней Азии, наметившаяся еще на протяжении древнего периода, не только сохраняется, но и проявляется в еще большей степени. Одно из главных отличий хорезмийского монетного дела VII–VIII вв. — использование в качестве серебряной монеты не подражаний сасанидским драхмам (как это было в Бухарском и Самаркандском Согде, в Северном Тохаристане и других областях), а монет со своими, сложившимися в Хорезме иконографическими типами (л. ст. — изображение хорезмийского царя в короне, об. ст. — так называемый хорезмийский всадник). Хронологические рамки раннесредневекового периода в монетном деле Хорезма определенно охватывают VII и VIII в. (самостоятельная «домусульманская» чеканка продолжалась здесь до последней четверти VIII в.). Но начало раннесредневековой чеканки в Хорезме, возможно, следует относить не к концу VI — началу VII в., а к более раннему времени: в разработанной Б.И. Вайнберг систематике на V–VI вв. приходится несколько монетных серий, относительная и абсолютная хронология которых еще требуют уточнения (Вайнберг, 1977, с. 64). Если говорить о количественной стороне, то монеты VII–VIII вв. составляют примерно треть дошедших до нас домусульманских монет Хорезма (из учтенных Б.И. Вайнберг 1417 экз. 471 экз. относится к раннесредневековому периоду), для большинства из них зафиксировано место находки — на археологических памятниках как правобережного, так и левобережного Хорезма (Вайнберг, 1977, с. 146–173), но точные стратиграфические обстоятельства обнаружения известны лишь для нескольких десятков экземпляров (многие монеты найдены на поверхности). Последовательность раннесредневековых правителей Хорезма (с титулом «царь-государь», переданным арамейскими гетерограммами MR’Y MLK’), установленная по монетам, лишь частично подтверждается сведениями письменных источников. Так, царь Бравик (Фравик), монеты которого (группы ГII и ГII/1, ГII/2) по косвенным признакам отнесены к VII в., возможно, соответствует царю Афригу в списке хорезмийских царей у Бируни (Вайнберг, 1977, с. 59). Царь Азкацвар-Чеган, при котором Хорезм был завоеван Кутейбой, в 712 г. был убит после ухода арабов возмутившимся народом; с этим правителем Б.И. Вайнберг связывает медные монеты (группа ГII, см.: Вайнберг, 1977, с. 63, 91–92), которые таким образом получают вполне надежную датировку и служат опорой для дальнейших типологически-датировочных построений. Цари Шрам (или Чарам) и Канишка (соответственно группы ГIII, ГIII/З, ГIII/4, ГIII/5 и ГIV, ГIV/7, ГIV/8) не упоминаются в письменных источниках под этими именами. Их хронология (как царя Хусрава, чеканившего медные монеты Г12) установлена предположительно: типологически монеты Шрама и Канишки предшествуют чекану царя Савшафана (ГV, ГV/9, ГV/10), упоминаемого и у Бируни, и в китайских династийных хрониках (как Шаошифень) под 751 и 762 гг. (дата посольства от него в Китай). К последней четверти VIII в. относятся правление и чеканка царя Азкацвара-Абдаллаха (ГVI), принявшего, как показывает его второе имя, ислам; имена Фадл и Джа’фар, написанные по-арабски на некоторых его монетах (Вайнберг, 1977, с. 160, № 1154, 1157, 1158), С.П. Толстов (Толстов, 1938, с. 138) рассматривал как имена арабских наместников Хорасана — ал Фадла ибн Яхьи, ал Бармеки (787–795 гг.) и Джа’фара ибн Мухаммеда (787–789 гг.), что дает уточнение хронологии тех монет Азкацвара-Абдаллаха, на которых эти имена присутствуют. Целый ряд других арабских имен на монетах Азкацвара-Абдаллаха, видимо, позволит уточнить датировку выпусков этого правителя. Остающиеся открытыми вопросы датировки других монетных серий Хорезма VII–VIII вв. ожидают решения и с помощью наблюдений за их стратиграфическим распределением, и совместными находками с твердо датированными монетами. Наблюдение за территориальным распределением монетных находок позволило Б.И. Вайнберг выделить две группы медных монет — Г12 и Г13 (Вайнберг, 1977, с. 63, 98), обращавшихся преимущественно в левобережном Хорезме, — видимо, как удельный чекан Кердера. Денежное обращение раннесредневекового Хорезма, несмотря на обильный нумизматический материал и детально разработанную его систематизацию, остается, по существу, малоисследованным. В отличие от древнего периода в VII–VIII вв. наблюдается, как и в других областях Средней Азии, явная параллельность в чеканке меди и серебра, но иконографическое и типологическое следование медных монет серебряным составляет специфику Хорезма. На протяжении VII–VIII вв. наблюдается постепенное падение веса серебряных монет: от 5,4–5,8 г для монет Бравика (Фравика) и 4,3–4,8 г для монет Шрама, до 1,3–2,6 г для монет Азкацвара-Абдаллаха в последней четверти VIII в. (Вайнберг, 1977. табл. XIV). К сожалению, пока не опубликованы данные о находках собственно арабских монет в Хорезме, но похоже, что резкое снижение веса серебряных хорезмийских монет во второй половине VIII в. непосредственно связано с окончательным подчинением Хорезма арабам и превращением хорезмийской серебряной монеты в монету «условно» серебряную, рассчитанную уже на обращение только на внутреннем рынке. В этой связи необходимо отметить и отсутствие медных эмиссий при Азкацваре-Абдаллахе, что, возможно, вызвано превращением его серебряных монет в денежные знаки с ограниченным ареалом обращения (а в сфере серебряного обращения появляются арабские полноценные дирхемы). В целом же «замкнутость экономической жизни» Хорезма, отмечаемая Б.И. Вайнберг, должна объясняться для раннесредневекового периода разрывом между стоимостью серебра в монете и ее курсом (Вайнберг, 1977, с. 100).Заключение
Серьезные изменения, происходившие в экономике и культуре среднеазиатского общества в IV–VIII вв., как показывают опубликованные в томе материалы, позволяют считать этот период важным этапом в его развитии. Эти изменения затрагивали все сферы жизни общества, наиболее ярко отражаясь в истории городов и взаимодействии города и деревни, фокусирующем основные процессы своего времени. Имеющиеся материалы, прежде всего археологические, дают все большее основание думать, что IV в. (шире IV — начало VI в.) являлся рубежом, отделявшим древний период развития городов Средней Азии от следующего, раннесредневекового. Этот последний характеризуется появлением новых черт в формировании городов, в фортификации, жилище и городской культуре, причем большинство исследователей полагают, что VII–VIII вв. даже являлись временем наивысшего расцвета городов, прежде всего согдийских. Темпы и масштабы урбанизации в различных областях Средней Азии различались между собой, что объясняется неравномерностью действия основных градообразующих факторов: экономического, политического и экологического. Поскольку перечисленные факторы проявляются в таких специфических источниках познания, как археологические данные, чрезвычайно трудно свести их в единую систему и понять конкретный механизм их действия. Политическая децентрализация, появление многих небольших самостоятельных владений, бурные внешнеполитические события и внутренние перегруппировки изменили налаженные в древности хозяйственные связи, ту веками слагавшуюся отраслевую специализацию хозяйства, без которой немыслимо поступательное экономическое развитие. Это не могло не создать кризисную ситуацию. В связи с этим неминуемо придется коснуться вопроса о преемственности при переходе к раннесредневековому обществу. Во Введении говорилось о том, что в 30-40-е годы нашего столетия преобладала точка зрения, преувеличивавшая масштабы упадка древних городов в IV–V вв. н. э. и сходство исторического пути Запада и Востока. Справедливости ради следует сказать, что выразительные материалы Хорезма давали к этому много оснований, а прочие в то время почти полностью отсутствовали. Теперь, с накоплением фактов, обнаружилось, что условия перехода от древности к раннему средневековью в различных областях Средней Азии сильно различались. Выяснилось, что «пространственная сетка» древних среднеазиатских городов не так сильно изменилась, как предполагалось ранее, и во владениях VI–VIII вв. н. э. продолжало существовать большинство крупных древних городов. Они сохранялись в силу ряда причин, среди которых не последнее место занимала караванная торговля — один из наиболее древних факторов урбанизации. В основе стабильности городских образований в определенных зонах лежат и экологические факторы. Важным стимулом стабильности расположенных на стыке с кочевой степью городов являлась торговля с кочевниками-скотоводами. Длительность существования древних городов зиждилась в Средней Азии и на ирригации, увязывавшей в жесткую территориально-топографическую систему города разных рангов и поселения, что, безусловно, предполагает и централизованное управление такой системой. По мере накопления и систематизации конкретных сведений о путях развития городов и сельской округи в раннесредневековой Средней Азии намечаются этапы урбанизации, роль определенных факторов в этом процессе и зоны урбанизации, отличавшиеся своей спецификой. Так, в долине Кашкадарьи еще в древности выделились два историко-культурных района — западный и восточный. Не исключено, что определенную роль изначально сыграли причины экологического характера. Ведение хозяйства в этих районах было сопряжено с большими трудностями в связи с пониженным стоком Кашкадарьи, плохо обеспечивавшей водой посевы (и поэтому большое место здесь занимали богара и пастбища), с повышенным засолением почв и меньшим, чем в других областях, накоплением урожайных мелкозернистых почв (Четыркин, 1948, с. 10). Исключение составляла Китабо-Шахрисябзская котловина, и именно там, естественно, и должны были складываться наиболее значительные городские образования. В Нахшебе на западе таким стал Еркурган, на востоке — городище на месте современного Китаба. Интересно, что в древности оба города занимали каждый примерно 40 га, что, скорее всего, объясняется их сходным экономическим потенциалом. К VI в. такое положение сохраняется, однако функции пришедшего в упадок Еркургана перешли к Калаи-Захаки-Марон (хотя этот вопрос недостаточно ясен), а затем, к эпохе средневековья, на первый план выдвигается Шуллюктепе. Все перечисленные городские центры складывались на одной территории (где до сих пор существуют Карши), видимо весьма выигрышной в экологическом отношении, — в месте, где от Кашкадарьи ответвляются целые «пучки» притоков, речек, ручьев, каналов. Кроме того, и Калаи-Захаки-Марон и Шуллюктепе формируются возле крупного за́мка — резиденции правителя, и, таким образом, политический фактор в градообразовании, видимо, выступал на первый план. На VI в. приходится начало важного этапа в историческом развитии Кашкадарьинского оазиса. В это время возводится мощная цитадель в Китабе (Лунина, 1984, с. 16), возникает много поселений типа Чандарактепе, Камайтепе, Гышатепе, Бауртепе и других, административно-экономический статус которых пока еще не ясен. Как правило, они не отличались большими размерами, занимая всего 7–8 га (Крашенинникова, 1970, с. 407; 1977, с. 530; Дресвянская, 1982, с. 454). Видимо, это были небольшие двух-трехчастные городки (или небольшие поселения, оформившиеся в города уже в последующую эпоху), причем размеры цитаделей часто составляют 1 га, позволяя предположить какое-то организованное, может быть государственное, строительство. Существовали и городки без цитаделей (Лунина, 1984, с. 30–35). В целом урбанистические процессы в долине Кашкадарьи протекали несколько замедленно сравнительно с другими областями, что объясняется в первую очередь недостаточно высоким уровнем развития ремесленно-торговой деятельности, которая в известной мере стимулировалась горнодобывающими промыслами (Лунина, 1984, с. 74). Очень важно в этой связи, что земледельческое население Кеша и Нахшеба и местное скотоводческое, вступавшее во взаимодействие с оседлым, различались этнически (Кабанов, 1981, с. 113). Города Самаркандского Согда изучены еще недостаточно хорошо, чтобы выделять какие-либо линии развития, однако отдельные закономерности в истории некоторых из них уже намечаются. В Самаркандском Согде, помимо его столицы, известно не менее 14–16 довольно крупных городов (15–20 га), существовавших в VI–VIII вв.: Маймург, Орлат, Баркет, Дабусия, Дурмен, Кушания и другие, расположенные на расстоянии одно-двухдневных переходов друг от друга, что существенно облегчало перевозки, снабжение городского населения, нужды караванной торговли. Большинство из них — центры сельскохозяйственных рустаков; другие — большие царские резиденции; примерно половина — продолжавшие существовать старые городские центры. Видимо, процветание этой группы городов (в значительной степени благодаря их расположению на трассе Великого шелкового пути) и обеспечило выдвижение Согда в VII–VIII вв. на первый план в системе культурных и экономических взаимосвязей в Средней Азии. Благополучие Бухарского оазиса во многом зависело от регулярного водоснабжения, а поскольку он лежал ниже по течению Зеравшана, то большую роль играли мирные взаимоотношения с правителями Самаркандского Согда. Может быть, поэтому, учитывая неустойчивость водного режима, здесь было много селений, жители которых издревле занимались ремеслами и торговлей. Известно, что население в X в. почитало городами только Бухару и Пайкенд. Похоже, что эта ситуация была и в раннем средневековье, хотя широкие разведочные работы, развернувшиеся в оазисе в 1970-1980-е годы, выявили много поселений, по размерам и структуре приближавшихся к рангу городских (Абдиримов, Валиев, 1979, с. 443–444; Абдиримов, 1983, с. 446). Даже Бухара не отличалась крупными размерами; прочие были гораздо меньше. Исключение составлял Рамитан, если прав в своей реконструкции площади города (56 га!) О.Г. Большаков (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 183–184). Облик хорезмийских раннесредневековых городов практически неизвестен. Лишь раскопки Хивы, предпринятые в последнее десятилетие, принесли кое-какие сведения о сравнительно крупном городе того времени (26 га). Однако масштабы раскопок невелики и основное внимание уделялось проблемам стратиграфии. Получены важные данные о смене застройки при переходе от древности к раннему средневековью: вместо слитной застройки появились сооружения гораздо более монументальные, типа за́мков (Мамбетуллаев, Юсупов и др., 1986, с. 38–40). Есть основания полагать, что в VI–VIII вв. сохранялись древние города по торговым трассам вдоль Амударьи: существовал Хозарасп с огромной цитаделью; в каком-то виде были Садвар и Джигербент; большим городом, судя по огромному некрополю, был Миздахкан. В дельте Амударьи колонизаторская деятельность хорезмийских купцов и ремесленников, видимо, способствовала формированию обширных поселений с цитаделями (Куюккала, Курганча), которые, несмотря на большие размеры, все-таки назвать городами можно с большими оговорками. Ремесленная деятельность занимала небольшое место; местное ремесло еще не приобрело специализированные формы. Вместе с тем обилие монет, в том числе неместных, заставляет предполагать большую роль торговли. Скорее эти поселения можно рассматривать в качестве «зимников» полукочевого скотоводческо-земледельческого населения, сохранявшего достаточно архаичную общественную структуру. Видимо, характерным для Хорезма был путь формирования городов возле крупных за́мков. Помимо Беркуткалы в одноименном оазисе, упомянем Кумбасканкалу, а также Кумкалу в соседнем Якке-Парсанском оазисе. Это явление не характерно для такой зоны древней урбанизации, как Тохаристан. В VI–VIII вв. здесь происходят заметные изменения, выразившиеся в уменьшении количества городов в посткушанское время (Ртвеладзе, 1988, с. 14; Аннаев, 1984, с. 13). Этот упадок в значительной степени объясняется изменившимися внешнеполитическими условиями в связи с завоеванием области Сасанидами и переносом трассы Великого шелкового пути. Указанные обстоятельства отодвинули прежде процветавшие районы в тень сравнительно с выдвинувшимся на первый план Согдом (Седов, 1987, с. 114 и сл.). В культуре городов, возникших на основе кушанских, а также и основанных на новом месте, сохранение древних традиций градостроительства проявилось в архитектуре, планировке жилищ и т. п. Исследованиями выделены города разных рангов: Будрач, Кафыркала, Термез — центры земледельческих оазисов, ирригационных областей и ирригационных районов (Ртвеладзе, 1988, с. 11). Большой спецификой отличались районы Средней Сырдарьи, Чач и Илак, где в силу ряда причин городская культура начала развиваться позже, нежели на юге Средней Азии. Урбанистические процессы определялись здесь несколькими основными факторами. Первые два тесно взаимосвязаны: это взаимодействие скотоводов с земледельцами и влияние политических событий и государственной власти на ход внутренних отношений. Взаимодействие с кочевой степью (а это обстоятельство всегда играло немалую роль в истории рассматриваемого региона) приобретает особое значение в эпоху Тюркского каганата. В связи с политическим преобладанием тюрок и появлением значительных массивов пришлого населения в Чаче получило дополнительные импульсы оседание скотоводов, за счет чего возникают новые поселения, в том числе и городские. Зона урбанизации продвинулась в глубь оазисов, к окаймлявшим их горным отрогам. Сгусток городов формируется в среднем течении Чирчика, вокруг столицы — городища Мингурюк. Здесь концентрируется не менее десятка новых городов. Сюда переместился из присырдарьинских районов центр политической и экономической жизни. Все эти явления объясняются не только оформлением к данному периоду самостоятельного владения Чач, но и стремлением тюркских правителей передвинуть основные центры района к степным границам, активизируя контакты со скотоводами. Перемещаются и торговые пути (Буряков, 1982, с. 134–135, 179). Таким образом, политический фактор стал доминирующим в градообразующем процессе этого региона. Рассматривая вопрос об активизации земледельческо-скотоводческих контактов, чрезвычайно важно учитывать и то обстоятельство, что исходный субстрат внутреннего развития — каунчинская культура — это культура скотоводов. Основная линия градообразования — рост городских центров из укреплений, строившихся в предшествовавшую эпоху чаще всего на мысах рек, при впадении саев в небольшие речки или в основные водные магистрали — Чирчик и Ангрен, что как раз и характерно для оседающего скотоводческого населения. В VI–VIII вв. наблюдается качественное изменение структуры данных поселений. На месте укрепления возникает цитадель, возле которой разрастается укрепление или неукрепленное поселение. Иногда это происходит в несколько приемов, и в таком случае выделяются топографически различные части, обведенные автономными стенами и даже рвами (Аккурган-Худайнкет письменных источников, Кендыктепе, Югантепе, Кабарна-Кавардан и др.) (Буряков, 1975, с. 41–47, 52–54, 87–39, 182; 1982, с. 18–22). В целом очертания подобных городищ неправильны. Эту линию урбанизации отмечают Ю.Ф. Буряков (Буряков, 1982, с. 170) и М.И. Филанович, говоря о «консервативном развитии комплекса» (Филанович, 1989, с. 92). Другая линия урбанизации определялась воздействием более древних городских цивилизаций Средней Азии, прежде всего Согда. Существенный вклад согдийцев в градостроительство на Средней Сырдарье выразился прежде всего в появлении городов правильных четырехугольных очертаний, в особенностях строительной техники и планировки, в других чертах городской культуры. В первую очередь это направление представлено крупнейшим и древнейшим городом Чача — Канкой (Буряков, 1982, с. 169). М.И. Филанович считает «пунктами активного согдийского воздействия» Мингурюк, Ханабад, Кулаклитепе (Филанович, 1989, с. 92). В целом в свете новых исследований получается, что Чач-Илак в VI–VIII вв. — одна из наиболее урбанизированных областей Средней Азии: здесь в это время было 32 города, в том числе один крупный — Канка (150 га), пять средних (от 25 до 75 га) и 26 мелких (до 25 га). Отсюда вывод, что развитие шло за счет мелких городов (Буряков, 1982, с. 140, 168). Однако сама классификация и выделение типов городских поселений здесь до вскрытия крупных массивов застройки встречают большие трудности и в значительной мере условны. Историческая топография городов, отражая различные условия их формирования, находится в тесной зависимости от статуса города (столица, центр оазиса, провинциальный небольшой городок и т. д.) и многих других причин. В рассматриваемый период города в большинстве случаев были двух- или трехчастными, включая цитадель, шахристан и предместье или пригород. Предместье торгово-ремесленного характера, как правило, в литературе именуют рабадом, полагая, что последний начинает складываться к концу периода. Цитадель — кала, арк или кухендиз — старая крепость мусульманских авторов IX–X вв. — являлась административным и политическим центром города, а также одним из важнейших узлов обороны. Обычно она располагалась в черте города, но иногда, например, в Пенджикенте или Бухаре, находилась за его пределами. Во многих случаях, особенно когда город вырос возле более раннего укрепления, превратившегося со временем в цитадель, последняя отделялась от остальной территории рвом. Особенности расположения цитадели рассматриваются как показатель большей или меньшей зависимости горожан от правителя, а соотношение ее размеров и городской территории — как один из признаков, отличавших сельское поселение от городского. Судя по археологическим данным и сведениям письменных источников, в цитадели находились дворец правителя и жилища его родственников, органы государственного управления и т. д. По словам Нершахи, арк Бухары в домусульманский период выглядел так: в нем располагались дворец бухархудатов, казна, амбары, царские диваны, мастерские, а также жилища царских родственников и слуг. Там же были храмы. Таким образом, это была резиденция правителя, откуда он управлял своими владениями (Нершахи, 1897, с. 33–36). Чрезвычайно интересна отмеченная исследователями двухчастность цитаделей — сочетание кешка-донжона с «нижней площадкой», занятой дворцом (Пенджикент, Варахша, Аязкала 2 в Хорезме). Вместе с тем существовали цитадели и иного вида, например, цитадель довольно крупного чачского города Ханабада (площадью 34 га), раскопанная полностью и представлявшая собой открытый двор с узкими коридорообразными помещениями по периметру. Судя по всему, она, скорее всего, использовалась для обороны, хотя и не исключено сочетание оборонительных функций с административными (Филанович, 1983, с. 123–130 и сл.). Заслуживает внимания упоминание о наличии в цитадели базара, или крупного хранилища продуктов, открытого в Калаи-Кафирнигане. Однако Калаи-Кафирниган — маленький городок (площадью 3,5 га), и назначение его цитадели могло отличаться от ее использования в более крупном, тем более столичном, городе (Соловьев, 1989, с. 65). Персидским термином «шахристан» или арабским «мадина» арабоязычные историки IX-Х вв. называли внутренний город в противовес пригороду — рабаду. Наиболее полное представление о том, как мог выглядеть шахристан раннесредневекового города Средней Азии, дают многолетние раскопки Пенджикента. В свете этих исследований давно уже изменилось сложившееся к 50-м годам нашего столетия представление о шахристане как о совокупности усадеб и развивавшегося там ремесла (Якубовский, 1932, с. 4). Оно было основано главным образом на неточно прочитанном тексте Нершахи (Беленицкий, 1967, с. 4–5; Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 23). Пенджикент, где вскрыто уже более 2/3 территории города, оказался плотно застроенным большей частью двухэтажными домами. Многокомнатные жилые кварталы разделялись улочками шириной 3–5 м. Значительную часть площади города занимали два храма, стоявшие почти в центре, где находилось большое открытое пространство — городская площадь. Архитектура и оформление жилищ, находки позволили исследователям Пенджикента определить местоположение домовладений с разным в социальном отношении составом населения. Другим важным итогом стало открытие лавок и мастерских ремесленников, примыкавших к глухим стенам жилищ, причем их строительство было запланировано одновременно со всем домовладением. К востоку от города, примерно в 1 км от его стен, тянулись усадьбы предместья. В большинстве из них имелся второй этаж, а нижний состоял из удобных квадратных помещений с суфами. Отмечается сходство этих загородных домов с жилищами рядовых горожан. Во многих таких усадьбах жили и работали ремесленники. Так выглядел раннесредневековый Пенджикент. Но закономерно встает вопрос: типична ли эта картина для среднеазиатского города VI–VIII вв. вообще и согдийского в частности? Действительно, вряд ли окажется большое сходство между столичным городом и небольшим провинциальным городком: сопоставление тохаристанских Кафыркалы и Калаи-Кафирнигана служит тому наглядным свидетельством (Соловьев, 1989, с. 64–66). Тем более могут различаться синхронные города различных культурно-исторических провинций, да если еще к тому же там вскрываются резиденции правителей типа Кахкаха II в Уструшане или Варахши в Бухарском Согде. При этом трудно ожидать, что они отражают типичную ситуацию городской жизни. Например, шахристан Бунджиката (городище Кахкаха I) имел небольшие размеры (площадь всего 5 га) и делился стеной на две части. В одной из них находились дворец, храм, административные центры и жилье, в другой — казарменно-сторожевое здание, водохранилище, площадь для военных учений. Таким образом, это типично владельческий город, выросший при резиденции правителей. Он не имеет ничего общего с Пенджикентом, кроме слитной застройки шахристана, однако сам характер этой застройки, в данном случае одноэтажной, был иным: она состояла из трехкомнатных секций, как в Гардани Хисоре или в Якке-Парсане (Негматов, Мамаджанова, 1989, с. 95–98). Раскопки Беркуткалы в Хорезме дают некоторое представление о том, как складывался город возле крупного за́мка. К югу и востоку от за́мка Беркуткалы с мощным донжоном в два приема формировался небольшой городок, площадью не более 4 га. Обе территории окружены стенами. Одна, к югу от за́мка, была более укрепленной и плотно застроенной. Постройки состояли из скромных помещений, не имеющих никакого сходства с согдийскими. В восточной части городка посредине находилась большая площадь, окруженная постройками, где зафиксированы остатки металлургического и косторезного ремесел. Были и какие-то другие ремесленные постройки. Таким образом, здесь как будто бы налицо территориальное разделение жилой части — крошечного шахристана — и торгово-ремесленной. В за́мке (цитадели) более фундаментальные постройки образовывали слитные ряды, а в северо-восточном углу находился большой водоем. Интересны результаты раскопок городов области Чача-Илака (и вообще присырдарьинской зоны), например Кавардана, где оседали скотоводы и отмечаются следы юрт и свободные от застройки территории (Буряков, 1982, с. 30). Мало сходства с Пенджикентом обнаруживает и другое присырдарьинское городское образование — Куйруктобе, в планировочно-топографических особенностях которого ощущаются глубокие местные традиции и лишь в некоторых деталях организации жилищ и приемов строительства чувствуется влияние согдийского градостроительства. В значительно большей степени оно наблюдается в крупных городах этой области, таких, как Канка. Здесь в цитадели и на территории шахристана I открыты парадные помещения с суфами и многокрасочными росписями, близко напоминающие пенджикентские залы. В то же время шахристан I застроен неплотно, а на территории шахристана III существовали отдельно стоявшие усадьбы. Правда, этот факт расценивается как свидетельство временного сокращения территории города, видимо, наподобие явлений, зафиксированных в Хиве и Дурмене. Но, по сообщению исследователей Канки, подобные усадьбы-замки встречаются и в городской застройке. К сожалению, пока еще трудно судить о планировке другого крупного города этой зоны — Мингурюка из-за его разрушенности и слабой обследованности, хотя и существует мнение о ее сходстве с планировкой Пенджикента и Канки «по типу монументальной застройки урбанистического характера» (Филанович, 1989, с. 40). Таким образом, города Чача и Илака могут отличаться известной спецификой, но, может быть, близкая Педжикенту картина открывается в городах Согда? В самом деле, в Самарканде, в квартале знати, который находился в центре города, как раз и раскопаны дома с большими залами, почти полностью повторявшие пенджикентские. Они украшены уже широко известной замечательной росписью с изображением посольств из разных стран, прибывших к самаркандскому правителю. Но нельзя забывать, что судьбы Самарканда и Пенджикента кануна и начала арабского нашествия были тесно связаны и что часть столичного населения даже переселилась в Пенджикент, спасаясь от вражеского вторжения. Следовательно, в обоих городах представлен этнически и социально близкий слой, что, естественно, нашло отражение и в схожести построек. О других городах Самаркандского Согда сведений гораздо меньше, чем о его столице, хотя расширяющиеся масштабы раскопок выявляют закономерности в пространственно-территориальном развитии некоторых из них. Большой интерес в рассматриваемом аспекте имеют раскопки Пайкенда, пути развития которого обнаруживают известное сходство с историей формирования Пенджикента (Мухамеджанов, Адылов, Семенов, 1988, с. 9; Семенов, 1989, с. 133–134). Вместе с тем Пайкенд — единственная в своем роде «купеческая республика», город без правителя (и этот факт китайские хроники отмечают специально, поскольку город, видимо, выделялся на фоне синхронных ему) (Бичурин, 1950, т. II, с. 282). Пайкенд складывался как бы в два этапа. В нем структурно выделялись цитадель, шахристан I (11 га), более ранний, и шахристан II (6 га). Считается, что в вв. Пайкенд был царской резиденцией и лишь позже становится «городом купцов» (Мухамеджанов и др., 1988, с. 111). В этот же период в противоположном конце Согда близкий путь проходит Пенджикент, первоначальный шахристан которого всего 8 га, причем значительную часть его площади занимали храмы. Не означает ли это, что Пенджикент слагался как крупный культовый центр и город вырастал прежде всего, как обслуга двух храмов, имевших важное значение для большого района и занимавших слишком большое место на его скромной по размерам территории (Смирнова, 1950, с. 64–65)? Чрезвычайно важно в связи с этим, что застройка Пенджикента в V–VI вв. носила разреженный, скорее усадебный характер и не отличалась такой плотностью, как в более позднее время. Существенно, что застройка, вскрытая в шахристане Пайкенда вблизи цитадели, никакого сходства с пенджикентской не имеет; нет там и росписей. О шахристане других согдийских городов, таких, как Кулдортепе (Босиде китайских источников, центр владения Маймург), Орлат, Дабусия, Арбинджан, Дурмен, имеются лишь самые общие сведения. Вскрытая в шахристане Дурмена значительная часть жилого квартала VIII в. своей планировкой отличается от пенджикентских. Это обстоятельство особенно важно, так как Дурмен в отличие от Пенджикента и Пайкенда сложился как городское образование уже в древности. Облик главного города Бухарского оазиса — Бухары до сих пор известен главным образом по «Истории Бухары» Нершахи. И только в последнее время появились предположения о формировании городского образования в конце V — начале VI в., когда двадревних самостоятельных массива объединились в слитную застройку шахристана и были окружены общей оборонительной стеной. Однако этот вывод основан пока на очень незначительных по масштабу работах. В отличие от Пенджикента Бухара, согласно реконструкции О.Г. Большакова, двумя пересекавшимися улицами делилась на четыре части с регулярной застройкой. Дворцы правителей в Бухаре строились, так же, как и в Самарканде, Пенджикенте, Варахше, у подножия высокой цитадели (ее кешка), но не на платформе («нижней площадке» цитадели), а внизу, на площади Регистан. Базары Бухары подобно пенджикентским находились на окраинах шахристана или вне его, у ворот, но о расположении их в центре города (что вполне возможно) сведений нет. Нет никаких данных о характере городской застройки. Известно лишь (и это очень важное сообщение Нершахи), что 1/4 площади шахристана принадлежала дехкану Хине. Таким образом, краткий обзор исторической топографии раннесредневековых городов Средней Азии позволяет заключить, что Пенджикент при нынешнем уровне наших знаний вряд ли следует рассматривать в качестве всеобщего эталона среднеазиатского города VI–VIII вв. н. э. Однако можно не сомневаться, что большинство городов этого времени были в первую очередь местом обитания земельной и торгово-купеческой знати. Коснемся теперь вопроса о городских пригородах, или, как их принято называть, рабадах. В.В. Бартольд считает, что рабады — внешняя часть города, образовавшаяся в мусульманское время, «куда постепенно переходит жизнь из первоначального поселения» (Бартольд, 1966б, с. 134, 139). Сам термин — арабский, служивший для обозначения как стены, окружавшей город вместе с пригородами, так и самих пригородов. Со временем в это представление были внесены важные коррективы. Так, уже А.Ю. Якубовский заметил, что жизнь в шахристанах не замирает с возникновением рабадов и что «внешняя часть города, где находились торгово-ремесленные кварталы, стала приобретать большое значение уже в домусульманское время» (Якубовский, 1951, с. 13). По мере роста городов застройка предместья становилась плотнее и насыщеннее ремеслом, и пригороды, таким образом, росли вместе с общим ростом городов (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 43–46; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 123). А.М. Беленицкий полагает, например, что заселение пенджикентского пригорода вообще началось в связи с перенаселенностью шахристана, из которого в первую очередь стали переселяться в рабад ремесленники (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 46). Вместе с тем, касаясь вопроса о ремесле в рабадах, целесообразно напомнить, что трехчастное деление города, как показал И.В. Пьянков, сложилось уже в глубокой древности. Тогда же там стало развиваться ремесло, а не с эпохи раннего средневековья, как иногда создается впечатление у ряда авторов. Так, следуя В.И. Сарианиди, в ахеменидский период бактрийский город состоял из крепости с цитаделью — местом сосредоточения господствующего класса — и неукрепленного пригорода, где концентрируются ремесло и торговля. Возле древнекитайских городов эпохи шан также отмечаются торгово-ремесленные пригороды (Чжан, 1968, с. 243). В этом смысле рабад не чисто средневековое явление, поскольку степень насыщенности городских предместий ремеслом и торговлей зависела в первую очередь от уровня развития производства в тот или иной период истории в каждом отдельном городе. В целом, к сожалению, исследования предместий среднеазиатских городов VI–VIII вв. еще не приобрели достаточных масштабов для получения наглядных доказательств приоритета там торгово-ремесленных построек или, более того, кварталов. Обычно при их описании упоминаются гончарные мастерские, что и неудивительно, так как специфика этого ремесла требует открытого пространства, а не скученности среднеазиатских шахристанов. Кварталы гончаров существовали и в пригородах античных городов. Не имея пока полного представления о пригородах-рабадах раннесредневековых городов, можно только добавить, что застройка большей частью имела рассредоточенный характер и либо была обведена стеной, либо оставалась неукрепленной. Предместья Самарканда окружала стена «Девори Киемат» протяженностью 40 км. Археологические материалы служат важным дополнением к сведениям письменных источников, позволяя в общих чертах охарактеризовать социальную структуру общества VI–VIII вв. Наибольшее значение имеют среди них «История Бухары» Нершахи и документы с горы Муг. В них (А-9) упоминается городская община, от лица которой составлялось письмо Деваштичу, заключались договоры и взимались пошлины. Она состояла из знати, купцов и работников. Господствовавший слой не был однородным ни экономически, ни политически. Верховная знать — правители областей, представители правящих «домов» — обозначалась термином «малик» — «царь» или «мрай» — «господин» (Смирнова, 1970, с. 51–53). Эти термины встречаются в документах с горы Муг и на монетах. Арабы употребляли для обозначения данной категории населения термины «малик» и «сахиб» («Табари») или же называли всю землевладельческую знать «хватав», чему соответствует западноиранское «дехканин». А. Новосельцев полагает, что дехкане-дехган (от западноиранского deh — селение) — выходцы из деревенской верхушки, превратившиеся со временем в налоговых агентов правительства и, наконец, во владельцев деревень (Новосельцев, Пашуто, Черепнин, 1972, с. 71). В период арабского нашествия дехкане — не только мелкая и средняя знать, но и правители округов. Наиболее многочисленным, как полагают, был слой рядовой знати — «азаты» (буквально «свободный», «благородный», хотя этим термином могла обозначаться и верховная знать). Есть мнение, что на них лежала служба при владетельных дехканах-азимах (Смирнова, 1970а, с. 85), причем, не имея земель, они получали их в качестве вознаграждения за службу при правителях крупных областей (Лившиц, 1962; Смирнова, 1970а, с. 85; Новосельцев, Пашуто, Черепнин, 1972, с. 80). Основная тенденция времени заключалась в ослаблении традиций старой родовой знати и выдвижении новой, служилой — «азатов», или «всадников», — слоя, порожденного феодализацией общества. Они стали поборниками новых порядков. О.И. Смирнова называет еще одну категорию знати — «царевичи», «сыновья малика». Из них составлялась аристократическая конница — чакиры. Личная гвардия была не только у представителей землевладельческой знати, но и у купцов. Впрочем, в интерпретации термина «чакир» нет единодушия. Хотя большинство исследователей согласны с тем, что чакиры — люди наемные, некоторые считают их рабами. Согласно документам с горы Муг, представители аристократии часто именовались по названию своих владений, что лишний раз подтверждает тесную связь знати с землей. В это время частновладельческие земли были широко распространены. В городе дехкане имели крупную недвижимость: так, согласно Нершахи, дехканину Хине в Бухаре принадлежал большой участок, занимавший четверть шахристана, где было 1000 лавок и мастерских и 75 жилых кварталов. В связи с этим встает вопрос: насколько такая фигура совместима с существованием городской общины, подобной пенджикентской? Второй большой группой господствовавшего слоя населения среднеазиатского города (и общества в целом) являлось купечество. Отличаясь от дехкан сословно, оно было им близко по образу жизни, как о том свидетельствуют письменные источники. Согласно Нершахи, купцы владели крупной недвижимостью и жили, как и дехкане, в за́мках. Теснейшую связь купцов с земельной знатью отмечал и А.Ю. Якубовский (Якубовский, 1951, с. 151), но он полагал, что первые еще не выделились в самостоятельную группу населения. Упоминание купцов наряду с азатами и «работниками» показывает их большую роль в жизни среднеазиатского общества. Имеются суждения о существовании купеческих товариществ, или корпораций, которым принадлежали подворья (Смирнова, 1970а, с. 139). Подобные корпорации известны с глубокой древности в городах Ближнего Востока (Oppenheim, 1964, s. 116–117), в Индии (Литвинский, Седов, 1983, с. 133), в Сасанидском Иране (Периханян, 1983, с. 286), в Византии VI–VII вв. (Пигулевская, 1956, с. 222–224). К господствующему слою принадлежало и жречество, которое также было неоднородным. В документах с горы Муг встречаются термины «магупат» — «верховный жрец» и «воганпат», обозначавший рядового жреца (Лившиц, 1962, с. 182; Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 115), свидетельствующие о наличии жреческой иерархии. Факт получения жрецом довольствия из кладовых Деваштича, как полагают, свидетельствует о тесной связи жречества с государственным аппаратом. По археологическим данным, различные слои общества занимали в раннесредневековых городах определенные кварталы. Участки застройки по социальному признаку отмечены в Самарканде (Афрасиаб) и в Пенджикенте. Исследование застройки Пенджикента в социологическом аспекте с привлечением других данных, в первую очередь живописи, дало чрезвычайно интересные результаты. Полагают, что городская община могла состоять из агнатических групп разного порядка — правящего клана города, знати, рядового населения (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1979, с. 19). Отсюда сделан вывод, что в городе существовали только две очень крупные влиятельные общины агнатов, которым соответствуют два самых больших домовладения в восточной и центральной частях города и два храма в центре города. Все эти заманчивые гипотезы кажутся правдоподобными в свете выводов А.Г. Периханян и сведений о большой роли агнатических связей в строе иранского и среднеазиатского обществ, о квартальных общинах позднесредневековых городов Средней Азии, опубликованных О.А. Сухаревой. Характер отношений пенджикентской знати с производящим населением — «работниками», вскрывающийся благодаря документам с горы Муг, позволяет считать ее градообразующим слоем (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1979, с. 24). Значительную часть «работников» составляли, как полагает А.М. Беленицкий, ремесленники и мелкие торговцы, которые были лично свободными и хозяйственно самостоятельными, как об этом свидетельствует прежде всего тот факт, что они перечисляются в документе А-9 в составе общины отдельно. О том, что «простой люд» — рядовые горожане были юридически свободными, можно судить также по обилию найденных в Пенджикенте печатей и сравнительно большому количеству найденных в лавочках и мастерских монет и, кроме того, по расположению торгово-ремесленных помещений (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 54, 130–131). Вместе с тем некоторые сведения дают основания полагать, что состав ремесленников и их статус были неодинаковыми. Так, в цитадели Самарканда открыта мастерская со следами какого-то устройства, по-видимому токарного станка, а в цитадели Туккета в Чаче-Илаке обнаружены следы металлургического производства. Возможно предположить, что в таких мастерских могли работать зависимые лица, обслуживавшие нужды правителя. Четыре категории таких зависимых лиц упомянуты в двух документах с горы Муг (№ 3, 4). Предполагается также использование в это время в каких-то масштабах рабского труда (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973, с. 118). Роль ремесленного производства в жизни раннесредневековых городов далеко не всегда ясна. Представляется, что был прав А.Ю. Якубовский, когда считал, что ремесла там еще не занимали того места, которое им стало принадлежать в дальнейшем, и отделение города от деревни было не настолько велико, чтобы ремесло могло сделаться полностью производственной основой существования их населения (Якубовский, 1955, с. 185, 200). В ряде городов известны ремесленные кварталы, но это главным образом гончарные мастерские. В крупнейших столичных городах — Самарканде, Еркургане, Мерве — исследовались кварталы керамистов IV–V и VII–VIII вв. н. э. В Пенджикенте специализированных ремесленных кварталов не обнаружено, а мастерские и лавки ремесленников разного профиля расположены «чересполосно». Иначе рисуются исследователями развитие и роль ремесел в раннесредневековых Чаче-Илаке. Ю.Ф. Буряков полагает, что шахристаны в VI–VIII вв. являлись в первую очередь ремесленными центрами (Буряков, 1982, с. 132), чего, пожалуй, никак не скажешь о Пенджикенте. Возможно, эта специфика объясняется бурным развитием ремесел в Чаче-Илаке в связи с возросшим в это время значением горнорудных разработок. Однако следует сказать, что имеющиеся по этому поводу материалы пока недостаточно определенны. Так, металлургическое и гончарное производство были в Мингурюке, но масштабы их не установлены (Буряков, 1982, с. 128–129). Возможно, раскопки вновь сформировавшихся в V–VIII вв. городов, особенно в местах контактов со степью, внесут в суждение о роли ремесел в жизни города этого времени значительные коррективы. И наконец, несопоставим уровень развития ремесел в столичных центрах и маленьких провинциальных городках типа Калаи-Кафирнигана в Тохаристане (Соловьев, 1989, с. 65–66). Думается, можно говорить и о сельскохозяйственных занятиях жителей раннесредневековых, особенно небольших, городов. Так, В.С. Соловьев на основании материалов из раскопок Калаи-Кафирнигана сделал вывод, что население этого маленького городка занималось животноводством, не исключает он и сельскохозяйственную деятельность горожан более крупной Кафыркалы (Соловьев, 1989, с. 64–65). Ю.Ф. Буряков упоминает о полях, садах и огородах горожан Чача. Совершенно конкретные сведения о больших садах и полях вокруг хорезмийских городов несколько более позднего времени имеются в письменных источниках (МИТТ, т. I, с. 185–188). В свете этнографических данных о дислокальном укладе жизни горожан Средней Азии XIX — начала XX в. они приобретают определенный смысл (Сухарева, 1979, с. 212). Расширение сведений о сельских поселениях и расселении позволит вкупе с письменными источниками уловить некоторые аспекты взаимодействия городского и сельского населения. В VII–VIII вв. происходит дальнейшее совершенствование древних ирригационных систем и строительство новых. Ирригационная сеть становится сложнее и разветвленнее, позволяя освоить большие массивы земель под поливные угодья. В Согде основные каналы, питавшие Самаркандский и Бухарский оазисы, были выведены из Зеравшана еще в раннеантичную эпоху, в том числе Даргом и Нарпай в Самаркандском Согде, Канимех, Харканруд, Зандана, Рамитанруд — в Бухарском. Уже в древности была освоена вся пойменная зона Зеравшана и завершено формирование двух упомянутых оазисов (Мухамеджанов, Валиев, 1978, с. 532). Большое значение в экономике предгорных районов Согда имели посевы на богарных землях. В Южном Согде, в Кашкадарьинском оазисе, в это время происходит максимальное обживание горных районов, причем 70 % поселений в восточной части оазиса возникло именно в эпоху раннего средневековья. В Чач-Илакском районе в это время оформляются ирригационные системы Салар и Анхор, между Ташкентом и Янгиюлем удлиняется система Джуна и Куркульдука, появляется канал Ниязбаш, осваиваются долины среднего течения Пскема и Чаткала. В долине Чирчика зафиксировано более 30 крупных каналов — Ханарык, Зах, Кейкаус, Салар и т. д. (Дадабаев, 1973, с. 265–266). По подсчетам Ю.Ф. Бурякова, общая площадь поливных земель увеличивается в 2 раза. Обнаружено более 300 поселений этого периода, причем процент городского населения составляет 25–30, широко осваиваются адырные земли, но все же основная масса поселений концентрируется на поливных землях (Буряков, 1982, с. 133). В Хорезме, как известно, богарных посевов вовсе не было, но население достигло большого искусства в обработке участков, в строительстве и уходе за ирригационными сооружениями (Андрианов, 1969, с. 135, 137 и др.). Таким образом, в различных районах наблюдаются в это время сходные явления, связанные с общими процессами социально-экономического развития. Исследования топографии земледельческих оазисов также дали однотипную картину. Наиболее подробно изучены сельские поселения Хорезма и восточной части Кашкадарьинского оазиса. Там выявлено, что самые крупные укрепления стояли у истоков каналов, вдоль русла которых располагались более мелкие и менее укрепленные или неукрепленные поселения. Наиболее характерной чертой сельского пейзажа становятся усадьба и за́мок — «тепе с вышкой». В Яккабгском районе на Гузардарье удалось наметить даже контуры раннесредневековых владений, площадь которых определяется в 1–5 тыс. га. Центром таких владений были небольшие городки, которые рассматриваются в качестве резиденций влиятельных дехкан (Дресвянская, 1986, с. 38). В Китабском районе Н.И. Крашенинникова наблюдала близкое расположение мелких тепе — остатков усадеб, что, по ее мнению, свидетельствует об измельченности земельных наделов (Крашенинникова, 1977, с. 71). Наблюдение за динамикой развития поселений на одном небольшом участке (120 га, по Буриарыку) позволило установить, что на одну крупную усадьбу в V–VI вв. приходилось не менее 30 тяготевших к ней мелких, в том числе три усадьбы больших семей площадью от 0,04 до 0,12 га и шесть жилищ рядовых крестьян, ведших, видимо, самостоятельное хозяйство. В VII–VIII вв. картина меняется: основная часть построек забрасывается, а население сосредоточивается под стенами возникшего в это время крупного за́мка, владетель которого, возможно, распространил свою власть на территорию всего оазиса (Кабанов, 1977, с. 103–107). В раннесредневековом Хорезме фиксируется рассредоточенное (хуторское) расселение, характерное для этой страны во все периоды ее истории. Укрепленные усадьбы и небольшие сельские поселения располагались вдоль боковых ответвлений крупного канала и образовывали несколько групп, причем командное положение у истоков ответвления занимал крупный за́мок феодала. На каждый крупный за́мок здесь также приходилось до десятка и более мелких усадеб. Последние резко распадаются по величине, что, вероятно, свидетельствует о расслоении земледельческой общины. В западной части Бухарского оазиса, как и в Хорезме, сельские жители жили в обособленных усадьбах. По-видимому, здесь в раннем средневековье сложился тот же тип расселения, о котором пишут исследователи этих мест в конце XIX–XX в., — в виде отдельных хуторов, рассеянных иногда на значительном расстоянии один от другого. Они сосредоточивались близ базарных пунктов, объединяясь по отдельным каналам, по признаку водопользования и родовым связям (Магидович, 1926, с. 74, 87–88, 93). Не исключено, что уже в VII–VIII вв. существовали те рустаки Согда, которые описывают авторы X в. Так, ал Истахри насчитывал в Бухарском оазисе 22 рустака (в то время как в Самаркандском их было 12), из которых 15 находились в черте «длинных стен», постройка которых приписывается арабскому наместнику Абул-Аббасу Фазлу бен Сулейману ат Туей (786–787 гг.). Словом «рустак», по В.В. Бартольду, обозначалась группа селений вокруг большого города. Однако не ясно, какой признак положен в основу их выделения — имелись ли в виду деревни, входившие в состав владений одного лица или рода, или же деревни, орошенные одним и тем же отводом какого-нибудь большого канала (Бартольд, 1965, с. 119). В Иране под этим термином понималась мелкая территориально-административная единица — «волость» или «район» (Пигулевская, 1956, с. 169). Более вероятной представляется последняя версия, когда владения-рустаки складывались вдоль водных протоков-каналов или речек. Укрепленные за́мки, несомненно, являлись остатками многочисленных господских поместий, или доменов. По Нершахи, большинство земель Бухарского оазиса принадлежало бухархудатам. По его же сведениям, сын царицы Хатун владел имением в окрестностях Бухары по каналу Мавлиан (Нершахи, 1897). Рассказывается также, что в исковом прошении наследников уже известного дехканина Хины перечислялись, кроме городских владений (1/4 шахристана), 75 селений, составлявших частную собственность (хас) (Гулямов, 1976, с. 43). В имение-домен Деваштича входили селения в верховьях Зеравшана (Боголюбов, Смирнова, 1963, с. 333–334), которыми управлял многочисленный штат. На какой-то, пусть и меньший, штат опирались и наиболее значительные дехкане. Раскопки крупных за́мков с привлечением данных письменных источников дают возможность составить представление о быте дехкан и структуре населявшего за́мок коллектива. Последний мог быть весьма многочисленным, включая различные категории его полноправных и неполноправных членов (Васильев, 1936, с. 6–7; Лившиц, 1962, с. 37, примеч. 70), а также слуг (в том числе военных) и рабов. Как и в древности, большая часть земель относилась к общинному сектору. Общинные селения располагались на государственных и частновладельческих землях. Эти сельские общины, как и городская пенджикентская, обозначались в документах с горы Муг одним и тем же термином (Лившиц, 1962, с. 95). В них упоминается и ряд лиц, относившихся, видимо, к местному самоуправлению: это «господин ката» (Б-17), скорее всего, сельский староста (заметим, что существовал и городской «господин ката») (Боголюбов, Смирнова, 1963, с. 95); «государь» — правитель селения и прилегавшей к нему сельской местности; и еще какой-то духовный и гражданский чин (Лившиц, 1962, с. 176–177). В структуре общин большую роль, как и в городах, как теперь представляется в свете документов с горы Муг и сасанидского Судебника Матакдан-и-хазар-Датестан, играли агнатические связи. Согдийская община, как полагает А.Г. Периханян, состояла из трехпоколенных больших семей (Периханян, 1983, с. 76). Крупный родственный коллектив выступает в документах об аренде мельницы (В-4), в «Брачном контракте» (Nov. 3 и Nov. 4), в документе о купле-продаже земли (В-8), где упоминается термин, обозначающий «род» (Лившиц, 1962, с. 17–45 и др.). Крупные семейные коллективы существовали в VII–VIII вв. и в Хорезме. В надписях на оссуариях из Токкалы упоминаются члены одной и той же семьи. Патрилинейный счет родства, упоминание не только отца, но и деда покойного, передача имени не в смысле отчества, но как имени главы рода позволяют думать, что речь идет о широкой родственной организации типа патронимии (Гудкова, Лившиц, 1967, с. 13–14). Полагают, что большая часть земледельцев в этот период были лично свободными (Якубовский, 1949, с. 31 и сл.; Смирнова, 1970а, с. 101), однако усилился процесс расслоения общины. Многообразие категорий сельского населения нашло отражение в существовании различных обозначавших его терминов. В согдийских текстах зафиксированы киштикары и кишаварзы, видимо какие-то категории свободных крестьян (Смирнова, 1970а, с. 101), а также арккарак — «работающий по принуждению батрак» (Лившиц, 1962, с. 159). Какой-то род зависимых лиц выражен термином «кедивар», приведенным Нершахи в рассказе о восстании Абруя в Бухаре, хотя этот вопрос еще нельзя считать полностью решенным. Так, В.В. Бартольд полагал, что кедивары — члены «кеды» — большесемейной общины, состоявшей из нескольких поколений родственников-агнатов, происходивших от одного предка по мужской линии (Бартольд, 1963, т. II (1), с. 209). О.И. Смирнова упоминает и другие источники, которые позволяют ей истолковать этот термин как обозначавший простого земледельца, не отличавшегося от мелких землевладельцев-крестьян (Смирнова, 1970а, с. 108). Вместе с тем, по С.П. Толстову, кедивары — зависимые люди типа клиентов, поскольку в тексте Нершахи говорится, что по возвращении бухархудатов «большинство жителей оазиса стало их кедиварами и слугами» (Толстов, 1948, с. 151). Таким образом, письменные источники, прежде всего документы с горы Муг, содержат очевидные свидетельства зависимости жителей некоторых селений от владельцев доменов: их посылали на повинностные работы; были какие-то люди, по-видимому лишившиеся земли и работавшие за плату. Помимо того, сельские общины выплачивали подати продовольствием и разного рода продуктами. Следовательно, в рассматриваемый период преобладали натуральная и отработочная ренты, а денежная еще не получила широкого распространения. Основным занятием населения в сельскохозяйственной стране, какой являлась раннесредневековая Средняя Азия, было земледелие. Полеводство сочеталось с возделыванием трудоемких садово-виноградных культур. Масштабы возделывания интенсивных культур сравнительно с зерновыми (и за их счет) рассматриваются как свидетельство товарности хозяйства. Вряд ли в рассматриваемое время оно было значительным, хотя и имеются, например, сведения о принадлежавших дехканам садах и участках, где специально высаживался виноград, может быть на продажу (Смирнова, 1970а, с. 94–95). В деревне, видимо, преобладало натуральное хозяйство, что подтверждают раскопки сельских поселений VI–VIII вв. в Хорезме и в горном Согде. Рассчитано, что запасов, имевшихся в кладовых домов Гардани Хисора, было достаточно без дополнительных закупок. Сходную картину дают раскопки селения Кум (Якубов, 1988, с. 10–18). Кроме того, в деревне процветали различные домашние промыслы: ткачество, изготовление лепной посуды, выделка кож и др. Это ограничивало связи деревни с городом. Деревенские ремесленники — кузнецы, гончары — снабжали своей продукцией и местное население. Статус их нам неизвестен, но не исключено, что, входя в состав земледельческой общины, они обменивались продуктами своего производства. Примеры такого типа поселений можно найти в Беркуткалинском оазисе в Хорезме, где, кроме ремесленной «пристройки» к за́мку Беркуткалы на окраине оазиса близ Большой Кырккызкалы (которую можно рассматривать как укрепленное поселение), работали гончары, а в некотором отдалении обнаружена железоплавильня, и, скорее всего, она не была единственной. Мастерская использовала местное сырье, которое, конечно, не могло служить основой для крупного железоделательного производства, но, надо полагать, было вполне достаточным для деревенских кузнецов и металлургов, удовлетворявших спрос покупателей ближайших селений оазиса, обходившихся без городского рынка. Домашние промыслы и ремесла получили развитие и в согдийских селениях, о чем можно судить по документам с горы Муг и археологическим данным, свидетельствующим о том, что даже в отдаленных глухих уголках Согда занимались ткачеством, гончарством и кузнечным делом (Крашенинникова, 1977, с. 71–72). Напомним, что и Нершахи упоминал в Бухарском Согде селения, где изготовляли определенные виды ткани, причем эти ремесла традиционно продолжали существовать там и много позже (Сухарева, Турсунов, 1982, с. 36–37). Развитие деревенских ремесел в районе Кеша объясняют малым количеством удобной пахотной земли или тем, что город не снабжал эти районы своими изделиями (Крашенинникова, 1977, с. 71–72; Лунина, 1984, с. 78). Обе версии справедливы. В качестве важнейшего показателя того, что город не являлся в ту пору по-настоящему «центральным местом» в хозяйственно-экономическом отношении, могут рассматриваться междеревенские ярмарки. О древности этого явления (в частности, в Шарге и Тавависе), как отметил А.М. Беленицкий (Беленицкий, 1973, с. 110–114), свидетельствует тот факт, что к ним были приурочены согдийские праздники (Смирнова, 1970а, с. 141). Существовали своего рода специализированные ярмарки, например, скотом торговали на границе с кочевыми районами и в Испиджабе. Межрайонные ярмарки и развитие междеревенской торговли естественны для того периода, когда город преимущественно обслуживал свои нужды и основной градообразующий слой — землевладельческая знать (как было в Пенджикенте) удовлетворяла свои потребности за счет поступлений из доменов. Более развитое и специализированное ремесло в крупнейших городах Средней Азии — столицах, а также в контактных зонах, где был большой спрос на ремесленные изделия со стороны кочевников, несомненно, должно было шире выходить за рамки собственно городов и проникать в сельскую местность. К сожалению, пока не ясен вопрос о специализации внутри той или иной отрасли ремесла, а это весьма существенное обстоятельство, отражавшее в целом уровень развития экономики, в том числе рыночных связей. Говорить о специализации по отдельным видам ремесла в горном Согде преждевременно из-за неполноты текстов документов с горы Муг (Беленицкий, Маршак, Распопова, 1980, с. 19). Встречающиеся в археологической литературе упоминания о возможности такой специализации, главным образом в гончарстве, отрывочны и противоречивы. Полагают, что в раннесредневековом Самарканде наблюдается специализация по видам продукции и наличие узкоспециализированных мастерских внутри различных ремесел (Ташходжаев, 1973, с. 102), однако проследить их удается только по материалам более позднего времени (Шишкина, 1973, с. 151). Вместе с тем в Канке, тоже большом городе, в гончарном квартале к югу от восточных ворот шахристана I, в двухъярусных печах обжигали разнообразную посуду (Абдуллаев, 1974, с. 83). Интересно, что и в средневековом Мерве специализация гончаров по изготовлению отдельных видов посуды не наблюдается. Возможно, эти явления отражают неравномерность экономического развития разных районов Средней Азии (если только все не объясняется недостатком сведений). Более убедительными кажутся суждения о возможности узкой специализации в строительном деле, достигшем высокого совершенства и характеризующемся большим разнообразием приемов. Б.А. Литвинский полагает, что сводчатые и купольные конструкции делали особые мастера. Действительно, в одном из документов с горы Муг упоминается, что некоему лицу было уплачено 100 драхм «за возведение крыши» (Лившиц, 1962, с. 182–183). Однако в целом проблему следует считать пока открытой. Исходя из этого, ясно, что торговый обмен между городом и деревней не мог быть особенно оживленным и ремесленники, видимо, обслуживали главным образом горожан. Именно в городе поэтому и было развито денежное обращение, причем наиболее активно деньги стали «вторгаться» в торговлю после VII в., который стал неким рубежом. Это явление зафиксировано как в Согде, так и в других раннесредневековых владениях, в частности в Хорезме. Видимо, монеты обращались в основном внутри уделов, определенное количество мелкой разменной монеты найдено в Согде, Пенджикенте (Смирнова, 1963, с. 130–134). Согдийские монеты, попадавшие в Кердер (Вайнберг, 1973, с. 123; 1977, Каталог, № 10-111), свидетельствуют о наличии торговых связей, пусть и ограниченных, между этими областями. Вместе с торговой и колонизационной деятельностью согдийцев в Семиречье и Чуйской долине там вошли в обращение согдийские монеты, причем, видимо, существовали купеческие корпорации, регулировавшие торговую деятельность отдельных владений. Внешняя караванная торговля Средней Азии играла, как и в предшествующие периоды, большую роль в экономике. Уже затрагивался вопрос в связи с проблемами урбанизации в данном регионе. Важное значение международной торговли отразилось в сообщениях письменных источников о далеких странах, в которые среднеазиатские купцы-хорезмийцы совершали путешествия на телегах с большими колесами (Бичурин, т. II, 1950, с. 314–316), о жителях владения Кан — согдийцах, которые «искусны в торговле» (Бичурин, 1950, т. II, с. 314). Среднеазиатские караваны достигали в ту пору пределов Китая, Византии, Ирана, приходили в восточноевропейские страны. Особенно важную роль в караванной торговле по Великому шелковому пути играли согдийцы. Согдийские поселения VII–VIII вв. известны к югу от озера Лобнор, в Турфане, Хами, Дуньхуане, Ордосе. Сложилась своего рода федерация согдийских городов, добивавшаяся большой свободы действий во внутренних и внешнеполитических делах. Федерация согдийских городов существовала и в Ордосе. Вместе с тем имеются сведения, что политическая автономия согдийцев в городе Чинанчканте в Турфанском оазисе была ограниченной. Из недавно опубликованных документов сделаны и важные выводы о социальной структуре населения согдийских колоний, перенесшего на новые территории привычные ему черты устройства жизни. Оживление торговли вызвало к жизни новые торговые пути и в Кашкадарьинском оазисе, которые также являлись участками внешних международных торговых трасс (Лунина, 1984, с. 76–77). Однако функционирование Великого шелкового пути и его ответвлений не только активизировало торговлю. Оно явилось катализатором обмена культурными ценностями, стимулировало распространение мировых религий (буддизма, христианства) в Центральной Азии и Китае, проявлялось во многих других аспектах жизни среднеазиатских владений. Продолжал функционировать и путь в Восточную Европу, причем важную посредническую роль в этих контактах с Северо-Западом играл Хорезм. Источники отмечают богатство этой страны янтарем, который мог поступать либо из Прибалтики, либо из Приднестровья (Бубнова, Половникова, 1984, с. 24). Караваны из Средней Азии на Каму и в Приуралье проходили через Оренбургские степи, где встречаются находки металлических предметов среднеазиатского происхождения (Ставиский, 1960, с. 117). О торговых контактах Хорезма с Приуральем свидетельствуют находки хорезмийских серебряных сосудов и своеобразных поясных бляшек. Видимо, в районе нынешней Перми располагался перевалочный пункт, ведший из Средней Азии к Белому морю, и есть предположение, что близ современных Архангельска, Мезени и Пустозерска могли существовать фактории среднеазиатских купцов (Смирнова, 1970, с. 188). Как и Согд, раннесредневековый Хорезм развивал в это время колонизационную деятельность (но несравненно меньших масштабов), шедшую в северо-западном направлении — в Приаралье, в Нижнее Поволжье. Основным предметом торговли был шелк, причем теперь уже среднеазиатское население научилось изготовлять прекрасные ткани, пользовавшиеся широким спросом. Важной статьей экспорта из Средней Азии, в частности из Согда, становятся стеклянные изделия. Одновременно в Центральную Азию и Китай поступали согдийские и иранские стеклянные сосуды и, как отмечается в литературе, «шелковый» путь становится и традиционным «стеклянным» путем. Из Китая, в свою очередь, везли на Запад шелк, лак, бумагу, бронзовые изделия, например, культовые изображения и зеркала. Большое количество сасанидских монет в некоторых южных районах Средней Азии и подражаний им, византийские монеты и некоторые предметы роскоши свидетельствуют об участии и важной роли этих стран в международной торговле на трассах Великого шелкового пути в VI–VIII вв. н. э. IV–VIII века являются важным этапом не только в развитии экономики и культуры Средней Азии. Этот период рассматривается и как существенный рубеж в истории этнических отношений в обширном Среднеазиатском регионе. Оба направления развития взаимосвязаны, и этнические процессы в значительной степени обусловлены экономическими сдвигами. Поэтому важное значение имеют особенности социальной структуры общества, степень его урбанизованности, так как города выступают в качестве своего рода катализаторов этнических процессов, мест концентрации иноэтнических групп населения. Отмеченные общие для регионов Средней Азии тенденции развития социально-экономических отношений вели к хозяйственно-культурной интеграции, особенно отчетливой в областях, близких в экологическом отношении. Экология оказывает активизирующее или же тормозящее влияние на ход этнических процессов, способствуя в определенных случаях сохранению этнических традиций (Неразик, 1990). В числе других факторов, влиявших на ход этнических отношений и процессов, отметим роль политической власти, в определенные периоды выступавшей на первый план. К таким моментам следует отнести распространение власти Западнотюркского каганата на среднеазиатские области. Не подлежит сомнению, что этот факт способствовал усилению процессов тюркизации местного населения и закладыванию основ средневековых этнических общностей-народностей. Политическое господство, несомненно, создавало условия для победы языка пришельцев, однако при определенных обстоятельствах. В частности, в эпоху Тюркского каганата внедрение тюркского языка в ираноязычную среду определялось количеством пришлого тюркоязычного населения. Полагают, что массовое переселение тюркских племен в Бухарский оазис отразил рассказ Нершахи о восстании Абруя. Но А.М. Мандельштам считал, что в долину Зеравшана и в Кашкадарьинский оазис тюркоязычные кочевники проникали в сравнительно небольшом количестве (Мандельштам, 1957, с. 358). Основываясь на сведениях хроники Табари, этот исследователь отметил значительно большие размеры их проникновения в горные и предгорные районы Северного Тохаристана и в особенности в Южный Тохаристан, куда они вторглись в конце VI в. В VIII в. тюрки-карлуки жили не только в Семиречье и Тохаристане, но и в Фергане (Якубовский, 1941, с. 8). Китайская хроника Таншу сообщает, что местный владетель был убит тюрками, захватившими столицу (Бичурин, 1950, т. II, с. 313). Табари упоминает под 737 г. карлуков в районе верхней Амударьи, в 90-е годы VIII в. — в Фергане, в Уструшане. В 40-е годы VII в. в Фергане установилась тюркская династия (Бичурин, 1950, т. I, с. 283, 356). Еще ранее тюрки вторглись в Чач, убили местного владетеля и поставили своего (там же). Города этой области управлялись феодалами, подчинявшимися Тюркскому каганату (Beal, 1884, p. 452). По-видимому, с этого времени (605–606 гг.) в Чаче прочно водворяется тюркская династия, причем изображения правителей на монетах, связываемых с этим регионом, имеют монголоидный тип (Смирнова, 1963, с. 35). Полагают, что проникновение тюрок в Фергану и Чач отличалось особенно большими масштабами и здесь имел место массовый переход к оседлости кочевников-скотоводов. Действительно, по археологическим данным, в это время в предгорных районах Чача появляются города с тюркскими названиями (Намудлыг, Абрлыг); застройка некоторых из них была рассредоточенной и включала, видимо, легкие постройки типа юрт (Буряков, 1975, с. 98). Эти процессы нашли отражение в материальной и духовной культуре населения. Произошли перемены в древних религиозных представлениях: древний тотем в образе барана сменился новым и изображался теперь в виде быка. Этот образ А.Н. Бернштам в свое время связывал с тюркскими родами в гуннских объединениях (Бернштам, 1951, с. 200; Буряков, 1986, с. 60). В Согде, по предположению О.И. Смирновой (Смирнова, 1963, с. 32), также появились тюркские правители. Тюрком был Чекин-Чур Билге, предшественник Деваштича, правивший между 694 и 708 гг. Имена тюркских правителей — Амукйан (по другому прочтению Гамаукайн) и Бидйан (Чекин-Чур Билге) — зафиксированы на монетах (Смирнова, 1963, с. 13). О.И. Смирнова предположила, что панчская династия была связана с одним из тюркских родов районов бассейна Сырдарьи (Смирнова, 1963, с. 32). Тюрки внедрялись в государственный аппарат Согда путем брачных связей, многие владетели Согда становились родственниками тюркских ханов, женились на дочерях западно-тюркских беков, выдавали своих дочерей за тюркских правителей. Есть сведения, что у представителей местного населения наряду с согдийским именем было и тюркское. Так, судя по брачному контракту (Nov. 9), Дугдонча имела и тюркское имя. Тюрком был фрамандор Деваштича Уттегин и т. д. Таким образом, видимо, появилось двуязычие, которое является показателем основных этнических процессов (Бромлей, 1973, с. 54–55). Так, О.И. Смирнова считает, что тюрки уже в первой половине VIII в. пользовались согдийским языком и письменностью, а часть их была двуязычной (Смирнова, 1963, с. 54). В данном случае мы имеем подтверждение теоретического положения, сводящегося к тому, что, если политическое преобладание не влекло существенных перемен в хозяйственно-культурной жизни местного населения, последнее сохраняло свой язык (Алексеев, Бромлей, 1969, с. 431). Напротив, вместе с согдийской колонизацией, расширением хозяйственно-культурных контактов согдийского населения согдийский язык и письменность получают распространение вне пределов собственно Согда, укрепив свои позиции на дальних международных трассах. По сообщению Сюань Цзяна (630 г.), название «Сули» («Согд») носила вся территория от Суяба до Кеша (Гафуров, 1972, с. 374). В.В. Бартольд, ссылаясь на сообщения Макдиси, Сюань Цзяна и Хой Чао, отмечает существование местных говоров и нескольких наречий согдийского языка в Бухаре (Бартольд, 1965, с. 265). Находки согдийской азбуки в цитадели Пенджикента, существование писцов в цитадели Мерва, где учащиеся осваивали согдийскую письменность, свидетельствуют о прочных ее позициях в раннесредневековой Средней Азии (Гафуров, 1972, с. 28). На диалекте согдийского языка говорили жители Уструшаны: остатки письменности этого времени обнаружены при раскопках Чильхуджры на деревянных дощечках с надписью тушью (Пулатов, 1975, с. 81–86). В Тохаристане сохранялся бактрийский язык, о котором дают представление надписи на росписях памятников Восточного Туркестана, часть которых относится к VII–VIII вв., и топонимика Афрасиаба (Лившиц, 1965, с. 164), имена в надчеканах на чаганианских монетах того времени, в письменных и других источниках (Ртвеладзе, 1988, с. 104–105). В Хорезме еще несколько веков после арабского нашествия сохранялся хорезмийский язык, относившийся к группе восточноиранских. Документы из архива Топраккалы II–III вв., Якке-Парсана и Токкалы VII–VIII вв. дают возможность судить о его развитии на протяжении всего времени (Гудкова, Лившиц, 1967, с. 11–12, 15–18). В Фергане, несмотря на массовое, как полагают, перемещение сюда тюрок, в VI–VIII вв. их язык не получил широкого распространения (Литвинский, 1976, с. 56). Так думает и Г.А. Брыкина, указывая на компактность оседания пришельцев (Брыкина, 1982, с. 133). Видимо, ферганцы продолжали в это время пользоваться своим языком. В городской среде по-прежнему большую роль играл согдийский язык. Во всяком случае, легенды на монетах согдийские. Впрочем, учитывая ярко выраженную «тюркскую струю» в материальной культуре и искусстве VI–VIII вв. на территории Средней Сырдарьи, некоторые исследователи полагают, что в это время происходит и тюркизация языка местного населения (Байпаков, 1988, с. 33). Отметим в заключение, что уже в VI–VIII вв. в среднеазиатские области проник западноиранский язык — фарси, получивший там распространение со времени арабского завоевания (Гафуров, 1972, с. 374). Важные сведения об этнических процессах, происходивших на территории среднеазиатского междуречья в эпоху раннего средневековья, могут дать антропологические материалы. Наиболее значительным явлением следует признать распространение в рассматриваемый периоднаселения с комплексом признаков антропологического типа среднеазиатского междуречья, в то время как в предшествующий период преобладали представители восточносредиземноморского типа (Ходжайов, 1983, с. 103). Среди населения Уструшаны выделяются и мезокранный средиземноморский расовый тип, и брахикранный тип среднеазиатского междуречья. В Хорезме, судя по значительному материалу из раскопок некрополя Миздахкана, фиксируется антропологический тип, переходный от восточносредиземноморского к типу среднеазиатского междуречья (Ягодин, Ходжайов, 1970, с. 194). Представляется чрезвычайно существенным, что примесь монголоидных элементов в материале миздахканского некрополя становится заметной именно в VI–VIII вв. н. э. По данным В.В. Гинзбурга и Т.А. Трофимовой, эта примесь к восточносредиземноморской расе усиливается во второй половине I тысячелетия н. э. и особенно хорошо выражена у раннетюркских кочевников. Вместе с тем следует подчеркнуть важное наблюдение Т.И. Ходжайова, отметившего, что не все местное среднеазиатское население в одинаковой степени смешивалось с тюрками. Наиболее интенсивно это происходило в скотоводческой среде (Ходжайов, 1980, с. 267), что объясняется в значительной степени более легкими и тесными контактами населения со сходными хозяйственно-культурными типами. Поэтому кажется закономерным, что в таких тесно связанных со скотоводством районах, как окраины Чача и Ферганы, в курганных могильниках первой половины I тысячелетия н. э. отмечается именно мезобрахикранный европеоидный тип с монголоидной примесью (Кавардан, Кумата) и речь идет в основном о типе среднеазиатского междуречья, лишь с отдельными вкраплениями восточносредиземноморского (Ходжайов, 1980, с. 98, 101). Большое значение для представления об основных направлениях этнических отношений эпохи раннего средневековья имеет тот факт, что в этот период и в последующие пришлое население оседало в сельских местностях, в то время как в древности — преимущественно в городских центрах (Ходжайов, 1986, с. 112–115; Аскаров, Буряков, Ходжайов, 1990, с. 61). Таким образом, и антропологические данные свидетельствуют об определенных этнических контактах и развитии этнических процессов в Среднеазиатском регионе в эпоху существования тюркских каганатов и формирования новых форм социально-экономических связей. В целом, однако, население древнеземледельческих районов Средней Азии было европеоидным, а тюркизация населения в языковом отношении, как полагают, шла активнее, нежели монголизация антропологического типа. Впрочем, древние языки местного населения в рассматриваемый период еще стойко сохраняли свои позиции, и это обстоятельство представляется весьма существенным. При исследовании материальной и духовной культуры как источника для реконструкции этнокультурных процессов и этнических отношений чрезвычайно важным представляется сопоставление археологических комплексов из одного и того же региона на хронологически разных этапах общественно-культурного развития. Такое сопоставление может с наибольшей отчетливостью показать преемственность традиций и роль инноваций на каждом данном этапе, и уже результатом следующего исследования будет установление причин возникновения инноваций — лежали ли в их основе развитие производительных сил, этнокультурные контакты или же прямая инфильтрация пришлого населения. Факты прямых этнических перемещений и взаимодействий устанавливаются главным образом на основании археологических материалов. Так, в VI–VIII вв. фиксируется движение обитателей Джетыасарского урочища, в низовьях Сырдарьи, вверх по реке, в область среднесырдарьинских степей и южнее. В VII–VIII вв. джетыасарцы переместились в дельту Амударьи, где возник ряд крупных поселений кердерской культуры (Куюккала, Курганчакала и др.). Полагают, что эти перемещения были вызваны изменением условий водопользования, но не исключено, что толчком послужило включение этих областей в систему тюркского каганата (Андрианов, Левина, 1979, с. 96–97). Что же касается этнокультурных контактов, то в рассматриваемый период, по археологическим данным, в пределах важнейших среднеазиатских областей прослеживается несомненная преемственность форм материальной и духовной культуры, проявляющаяся в специфических чертах керамики, орнаментации, интерьера жилища (например, типа очагов) и других признанных «этнических выразителей». Особенно отчетливо эта преемственность культурных форм выражена, пожалуй, в наиболее урабанизированных в прошлом древнеземледельческих областях, таких, как Бактрия-Тохаристан (Аннаев, 1984, с. 15; 1986, с. 10; Ртвеладзе, 1983, с. 76; Литвинский, 1986, с. 55 и сл.). Вместе с тем древние традиции устойчивы и в регионах со специфической экологией (Хорезм), изолированных от других песчаными пустынями, где пережитки элементов древней культуры дожили почти до настоящего времени и фиксировались уже В.В. Бартольдом (Неразик, 1990, с. 5–6). Эта преемственность в области культуры, безусловно, является отражением и преемственности в развитии этнических общностей. С другой стороны, в VI–VIII вв. отмечается такое явление, как складывающаяся на широкой территории центральных областей Мавераннахра общность форм материальной и духовной культуры с заметным воздействием согдийских эталонов в градостроительстве, архитектуре и архитектурном декоре, терракоте, отдельных элементах керамических комплексов (Массон В., 1977, с. 3–7). Неисчерпаемым источником для исследования затронутых сюжетов являются настенные росписи (живопись Афрасиаба, Пенджикента и Балалыктепе) и коропластика, в которых распознаются представители разных этносов, в том числе тюрок, согдийцев, бактрийцев (Альбаум, 1975, с. 34–35). Специфически этническими признаками могут являться прическа персонажей, украшения (например, серьги), детали одежды (Лобачева, 1979, с. 24–25; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 116). Этот мир изобразительного искусства показывает тесное сосуществование местного, в частности согдийского, населения и тюркского. Упомянем в этой связи находку на городище Канка терракотовой плитки и бронзовой бляшки, датированных VI–VII вв., с изображением всадников, причем один из них одет в типично кочевнический халат с двусторонними отворотами. По справедливому мнению исследователя, это лишний довод в пользу заключения об интенсивности процессов тюркизации в областях на Средней Сырдарье. Говоря о процессах этнокультурной интеграции в центральных областях Мавераннахра, упомянем и распространение в VI–VIII вв. в Чаче, Согде, Уструшане культовых построек, своего рода домашних и общественных капелл с суфами по стенам и подиумом для переносного жертвенника в центре, свидетельствующих не только об общности форм материальной культуры, но и о распространении сходных верований и сходных по типу архитектуры культовых построек. Этнокультурные контакты, способствуя синтезу культур, несомненно, взаимообогащали эти последние, вырабатывая новые раннесредневековые эталоны. Отраженный в археологических материалах профессионализм строителей, архитекторов, художников, ваятелей и резчиков, освоивших последние достижения стран Востока, распространение грамотности, широко вошедшей в быт населения, свидетельствуют о высоком уровне раннесредневековой культуры Средней Азии. Именно в это время складываются наиболее очевидные прототипы некоторых форм материальной культуры, которые станут характерными уже в последующие эпохи и прочно войдут в культурный фонд местного населения. Так, генезис архитектурных типов таких сооружений, как медресе и караван-сараи с четырехайванной композицией и центрические мавзолеи, уходит в эпоху раннего средневековья. В это время формируются и два типа народного жилища: первый — анфиладный, сохранившийся до наших дней в Чимкентском районе, и второй, ставший прообразом южноузбекских хорезмских хаули. Широкое распространение в архитектуре получила дворово-айванная композиция, особенно ярко в эту эпоху выраженная в постройках соседнего Сасанидского Ирана, контакты с которым прослеживаются как в гражданском, так и, в большей мере, в культовом зодчестве. Имеются в виду храмы и святилища огня, известные в IV–VIII вв. в Средней Азии. Широкий размах международных связей способствовал формированию религиозного синкретизма и сосуществованию на среднеазиатской территории различных религий и культов, среди которых большое место в южных районах занимает буддизм. Полагают, что организация монастырей, открытых в южных районах, следовала индийским образцам. В храмах же и святилищах отразились поиски новых архитектурных типов. Некоторое распространение получило христианство несторианского толка; известны церковные постройки (в Ак-Бешиме, Хароба-Кошук близ Мерва). Судьбы и роль зороастризма в раннем средневековье выявлены не в полной мере: оплотом этой религиозной системы как будто бы по-прежнему остается Хорезм, хотя и там происходят большие перемены и, может быть, в определенные периоды на первый план выступают местные культы. На согдийской почве зороастризм, обладая чертами сходства с ортодоксальным иранским, был пронизан местными верованиями, элементами индуизма и, в меньшей мере, буддизма. Обширный раннесредневековый пантеон божеств устанавливается по кратким известиям письменных источников, настенной живописи и терракоты. Исследователи Пенджикента реконструировали своего рода программу росписей, выявив иерархию жанров и определив персонажи. Высказано справедливое мнение о сходстве пантеона VI–VIII вв. и некоторых черт иконографии Согда, Хорезма, Уструшаны (четырехрукая богиня на льве, божество в образе верблюда). Установлена и близость отдельных обрядов, например в живописи — композиция с оплакиванием усопшего. В целом перед нами сложнейшая и важнейшая эпоха, во многом завершающая древний этап истории Средней Азии и в то же время открывающая новую ее страницу.Иллюстрации

Таблица 1. Памятники Северного Хорасана. 1 — Мерв (городища Гяуркала и Эрккала); 2 — динамика развития поселения Дурнали (а — позднеантичное — раннесасанидское время: 1 — канал, 2 — укрепленное поселение; б — позднесасанидское время: 1 — канал, 2 — раннее поселение, 3 — вновь возникшее поселение; в — раннеарабское время; 1 — канал, 2 — рабат, 3, 4 — территория поселения); 3 — Хароба-Кошук — предполагаемая христианская церковь; 4 — городище Хосровкала; 5 — Большая Нагимкала. План и реконструкция фасада; 6 — здание общественного назначения (храм?) на территории Гяуркалы; 7 — наус. Мервский некрополь; 8 — здание общественного назначения на территории Гяуркалы; 9 — Акдепе. Храм огня. План VI–VII вв.; 10 — Гёбеклы. Здание на вершине центрального бугра. III–IV вв.; 11 — ступа и сангарама. Городище Гяуркала. V–VII вв.; 12 — Чильбурджа. Городские стены. План и разрез. V–VII вв.; 13 — Малая Кызкала. План первого и второго этажей; 14 — городские стены Мерва (Гяуркала). Позднесасанидский период. План и разрез.

Таблица 1а. Предметы искусства и быта раннесредневекового Хорасана. 1, 2 — женские терракотовые статуэтки раннесасанидского времени; 3, 4 — мужские терракотовые статуэтки сасанидского времени; 5 — терракотовая статуэтка всадника позднесасанидского времени; 6-11 — оттиски гемм на буллах из Акдепе; 12, 13 — монета правителя Мерва середины III в. н. э. (мервский всадник); 14–19 — геммы-инталии из раскопок некрополя Мерва (Байрамалийский некрополь); 20 — оборотная сторона монеты Шапура II, выпущенной на монетном дворе Мерва; 21, 22 — оссуарии из некрополя Мерва; 23 — расписная ваза из буддийского святилища (Гяуркала). IV–V вв. н. э.; 24 — глиняная табличка с изображением Бодисатвы из буддийского святилища (Гяуркала); 25–43 — керамика III–IV вв. н. э.; 44–56 — керамика V–VII вв. н. э.

Таблица 2. Культура Хорезма в IV–VI вв. н. э. (кушано-афригидский период). 1 — городище Топраккала, план; 2 — городище Аязкала, план; 3–5, 8-18, 20 — керамические сосуды; 6, 7, 19 — крышки; 21 — курильница; 22 — шашлычница; 23–28 — бусы; 29, 38 — привески; 30–34 — пряжки; 35, 36 — пряслица; 37 — зооморфный сосудик; 39, 40 — антропоморфные фигурки; 41 — голова идола; 42–45 — ложечки; 46 — наконечник стрелы; 47, 48 — ножи; 49, 50 — накладки сложносоставного лука; 51 — кубок; 52 — туалетный сосудик. 3-22, 35–37, 39, 40 — глина; 23–25, 27, 28 — камень; 26 — стекло; 29, 31–34, 44, 45 — бронза; 38, 42, 43, 49, 50 — кость; 41 — алебастр; 46–48 — железо; 51 — серебро; 52 — глазурованый фаянс.

Таблица 3. Беркуткалинский и Якке-Парсанский оазисы. 1–3, 5–8, 11–14, 17 — Беркуткалинский оазис; 4, 9, 15 — Якке-Парсанский оазис. 1 — поселение 32; 2 — за́мок 82; 3 — Беркуткала; 4 — дворец возле Аязкалы 2; 5 — кладка тромпа и стены в за́мке 36; 6 — усадьба 28; 7 — поселение 30; 8 — кладка тромпа в полукуполе за́мка 30; 9 — Безымянный за́мок (черными кружочками обозначены ямки для столбов, поддерживавших крышу и навес двора); 10 — Безымянный за́мок (аксонометрия); 11 — очертания свода в помещении донжона (поселение 30); 12 — конструкция и очертания свода в усадьбе 28; 13 — арка в усадьбе 64; 14 — усадьба 68; 15 — усадьба «А»; 16 — усадьба 19; 17 — усадьба 14.
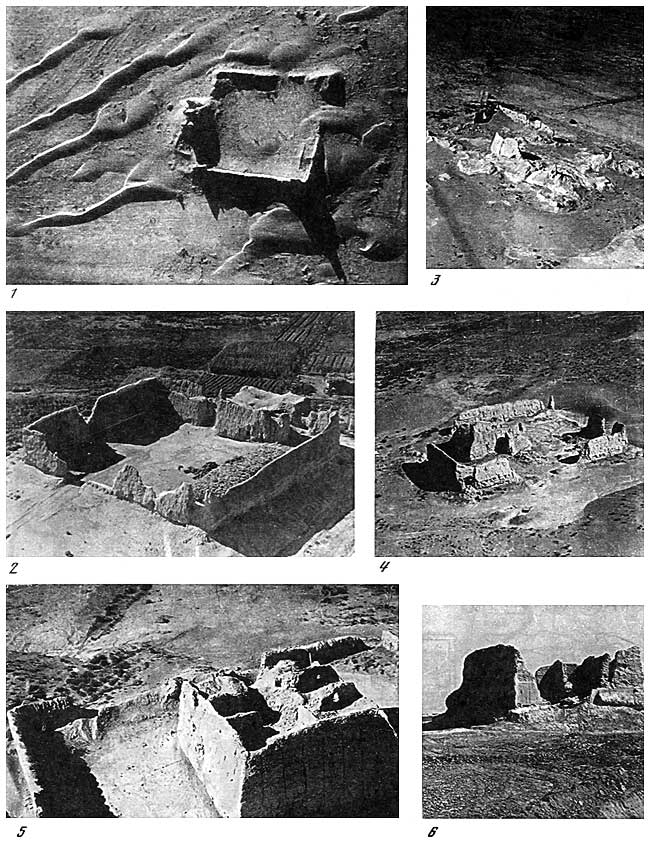
Таблица 4. Памятники Беркуткалинского оазиса. 1 — усадьба 13; 2 — за́мок 14; 3 — за́мок 11; 4 — усадьба 9; 5 — за́мок 10; 6 — за́мок 92.

Таблица 5. Хорезмийские раннесредневековые за́мки. 1 — лестница в углу за́мка Якке-Парсан; 2 — кладовая с хумами; 3 — Якке-Парсан (вид с воздуха); 4 — план Якке-Парсана; 5, 6 — реконструкция парадных помещений в донжоне Тешиккалы; 7 — донжон Тешиккалы (реконструкция); 8 — деревянная печать; 9 — глиняный фриз из Тешиккалы; 10 — деревянный гребень; 11 — бронзовая печать из усадьбы 9; 12 — медная монета Чегана; 13 — донжон Тешиккалы (аксонометрия); 14 — бронзовый туалетный сосудик; 15 — каменная фигурка из верхнего слоя; 16, 19 — образцы тканей; 17 — костяной нож; 18 — кожаные ножны; 20 — разрез через кладовую и жилое помещение у южной стены Якке-Парсана; 8, 10, 12, 14–19 — из Якке-Парсана.
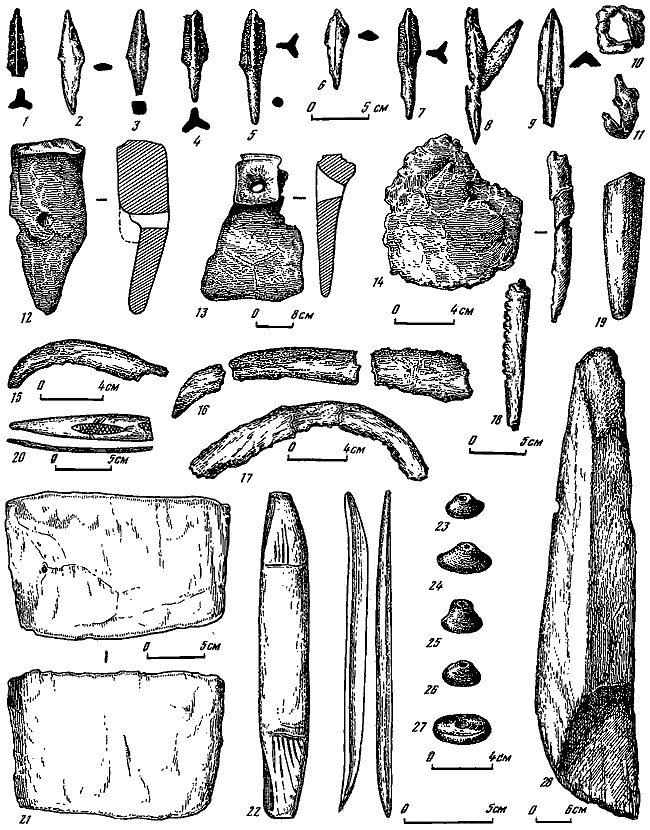
Таблица 6. Оружие и орудия труда. Хорезм VII–VIII вв. 1–9 — наконечники стрел; 10 — кольцо; 11 — крючок; 12 — топор-тесло; 13 — кетмень; 14 — наральник; 15–17 — серпы; 18 — гребень, использовавшийся при прядении; 19, 20 — кочедыги (для плетения сетей); 21, 28 — лопаты; 22 — накладки от лука; 23–27 — пряслица. 1–8, 10, 16, 17, 19, 21 — железо; 9, 15, 18, 20, 22 — кость; 23–27 — керамика; 28 — дерево.
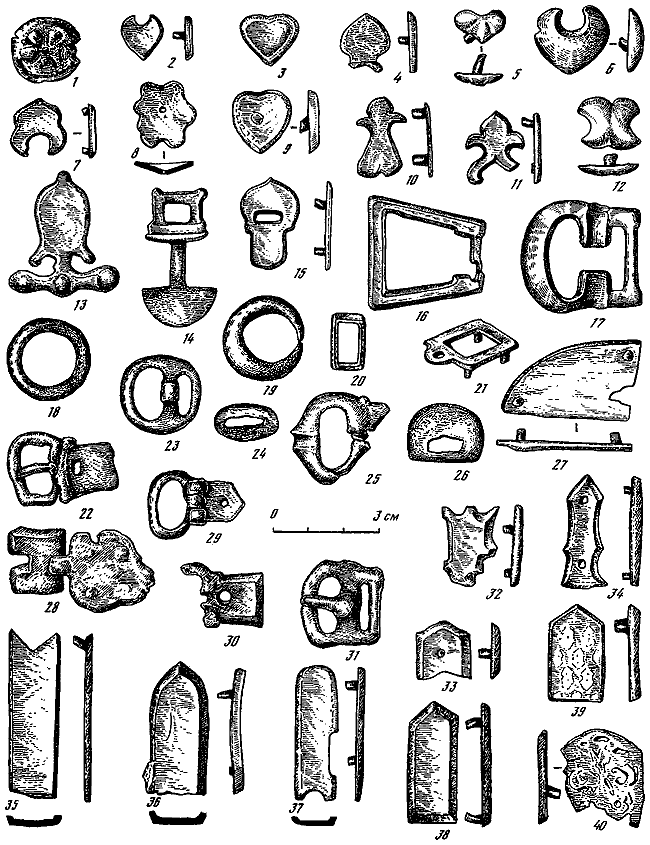
Таблица 7. Металлические изделия. Хорезм VII–VIII вв. 1-13, 15, 20, 21, 24, 26 — наременные бляшки, обоймы; 14, 27 — фрагменты бронзовых котлов; 16, 17, 19, 22, 23, 25, 28–31 — пряжки; 18 — кольцо; 32–40 — наременные наконечники.

Таблица 8. Керамика. Хорезм VII–VIII в. 1, 2, 6 — лепные горшки; 3, 10–14 — кувшины; 4, 5, 7, 8 — кружки; 9 — небольшой сосудик; 15 — хумча; 16 — хум.
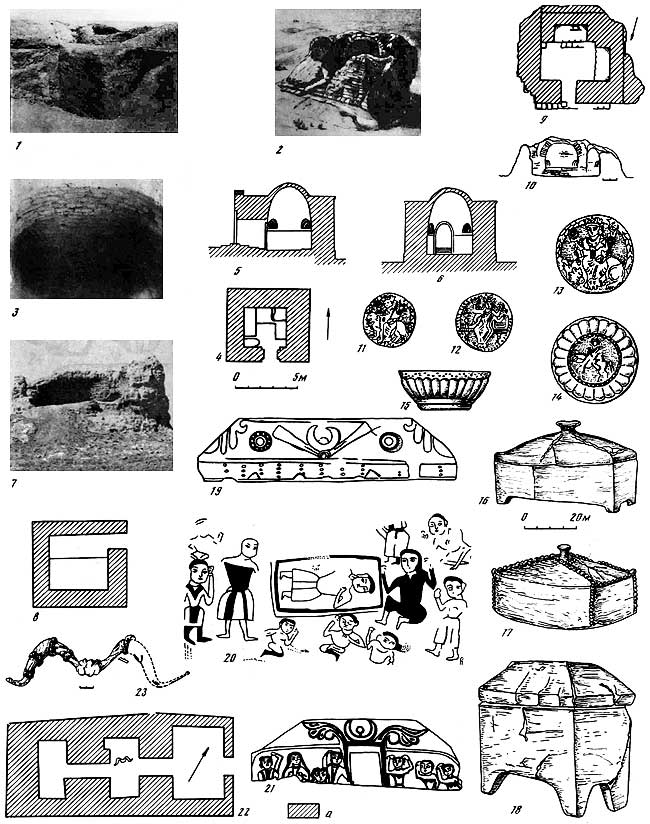
Таблица 9. Культовые постройки и предметы. 1–4 — святилище огня в Якке-Парсанском оазисе (за́мок 2); 5, 6 — святилище огня в Якке-Парсанском оазисе (реконструкция); 7, 8 — дом 115 в Беркуткалинском оазисе; 9, 10 — дом 50 в Беркуткалинском оазисе; 11–15 — изображения на серебряных хорезмийских чашах; 16–18 — оссуарии VI–VIII вв.; 19–21 — росписи на оссуариях из Токкалы; 22 — план храма на городище Топраккала; 23 — рога из храма. 11–15 — серебро; 16, 17 — керамика; 18 — алебастр; 23 — рог, позолоченная бронза.

Таблица 10. Хорезмийские оссуарии из некрополя Миздахкана (1–7). 2 — оссуарий с изображением идущего льва и растений, штамп; 5 — оссуарий со сценами оплакивания, роспись; 6 — навершие крышки оссуария в виде птички; 7 — оссуарий с многофигурной композицией, роспись. 1, 2, 4, 6 — глина; 3, 5, 7 — алебастр.
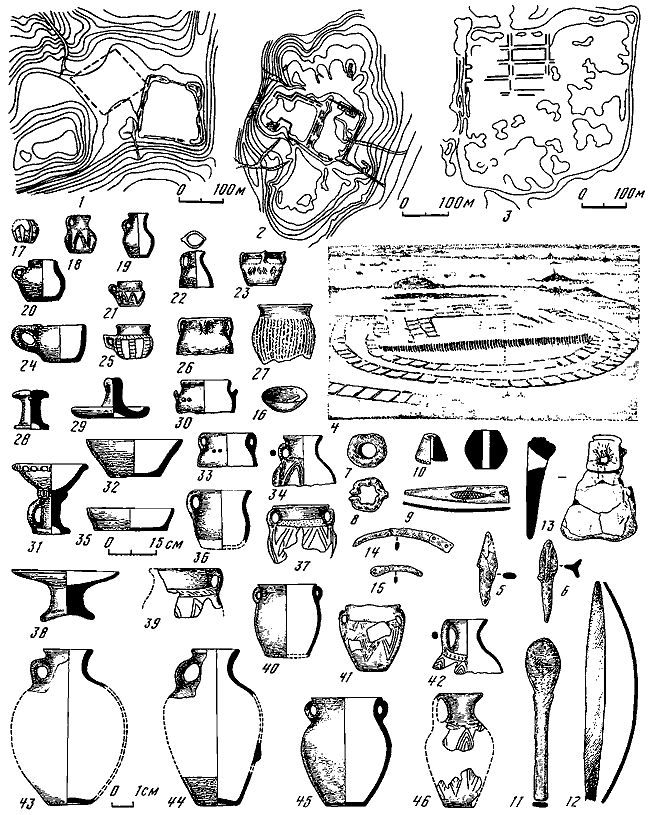
Таблица 11. Кердерская культура VII–VIII вв. 1 — план Куюккалы; 2 — план Токкалы; 3 — план Курганчакалы; 4 — основание юрты (Куюккала); 5, 6 — наконечники стрел; 7 — кольцо для стрельбы из лука; 8 — пряжка; 9, 12 — кочедыг для плетения сетей; 10, 47 — пряслица; 11 — ложечка; 13 — кетмень; 14, 15 — серпы; 16 — чашечка; 17–46 — керамика. 5–8, 13–15 — железо; 16 — бронза.

Таблица 12. Планы городищ, крепостей, за́мков раннесредневекового Согда. 1 — Пайкенд; 2 — Турткуль Ургутский; 3 — Чуянчи Каттакурганский; 4 — Кафыркала под Самаркандом; 5 — Туртайгир; 6 — Фринкент; 7 — Культепе Пастдаргомская; 8 — Кульдор; 9 — Дурмен.
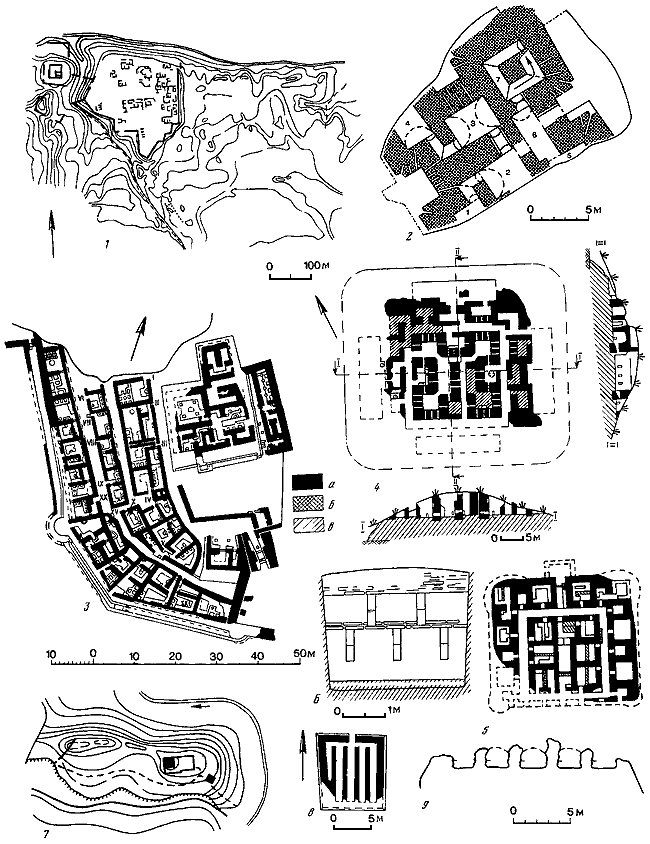
Таблица 13. Поселения раннесредневекового Согда. а, б — стены сооружений из сырцовых кирпичей; в — полы. 1 — Пенджикент с окрестностями; 2 — Фильмандар V в.; 3 — Гардани-Хисор (поселение и за́мок владетеля); 4 — усадьба Кафыркала под Самаркандом. План и разрезы; 5 — Аултепе; 6 — Кафыркала под Самаркандом. Продухи в помещении со следами огня; 7 — за́мок на горе Муг; 8, 9 — за́мок на горе Муг, план и разрезы (по Ворониной).

Таблица 14. Типы застройки раннесредневековых населенных пунктов. 1 — Айтугды. План сохранившейся части за́мка с пандусным подъемом ко входу в него; 2 — за́мок Парматбаба. План и разрез угловой башни с прилегающей поздней застройкой; 3 — Культепе нахшебский. План раскопанного участка поселения; 4 — Еркурган. Участок квартала гончаров с печью; 5 — Варахша. Дворец (а — стены сооружений первоначального периода, б — стены сооружений последующих периодов, в — городские глинобитные и сырцовые стены, г — поздние стены, д — полы обмазанные алебастром, е — настил из жженого кирпича); 6 — Еркурган. План раскопанного участка дворца.

Таблица 15. Памятники Бухарского Согда. 1 — Сеталак I. Сводный план; 2 — Сеталак I. План здания первого строительного периода; 3 — Сеталак I. Реконструкция здания первого строительного периода; 4 — Сеталак I. План здания второго строительного периода; 5 — реконструкция здания второго строительного периода; 6 — Сеталак. План здания третьего строительного периода (а — первый период, б — второй и третий периоды, в — возвышенная часть второго строительного периода, г — четвертый период, д — пятый период); 7 — реконструкция здания третьего строительного периода; 8, 9 — Сеталак I, бронзовые булавки; 10 — Сеталак I. Разрез свода помещения 9; 11 — железный нож (Кызылкыр II, дом 2); 12 — железный предмет (Казылкыр II, дом 2); 13, 14 — наконечники стрел (Кызылкыр II, дом 2); 15, 16 — Казылкыр II, костяные предметы; 17 — бронзовое шило; 18, 19 — перстни железные; 20 — колокольчик (Кызылкыр II, дом 2); 21 — железная пряжка; 22 — железный браслет (Кызылкыр); 23 — Кызылкыр I. План здания первого и второго строительных периодов; 24 — Кызылкыр I. Сводный план здания (а — сооружение первого строительного периода из пахсы, б — забутовка, в — пахса второго строительного периода, г — суфа, д — внешние стены второго строительного периода, е — помещение третьего строительного периода); 25 — монета Гиркода (Кызылкыр II, дом 2).

Таблица 16. Усадьбы Кафыркала под Самаркандом и Аултепе Кашкадарьинское. Керамика. 1 — усадьба Кафыркала (план с элементами реконструкции); 2 — каменная подвеска (Кафыркала); 3, 4 — керамические пряслица V–VI вв.; 5–7, 14 — керамика второго периода обживания усадьбы Кафыркала (VI в); 8, 16, 21, 22 — керамика периода использования усадьбы Кафыркала под наус (VII в.); 9 — Аултепе; 10 — кувшин из усадьбы в окрестностях городища Дурмен (VII в.); 11 — очажная подставка (V–VI вв.); 12, 13 — грузила (V–VI вв.); 15 — кувшин V–VII вв. Кафыркала; 17 — курильница (Кафыркала); 18 — курильница (Еркурган); 19 — сковорода вв.); 20 — котел (V–VI вв.).

Таблица 17. Пенджикент. 1 — план за́мка и дворца правителя на цитадели (первая четверть VIII в.); 2 — аксонометрия дворца; 3–5 — архитектурные мотивы росписи.

Таблица 18. Жилища Пенджикента первой половины VIII в. 1 — план самого крупного домовладения города и базара при нем; 2 — вид с севера на двор (помещение 75), лавки и мастерские (помещения 59, 71, 77, 78, 79); 3 — вид с запада на двор, пандус и кухню (помещение 80); 4 — вид с севера на помещения 10, 21, 30; 5 — Пехлевийская надпись на северной стене помещения 21.

Таблица 19. Жилище Пенджикента. VIII в. 1 — план объекта XXI; 2 — аксонометрия жилища с парадным помещением на втором этаже; 3 — аксонометрия жилища с парадным помещением, зернохранилищем и обширным двором (объекты XXIII–XXIV); 4 — реконструкция привратной части жилища (см. 3).

Таблица 20. Жилище Пенджикента. 1 — аксонометрия полностью раскопанного жилища (объект XXII, помещения 82, 84); 2 — план квартала жилищ рядовых горожан (объект XXII); 3 — аксонометрия рядового жилища (объект XXIII); 4 — лестница на второй этаж в рядовом жилище (объект XXII); 5 — план жилища VII в.
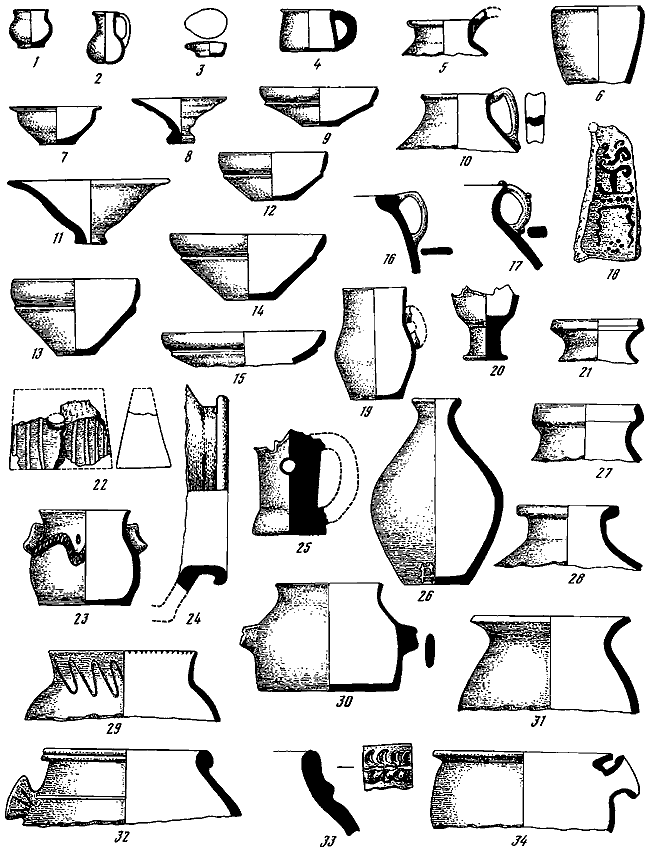
Таблица 21. Керамика из поселений Сеталак и Кызылкыр I–II. 1 — горшочек; 2 — кувшинчик; 3 — светильник; 4, 19 — кружки; 5, 10 — кувшины с ручками; 6 — корчага баночной формы; 7–9, 11–15 — чаши; 16, 17, 23, 30, 32 — горшки с ручками; 18 — изображение стилизованной тамги на стенке сосуда; 20 — кубок; 27, 26–28 — кувшины без ручек; 22 — очажная подставка; 24 — фляга; 25 — курильница; 29 — большой горшок; 31 — корчага; 33 — горло хума; 34 — горшок с носиком-сливом. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 20, 22, 24, 27, 29–31, 34 — Кызылкыр II; 3, 5, 6, 14–17, 25 — Сеталак I; 8, 11, 13, 18, 21, 28 — Сеталак II; 19, 23, 26, 32, 33 — Кызылкыр I.

Таблица 22. Керамика Пенджикента V–VI вв. 1–3, 5, 6 — сосуды V — начала VI в.; 4, 7-12, 14–16, 20 — сосуды VI в.; 13 — гончарный брак; 17–19 — лепные сосуды.

Таблица 23. Керамика Пенджикента. 1, 2, 4, 7 — сосуды V — начала VI в.; 3, 5, 6, 8-12, 14, 15 — сосуды VI в. (8, 12 — лепные); 13, 16 — сосуды второй половины VI в.

Таблица 24. Керамика Пенджикента. 1–3 — сосуды V в.; 4, 5 — подставки под котлы; 6–9 — сосуды VI в. (7, 8 — лепные).

Таблица 25. Керамика Пенджикента. 1–5, 9, 12 — сосуды VII в.; 6–8, 10, 11, 13–17 — сосуды VIII в. (7-11, 13, 14 — лепные).

Таблица 26. Керамика Пенджикента. 1 — сосуд VI в., 2–7, 9, 10, 14–16 — сосуды VII в.; 8, 11–13 — сосуды конца VII — первой четверти VIII в.

Таблица 27. Керамика Пенджикента VIII в. (1-17).

Таблица 28. Пенджикент. Предметы вооружения и быта VII–VIII вв. 1 — меч; 2–8 — наконечники стрел; 9 — наконечник копья; 10 — панцирная пластина; 11 — деталь кресала; 12 — пряжка от стрелкового пояса; 13 — кольца кольчуги; 14 — перекрестие меча; 15–17 — костяные срединные накладки на лук; 18 — деталь портупеи меча; 19 — стиль; 20 — ложка; 21 — деталь замка; 22 — ключ; 23 — сосудик; 24, 27 — зеркала; 25 — ажурная решетка; 26 — ручка от зеркала; 28 — кувшин; 29, 30, 32 — ножи; 31 — светильник. 1-14, 29, 30, 32 — железо; 18–20, 22–28, 31 — бронза.

Таблица 29. Пенджикент. Детали поясного набора и украшения. VII–VIII вв. 1–8 — пряжки; 9-14, 17–21, 28 — накладные бляшки; 15, 16, 22, 23, 26, 27, 29, 30 — наременные наконечники; 24, 25 — пронизки (вид с двух сторон); 31, 32 — «самоварчики»; 33, 40 — брактеаты; 34, 35, 49, 50, 53, 60 — перстни с изображениями на щитке; 36–38, 45, 46 — серьги; 39 — амулет-идольчик; 41 — печать и отпечаток с нее; 42 — бубенчик; 43, 44 — украшения ножен меча; 47, 48 — матрицы; 51 — кольцо с геммой; 54 — ложечка, 55 — печать; 56 — весы; 57–59 — кольца. 1-32, 34, 35, 37, 39, 42–50, 52, 53, 56–60 — бронза; 33, 36, 40 — золото; 41 — камень; 51, 54 — серебро.

Таблица 30. Пенджикент. Терракоты. 1, 6, 11 — бог, атрибутом которого является верблюд, возможно «Вашагн»; 2, 7, 12(?) — «Срош»; 3, 8, 9, 13 — божества с кифарой или лирой; 4, 10 — богиня в шлеме Афины; 5 — всадник; 14–16, 20, 21, 23 — демонические существа с львиными ногами; 17, 18 — барабанщики; 19 — бог с трезубцем; 22 — Нана, сидящая на льве. 1–4, 6-23 — VI–VII вв.; 5 — VIII в.; 17, 18 — V в.

Таблица 31. Пенджикент. Храмы и распределение культовых изображений. 1 — распределение культовых изображений и текстов (а — христианский текст; б — мусульманский текст; в — иранский зороастрийский текст; г — буддийский (?) текст; д — пристенные камины-алтари; е — различные культовые изображения; ж — богиня с солнцем и луной; з — бог, подобный индийскому Шиве; и — бог на троне в виде верблюда; к — чета богов на троне с протомами верблюда и горного барана); 2 — планировка храма I к концу VI в.; 3 — целла храма II с остатками подъемно го механизма; 4 — вариант реконструкции подъемного механизма.

Таблица 32. Пенджикент. Живопись. 1 — сказка о герое, которому помогают медведь, волк и шакал (объект VI, помещение 41); 2 — почитаемые предки (?) (объект XXI, помещение 4); 3, 4 — сцена осады, цитадель, дворец, тронный зал (первая четверть VIII в.); 5 — два эпизода из эпоса (объект XX, помещение 1); 6 — сирины (объект XXIV, айван, помещение 7); 7 — пирующий (объект I, западный двор, VII в.); 8 — богиня (объект I, помещение 5/6, V — начало VI в.); 9 — фраваши (объект X, помещение 12, VII в.).
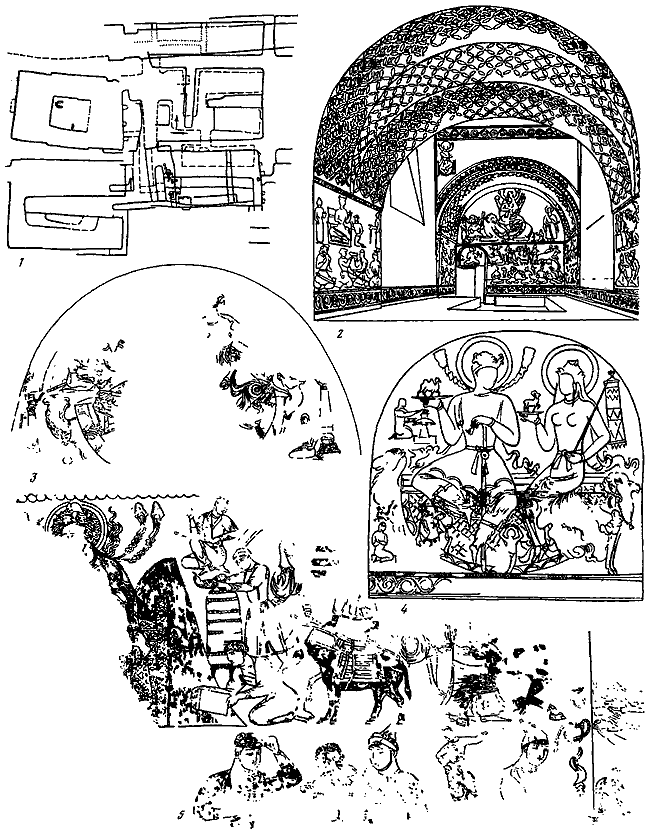
Таблица 33. Пенджикент. Живопись. 1 — план жилища (объект XXV); 2 — помещение 28, вид с юга. Реконструкция; 3 — роспись южной стены (помещение 2, объект XXIV); 4 — южная стена; 5 — увоз урожая и пир (северная стена помещения 28, объект XXV). Первая четверть VIII в.

Таблица 34. Живопись и резное дерево Пенджикента. 1 — скульптура, резное дерево; 2 — ниша с троном. Реконструкция; 3 — изображение Будды на северной стене помещения 28 (объект XXV). Первая четверть VIII в.
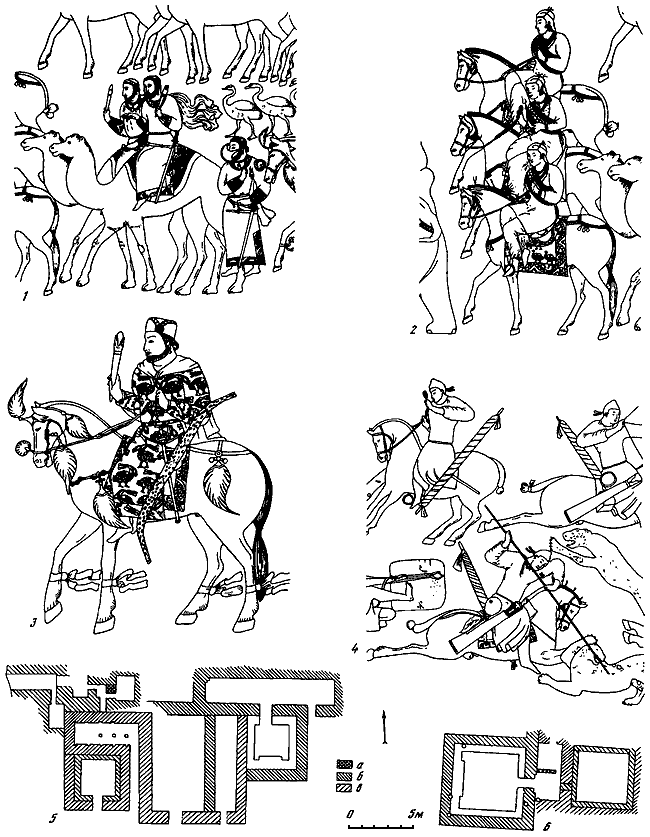
Таблица 35. Живопись Самарканда. 1 — всадники на верблюдах; 2 — всадницы: 3 — глава посольства; 4 — сцена охоты; 5, 6 — планы сооружений, где открыта живопись (а — первый строительный период, б — второй строительный период, в — третий строительный период).

Таблица 36. Оссуарии Согда. 1, 3, 6, 7, 12, 15, 16 — Самарканд; 2 — Муллакурган; 4 — Биянайман; 5 — Пенджикент; 8 — Сарытепе; 9, 10 — Саильтепе; 11 — Тургаймазар; 13 — Уэкишлак; 14 — Хирмантепе. 1-12, 15, 16 — Самаркандский Согд; 13, 14 — Южный Согд.

Таблица 37. Поселения Чача. 1 — тепе у совхоза им. Мичурина; 2 — Турткультепе; 3 — Турткультепе 2; 4 — Культепе; 5 — Ишкурган; 6 — Каунчитепе; 7 — Икматепе; 8 — Мингурюк; 9 — Шаушукумтобе.

Таблица 38. Каика. Планы сооружений. 1 — цитадель; 2 — домашний храм; 3 — за́мок в шахристане; 4 — цитадель, аксонометрия; 5–7, 9-13 — разрезы; 8, 14 — раскоп на южной стене шахристана III. а — стена; б — комбинированная кладка (кирпичи и пахсовые блоки); в — кладка стен из сырцовых кирпичей; г — камни.

Таблица 39. Канка. 1 — план храма; 2-14 — буллы из храма.

Таблица 40. Раннесредневековые культовые памятники Бинкета. 1 — план Актепе Чиланзарского (первый период); 2 — план Актепе Чиланзарского (второй период); 3 — Актепе. Реконструкция храма первого периода; 4 — ритон VIII в. из Ханабада; 5 — Актепе Чиланзарское. Реконструкция храма второго периода; 6 — амулет V–VI вв.; 7 — Актепе, очажная подставка в виде головы быка; 8 — Актепе, слив в виде головы быка; 9 — Актепе Чиланзарское. План храма. VII–VIII вв.; 10 — Кугаиттепе. План культовой площадки. а — стена из пахсы и сырцовых кирпичей, второй и третий периоды; б — стена здания первоначального периода.

Таблица 41. Раннесредневековые памятники Бинкета. 1 — Актепе Юнусабадское, V–VIII в.; 2 — ворота усадьбы; 3 — за́мок; 4, 5 — разрезы за́мка; 6, 9, 10 — элементы архитектурного декора; 7 — Актепе, реконструкция сооружений верхнего горизонта за́мка; 8 — оттиск на терракотовой плитке; 11 — Ханабад (план цитадели); 12 — Мингурюк (здание в шахристане); 13 — Мингурюк. План сооружений VII–VIII вв. (А — дворец, Б — святилище). а — стены из пахсы и сырцовых кирпичей; б — стены из сырцовых кирпичей; в — сооружения второго периода застройки; г — остатки сооружений первого периода.

Таблица 42. Погребальные памятники Чача. 1–7 — планы наусов; 8-16 — планы захоронений в подбоях.

Таблица 43. Оссуарии из Чача. 1–6, 9, 11, 13, 17 — Тойтюбе; 7 — Ангрен; 8, 10 — Ходжа-Фархон; 12, 16 — Пскент; 14 — Хайрабадтепе; 15 — тепе у совхоза им. Мичурина.
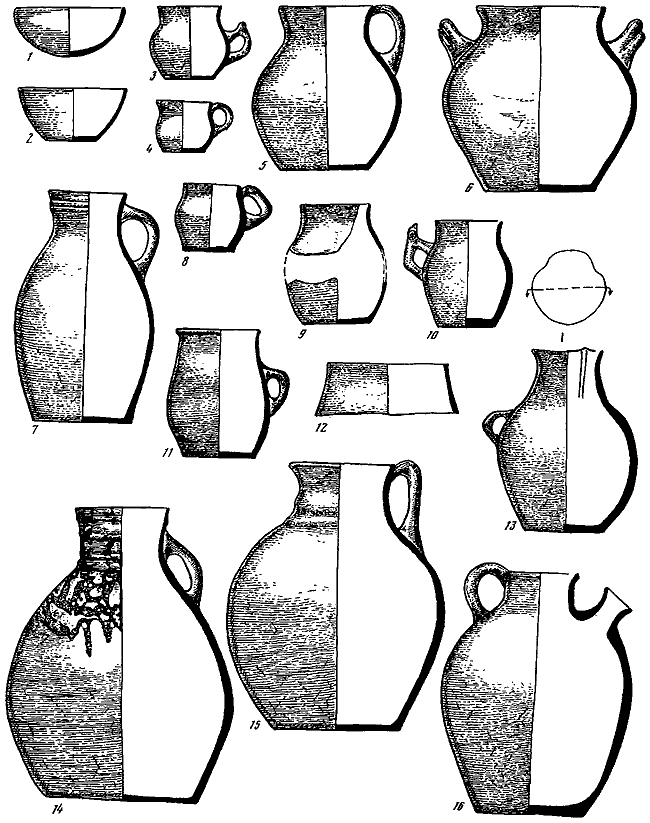
Таблица 44. Керамика из могильников Чача. 1–3 — погребение 1, Кавардан; 4-10 — погребение, Кавардан; 11–16 — Кульата.

Таблица 45. Искусство раннесредневекового Чача. 1 — бронзовая пластина с изображением жрицы, Тойтюбе; 2, 3, 6, 8-10 — терракоты из Канки; 4 — бронзовая пластина с изображением всадника; 5 — каменный памятник из Тойтюбе; 7 — медальон.

Таблица 46. Керамика из Чача и Илака. 1–4, 9, 10, 42, 46, 47, 49 — чаши; 5, 14 — небольшие горшочки; 6 — кубок; 7, 8, 16, 17, 26 — кружки; 11–18, 15, 18, 24, 25, 27–31, 35, 37, 43, 61 — кувшины; 19–23 — крышки; 32, 33, 39 — зооморфные ручки сосудов; 34, 36, 41, 44, 45, 48, 52, 54, 59 — горшки; 58 — зооморфный слив; 40 — очажная подставка; 51, 53, 55, 58 — тагары; 50, 56, 57, 60, 62 — хумы.

Таблица 47. Фергана, планы поселений. 1 — Бешкент; 2 — Моргун; 3 — Тепекоргон; 4 — Кайрагач, усадьба; 5 — Кайрагач. План поселения: а — усадьба, б — наус 1, в — наус 2, г — захоронения в подбоях.

Таблица 48. Юго-Западная Фергана. Планы сооружений. 1 — Актепе; 2 — Бешкент; 3 — Карабулак, за́мок; 4 — Майдатепе; 5 — сводный план усадьбы Кайрагач: а — сооружения верхнего строительного горизонта; б — сооружения нижнего строительного горизонта из сырцовых кирпичей; в — стены из пахсовых блоков.
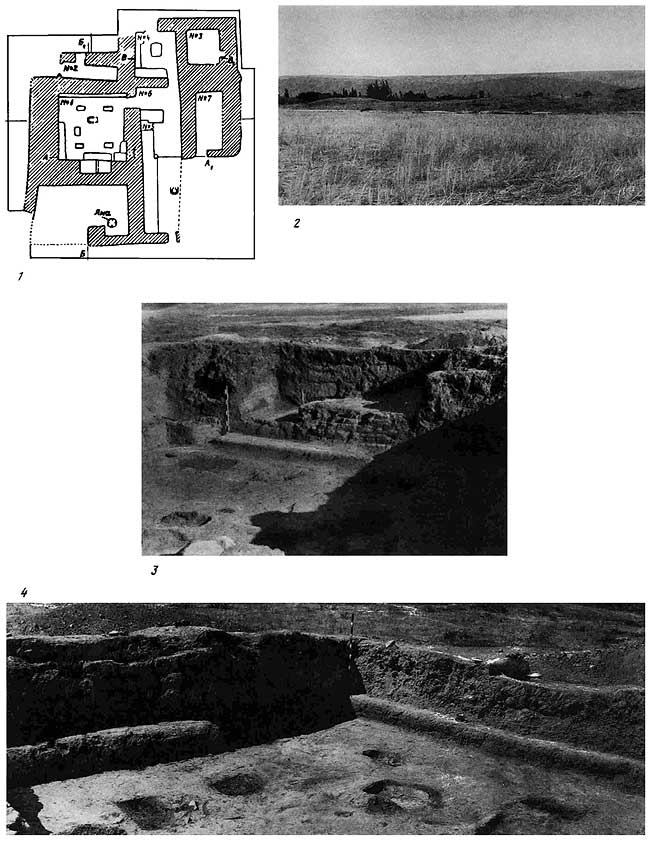
Таблица 49. Городище Майдатепе. 1 — план храма; 2 — вид на город с севера; 3 — центральный зал, вид с севера; 4 — центральный зал, вид с юго-востока.

Таблица 50. Карабулак. 1 — вид с юга; 2 — кладовая, вид с востока; 3, 6 — очаги в коридоре; 4 — вид с востока; 5 — центральное помещение, вид с востока.
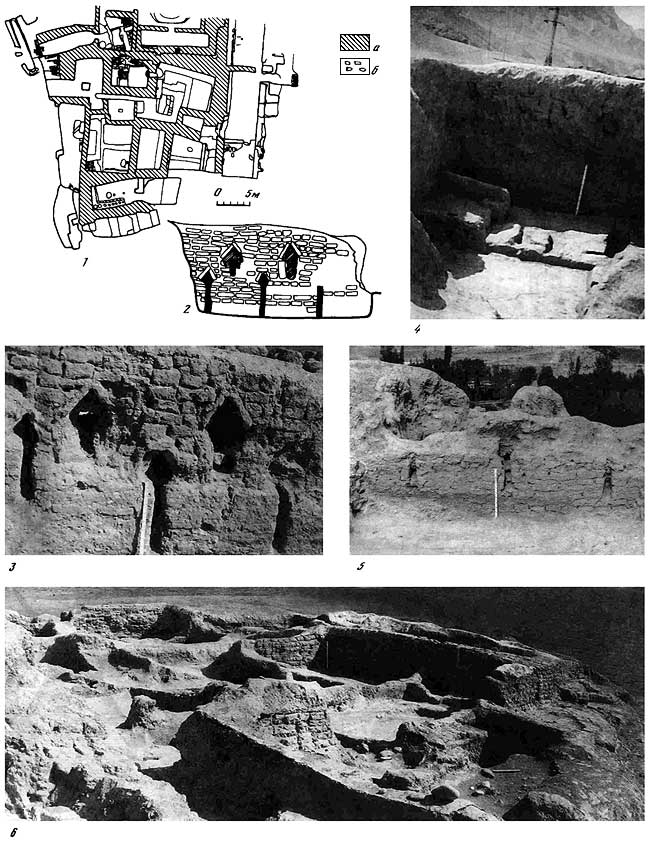
Таблица 51. Кайрагач. Сооружения нижнего строительного горизонта. 1 — план сооружений нижнего строительного горизонта на верхней площадке; 2 — стена с бойницами; 3 — стена с бойницами в комнате 7; 4 — помещение 1, вид с юга; 5 — помещение 6, северная стена; 6 — вид с севера на открытые сооружения. а — сооружения нижнего строительного горизонта; б — кладка стены из сырцовых кирпичей.

Таблица 52. Касан. 1 — вид на городище; 2 — план города; 3-12 — сосуды с городища Касан.

Таблица 53. Могильник Ташрават VIII. 1-13 — курганы. Планы и разрезы.

Таблица 54. Курганы Ташравата. 1-11 — катакомбы с парными захоронениями.
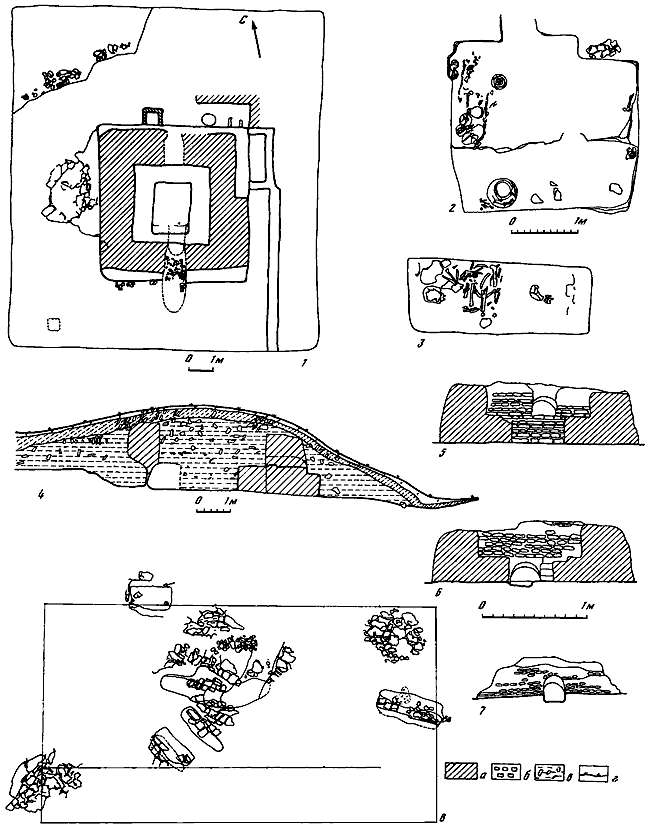
Таблица 55. Кайрагач. Некрополь поселения. 1 — наус 1; 2 — наус 2; 3 — погребение около восточной стены науса 1; 4 — наус 1. Разрез через наус; 5–7 — фасады стен науса 1; 8 — план захоронений в подбоях. а — стены науса; б — кладка стен; в — заполнение науса (супесь обломки кирпичей, кости, керамика); г — дерн.

Таблица 56. Кайрагач. Некрополь поселения. 1-18 — захоронения в подбоях. Планы и разрезы.

Таблица 57. Оссуарии из Ферганы. 1 — Лумбаттепе; 2, 3, 6 — Мунчактепе; 4 — могильник Шах (Северная Фергана); 5 — долина Аксу (Западная Фергана); 7 — Кайрагач, наус 2.

Таблица 58. Мунчактепе. Захоронения в склепах и подбоях. 1, 2, 5 — захоронения в подбоях; 3 — план размещения склепов; 4 — склеп IV; 6, 8 — склепы; 7 — склеп с остатками камышовых гробов. а — закладка входа в склепы сырцовым кирпичом; б — гробы из камыша.
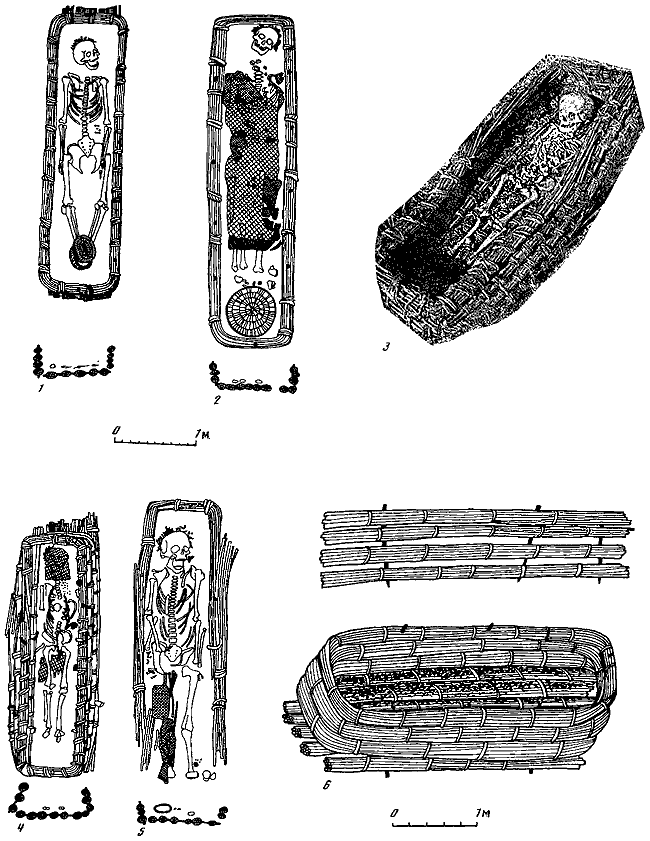
Таблица 59. Мунчактепе. 1–5 — захоронения в камышовых гробах; 6 — реконструкция гроба из камыша.

Таблица 60. Мунчактепе. Изделия из дерева и камыша. 1–6 — гребни; 7 — колодка для обуви; 8-11 — блюда; 12 — столик для разделки теста; 13, 14 — плетеные корзиночки. 1-12 — дерево; 13, 14 — камыш.
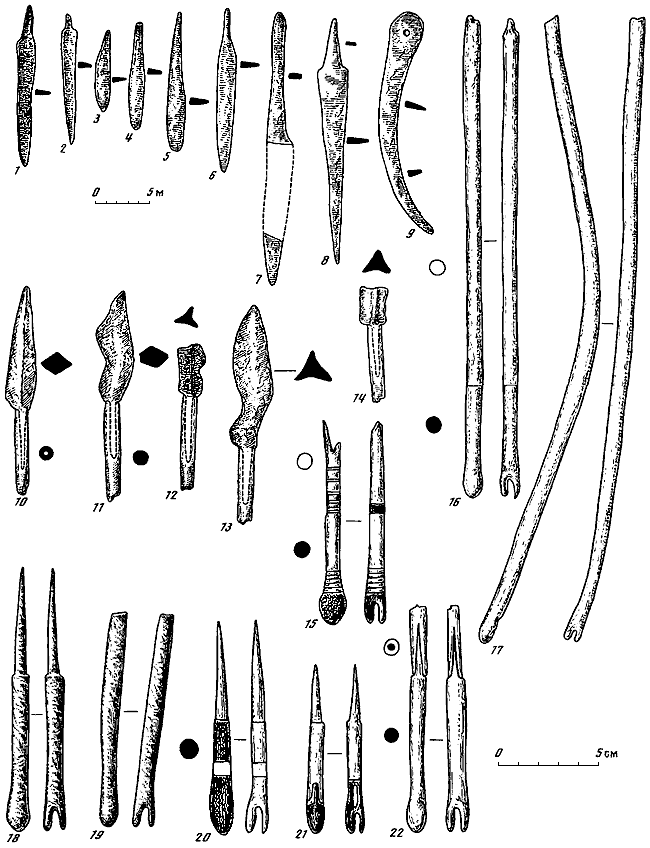
Таблица 61. Мунчактепе. Орудия труда и оружие. 1–9 — ножи; 10–14 — железные наконечники стрел; 15–22 — деревянные ушки для хвостовой части пера.

Таблица 62. Мунчактепе. Украшения и предметы туалета из склепов. 1, 22 — амулеты; 2, 3, 16–18 — перстни; 4 — серьга; 5 — зеркало; 6, 26–29 — коробочки; 7, 8, 9-12, 19, 25 — зеркала; 13–15, 20, 21, 23, 24 — привески; 30 — копоушка; 31 — браслет.

Таблица 63. Мунчактепе. Керамика из склепов. 1–3, 6-15 — чаши; 4, 5, 16–18, 20–30 — кувшины; 19 — горшок.
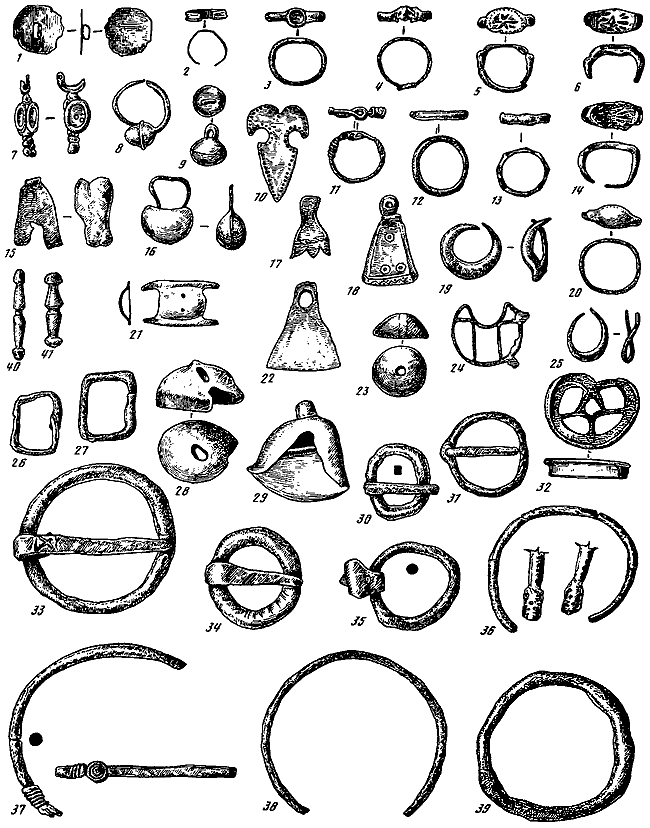
Таблица 64. Металлические украшения и предметы туалета из Юго-Западной Ферганы. 1 — зеркало; 2–6, 11–14, 20 — перстни; 7, 8, 15, 16, 19, 25 — серьги; 9 — бубенчик; 10 — пластина; 17, 18, 22, 23, 28, 29 — колокольчики; 24, 32 — привески со стеклянными вставками; 21, 26, 27, 30, 31, 33–35 — пряжки; 36–39 — браслеты; 40, 41 — застежки. 1-29, 32, 33, 36–38, 40, 41 — бронза; 30, 31, 34, 35, 39 — железо.

Таблица 65. Ритоны Ферганы. 1, 2, 3, 5 — из усадьбы Кайрагач; 6 — из науса в Кайрагаче; 4 — из Актепе.

Таблица 66. Кайрагач. 1–5, 7 — тонкостенные сосуды; 6, 8 — курильницы.
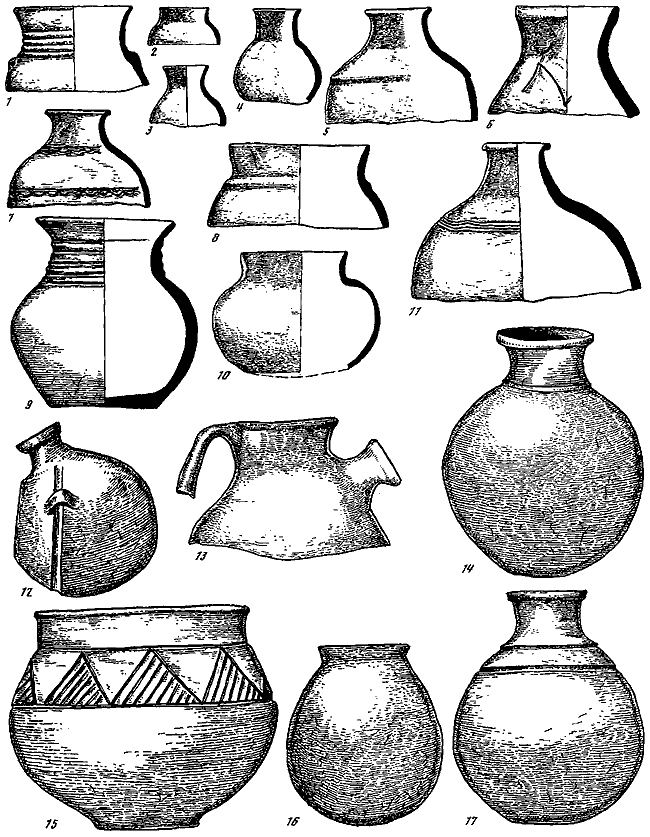
Таблица 67. Кайрагач. Керамика из наусов. 1-11, 13 — из науса 1; 12, 14–17 — из науса 2.

Таблица 68. Кайрагач. Лепные сосуды (1-13).

Таблица 69. Фергана. Чаши, миски (1-20).
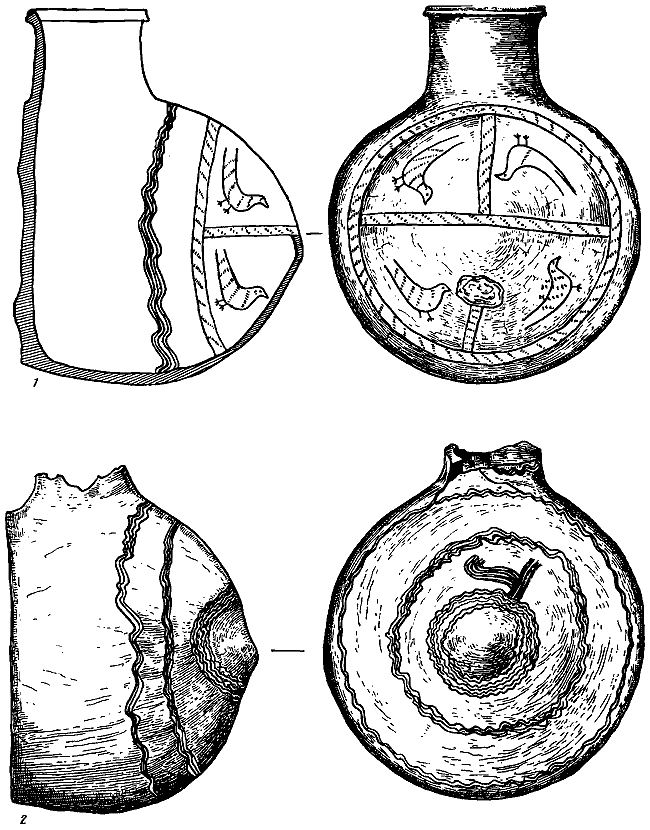
Таблица 70. Фергана. Фляги из Кайрагача (1, 2).

Таблица 71. Кайрагач. Очажные подставки (1-13).
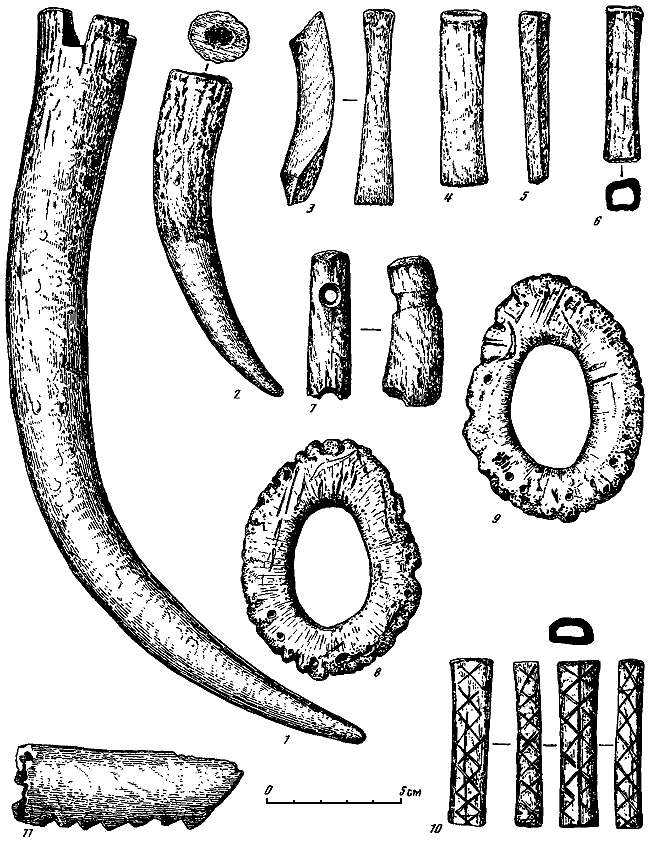
Таблица 72. Фергана. Изделия из кости и рога. 1, 2 — изделия из рога; 3–6, 10 — костяные ручки ножей, 7 — костяной псалий; 8, 9 — поделки из позвонков осетровых рыб; 11 — костяной гребень, применявшийся в ткачестве.

Таблица 73. Кайрагач. 1 — план святилища; 2 — ниша в помещении 2 и идолы в ней; 7, 8, 12, 14 — идолы из святилища; 3–6, 10, 11, 13 — идолы из ниши; 9 — идол, найденный среди развала керамики.

Таблица 74. Фергана. Идолы из погребальных памятников. 1, 5 — из курганов Воруха; 2, 3, 4 — из курганов Ташравата; 6 — из могильника Тураташ; 7 — из науса, Кайрагач.

Таблица 75. Фергана. Буддийский храм в Куве. 1, 2 — план храма; 3 — жилой квартал, где расположен храм; 4-10 — фрагменты буддийской скульптуры из храма.

Таблица 76. Уструшана. 1 — схема расположения памятников в районе городищ Калаи Кахкаха I и Калаи Кахкаха II (а — Калаи Кахкаха I, б — Калаи Кахкаха II, в — Калаи Кахкаха III, г — Тирмизактепе, д — Чильхуджра, е — Уртакурган); 2 — Калаи Кахкаха I. Реконструкция; 3 — Калаи Кахкаха I. Топографический план; 4, 5, 6 — Калаи Кахкаха I. Реконструкция; 7 — Калаи Кахкаха III. План; 8 — Калаи Кахкаха II. План; 9 — Калаи Кахкаха II. План; 10 — Калаи Кахкаха II. Дворец.

Таблица 77. Бунджикат. 1 — Калаи Кахкаха, объект V. План жилого комплекса; 2 — Калаи Кахкаха I, казарма; 3–7 — строительные конструкции; 8 — детали конструкции; 9-14, 18–21 — детали архитектурного декора из Калаи Кахкаха I; 15 — часть центрального коридора Калаи Кахкаха I; 16 — Калаи Кахкаха I, объект VI. План; 17 — Калаи Кахкаха I, многоколонный зал.
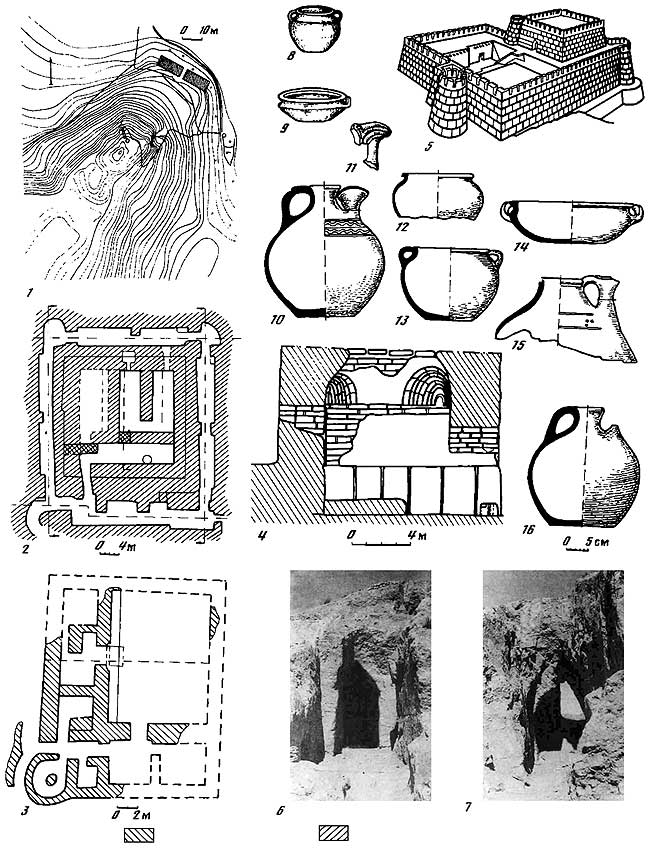
Таблица 78. Чильхуджра. 1 — план холма; 2, 3 — планы открытых сооружений; 4 — фасад стены с тромпами; 5 — реконструкция за́мка; 6, 7 — входы в коридоры; 8-16 — сосуды из за́мка. а — стены первого этажа; б — стены второго этажа.
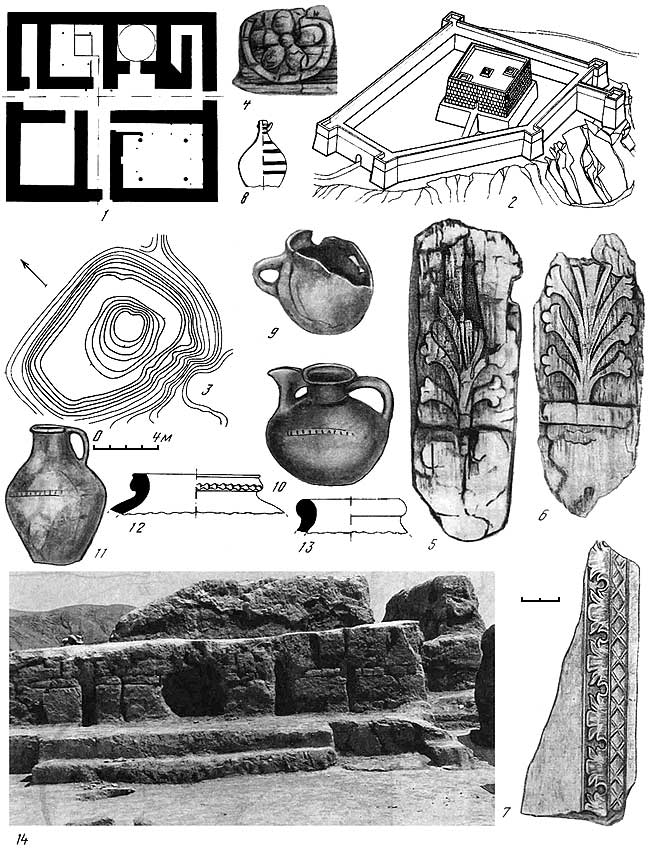
Таблица 79. Уртакурган. 1 — план здания; 2 — реконструкция за́мка; 3 — план холма; 4–7 — резные деревянные панели; 8-13 — керамика из за́мка; 14 — вид на центральную суфу.
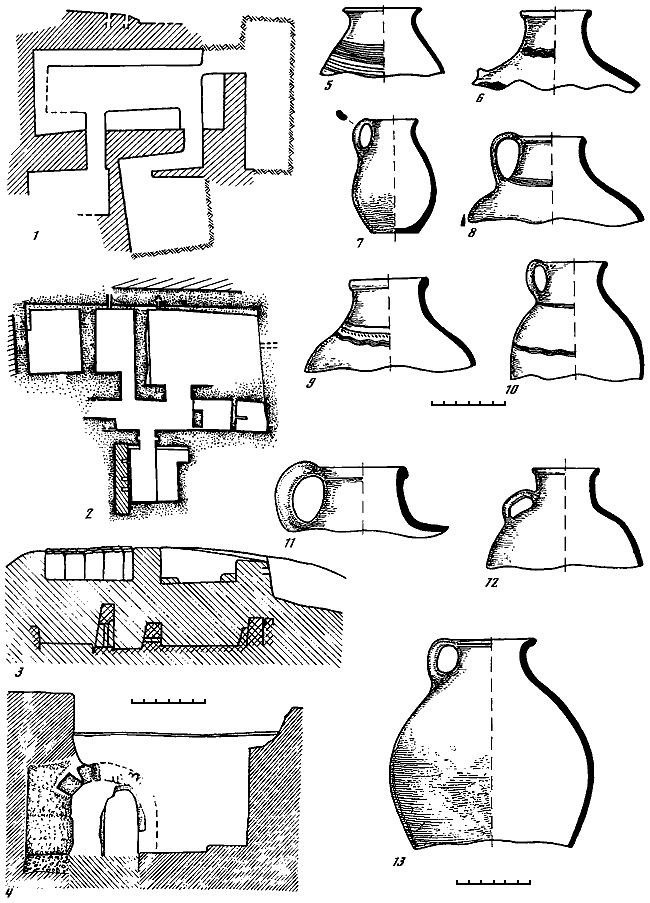
Таблица 80. Дунгчатепе. 1, 2 — планы открытых сооружений; 3, 4 — разрезы; 5-13 — керамика из открытых сооружений.
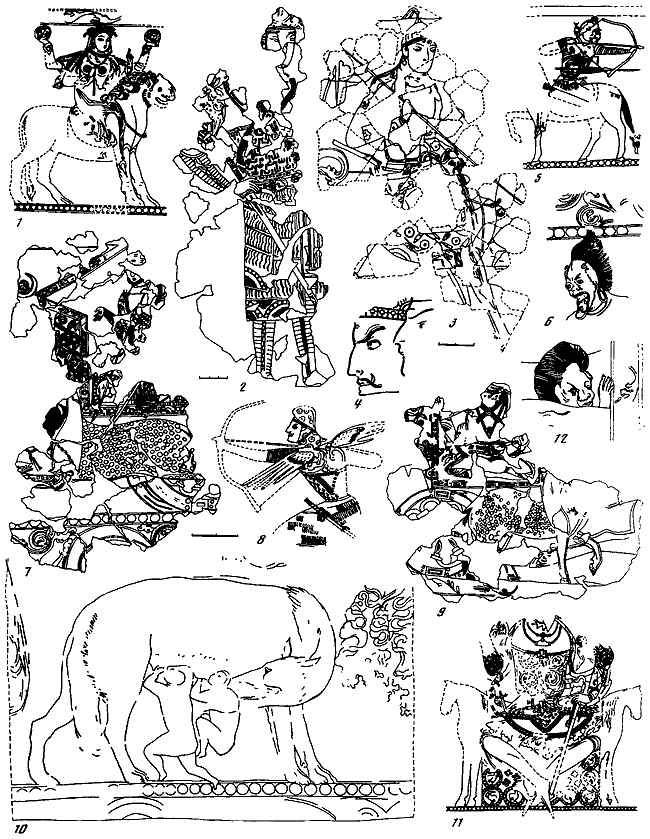
Таблица 81. Бунджикат. Калаи Кахкаха I. Дворец афшинов. 1 — четверорукая богиня; 2 — воин в доспехах; 3 — воин с копьем; 4, 6, 12 — демоны; 5, 8 — воины, стреляющие из лука; 7, 9 — колесницы; 10 — волчица, вскармливающая детей; 11 — царь, восседающий на золотом троне.

Таблица 82. Бунджикат. КаланКахкаха I. Живопись из дворца афшинов. 1–5 — изображение богов и демонических персонажей.

Таблица 83. Бунджикат. Резное дерево (1-11).

Таблица 84. Северный Тохаристан. 1 — план городища Будрач; 2, 4, 5 — Гормалитепе. Гончарная печь; 3 — Будрач. Гончарная печь; 6 — вид на городище Будрач.

Таблица 85. Изделия из камня и бронзы. Будрачский клад. 1-12 — бронзовые изделия; 13, 14 — литейные формы; 15 — железная пряжка; 16 — навершие курильницы в виде головы льва.

Таблица 86. Погребальные памятники Северного Тохаристана. 1 — Тепаишах, сооружение II; 2 — Тепаишах, сооружение I; 3 — Биттепе, склеп 5, 4 — Биттепе, склеп 1 (а — стены наусов из сырцовых кирпичей); 5-10, 14–16, 33–35, 37–40, 43–45 — бусы; 11–13, 54 — бубенчики; 17, 24, 25, 41, 47, 53 — серьги; 18–20, 27, 28, 46, 50, 56, 57, 59 — перстни; 21 — бронзовый предмет; 22, 23 — бронзовые привески в форме сосудов; 26 — копоушка; 29, 51, 60 — кольца; 30, 55 — пряжки (30 — Биттепе, склеп 1); 31 — сосудик; 32 — коробочка с крышкой. Биттепе, склеп 5; 36 — стержень (может быть застежка); 42 — подвеска, лицевая сторона в виде виноградной лозы; 48 — привеска; 49 — привеска амфоровидная; 52 — колокольчик; 58 — пластина плоско-выпуклая с изображением руки и венка; 61, 63 — браслеты; 62 — кольцо (возможно для натягивания тетивы лука); 64 — терракота, Тепаишах I; 65 — идол. 7–9, 14–16, 36–38, 40 — стекло; 44, 62 — кость; 11–13, 17–30, 46, 47, 50–54, 56, 58–61, 63 — бронза; 55, 57 — железо; 31 — керамика; 32 — дерево; 39, 42, 43, 48, 49 — египетский фаянс; 34, 35, 45 — камень; 41 — золото; 64 — терракота; 65 — алебастр.
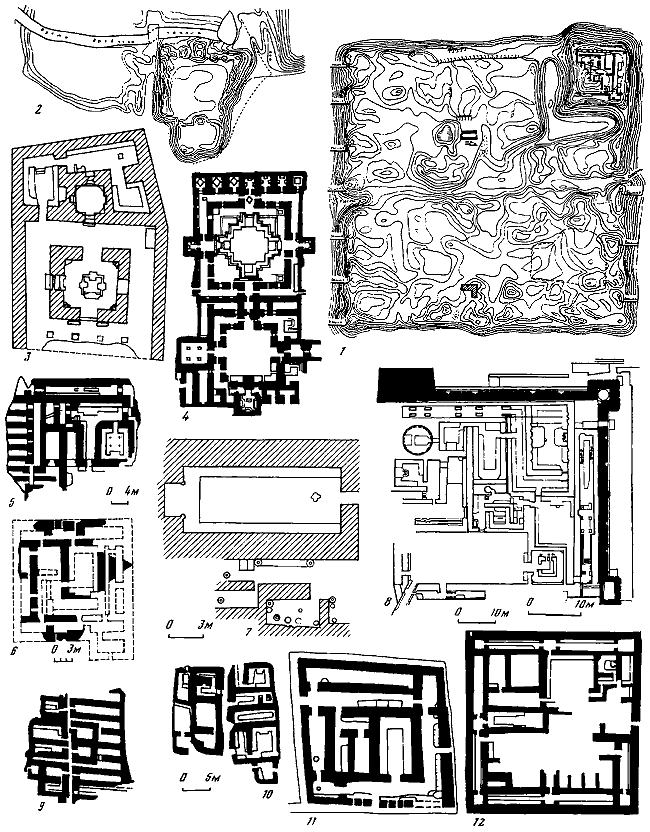
Таблица 87. Планы городов и сооружений Северного Тохаристана. 1 — Кафыркала. План городища; 2 — Уртабоз. План городища; 3 — Калаи Кафирниган, буддийский монастырь; 4 — Аджинатепе; 5 — Джумалатепе; 6 — Балалыктепе; 7 — Кафыркала, общественное здание на территории города; 8 — цитадель Кафыркалы; 9 — Чаянтепе; 10 — Яшимбайтепе; 11 — Кучуктепе; 12 — Бабатепе.
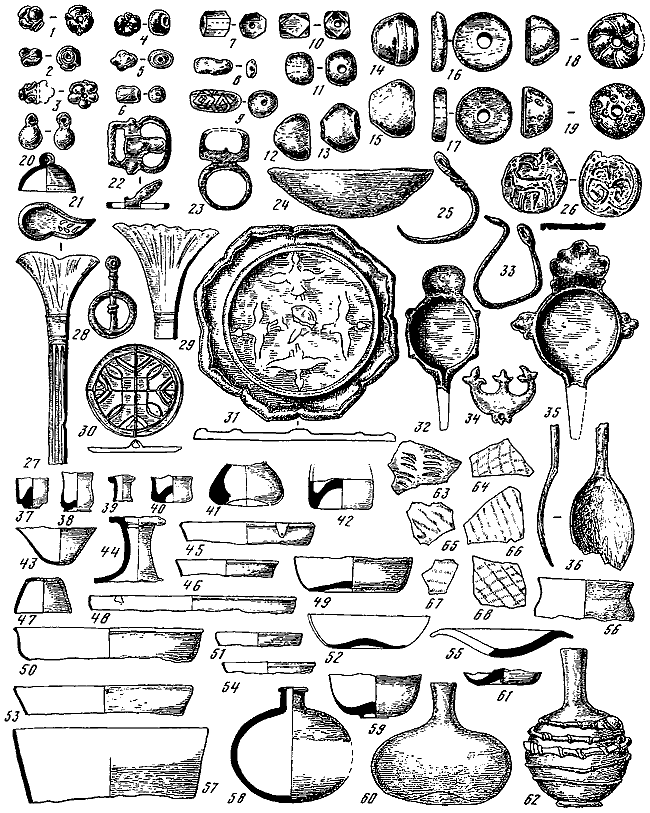
Таблица 88. Аджинатепе. Украшения, изделия из бронзы. 1-11 — бусы; 12–15, 18, 19 — пуговицы; 16, 17 — пряслица; 20 — бронзовый бубенчик; 21 — бронзовый колокольчик; 22, 23 — пряжки; 24 — сосуд; 25–29, 32–36 — изделия из бронзы; 30, 31 — бронзовые зеркала; 37–68 — сосуды и другие изделия из стекла.

Таблица 89. Аджинатепе. Орудия труда и вооружение. 1 — мотыга; 2 — наконечник лемеха; 3 — скоба-обойма; 4, 5 — пластины, скрепленные штырем; 6 — пряжка; 7, 8 — ножи; 9 — кинжал; 10 — зеркало; 11, 14 — дротики; 12 — ножницы; 13, 16–25 — наконечники стрел; 15 — копье; 26 — стержень; 27 — крючок. 1–9, 11–27 — железо; 10 — бронза.

Таблица 90. Северный Тохаристан. Терракоты (1-12).

Таблица 91. Балалыктепе. 1 — план памятника; 2–5 — настенная живопись. Сцена пиршества. а — первый строительный период; б — второй строительный период; в — закладка после землетрясения.

Таблица 92. Северный Тохаристан. Настенная живопись. 1–4, 7, 8 — Аджинатепе; 5, 6 — Калаи Кафирниган.

Таблица 93. Аджинатепе. Глиняная скульптура из храма (1-12).
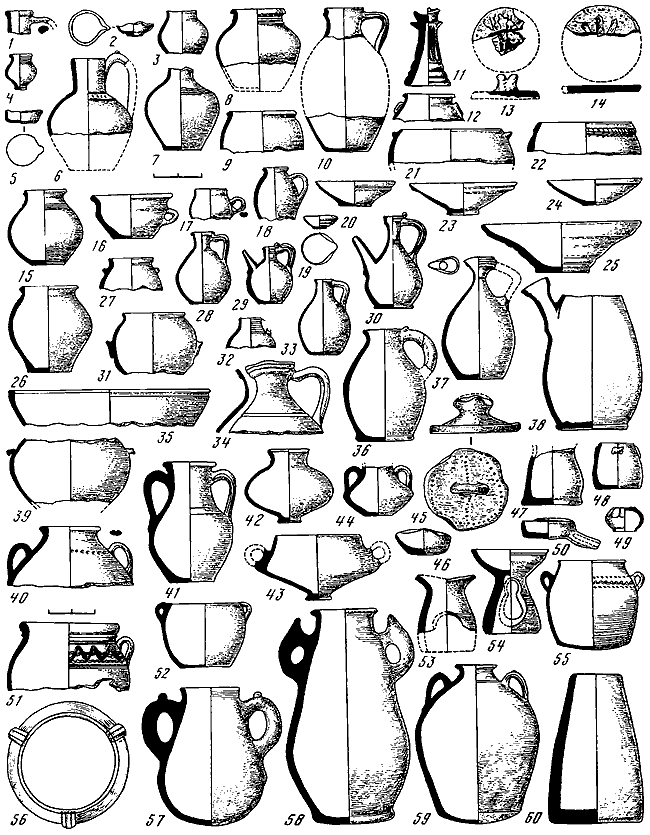
Таблица 94. Раннесредневековая керамика Северного Тохаристана. 1, 6, 7, 10, 28, 32–34, 36, 37 — кувшины; 2, 5, 19, 46, 50 — светильники; 3, 4, 42 — горшочки; 8, 12, 15, 26 — горшки; 9, 21, 27, 31, 39 — котлы; 11, 53, 54 — курильницы; 13, 14, 45 — крышки; 16–18 — кружки; 20, 23–25 — тонкостенные чаши; 22, 56 — верхняя часть хумчи; 29, 30 — узкогорлые кувшины с носиками-сливами; 35 — тагара; 38 — кувшин с носиком; 40, 41, 44 — двуручные кувшины; 43 — двуручная чаша-кубок; 57–59 — двуручные сосуды; 47, 48, 60 — банкообразные сосуды; 49 — тулово миниатюрного кувшинчика; 51, 52, 55 — двуручные горшки.

Таблица 95. Верхний Тохаристан. 1 — крепость Ямчун; 2 — крепость Ямчун, цитадель; 3 — могильник Змудлыг, курган; 4 — планы погребений; 5 — пристань караван-сарай; 6 — сельское поселение Патхур; 7-11 — керамика из крепости Каахка; 12–18 — керамика усадьбы Патхур; 19–24 — керамика могильника Намудлыг.

Таблица 96. Верхний Тохаристан. 1 — Кафаркала I–IV, план; 2 — Кафыркала III. Храм огня; 3 — Кафыркала II. Храм огня; 4-12 — Кафыркала III, керамика; 13 — Кафыркала, оселок; 14 — Зонг. Храм огня (план); 15–18 — Зонг, керамика; 19 — Вранг, святилище (план); 20–27 — Вранг, керамика; 28 — Зонг, железный наконечник стрелы.
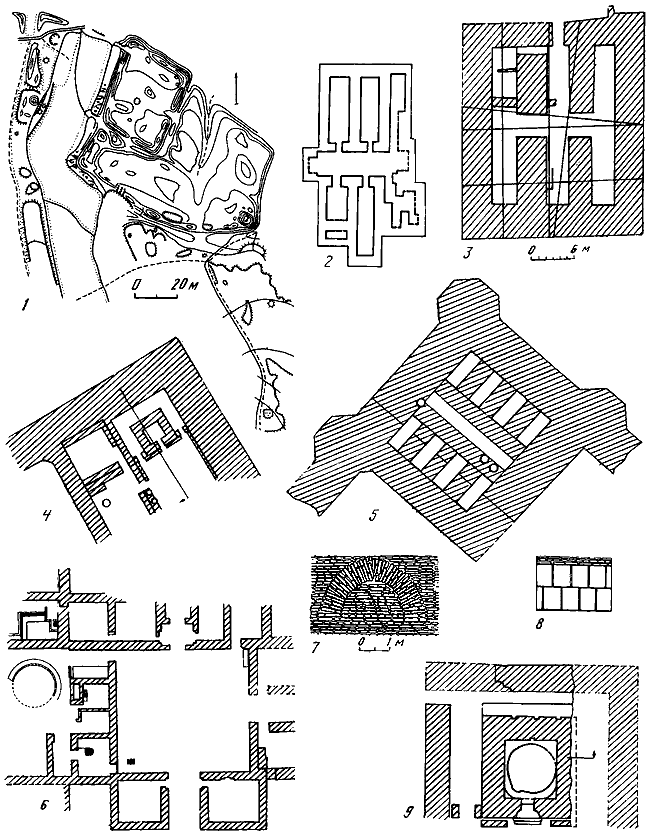
Таблица 97. Городище Красная речка. 1 — план городища; 2, 3, 5 — за́мки; 4, 9 — буддийские храмы; 6 — дворец. План четвертого периода; 7, 8 — конструкции кладки. Штриховкой обозначены стены.

Таблица 98. Красная речка. Погребальные сооружения. 1, 3 — планы наусов; 2, 4, 5, 7 — фасады стен наусов; 6 — деталь кладки стены; 8-14 — захоронения в подбоях (планы и разрезы). а — стены из сырцовых кирпичей; б — стены, сложенные комбинированной кладкой из пахсовых блоков и сырцовых кирпичей.

Таблица 99. Акбешим. 1 — план городища; 2 — план первого буддийского храма; 3 — реконструкция первого буддийского храма; 4 — христианский храм; 5–8 — детали скульптуры; 9 — кувшин из науса; 10 — наус. а — стены, сложенные комбинированной кладкой; б — стены из сырцовых кирпичей.
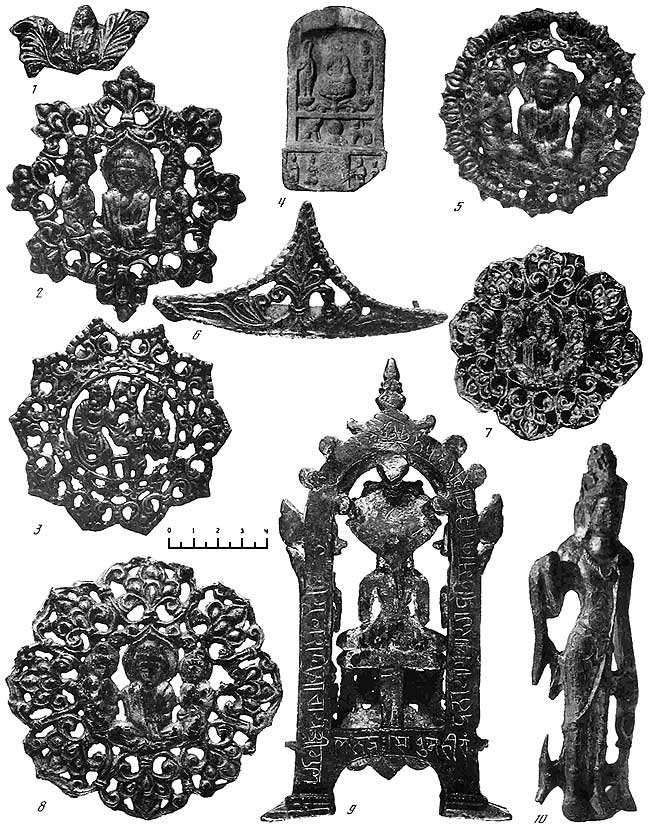
Таблица 100. Предметы буддийского культа. 1–3, 5–8 — бляхи иконостаса святилища Акбешим. Первый буддийский храм; 4 — вотивная стела из буддийского храма Краснореченского городища; 9 — статуэтка Будды на троне. Новопокровское городище; 10 — бронзовая статуэтка, Авалокитешвара. Краснореченское городище. Буддийский храм.

Таблица 101. Акбешим. Второй буддийский храм. 1 — план; 2, 3 — конструкции стен; 4 — святилище. Вид на алтарь; 5 — алтарь; 6 — база для скульптуры; 7 — западная часть обходной галереи; 8 — арочный дверной проем в обходной галерее. а — стены из сырцовых кирпичей и пахсовых блоков.

Таблица 102. Скульптура из буддийских храмов Чуйской долины. 1 — голова божества; 2–8, 14–16 — детали глиняной скульптуры; 9 — голова Бодисатвы; 10–12 — головы божеств буддийского пантеона; 13 — торс скульптуры; 2-16 — Акбешим, храм II; 17 — Красная речка. Торс лежащего Будды.

Таблица 103. Городище Красная речка. 1-24 — керамика из раскопок городища и некрополя.
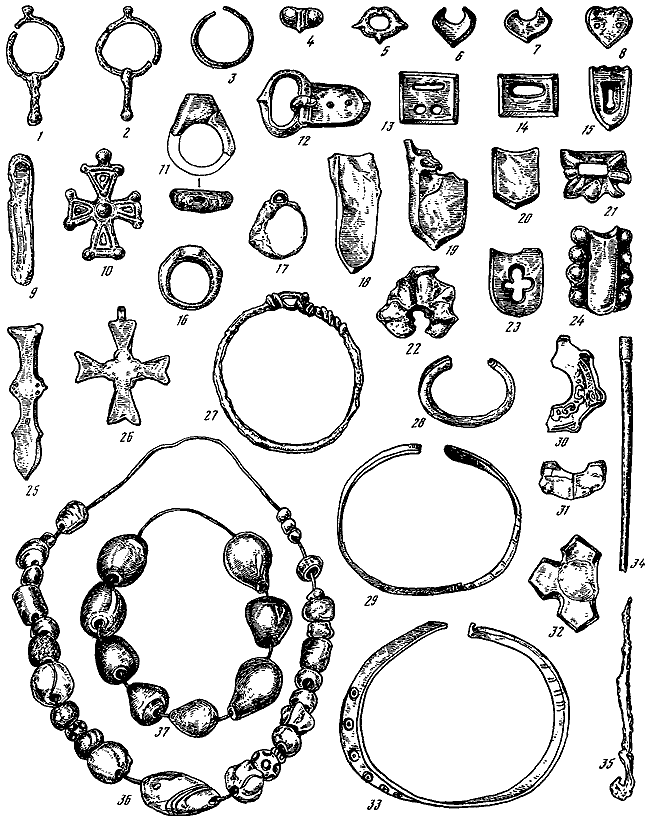
Таблица 104. Красная речка. Украшения и детали поясного набора. 1–3 — серьги; 4–9, 12–15, 18–25, 30–32 — детали поясного набора; 10, 26 — кресты; 11, 16, 17 — перстни; 27–29, 33 — браслеты; 34, 35 — железные стержень и крючок; 36, 37 — бусы.

Таблица 105. Юго-Западное Семиречье. Городище Луговое. 1–4 — фасады стен, тромпы, арки дверного проема; 5, 6 — планы сооружений; 7 — реконструкция; 8-26 — керамика из раскопок городища.

Таблица 106. Красная речка. Оссуарии из некрополя (1-14).

Таблица 107. Красная речка. 1, 2, 3 — оссуарии с изображением алтаря огня; 4 — оссуарий.

Таблица 108. Тараз. Костобе — некрополь. 1, 4 — крышки от оссуариев; 2, 3 — терракоты; 5 — бронзовая статуэтка; 6 — оссуарий; 7 — оссуарий, деталь.

Таблица 109. Планировка жилых и общественных сооружений Южного Казахстана. 1 — городище Марданкуюк; 2 — городище Кокмардан; 3–7 — планировка жилых и общественных сооружений Кокмардан.
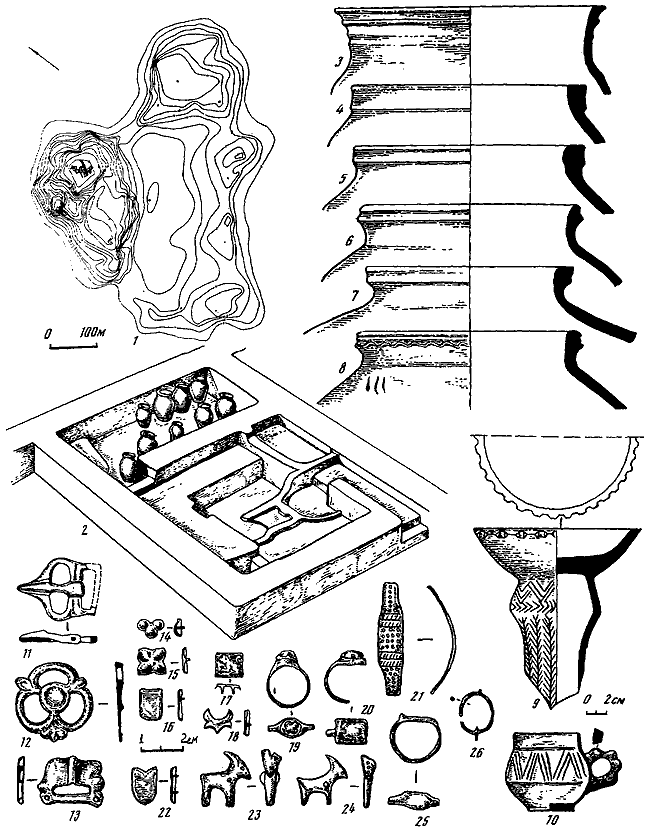
Таблица 110. Городище Марданкуюк. VI — первая половина IX в. 1 — план городища; 2 — аксонометрия жилища; 3-10 — керамика; 11–26 — предметы украшения и поясного набора (бронза).

Таблица 111. Городище Марданкуюк. V — первая половина IX в. 1–6 — жилая застройка.

Таблица 112. Городище Куйруктобе. VI — первая половина IX в. 1 — цитадель. Планы раскопанных помещений; 2 — аксонометрия; 3 — сердоликовая печать; 4, 7 — терракоты; 5, 6, 8, 9 — монеты; 10–17 — сосуды; 18 — резное дерево.

Таблица 113. Городище Куйруктобе. 1 — зал с эстрадой; 2 — суфа в зале с эстрадой; 3 — цитадель, подиум-алтарь; 4 — цитадель, кладка стен; 5, 6 — Бабаата, цитадель.

Таблица 114. Средняя Сырдарья. Украшения. Кокмардан и Марданкуюк. 1, 4–6, 8, 10, 12–17, 23, 27, 33–38, 40 — бусы; 2, 3, 9, 11, 18–21, 50, 53 — поясной набор; 7, 28–31, 55 — перстни; 22 — застежка; 24, 25, 39 — серьги; 26 — бубенчик; 32 — каури; 41 — ожерелье; 42–45 — костяные предметы; 46–49 — зооморфные привески; 51 — пряжка; 52 — колокольчик; 54 — фрагмент браслета; 56 — цепь.
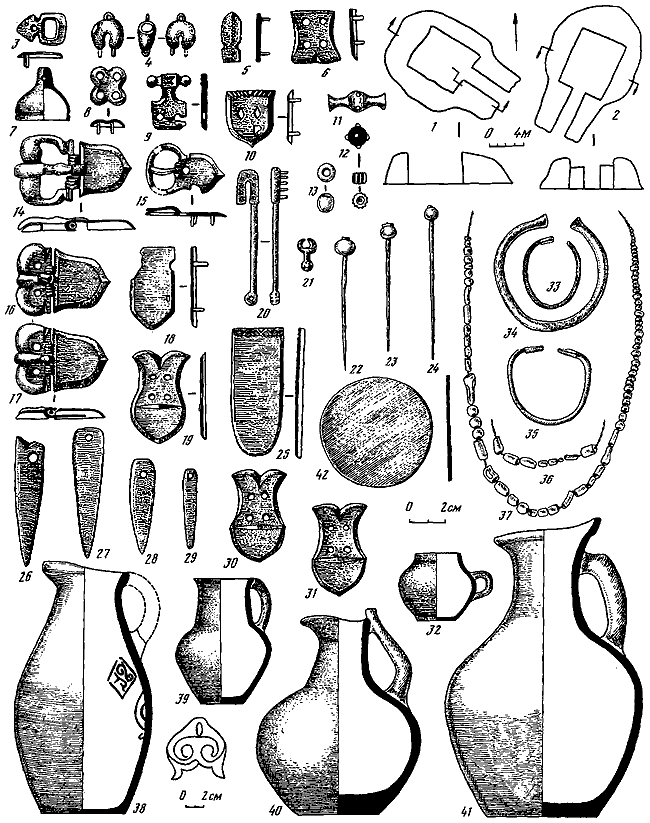
Таблица 115. Средняя Сырдарья. Борижарский могильник. 1, 2 — планы наусов; 3-42 — погребальный инвентарь.

Таблица 116. Средняя Сырдарья (VI–IX вв.). Куйруктобе. 1, 2 — резная доска с изображением сцены сватовства.

Таблица 117. Средняя Сырдарья. Куйруктобе. 1-10 — резные деревянные панели.

Таблица 118. Бухарский Согд. Монеты (1-14).

Таблица 119. Бухарский Согд. Монеты (1-27).

Таблица 120. Северный Тохаристан. Монеты (1-17).

Таблица 121. Северный Тохаристан. Монеты (1-35).

Таблица 122. Согд, Уструшана. Монеты (1-21).

Таблица 123. Чач. Монеты (1-23).

Таблица 124. Хорезм. Монеты (1-16).
Литература
Источники.
Аммиан Марцеллин. История / Пер. Ю. Кулаковского и А. Сонни. Киев. 1901–1908. Вып. 1–3. Бируни Абу Рейхан. Памятники минувших поколений // Избранные произведения. Ташкент, 1957. Т. 1. Бируни Абу Рейхан. Собрание сведений для познания драгоценностей: (Минералогия) / Пер. А.М. Беленицкого. М., 1963. Бируни Абу Рейхан. Фармакогнозия в медицине // Избранные произведения. Ташкент, 1973. Т. 4. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950. Т. I–II. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древнейшие времена. М.; Л., 1953. Т. III: Приложение. Материалы по истории киргизов и Киргизии. М., 1973. Нершахи Мухаммад. История Бухары / Пер. Н. Лыкошина. Ташкент, 1987. Несеви. Сират фс-султан Джалал-ал-дин Менкуберти // МИТТ. М.; Л., 1939, т. I. Саади. Са’ди. Гулистан М., 1959. (ПЛНВ. Тексты. Большая сер.; III). Страбон. География: В 17 кн. / Пер., ст. и коммент. Г.А. Стратановского. Л., 1964. Табари. Тарих ар-русуо ал-мулук // МИТТ. М.; Л., 1939, т. I. Табари. История пророков и царей. Ташкент, 1987. Хафиз-и-Абру. Извлечение из географического сочинения // МИТТ. М.; Л., 1939. T. I. Ибн Хаукаль Абу-и-Касым. Пути и страны / Пер. Е.К. Бетгера // Археология Средней Азии: (Тр. САГУ). Ташкент, 1957. T. IV. Hudu al Alam (The Region of the Worlds) / Transl. and explan. by V. Minorsky. London, 1970. Худуд ал Алом. Рукопись Туманского / С введ. и указ. В.В. Бартольда. Л., 1930. Шефер Э. Золотые персики Самарканда: Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. М., 1981. Якут. Jacut’s geographishes Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, SPb., Paris, London und Oxford… / Hrsg, von Wustenfeld. Leipzig, 1866–1873. Bd. I–VI.Исследования и публикации.
Абдиримов Р.А., 1979. К изучению памятника Аксачтепа // ИМКУ. Вып. 15. Абдиримов Р.А., 1983. Новые данные о городище Наршахтепе //ИМКУ. Вып. 18. Абдиримов Р.А., Валиев П.С., 1980. Раскопки в Бухарской области // АО 1979 г. М. Абдуллаев К., 1974. Уникальная находка терракотового фриза // ОНУ. № 2. Абдуллаев К., 1974а. Квартал керамистов городища Каика // ИМКУ. Вып. 11. Абдуллаев К.А., 1975. Исследование городища Канка: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. Абдуллаев А., 1975. Отчет о раскопках погребений в Гиссаре (август-сентябрь 1971 г.) // АРТ. Вып. XI. Абдуллаев Д., Гуревич Л.Л., 1979. Чертежи строителей древнего Пенджикента // УСА. Вып. 4. Абдуразаков А.А., Безбородов М.А., Заднепровский Ю.А., 1963. Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье. Ташкент. Аболин Р.И., 1930. От пустынных степей Прибалхашья до снежных вершин Хан-Тенгри: Геоботаническое и почвенное описание южной части Алма-Атинского округа Казахской АССР // Труды Института почв и геоботаники САГУ. Л. Вып. 5, ч. 1. Абрамов Н.А., 1876. Древние курганы и укрепления в Семипалатинской и Семиреченской областях // Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Казань. Т. 20. Абрамзон С.М., 1957. К вопросу о патриархальной семье у кочевников Средней Азии // КСИЭ. Вып. 28. Абрамзон С.М., 1971. Киргизы и их этногенетические и культурные связи. Л. Авзалов Р.З., 1977. О квартальной структуре Бунджиката // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана. Душанбе. Авзалов Р.З., 1978. Раскопки на Калаи Кахкаха I // АО 1977 г. М. Агаджанов А.Г., 1969. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX–XIII вв. Ашхабад. Агеева Е.И., 1960. Некоторые новые данные по археологии Семиречья // КСИИМК. Вып. 80. Агеева Е.И., 1962. Памятники средневековья (раскопки на городище Баба-Ата). Цитадель. Оборонительные сооружения и рабады. Некрополь. Общий обзор находок // Археологические исследования на северных склонах Каратау. Алма-Ата. (Тр. ИИАЭ АН КазССР; Т. 14). Агеева Е.И., Пацевич Г.И., 1956. Отчет о работах Южно-Казахстанской археологической экспедиции 1953 г. Алма-Ата. (Тр. ИИАЭ АН КазССР; Т. 1). Агеева Е.И., Пацевич Г.И., 1958. Из истории оседлых поселений и городов Южного Казахстана. Алма-Ата. (Тр. ИИАЭ АН КазССР; Т. 5). Агзамходжаев Т., 1961. Раскопки погребальных курганов близ станции Вревской // ИМКУ. Вып. 2. Агзамходжаев Т., 1962. Туябугузские наусы // ИМКУ. Вып. 3. Агзамходжаев Т., 1966. Подземные каменные наусы около г. Ангрен // ИМКУ. Вып. 6. Агзамходжаев Т., 1966а. Погребальные сооружения Чирчик-Ангренской долины I–VIII вв. н. э.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. Адылов Ш.Т., Мухаммеджанов А.Р., 1986. О формировании и развитии городской культуры в низовьях Зеравшана (IV в. до н. э. — VIII в. н. э.) // Сборник тезисов докладов советско-французского коллоквиума «Городская среда и культура». Ташкент. Азарпай Г., 1975. Четырехрукая богиня: Кушанский пережиток в средневековом искусстве Средней Азии? // Центральная Азия в кушанскую эпоху. М. Т. II. Акишев К.А., 1967. Археология в Казахстане за советский период // СА. № 4. Акишев К.А., 1972. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне древнего Казахстана // Поиски и раскопки в Казахстане. Алма-Ата. Акишев К.А., Ахинжанов С.М., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б., 1978. Раскопки в Отрарском оазисе // АО 1977 г. М. Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б., 1969. Новое в средневековой археологии Южного Казахстана // Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. Алма-Ата. Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б., 1976. Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата. Акишев К.А., Байпаков К.М., 1978. Работы Семиреченской экспедиции // АО 1977 г. М. Алексеев В.П., Бромлей Ю.В., 1969. К изучению роли переселений народов в формировании новых этнических общностей // СЭ. № 2. Альбаум Л.И., 1955. Некоторые результаты изучения Анхорской группы археологических памятников // Тр. Ин-та истории и археологии АН УзССР. Вып. 7. Альбаум Л.И., 1960. Балалыктепе: К истории материальной культуры и искусства Тохаристана. Ташкент. Альбаум Л.И., 1962. Археологические работы на территории Южно-Сурхандарьинского водохранилища // ОНУ. № 2. Альбаум Л.И., 1963. Раскопки за́мка Зангтепе // ИМКУ. Вып. 4. Альбаум Л.И., 1964. Новые раскопки Зангтепе и индийские документы // Индия в древности. М. Альбаум Л.И., 1965. Зангтепе (раскопки 1962 г.) // ИМКУ. Вып. 6. Альбаум Л.И., 1966. Городище Дальверзинтепе // ИМКУ. Вып. 7. Альбаум Л.И., 1974. Раскопки буддийского комплекса Фаязтепе: (По материалам 1968–1972 гг.) // Древняя Бактрия. Л. Альбаум Л.И., 1975. Живопись Афрасиаба. Ташкент. Альбаум Л.И., 1976. Исследование Фаязтепе в 1973 г. // БД. Альбаум Л.И., 1979. Фаязтепе и вопросы кушанской хронологии // Античная культура Средней Азии и Казахстана. Ташкент. Альбаум Л.И., 1984. Новые раскопки Зангтепе и индийские документы // Индия в древности. М. Альтман З.Б., 1972. Антропологические палеонтологические исследования останков людей в пещерах Каратепе // Буддийский культовый центр Каратепе в Старом Термезе. М. Аманжолов А.С., 1971. Руническая надпись на бронзовом кольце (р. Или) // ВАН КазССР. № 1. Анарбаев А., 1981. Благоустройство средневекового города Средней Азии (V — начало XIII в.). Ташкент. Анарбаев А.А., 1984. О времени возведения III крепостной стены Афрасиаба // ИМКУ. Вып. 19. Анарбаев А., Матбабаев Б.Х., 1990. Мунчактепе — городской могильник в Северной Фергане // ОНУ. № 4. Андреев М.С., 1925. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандской области в 1921 г. // Известия ТОРГО. Т. 17. Андреев М.С., 1929. Поездка летом 1928 г. в Касанский район (Северная Фергана) // Известия Общества для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. Ташкент. Т. 1. Андрианов Б.В., 1969. Древние оросительные системы Приаралья. (В связи с историей возникновения и развития орошаемого земледелия). М. Андрианов Б.В., 1985. Неоседлое население мира. М. Андрианов Б.В., 1989. Историческое взаимодействие кочевых культур и древних земледельческих цивилизаций в свете концепции о хозяйственно-культурных типах // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата. Андрианов Б.В., Левина Л.М., 1979. Некоторые вопросы исторической этнографии Восточного Приаралья в I тыс. н. э. // Этнография и археология Средней Азии. М. Аничков И.В., 1898. О некоторых местностях Казалинского уезда, интересных в археологическом отношении // ПТКЛА. Вып. 3. Аннаев Т., 1977. К характеристике раннесредневековых памятников Правобережного Тохаристана: (По материалам Сурхандарьинской области) // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: Сб. тез. докл. Душанбе. Аннаев Т.Д., 1984. Раскопки раннесредневековой усадьбы Куев курган в Северном Тохаристане // СА. № 2. Аннаев Т.Д., 1989. Раннесредневековые поселения Северного Тохаристана. Ташкент. Антонова Е.В., 1977. Антропоморфная скульптура древних земледельцев Передней и Средней Азии. М. Артамонов М.И., 1962. История хазар. Л. Аршавская З.А., Ртвеладзе Э.В., Хакимов З.А., 1982. Средневековые памятники Сурхандарьи. Ташкент. Археологические исследования на северных склонах Каратау, 1962. Алма-Ата. (Тр. ИИАЭ АН КазССР; Т. 14). Аскаров А.А., 1986. Некоторые аспекты изучения этногенеза и этнической истории Узбекистана // Материалы к этнической истории населения Средней Азии. Ташкент. Аскаров А.А., Буряков Ю.Ф., Ходжайов Т.К., 1990. Новые археологические материалы к этнической истории народов Средней Азии // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Ташкент. Афрасиаб, 1969. Ташкент. Вып. 1. Ахраров И.А., Усманова З.И., 1980. Керамическая печь позднеантичного времени // ТЮТАКЭ. Т. XVII. Ахунбабаев Х.Г., 1987. Домашние храмы раннесредневекового Самарканда // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. Ташкент.Бабаев А.Д., 1962. Археологические разведки на Западном Памире в 1960 г. // APT. Вып. VIII. Бабаев А.Д., 1965. Крепости и погребальные сооружения Древнего Вахана (Ишкашимский район ГБАО): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Душанбе. Бабаев А.Д., 1965а. Уникальные находки из погребальных сооружений Западного Памира // ИООН АН ТаджССР. № 1. Бабаев А.Д., 1969. Археологические разведки на Памире в 1961 г. // APT. Вып. IX. Бабаев А.Д., 1971. Керамика из погребений Западного Памира // МКТ. Вып. 2. Бабаев А.Д., 1973. Крепости древнего Вахана. Душанбе. Бабаев А.Д., 1973а. Раскопки курганов на территории Западного Памира // Учен. зап. ТГУ. Ист. фак. № 1. Бабаев А.Д., 1975. Памир и проблема эфталитов // Сборник археологических работ ТГУ. Душанбе. Бабаев А.Д., 1979. Костяной талисман // УСА. Вып. 4. Бабаев А.Д., 1989. Историко-археологический очерк Западного Памира: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск. Баишев И., Массон В., 1956. Археологические разведки в районе Ташкента // Тр. САГУ им. В.И. Ленина. Вып. XII. Байпаков К.М., 1964. Раскопки раннесредневековой мастерской в Семиречье // ВАН КазССР. № 7. Байпаков К.М., 1966. Средневековые города и поселения Семиречья: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата. Байпаков К.М., 1966а. Раскопки средневекового за́мка в Семиречье // ВАН КазССР. № 8. Байпаков К.М., 1966б. Раннесредневековые города и поселения Семиречья // Изв. АН КазССР. Сер. обществ, наук. № 2. Байпаков К.М., 1968. Раннесредневековые города и поселения Северо-Восточного Семиречья // Новое в археологии Казахстана. Алма-Ата. Байпаков К.М., 1968а. О локализации городов Северо-Восточного Семиречья // ВАН КазССР. № 7. Байпаков К.М., 1972. Керамика Кулана // Поиски и раскопки в Казахстане. Алма-Ата. Байпаков К.М., 1972а. Работы первого отряда КЖКАЭ // АО 1971 г. М. Байпаков К.М., 1977. О локализации средневековых городов Южного Казахстана // Археологические исследования в Отраре. Алма-Ата. Байпаков К.М., 1978. Городища типа «торткуль» // Археологические памятники Казахстана. Алма-Ата. Байпаков К.М., 1980. Культ барана у сырдарьинских племен // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. Алма-Ата. Байпаков К.М., 1983. Работы на Куйруктобе // АО 1981 г. М. Байпаков К.М., 1986. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI — начало XIII в.). Алма-Ата. Байпаков К.М., 1988. Некоторые вопросы этнической истории южного Казахстана в средние века // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. М. Байпаков К.М., 1990. По следам древних городов Казахстана. Алма-Ата. Байпаков К.М., Горячева В.Д., 1980. Исследование городища Красная Речка // АО 1979 г. М. Байпаков К.М., Горячева В.Д., 1982. Раскопки Краснореченского городища // АО 1980 г. М. Байпаков К.М., Горячева В.Д., 1983. К вопросу о локализации Невакета // Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Культура и искусство Киргизии». Л. Вып. 1. Байпаков К.М., Горячева В.Д., 1989. Основные итоги археолого-топографического изучения Краснореченского городища в 1978–1983 гг. // Красная Речка и Бурана: (Материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции). Фрунзе. Байпаков К.М., Подушкин А.Н., 1989. Памятники земледельческо-скотоводческой культуры Южного Казахстана. Алма-Ата. Бадер А.Н., Гаибов В.А., Губаев А.А., Кошеленко Г.А., 1995. Системы расселения и ирригации в Мервском оазисе (Туркменистан) от эпохи бронзы до средневековья: (Материалы к конф. «Древний мир: проблемы экологии», 18–20 сент. 1995 г., г. Москва). М. Бадер А.Н., Гаибов В.А., Кошеленко Г.А., 1996. Мервская метрополия // Традиции и наследие христианского Востока: Материалы междунар. конф. М. Банк А.В., 1966. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л.; М. Баратов С.Р., 1991. Культура скотоводов Северной Ферганы в древности и средневековье: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Самарканд. Бартольд В.В., 1963. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Соч. М. Т. I. Бартольд В.В., 1963а. История культурной жизни Туркестана //Соч. М. Т. II, ч. 1. Бартольд В.В., 1963б. История Туркестана: (Конспект лекций) // Соч. М. Т. II, ч. 1. Бартольд В.В., 1964. О христианстве в Туркестане в домонгольский период: (По поводу семиреченских надписей) // Соч. М. Т. II, ч. 2. Бартольд В.В., 1965. К истории орошения Туркестана // Соч. М. Т. III. Бартольд В.В., 1965а. Тохаристан // Соч. М. Т. III. Бартольд В.В., 1966. Еще раз о самаркандских оссуариях // Соч. М. Т. IV. Бартольд В.В., 1966а. К вопросу об оссуариях Туркестанского края // Соч. М. Т. IV. Бартольд В.В., 1966б. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью, 1893–1894 гг. // Соч. М. Т. IV. Бартольд В.В., 1966в. [Рецензия] // Соч. М. Т. IV. Рец. на кн.: Exploration in Turkestan / Ed. R. Pumpelly. Wash. (D.C.), 1905. Бартольд В.В., 1966 г. К истории Мерва // Соч. М. Бартольд В.В., 1968. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // Соч. М. Т. V. Бартольд В.В., 1971. Иранский буддизм и его отношение к исламу // Соч. М. Т. VII. Бартольд В.В., 1977. Ближайшие задачи изучения Туркестана // Соч. М. Т. IX. Баруздин Ю.Д., 1961. Карабулакский могильник // Изв. АН КиргССР. Сер. обществ, наук. Т. 3, вып. 3: (История). Баруздин Ю.Д., Беленицкий А.М., 1961. Бронзовая пластинка из Карабулакского могильника // КСИА. Вып. 86. Баруздин Ю.Д., Брыкина Г.А., 1962. Археологические памятники Баткена и Лайляка (Юго-Западная Киргизия). Фрунзе. Басилов В.Н., Ниязклычев К., 1975. Пережитки шаманства у туркмен-човдуров // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М. Батманов И.А., 1962. Новые тексты // Новые эпиграфические находки в Киргизии (1961 г.). Фрунзе. Бачинский Н.М., 1949. Антисейсмика в архитектурных памятниках Средней Азии. Л. Баялиева Г., 1969. Пережитки магических представлений и их изживание у киргизов // Древняя и раннесредневековая культура Киргизстана. Фрунзе. Беленицкий А.М., 1950. Отчет о работе Вахшского отряда в 1946 г. // Труды Согдийско-Таджикской экспедиции. М.; Л. Т. I. (МИА; № 15). Беленицкий А.М., 1950а. Историко-географический очерк Хутталя с древнейших времен до X в. н. э. // Там же. Т. I. (МИА; № 15). Беленицкий А.М., 1954. Вопросы идеологии и культов Согда по материалам пенджикентских храмов // ЖДП. М. Беленицкий А.М., 1957. Археологические заметки // Изв. ООН АН ТаджССР. Вып. 14. Беленицкий А.М., 1959. Новые памятники искусства Древнего Пенджикента // Живопись и скульптура древнего Пенджикента. М. Беленицкий А.М., 1965. Из итогов последних лет раскопок древнего Пенджикента // СА. № 3. Беленицкий А.М., 1967. Древний Пенджикент — раннефеодальный город Средний Азии: Докл. на соискание ученой степени д-ра ист. наук. Л. Беленицкий А.М., 1973. Монументальное искусство Пенджикента: Живопись. Скульптура. М. Беленицкий А.М., 1973а. Город в VI — середине VIII в. // Средневековый город Средней Азии. Л. Беленицкий А.М., 1976. Отчет о раскопках на городище древнего Пенджикента в 1972 г. // АРТ. Вып. XII. Беленицкий А.М., 1977. Искусство античных и раннесредневековых городов Средней Азии // Произведения искусства в новых находках советских археологов. М. Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г., 1973. Средневековый город Средней Азии. Л. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., 1973. Настенные росписи, открытые в Пенджикенте в 1971 г. // СГЭ. Л. Вып. XXXVII. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., 1976. Черты мировоззрения согдийцев VII–VIII вв. в искусстве Пенджикента // История и культура народов Средней Азии: (Древность и средние века). М. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., 1978. Древнейшее изображение осадной машины в Средней Азии // Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Л. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., 1979. Вопросы хронологии живописи раннесредневекового Согда // УСА. Л. Вып. 4. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И., 1979. Социальная структура населения древнего Пенджикента // Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. М. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И., 1980. К характеристике товарно-денежных отношений в раннесредневековом Согде // Ближний и Средний Восток: Товарно-денежные отношения при феодализме. М. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И., 1980а. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1975 г. // APT. Вып. XV. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И., 1981. Согдийский город в начале средних веков: (Итоги и методы исследования древнего Пенджикента) // СА. № 2. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И., 1984. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1978 г. // APT. Вып. XVIII. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И., 1986. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1979 г. // APT. Вып. XIX. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И., Исаков А.И., 1982. Раскопки древнего Пенджикента в 1976 г. // APT. Вып. XVI. Беленицкий А.М., Маршак Б.И., Распопова В.И., Исаков А.И., 1983. Раскопки древнего Пенджикента в 1977 г. // APT. Вып. XVII. Беленицкий А.М., Распопова В.И., 1981. К вопросу об уточнении датировок согдийских монет // КСИА. Вып. 167. Бентович И.Б., 1958. Находки на горе Муг // МИА. № 66. Бентович И.Б., 1964. Керамика верхнего слоя Пенджикента (VII–VIII вв.) // МИА. № 124. Бентович И.Б., 1973. Гончарное производство // Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. Л. Бентович И.Б., 1973а. Стеклоделие // Там же. Бентович И.Б., 1980. Одежда раннесредневековой Средней Азии (по данным стенных росписей VI–VIII вв.) // СНВ. Вып. XXII. Берг Л.С., 1960. Предварительный отчет об исследовании озера Балхаш летом 1903 г. // Избр. тр. М. Т. 3. Бернштам А.Н., 1940. Согдийская колонизация Семиречья // КСИИМК. Вып. VI. Бернштам А.Н., 1941. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата. Бернштам А.Н., 1948. Прошлое района Алма-Аты. Алма-Ата. Бернштам А.Н., 1948а. Изображение согдийца в коропластике Чуйской долины // КСИИМК. Вып. XXX. Бернштам А.Н., 1948б. Памятники старины Алма-Атинской области // Изв. АН КазССР. Сер. археол. № 48, вып. 1. Бернштам А.Н., 1949. Советская археология Средней Азии // КСИИМК. Вып. XXVIII. Бернштам А.Н., 1950. Чуйская долина // Труды Семиреченской археологической экспедиции / Сост. А.Н. Бернштам. М.; Л. (МИА; № 14). Бернштам А.Н., 1951. Древняя Фергана. Ташкент. Бернштам А.Н., 1951а. Очерк истории гуннов. Л. Бернштам А.Н., 1952. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // МИА. № 26. Бернштам А.Н., 1952а. Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726 г. н. э.) // ВДИ. № 1. Бивар А.Д.Х., 1991. Земля Канаранг: Мерв между Кушанами и Сасанидами // Мерв в древней и средневековой истории Востока // Культурные взаимодействия и связи: Тез. докл. науч. конф. Ашхабад. Бижанов Е., Мамбетуллаев М., 1973. Раскопки Токкалы в 1968 г. // Археология и культура Кердера. Ташкент. Билалов А.И., 1980. Из истории ирригации Уструшаны: (Материальная культура Уструшаны). Душанбе. Вып. 4. Богомолов Г.И., Алимов К.А., 1996. Очажные подставки в Эгар и Куруктепе: (К вопросу о зооморфных подставках Чача). [Памяти археолога X. Дуке] // ИМКУ. Вып. 27. Болелов С.Б., 1984. Раннесредневековый могильник на городской стене Дальверзинтепе // Первая конференция молодых историков Средней Азии и Казахстана, посвященная 80-летию образования ТаджССР и компартии Таджикистана: Тез. докл. Душанбе. Болелов С.Б., 1994. Погребения по обряду кремации на территории Средней Азии // РА. № 4. Большаков О.Г., 1964. Отчет о раскопках северо-восточной части объекта III: (Комплексы I и II. Раскопки 1952–1956 гг.) // МИА. № 124. Большаков О.Г., 1970. Некоторые вопросы изучения среднеазиатского города VIII–XII вв. в свете общей проблематики истории городов Востока // КСИА. Вып. 122. Большаков О.Г., 1973. Город в конце VIII — начале XIII в. // Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. Л. Большаков О.Г., 1980. К истории Таласской битвы // СНВ. Вып. XII. Большаков О.Г., 1982. Средневековый арабский город //Очерки истории арабской культуры V–XV вв. М. Большаков О.Г., 1984. Средневековый город Ближнего Востока VII — середины XIII в. М. Большаков О.Г., Негматов Н.Н., 1958. Раскопки в пригороде древнего Пенджикента // МИА. № 66. Бонгард-Левин Г.М., Воробьева-Десятовская М.И., Темкин Э.Н., 1965. Фрагменты санскритских рукописей из Зангтепе: (Предварительное сообщение) // ВДИ. № 1. Борисов А.Я., 1940. К истолкованию изображений на бия-найманских оссуариях // ТОВЭ. Л. Т. II. Борисов А.Я., 1945. К проблеме согдийского искусства // СГЭ. Л. Вып. III. Борисов А.Я., Луконин В.Г., 1963. Сасанидские геммы. Л. Бромлей Ю.В., 1973. Этнос и этнография. М. Брыкина Г.А., 1966. Раскопки за́мка в Карабулаке в 1964 г. // КСИА. Вып. 108. Брыкина Г.А., 1970. К истории земледельческого населения юго-западной Ферганы // КСИА. Вып. 122. Брыкина Г.А., 1973. Городище Майдатепе // КСИА. Вып. 136. Брыкина Г.А., 1973а. Некоторые вопросы верований древних ферганцев (в связи с находками в курганах и в усадьбе Кайрагач) // Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 г. в СССР. Ташкент. Брыкина Г.А., 1974. Карабулак. М. Брыкина Г.А., 1979. Культурные связи Ферганы в I тыс. н. э. // Этнография и археология Средней Азии. М. Брыкина Г.А., 1981. Идолы из Кайрагача и некоторые вопросы верований древних ферганцев // Памятники культуры: Новые открытия. М. Брыкина Г.А., 1982. Могильник Кайрагач в Южной Киргизии // КСИА. Вып. 170. Брыкина Г.А., 1982а. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры. М. Брыкина Г.А., 1987. Об антропоморфных скульптурах в захоронениях Ферганы // Прошлое Средней Азии. Душанбе. Брыкина Г.А., 1995. Некоторые вопросы истории и культуры Юго-Западной Ферганы в свете раскопок в Кайрагаче // Из истории и археологии Древнего Тянь-Шаня. Бишкек. Брыкина Г.А., Трунаева Т.Н., 1995. Идолы в захоронениях Ферганы // Памятники Евразии скифо-сарматской эпохи. М. Бубнова М.А., 1977. Огнепоклонники на Памире // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. в г. Пенджикенте ТаджССР. Душанбе. Бубнова М.А., 1980. Работы Памирского отряда // АО 1979 г. М. Бубнова М.А., 1981. Работы Памирского отряда // АО. 1980 г. М. Бубнова М.А., 1982. Работы Памирского археологического отряда на Западном Памире в 1976 г. // APT. Вып. XVI. Бубнова М.А., 1983. Средневековые памятники Памира // Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Востоке: Тез. докл. конф., посвящ. десятилетию ЮТАЭ. М. Бубнова М.А., 1984. Раскопки Кафыркалы // АО 1982 г. М. Бубнова М.А., 1986. Культовый комплекс в кишлаке Вранг (Западный Памир) // APT. Вып. XIX. Бубнова М.А., 1987. Работы Памирского отряда в 1980 г. // APT. Вып. XX. Бубнова М.А., 1997. Буддийские памятники на Памире // Верования и культы домусульманской Средней Азии: Тез. докл. конф. Гос. Музея Востока. М. Бубнова М.А., Половникова И.А., 1984. Янтарь на Восточном Памире // Памироведение. Душанбе. Т. I. Букинич Д.Д., 1940. Краткие предварительные соображения о водоснабжении и ирригации Старого Термеза и его района // Тр. Узб. ФАН СССР. Сер. 1. Вып. II. Букинич Д.Д., 1945. Каналы древнего Термеза. Ташкент. (Тр. АН УзССР. Сер. 1, 2). Булатова В.А., 1972. Древняя Кува. Ташкент. Бурнашева Р.З., 1975. Монеты раннего средневековья с городища Отрартобе и Отрарского оазиса (1969–1972 гг.) // Древности Казахстана. Алма-Ата. Буряков Ю.Ф., 1956. Городище Мингурюк в Ташкенте // Археология Средней Азии. Ташкент. (Тр. САГУ; Вып. III). Буряков Ю.Ф., 1963. Новые археологические данные о городище Улькантойтюбе (шахристан Нукета) // Научные работы и сообщения. Ташкент. Кн. 6. Буряков Ю.Ф., 1966. Археологические материалы по истории Тункета и Аблыга // Материалы по истории Узбекистана. Ташкент. Буряков Ю.Ф., 1966а. Из прошлого Чаткало-Кураминского района: (К истории горного дела и металлургии средневекового Илака): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. Буряков Ю.Ф., 1968. Пскентские наусы // СА. № 3. Буряков Ю.Ф., 1972. Археологические материалы по истории Намудлыга // ИМКУ. Вып. 9. Буряков Ю.Ф., 1972а. К исторической топографии средневекового Илака // СА. № 2. Буряков Ю.Ф., 1974. Горное дело и металлургия средневекового Илака V — начало XIII в. М. Буряков Ю.Ф., 1975. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса: (Историко-археологический очерк Чача и Илака). Ташкент. Буряков Ю.Ф., 1977. Археологические материалы городища Кавардан // ИМКУ. Вып. 13. Буряков Ю.Ф., 1978. Новые данные к стратиграфии городища Кульата // ОНУ. № 9. Буряков Ю.Ф., 1982. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. Ташкент. Буряков Ю.Ф., 1987. Бассейн среднего Яксарта в древности и раннем средневековье // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. Ташкент. Буряков Ю.Ф., Богомолов Г.И., 1983. Работы в Ташкентской области // АО 1982 г. М. Буряков Ю.Ф., Богомолов Г.И., 1986. К семантике изображений на оссуарии из кишлака Чанги // ИМКУ. Вып. 20. Буряков Ю.Ф., Богомолов Г.И., 1997. К вопросу о храмах Чача // Верования и культы домусульманской Средней Азии: Тез. докл. конф. М. Буряков Ю.Ф., Зильпер Д.Г., 1960. Археологические наблюдения в 1957 г. на городище Мингурюк в Ташкенте // Тр. ТашГУ им. В.И. Ленина. Вып. 172. Буряков Ю.Ф., Касымов М.Р., Ростовцев О.М., 1973. Археологические памятники Ташкентской области. Ташкент. Бурякова Э.Ю., 1979. Изучение округи раннефеодального Самарканда // УСА. Л. Вып. 4.
Вавилов Н.И., 1929. Возделываемые растения Хивинского оазиса // Тр. Ин-та прикл. ботаники, генетики и селекции. Т. 20. Вайнберг Б.И., 1973. Удельный чекан раннесредневекового Кердера // Антропология и культура Кердера. Ташкент. Вайнберг Б.И., 1977. Монеты древнего Хорезма. М. Вайнберг Б.И., Раевская Т.А., 1982. Нумизматические заметки // Буддийские памятники Каратепе в Старом Термезе: Основные итоги работ 1974–1977 гг. М. Вайнштейн С.И., 1973. Проблема происхождения и формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии // IX Междунар. конгр. антропол. и этногр. наук: Докл. сов. делегации. М. Вактурская Н.Н., 1974. Раскопки средневекового города Садвар // АО 1973 г. М. Васильев А.И., 1934. Согдийский за́мок на горе Муг // Согдийский сборник. Л. Васильев А.И., 1936. Согдийцы и их вооружение: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Васильева Г.П., 1986. Магические функции детских украшений у туркмен // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. М. Веселовский Н.И., 1893. Заметки о стекольном производстве // ЗВОРАО. Т. VIII. Веселовский Н.И., 1900. О находках глиняных гробов в Самарканде // ЗВОРАО. Т. XIII. Веселовский Н.И., 1917. Греческие изображения на туркестанских оссуариях // ИАК. Вып. 63. Винокурова М.П., 1957. Ткани из за́мка на горе Муг // ИООН АН ТаджССР. Вып. 14. Винник Д.Ф., 1967. К исторической топографии средневековых поселений Иссык-Кульской котловины // Древняя и раннесредневековая культура Киргизстана. Фрунзе. Вишневская О.А., 1973. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н. э. // ТХАЭЭ. Т. VIII. Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А., 1979. Следы почитания огня в средневековом хорезмийском городе // Этнография и археология Средней Азии. М. Волин С.Л., 1960. Сведения арабских персидских источников IX–XVI вв. о долине р. Талас и смежных районов // Тр. ИИАЭ АН КазССР. Т. 8. Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана, 1989. Караганда. Воробьева М.Г., Лапиров-Скобло М.С., Неразик Е.Е., 1963. Раскопки Хазараспа в 1958–1960 гг. // МХЭ. М. Вып. 6. Воробьева-Десятовская М.И., 1963. Находка санскритских текстов в Средней Азии // НАА. Вып. 3. Воробьева-Десятовская М.И., 1983. Памятники письменности кхаропггхи и брахма из советской Средней Азии // История и культура Центральной Азии. М. Воронина В.Л., 1948. Архитектура за́мка Актепе близ Ташкента по данным работ 1940 г. // Тр. ИИ АН УзССР. Ташкент. Т. 1. Воронина В.Л., 1950. Изучение архитектуры древнего Пенджикента: (По материалам раскопок 1947 г.) // МИА. № 15. Воронина В.Л., 1952. Строительная техника древнего Хорезма // ТХАЭЭ. М. T. I. Воронина В.Л., 1953. Архитектурные памятники древнего Пенджикента // МИА. № 37. Воронина В.Л., 1953а. Древняя строительная техника Средней Азии // Архитектур, наследство. Вып. 3. Воронина В.Л., 1957. Городище древнего Пенджикента как источник для истории зодчества // Архитектур, наследство. Вып. 8. Воронина В.Л., 1957а. Архитектурный орнамент древнего Пенджикента // СЖДП. М. Воронина В.Л., 1957б. К вопросу о типе общественных сооружений средневекового города Средней Азии // СА. № 4. Воронина В.Л., 1958. Архитектура древнего Пенджикента: (Итогиработ 1952–1953 гг.) // МИА. № 66. Воронина В.Л., 1959. Раннесредневековый город Средней Азии // СА. № 1. Воронина В.Л., 1960. Доисламские культовые сооружения Средней Азии // СА. № 2. Воронина В.Л., 1963. Черты раннесредневекового жилища Средней Азии // СЭ. № 6. Воронина В.Л., 1964. Архитектура древнего Пенджикента: (Результаты раскопок 1954–1959 гг.) // МИА. № 124. Воронина В.Л., 1969. Архитектура Средней Азии VI–VIII вв. // Всеобщая история архитектуры. М. Т. 8. Воронина В.Л., 1977. Конструкции и художественный образ в архитектуре Востока. М. Воронина В.Л., Негматов Н.Н., 1974. Открытие Уструшаны // Наука и человечество. М. Воронина В.Л., Негматов Н.Н., 1976. Рельефные головки из дворца афшинов Уструшаны (Шахристан) // СА. № 1. Вызго Т.С., 1980. Музыкальные инструменты Средней Азии // Исторические очерки. М. Высоцкий А.М., 1983. Христианский памятник на городище Ак-Бешим // Бактрия и Тохаристан на древнем и средневековом Востоке. М. Вязигин С.А., 1949. Стена Антиоха Сотера вокруг древней Маргианы // ТЮТАКЭ. Т. 1. Вязьмитина М.И., 1949. Археологическое изучение городища Новая Ниса в 1946 г. // ТЮТАКЭ. Т. I. Вязьмитина М.И., 1953. Археологические работы на городище Новая Ниса в 1947 г. // ТЮТАКЭ. Т. II. Вяткин В.Л., 1927. Афрасиаб — городище былого Самарканда: Археологический очерк. Ташкент.
Гаврилова А.А., 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории и культуре алтайских тюрок VI–VII вв. н. э. М. Гаевский И.Г., 1924. Кургантюбинское бекство // ИРГО. Т. 55, вып. 2. Гайдукевич В.Ф., 1947. Работы Фархадской археологической экспедиции в Узбекистане в 1943–1944 гг. // КСИИМК. Вып. XIV. Гайдукевич В.Ф., 1949. Керамическая обжигательная печь Мунчактепе // КСИИМК. Вып. XXVIII. Гайдукевич В.Ф., 1952. Могильник близ Ширинсая в Узбекистане // СА. № 16. Галкин М.Н., 1869. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб. Гафуров Б.Г., 1972. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. М. Гинзбург В.В., 1959. Основные вопросы палеоантропологии Средней Азии в связи с изучением этногенеза ее народов // КСИЭ. Вып. XXXI. Гоибов Т., 1983. К исторической топонимике Хорасана, Мавераннахра и Хорезма в VII-Х вв. // Хорезм и Мухаммад ал Хорезм в мировой истории и культуре: (К 1200-летию со дня рождения). Душанбе. Горбунова Н.Г., 1973. Некоторые итоги исследования поселений Ферганы Кушанского времени // Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований. Ташкент. Горбунова Н.Г., 1979. Итоги исследования археологических памятников Ферганской области // СА. № 3. Горбунова Н.Г., 1979а. О раннесредневековой керамике Ферганы // УСА. Вып. 4. Горбунова Н.Г., 1981. О типах ферганских погребальных памятников // АСГЭ. Л. Вып. 22. Горбунова Н.Г., 1990. Ферганский могильник Хангиз I // СА. № 1. Горбунова Н.Г., Шигин А.Е., 1979. Могильник и крепость у Хангиза // АО 1978 г. М. Городецкий В.Д., 1926. Серебряные сосуды из курганов села Покровка, Пишпекского уезда // Известия Средазкомстарис. Вып. 1. Горячева В.Д., 1975. О локализации города Баласагуна // Страницы истории и материальной культуры Киргизстана. Фрунзе. Горячева В.Д., 1976. Городские центры и монументальная архитектура средневековой Киргизии: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Фрунзе. Горячева В.Д., 1985. Исследования Краснореченского городища и некрополя // АО 1983 г. М. Горячева В.Д., 1989. Наусы некрополя Краснореченского городища // Красная Речка и Бурана: (Материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции). Фрунзе. Горячева В.Д., Байпаков К.М., 1981. Раскопки Краснореченского городища // АО 1980 г. М. Горячева В.Д., Береналиев О., 1979. Раскопки Краснореченского городища // АО 1978 г. М. Горячева В.Д., Перегудова С.Я., 1996. Буддийские памятники Киргизии // ВДИ. № 2. Грене Ф., 1987. Интерпретация декора оссуариев из Бия-Наймана и Мианкаля // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда: (Античность, раннее средневековье). Ташкент. Григорьев В.В., 1867. Старая погудка на новый лад. М. Григорьев Г.В., 1935. Отчет об археологической разведке в Янгиюльском районе УзССР в 1934 г. Ташкент. Григорьев Г.В., 1939. Зороастрийское костехранилище в кишлаке Фринкент под г. Самаркандом // ВДИ. № 2. Григорьев Г.В., 1940. Городище Талибарзу: Краткий очерк // ТОВЭ. Т. II. Григорьев Г.В., 1940а. Краткий очерк о работе Янгиюльской археологической экспедиции в 1937 г. Ташкент. Григорьев Г.В., 1946. К вопросу о художественном ремесле домусульманского Согда // КСИИМК. Вып. XII. Грошев В.А., 1978. Основные моменты динамики оросительной сети Отрарского оазиса в XV–XVIII вв. // Археологические памятники Казахстана. Алма-Ата. Грошев В.А., 1980. Ирригация Южного Казахстана в средние века: (По материалам Отрара и северных склонов Каратау): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Грюнберг А.Л., Стеблин-Каменский И.М., 1976. Ваханский язык: Тексты, словарь, грамматический очерк. М. Губаев А., 1967. Новый памятник сасанидского времени в Южном Туркменистане // С А. № 1. Губаев А., 1968. Изучение раннесредневековых памятников в районе Артыка // КД. Вып. 2. Губаев А., 1971. За́мок Акдепе и его раскопки // Материальная культура Туркменистана. Ашхабад. Губаев А., 1971а. Сасанидские буллы из за́мка Акдепе: (Предварительная публикация) // ЭВ. Вып. XX. Губаев А., 1972. Новые раскопки за́мка Акдепе у Артыка // КД. Вып. 4. Губаев А., 1977. Новые результаты раскопок в за́мке Акдепе сасанидского времени // КД. Вып. 6. Губаев А., 1978. К вопросу о зарождении феодальных отношений в Южном Туркменистане // История и археология Средней Азии. Ашхабад. Губаев А., 1982. Южный Туркменистан в эпоху раннего феодализма: (К проблеме становления феодальных отношений на Востоке): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М. Губаев А., Кошеленко Г.А., 1968. Изучение античных и раннесредневековых памятников // КД. Вып. 1. Губаев А., Кошеленко Г.А., 1972. Исследование Парфянского святилища Мансурдепе и раннесредневекового за́мка Акдепе // КД. Вып. 3. Губаев А., Кошеленко Г.А., Новиков С.В., 1990. Археологические исследования в Мервском оазисе // ВДИ. № 3. Губаев А., Лелеков Л., 1970. Буллы Сасанидского периода из Акдепе // КД. Вып. 3. Губаев А., Логинов С., 1984. Храмы огня в Южном Туркменистане // Памятники Туркменистана. Ашхабад. № 2. Гудкова А.В., 1962. Раскопки городища Токкала в 1960–1961 гг. // ВКФ АН УзССР. № 3. Гудкова А.В., 1964. Токкала. Ташкент. Гудкова А.В., 1968. Новые материалы по погребальному обряду VII–VIII вв. в Кердере // История, археология и этнография Средней Азии. М. Гудкова А.В., 1973. К изучению раннекердерских бус (VII–VIII вв.) // Вопросы антропологии и материальной культуры Кердера. Ташкент. Гудкова А.В., Лившиц В.А., 1967. Хорезмийские надписи из некрополя Токкалы и проблема «хорезмийской эры» // ВКФ АН УзССР. № 1. Гудкова А.В., Ягодин В.Н., 1963. Археологические исследования в правобережной части дельты Амударьи в 1958–1959 гг. // МХЭ. М. Вып. 6. Гуляев С.О., 1853. О древностях, открываемых в Киргизской степи // Вести. РГО. Ч. 8, кн. 3, отд. 7. Гулямов Я.Г., 1967. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. Ташкент. Гулямов Я.Г., Буряков Ю.Ф., 1969. Об археологических исследованиях на городище Афрасиаб в 1967–1968 гг. // Афрасиаб. Ташкент. Вып. 1. Гумилев Л.Н., 1967. Древние тюрки. М. Гуревич Л.Л., 1981. К интерпретации пенджикентских «капелл» // Тез. докл. конф. «Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье». М.
Давидович Е.А., 1956. О работах Гиссарского отряда в 1955 г. // APT. Вып. III. Давидович Е.А., 1959. Монетные находки на территории Таджикистана, зарегистрированные в 1957 г. //APT. Вып. V. Давидович Е.А., 1966. Денежное обращение в Мавераннахре при Саманидах // НЭ. М. Вып. VI. Давидович Е.А., 1979. Клады древних и средневековых монет в Таджикистане. М. Давидович Е.А., Литвинский Б.А., 1955. Археологический очерк Исфаринского района // ТИИАЭ. Т. 35. Давидович Е.А., Зеймаль Е.В., 1980. Денежное хозяйство Средней Азии в переходный период от древности к средневековью: (К типологии феодализма) // Ближний и Средний Восток: Товарно-денежные отношения при феодализме. М. Давутов Д., 1979. Согдийские монеты из раскопок поселения Гардани Хисор // УСА. Л. Вып. 4. Давыдов А.С., 1969. Традиционное жилище таджиков Верхнего Зеравшана // СЭ. № 6. Давыдов А.С., 1973. Жилище // Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана. Душанбе. Дальверзинтепе, 1978. Дальверзинтепе — кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент. Дандамаев М.А., Луконин В.Г., 1980. Культура и экономика древнего Ирана. М. Данилевский В.В., Кононов В.Н., Никитин А.А., 1940. Исследование растительных остатков из раскопок согдийского за́мка VIII в. на горе Муг в Таджикистане // Растительность Таджикистана и ее освоение. М.; Л. (Тр. Тадж. базы АН СССР; Т. VIII). Даркевич В.П., 1976. Художественный металл Востока. М. Даркевич В.П., 1976а. Художественный металл Востока VIII–XIII вв. // Произведения восточной торевтики на территории Европейской части СССР и Зауралья. М. Даркевич В.П., Маршак Б.И., 1974. О так называемом сирийском блюде из Пермской области // СА. № 2. Денике Б.П., 1927. Искусство Средней Азии. М. Деопик В.Б., 1959. Классификация бус Северного Кавказа IV–V вв. // СЭ. № 3. Джумаев В.К., 1984. Раскопки в квартале гончаров Бунджиката // АО 1982 г. М. Давутов Д., Зеймаль Е.В., 1985. Правители Уструшаны // Древности Таджикистана: Каталог выставки. Душанбе. Долгий В.М., Левада Ю.А., Левинсон А.Г., 1974. Урбанизация как социокультурный процесс: Урбанизация мира // ВГ. № 96. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии // Археология СССР. 1985. М. Древний Мерв в свидетельствах письменных источников, 1994. Сост. Г.А. Кошеленко, А. Губаев, А.Н. Бадер, В.А. Гаибов. Ашхабад. Древний Ташкент, 1973. Ташкент. Древности Таджикистана: Каталог выставки, 1985. Душанбе. Древности Ташкента, 1976. Ташкент. Древности Туябугуза, 1978. Ташкент. Древности Чарвака, 1976. Ташкент. Древняя и средневековая культура Чача, 1979. Ташкент. Дресвянская Г.Я., 1968. Раннехристианские археологические памятники Мерва до арабского завоевания: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. Дресвянская Г.Я., 1974. «Овальный храм» христианской общины в Мерве // ТЮТАКЭ. Т. XV. Дресвянская Г.Я., 1982. Работы Яккобагского маршрутного отряда // АО 1981 г. М. Дресвянская Г.Я., 1983. Раннесредневековые оссуарии из Южного Согда // ОНУ. № 3. Дресвянская Г.Я., 1986. Раннесредневековые города и поселения восточной части Южного Согда // Городская среда и культура Бактрии-Тохаристана и Согда (IV в. до н. э. — VIII в. н. э.): ТД. Ташкент. Дресвянская Г.Я., 1989. Некрополь Старого Мерва // Древний Мерв: Сб. ст. Ашхабад. (ТЮТАКЭ; Т. XIX). Дурдыев Д., 1959. Городище Старого Кишмана // ТИИАЭ АН ТССР. Вып. V. Дурдыев Д., 1959а. Кырктепе // ТИИАЭ АН ТССР. Вып. V. Дурдыев Д., 1959б. Итоги полевых работ сектора археологии Института истории, археологии и этнографии АН ТССР // ТИИАЭ АН ТССР. Вып. V. Дьяконов М.М., 1950. Работы Кафирниганского отряда // МИА. № 15. Дьяконов М.М., 1951. Образ Сиявуша в среднеазиатской мифологии // КСИИМК. Вып. LX. Дьяконов М.М., 1953. Археологические работы в нижнем течении реки Кафирнигана (Кобадиан) (1950–1951 гг.) // МИА. № 37. Дьяконов М.М., 1954. Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии // ЖДП. М. Дьяконова Н.В., 1980. К истории одежды в Восточном Туркестане II–VII вв. // СНВ. М. Вып. XXII. Дьяконова Н.В., Смирнова О.И., 1960. К вопросу об истолковании пенджикентской росписи // Исследования по истории культуры народов Востока: Сборник в честь академика И.А. Орбели. М.; Л. Дьяконова Н.В., Смирнова О.И., 1967. К вопросу о культе Наны (Анахиты) в Согде // СА. № 1. Дьяконова Н.В., Сорокин С.С., 1960. Хотанские древности. Л.
Ершов С.А., 1959. Некоторые итоги археологического изучения некрополя с оссуарными захоронениями в районе города Байрам-Али (раскопки 1954–1956 гг.) // ТИИАЭ АН ТССР. Вып. V.
Жданко Т.А., 1968. Номадизм в Средней Азии и Казахстане // История, археология и этнография Средней Азии. М. Жданко Т.А., 1975. Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана в историко-этнографическом атласе // Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. М. Живопись древнего Пенджикента, 1954. Сб. ст. М. Живопись и скульптура Таджикистана, 1984. Древность и средние века: Каталог выставки. Л. Жирмунский В.М., 1962. Огузский героический эпос и «Книга Каркута» // Книга моего деда Каркута. М.; Л. Жуковский В.А., 1894. Развалины Старого Мерва. СПб., (МАР; № 16).
Забелина Н.Н., 1952. Обзор древнейших монет из коллекции Республиканского историко-краеведческого музея Таджикской ССР // Сообщения Республиканского историко-краеведческого музея Таджикской ССР. Археология. Сталинабад. Вып. 1. Завьялов В.А., 1979. Раскопки квартала позднекушанского времени на городище Зартепе // СА. № 3. Заднепровский Ю.А., 1954. Древняя Фергана: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Заднепровский Ю.А., 1956. Об этническом составе населения древней Ферганы // КСИИМК. Вып. 61. Заднепровский Ю.А., 1960. Археологические работы в Южной Киргизии в 1954 г. // ТКАЭЭ. Т. 2. Заднепровский Ю.А., 1960а. Археологичесекие памятники южных районов Ошской области. Фрунзе. Заднепровский Ю.А., 1973. Типология и динамика развития городских поселений древней Ферганы // Древний город Средней Азии: ТД. Л. Заднепровский Ю.А., 1995. Номады древней Ферганы: Типология памятников, районирование, историческое истолкование. Бишкек. Зарубин М.И., 1926. Сказание о первом кузнеце в Шугнане // ИАН СССР. Сер. 6, № 9. Засыпкин Б.Н., 1948. Архитектура Средней Азии. М. Заурова Е.З., 1962. Керамические печи VII–VIII вв. на городище Гяуркала // ТЮТАКЭ. Т. XI. Заходер Б.Н., 1944. История восточного средневековья. М. Зеймаль Е.В., 1961. Археологические работы в Гиссарской долине // APT. Вып. 6. Зеймаль Е.В., 1963. Шива на монетах Великих Кушан // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1962 г. Л. Зеймаль Е.В., 1964. Раскопки объекта XIV на Пенджикентском городище (1956 и 1957 гг.) // МИА. № 124. Зеймаль Е.В., 1975. «Варварские подражания» как исторический источник // СГЭ. Л. Вып. XV. Зеймаль Е.В., 1978. Политическая история древней Трансоксианы по нумизматическим данным // Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Л. Зеймаль Е.В., 1983. Древние монеты Таджикистана. Душанбе. Зеймаль Е.В., 1985. Раннесредневековые монеты: Северный Тохаристан // Древности Таджикистана. Душанбе. Зеймаль Е.В., 1987. Монеты, найденные на памятниках Кобадиана с археологическими комплексами кушано-сасанидского времени: Реестр // Седов А.В. Кобадиан на пороге раннего средневековья. М. Зеймаль Т.И., 1959. Работы Вахшской группы Хутальского отряда в 1957 г. // APT. Вып. V. Зеймаль Т.И., 1961. Разведывательные работы в Вахшской долине в 1959 г. // APT. Вып. VII. Зеймаль Т.И., 1961а. Античное поселение в урочище Халкаджар // APT. Вып. VI. Зеймаль Т.И., 1962. Археологические работы в Вахшской долине в 1960 г. // APT. Вып. VIII. Зеймаль Т.И., 1969. Вахшская долина в древности и раннем средневековье: (Археологические памятники и динамика ирригационных систем левобережья долины): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Зеймаль Т.И., 1971. Древние и средневековые каналы Вахшской долины // СНВ. М. Вып. X. Зеймаль Т.И., 1975. Позднекушанские слои в Южном Таджикистане // Центральная Азия в кушанскую эпоху. М. Т. 2. Зеймаль Т.И., 1980. Раскопки на Аджинатепе в 1975 г. // APT. Вып. XV. Зеймаль Т.И., 1984. Раскопки крепости Нижний Уртабоз в 1978 г. // APT. Вып. XVIII. Зеймаль Т.И., 1985. Южный Таджикистан в V–VIII вв. // Древности Таджикистана. Душанбе. Зеймаль Т.И., 1986. Буддийский комплекс Шутур Мулло // APT. Вып. XIX. Зеймаль Т.И., 1987. Буддийская ступа у Верблюжьей горки: (К типологии ступ правобережного Тохаристана) // Прошлое Средней Азии. Душанбе. Зеймаль Т.И., Седов А.В., 1979. Комплексы кушано-сасанидского времени в Южном Таджикистане // Античная культура Средней Азии и Казахстана. Ташкент. Зеймаль Т.И., Седов А.В., 1985. Яванское городище (Гаракала) // Древности Таджикистана. Душанбе. Зеймаль Т.И., Соловьев В.С., 1983. Работы Уртабозского отряда // APT. Вып. XVII. Зелинский А.Н., 1964. Древние крепости на Памире // СНВ. Вып. III. Зильпер Д.Г., 1978. Дворцовый комплекс городища Мингурюк в Ташкенте // История и археология Средней Азии. Ашхабад. Зуев Ю.А., 1960. Китайские известия о Суябе // ИАН КазССР. Сер. истории, археологии и этнографии. Вып. 3(14). Зяблин Л.П., 1961. Второй буддийский храм Ак-Бешимского городища. Фрунзе.
Иванов П.П., 1932. К истории развития горного промысла в Средней Азии. Л.; М. Иерусалимская А.А., 1967. К вопросу о связях Согда с Византией и Египтом // НАА. № 3. Иерусалимская А.А., 1967а. О северокавказском «шелковом пути» в раннем средневековье // СА. № 2. Иерусалимская А.А., 1972. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде // Средняя Азия и Иран. Л. Иерусалимская А.А., 1972а. «Великий шелковый путь» и Северный Кавказ: (К выставке «Сокровища искусства Древнего Ирана, Кавказа, Средней Азии»). Л. Ильясов Дж., Русанов Д.В., 1988. Клад средневековых бронзовых изделий с городища Будрач // ОНУ. № 1. Иневаткина О.Н., 1983. Цитадель Афрасиаба: (Работы 1977–1979 гг.). ИМКУ. Вып. 18. Иностранцев К.А., 1907. Туркестанские оссуарии и астоданы // ЗВОРАО. T. XVII, вып. 4. Иностранцев К.А., 1907а. Материалы из арабских источников для культурной истории Сасанидской Персии: Приметы и поверья // ЗВОРАО. T. XVIII, вып. 2–3. Иностранцев К.А., 1908. К изучению оссуариев // ЗВОРАО. T. XVIII, вып. 1. Иностранцев К.А., 1909. О древнеиранских погребальных обычаях и постройках // ЖМНП. Н.С. Ч. XX. Исаков А.И., 1977. Цитадель древнего Пенджикента. Душанбе. Исаков А.И., 1977а. Раннесредневековые памятники Пенджикентского округа // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: Тез. Всесоюз. науч. конф. Душанбе. Исаков А.И., 1977б. Раскопки городища Актепе близ Пенджикента // АО 1976 г. М. Исаков А.И., 1979. Фильмандарский за́мок // УСА. Л. Вып. 4. Исаков А.И., 1979а. Разведки и раскопки Касаторошского отряда в 1974 г. // APT. Вып. XIV. Исамиддинов М.Х., Сулейманов Р.Х., 1977. Комплекс ритуально-культовой керамики IV–V вв. из Южного Согда // ИМКУ. Вып. 13. Исамиддинов М.Х., Сулейманов Р.Х., 1984. Еркурган: (Стратиграфия и периодизация). Ташкент. История Бухары с древнейших времен до наших дней, 1976. Ташкент. Итина М.А., 1981. Хорезмская экспедиция — основные итоги и перспективы исследований // Культура и искусство древнего Хорезма. М.
Кабанов С.К., 1950. Археологические работы 1948 года в Каршинском оазисе // ТИИА АН УзССР. Т. II. Кабанов С.К., 1954. Археологические раскопки на Шортепе близ Карши // ИАН УзССР. № 1. Кабанов С.К., 1956. Раскопки жилого квартала в западной части городища Варахша // ТИИА АН УзССР. Вып. 8. Кабанов С.К., 1958. Согдийское здание V в. н. э. в долине р. Кашкадарьи (Узбекистан) // СА. № 3. Кабанов С.К., 1961. Нахшебские монеты V–VI вв. // ВДИ. № 1. Кабанов С.К., 1963. Археологические данные к этнической истории Южного Согда в III–IV вв. // СА. № 1. Кабанов С.К., 1971. Изображение Шивы на оссуарии // СА. № 2. Кабанов С.К., 1973. Руины здания времени кушан близ Карши // ИМКУ. Вып. 10. Кабанов С.К., 1977. Нахшеб на рубеже древности и средневековья (III–IV вв.). Ташкент. Кабанов С.К., 1981. Культура сельских поселений Южного Согда III–IV вв.: По материалам исследований в зоне Чимкурганского водохранилища. Ташкент. Кадыров Д., 1975. Библиографический указатель по истории изучения Афрасиаба (1874–1972) // Афрасиаб. Ташкент. Вып. IV. Казахстан: Природные условия и естественные ресурсы, 1969. М. Каллаур В.А., 1897. Археологическая поездка по Аулие-Атинскому уезду. (Приложение) // ПТКЛА. № 2. Каллаур В.А., 1897а. Древние местности Аулие-Атинского уезда на старом караванном пути из Тараза (Таласа) в Восточный Туркестан. (Приложение) // ПТКЛА. № 2. Каллаур В.А., 1900. О следах древнего города «Джент» в низовьях р. Сырдарьи. (Приложение) // ПТКЛА. № 5. Каллаур В.А., 1901. Древние города, крепости и курганы по реке Сырдарье в восточной части Перовского уезда. (Приложение) // ПТКЛА. № 6. Каллаур В.А., 1901а. Развалины «Сырлытам» в Перовском уезде // ПТКЛА. № 6. Каллаур В.А., 1903. К истории города Аулие-Ата. (Приложение) // ПТКЛА. № 8. Каллаур В.А., 1904. Древние местности Аулие-атинского уезда на древнем караванном пути на запад от Аулиета к границе Чимкентского уезда. (Приложение) // ПТКЛА. № 9. Каллаур В.А., 1905. Древние киргизские легенды о постройке Ахырташа // ПТКЛА. № 10. Карцев В.Н., 1986. Зодчество Афганистана. М. Кастальский Б.Е., 1909. Биянайманские оссуарии // ПТКЛА. № 13. Кастальский Б.Н., 1930. Историко-географический обзор Сурханской и Ширабадской долин // Вестник ирригации. Ташкент. № 2–4. Кастанье И.А., 1915. Древности Уратюбе и Шахристана // ПТКЛА. № 20, вып. 1. Кауфман К.В., 1968. Согдийский извод сказания о Рустаме и «Шахнаме» Фирдоуси // Иранская филология: Крат, изложение докл. науч. конф., посвященной 60-летию проф. А.Н. Болдырева. М. Кацурис К., Буряков Ю.Ф., 1963. Изучение ремесленного квартала античного Мерва у северных ворот Гяуркалы // ТЮТАКЭ. Т. XII. Кесь А.С., 1933. Джар — древнее русло реки Мургаб // Труды Геоморфологического института. М. Вып. 12. Кесь А.С., Лисицына Г.Н., Костюненко В.П., 1972. Древние орошаемые земли средневекового Дехистана // КД. Ашхабад. Вып. 4. Кильчевская Э.В., Негматов Н.Н., 1964. Находки ювелирных изделий из Шахристана // СА. № 3. Кильчевская Э.В., Негматов Н.Н., 1979. Шедевры торевтики Уструшаны // Памятники культуры: Новые открытия. Л. Кисляков Н.А., 1969. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л. К исторической топографии древнего и сердневекового Самарканда, 1981. Ташкент. Кларе К.А., Черкасов А.А., 1904. Древний Отрар и раскопки, произведенные в развалинах его в 1904 г. // ПТКЛА. № 9. Кляшторный С.Г., 1955. Историко-культурное значение Суджинской надписи // ПВ. № 5. Кляшторный С.Г., 1964. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М. Кляшторный С.Г., Лившиц В А., 1971. Согдийская надпись из Бугута // СНВ. М. Вып. 10. Книга к Большому Чертежу, 1950. Подгот. к печати и ред. К.И. Сербиной. М.; Л. Кобылина М.М., 1967. Форма с изображением сирены из Фанагории // СА. № 1. Кожемяко П.Н., 1959. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины. Фрунзе. Кожемяко П.Н., 1963. Оседлые поселения Таласской долины // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе. Кожемяко П.Н., 1970. Изучение памятников средневековья в Киргизии // Средневековые города Средней Азии и Казахстана: ТД Всесоюз. науч. конф. Фрунзе; Л. Кожемяко П.Н., 1989. Отчет о полевых археологических работах на Краснореченском городище в 1961 г. // Красная Речка и Бурана: Материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции. Фрунзе. Кожемяко П.Н., 1989а. Отчет о раскопочных работах на Краснореченском городище в 1962–1963 гг. // Там же. Кожомбердиев И., 1977. Основные этапы истории культуры Кетмень-Тюбе // Кетмень-Тюбе: История и археология. Фрунзе. Козенкова В.И., 1964. Гайраттепе // СА. № 3. Козлов В.И., 1969. Динамика численности народов. М. Колесников А.И., 1970. Иран в начале VII в.: (Источники, внутренняя и внешняя политика, вопросы административного деления // Палестинский сборник. Л. Вып. 22 (85). Колесников А.И., 1982. Завоевание Ирана арабами. М. Кондаков Н., 1896. Русские клады. СПб. Т. 1. Кондауров А.Н., 1940. Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягнобцев. М.; Л. Корепанов К.И., 1978. Фигурка медведя с Верхне-Утчанского городища // СА. № 4. Кошеленко Г.А., 1963. Парфянская фортификация // СА. № 2. Кошеленко Г.А., 1966. Культура Парфии. М. Кошеленко Г.А., 1966а. Уникальная ваза из Мерва // ВДИ. № 1. Кошеленко Г.А., 1984. Исследование буддийских памятников в Мерве // Древние культуры Средней Азии и Индии. Л. Кошеленко Г.А., 1985. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии // Археология СССР. М. Кошеленко Г.А., Гаибов В.А., Бадер А.Н., 1944. Древняя Маргиана в письменной традиции: Данные китайских буддийских источников // Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск. Вып. 1. Кошеленко Г.А., Гаибов В.А., Бадер А.Н., 1997. О некоторых особенностях экологической ситуации в Мервском оазисе в древности и раннем средневековье // Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск. Вып. 4, ч. 1. Кошеленко Г.А., Губаев А.А., Гаибов В.А., Бадер А.Н., 1994. Мервский оазис: Динамика систем расселения и ирригации // ВДИ. № 4. Кошеленко Г.А., Десятников Ю.М., 1966. Раскопки некрополя древнего Мерва // АО 1965 г. М. Кошеленко Г.А., Никитин А.Б., 1991. Монетные находки и проблемы стратиграфии Гёбеклыдепе // МАИКЦА ИБ. М. Вып. 18. Кошеленко Г.А., Оразов О., 1965. О погребальном культе в Маргиане в парфянское время // ВДИ. № 4. Крачковская В.А., 1949. Эволюция куфического письма в Средней Азии // ЭВ. М.; Л. Вып. III. Крашенинникова Н.И., 1970. Работы в Китабе // АО 1969 г. М. Крашенинникова Н.И., 1977. Маршрутное обследование Китабского района // АО 1976 г. М. Крашенинникова Н.И., 1986. Два штампованных оссуария из окрестностей кишлака Сиваз Китабского района // Городская среда и культура Бактрии-Тохаристана и Согда IV в. до н. э. — VIII в. н. э.: Тез. докл. сов.-фр. коллоквиума, Самарканд, 25–30 авг. 1986 г. Ташкент. Кропоткин В.В., 1962. Клады византийских монет на территории СССР // САИ. Вып. Е4-4. Кругликова И.Т., 1974. Дильберджин: (Раскопки 1970–1972 гг.). М. Ч. 1. Кругликова И.Т., 1976. Настенные росписи Дильберджина // Древняя Бактрия: Материалы Советско-Афганской экспедиции 1969–1973 гг. М. Кругликова И.Т., 1979. Настенные росписи в помещении 16 северо-восточного комплекса Дильберджина // Древняя Бактрия: Материалы Советско-Афганской археологической экспедиции. М. Вып. 2. Культура древнебухарского оазиса III–VI вв. н. э., 1983. Ташкент. Курылев В.П., 1976. Хозяйство и материальная культура турецкого крестьянства. М. Курылев В.П., 1978. Семейно-родственные группы у казахов конца XIX — начала XX в.: (По некоторым литературным источникам) // Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. М. Кушакевич А.А., 1872. Очерки Ходжентского уезда // Туркестанские ведомости. № 14. Кызласов Л.Р., 1959. Средневековые города Тувы // СА. № 3. Кызласов Л.Р., 1959а. Археологические исследования на городище Ак-Бешим в 1953–1954 гг. // ТКАЭЭ. Т. II. Кызласов Л.Р., 1965. Городище Ден-Терек // Древнемонгольские города. М. Кызласов Л.Р., Смирнова О.И., Щербак А.М., 1958. Монеты из раскопок городища Ак-Бешим (КиргССР) в 1953–1954 гг. // Учен. зап. ИВ АН СССР. М.; Л. Т. XVI.
Лавров В.А., 1950. Градостроительная культура Средней Азии. М. Лагофет Д.Н., 1909. На границах Средней Азии. Кн. III. Бухарско-Афганская граница. СПб. Левина Л.М., 1966. Керамика и вопросы хронологии памятников джетыасарской культуры // Материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. М. Левина Л.М., 1968. К вопросу об антропоморфных изображениях в джетыасарской культуре // История, археология и этнография Средней Азии. М. Левина Л.М., 1971. Керамика нижней и средней Сырдарьи в I тыс. н. э. // ТХАЭЭ. Т. VII. Левина Л.М., 1996. Этнокультурная история Восточного Приаралья: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М. Левина В.А., Овезев Д.М., Пугаченкова Г.А., 1953. Архитектура туркменского народного жилища // ТЮТАКЭ. Т. 3. Леммлейн Г.Г., 1963. Минералогические сведения сообщаемые в трактате Бируни // Абу Рейхан аль Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей: (Минералогия). М. Лерх П.И., 1870. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 г. СПб. Лерх П.И., 1909. Монеты бухар-худатов // Тр. Вост. отд-ния Рус. археол. о-ва. СПб. Ч. XVIII. Лещенко В.Ю., 1971. Восточные клады на Урале в VII–XIII вв. (по находкам художественной утвари): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Лившиц В.А., 1960. Согдийский брачный контракт начала VIII в. // СЭ. № 5. Лившиц В.А., 1963. Общество Авесты // ИТН. М. Лившиц В.А., 1965. Надписи на фресках Афрасиаба // Тезисы докладов сессии, посвященной истории живописи стран Азии. Л. Лившиц В.А., 1968. О письменности Ферганы // НАА. № 6. Лившиц В.А., 1971. Земледелие и аграрные отношения в Туркменистане в период раннего средневековья (IV–VII вв. н. э.) // Очерки истории земледелия и аграрных отношений в Туркменистане. Ашхабад. Лившиц В.А., 1975. «Зороастрийский» календарь // Бикерман Э. Хронология древнего мира. М. Лившиц В.А., 1975а. Правители Согда и «цари хуннов» китайских династийных историй // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Л. Т. IX. Лившиц В.А., 1977. Правители Пенджикента VII — начала VIII в. // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана. Тез. Всесоюз. науч. конф. в г. Пенджикенте ТаджССР, 26–31 авг. 1977 г. Душанбе. Лившиц В.А., 1979. Авестийское urvaxs. uxti // Переднеазиатский сборник. М. Вып. III: История и филология стран Древнего Востока. Лившиц В.А., 1979а. Правители Панча: (Согдийцы и тюрки) // НАА. № 4. Лившиц В.А., 1981. Согдийский язык: Введение // Основы иранского языкознания: Среднеиранские языки. М. Лившиц В.А., 1981а. Согдийцы в Семиречье: Лингвистические и эпиграфические свидетельства // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: XV годич. науч. конф. ЛО ИВ АН СССР. Л. Ч. I. Лившиц В.А., 1984. Документы // Дворец Топраккала. М. Лившиц В.А., 1984а. Новые парфянские надписи из Туркмении и Ирака // ЭВ. Вып. XXII. Лившиц В.А., 1985. Письмо Деваштичу от Фатуфарна // Древности Таджикистана: Каталог выставки. Душанбе. Лившиц В.А., 1989. Согдийцы в Семиречье, лингвистические и эпиграфические свидетельства // Красная Речка и Бурана: (Материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции). Фрунзе. Лившиц В.А., 1990. Письменные памятники из древнего Мерва // Мерв в древней и средневековой истории Востока: Тез. докл. науч. симпоз. Ашхабад. Лившиц В.А., Кауфман Н.В., Дьяконов М.М., 1954. О древней согдийской письменности Бухары // ВДИ. № 1. Лившиц В.А., Луконин В.Г., 1964. Среднеперсидские и согдийские надписи на серебряных сосудах // ВДИ. № 3. Лившиц В.А., Никитин А.Б., 1989. Парфянские надписи с Гёбеклыдепе // ВДИ. № 3. Лившиц В.А., Ртвеладзе Э.В., 1982. О монетных чеканах раннесредневекового Чача // У истоков древней культуры Ташкента. Ташкент. Лившиц В.А., Хромов А.Л., 1981. Согдийский язык // Основы иранского языкознания: Среднеиранские языки. М. Литвинский Б.А., 1954. Археологическое изучение Таджикистана советской наукой. Сталинабад. Литвинский Б.А., 1968. Кангюйско-ку шанский фарн: К историко-культурным связям племен южной России и Средней Азии. Душанбе. Литвинский Б.А., 1972. Курганы и курумы Западной Ферганы: (Раскопки, погребальный обряд в свете этнографии). М. Литвинский Б.А., 1973. Керамика из могильников Западной Ферганы. М. Литвинский Б.А., 1976. Проблемы этнической истории древней и раннесредневековой Ферганы // История и культура народов Средней Азии. М. Литвинский Б.А., 1976а. Токкузкала // АО 1975 г. М. Литвинский Б.А., 1977. Этногенетические процессы в раннесредневековой Фергане: (Палеоантропологический и лингвистический аспекты) // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М. Литвинский Б.А., 1977а. Буддийский храм Калаи Кафирниган // АО 1976 г. М. Литвинский Б.А., 1978. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы: (Археологические и этнографические материалы по истории культуры и религии Средней Азии). М. Литвинский Б.А., 1979. Кушанский город Средней Азии // НАА. № 3. Литвинский Б.А., 1979а. Среднеазиатский центрический мавзолей: Проблема генезиса // Этнография и археология Средней Азии. М. Литвинский Б.А., 1979б. Калаи Кафирниган: (Раскопки 1974 г.) // APT. Вып. XIV. Литвинский Б.А., 1981. Настенная живопись Калаи Кафирнигана // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье: (История и культура). М. Литвинский Б.А., 1981а. Семантика древних верований и обрядов у памирцев. (1) // Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М. Литвинский Б.А., 1983. Древняя и средневековая культура Киргизстана — интегральная часть культуры Востока // Культура и искусство Киргизии: ТД Всесоюз. науч. конф. Л. Вып. I. Литвинский Б.А., 1986. Северная Бактрия-Тохаристан: Проблемы этнокультурного развития // Городская среда и культура Бактрии-Тохаристана (IV в. до н. э. — VIII в. н. э.): Тез. докл. Ташкент. Литвинский Б.А., Гулямова Э.Г., Зеймаль Т.И., 1959. Работы отряда по сбору материалов для составления археологической карты (1956 г.) // APT. Вып. IV. Литвинский Б.А., Денисов Е.П., 1973. Буддийская часовня на Кафыркале // APT. Вып. X. Литвинский Б.А., Зеймаль Т.И., 1971. Аджинатепе: Архитектура. Живопись. Скульптура. М. Литвинский Б.А., Зеймаль Т.И., 1973. Раскопки на Аджинатепе и Кафыркале в 1970 г. // APT. Вып. X. Литвинский Б.А., Зеймаль Т.И., 1975. Раскопочные работы на Аджинатепе // APT. Вып. XI. Литвинский Б.А., Зеймаль Т.И., Медведская И.Н., 1977. Отчет о работах Южно-Таджикистанской экспедиции в 1973 г. // APT. Вып. XIII. Литвинский Б.А., Седов А.В., 1983. Тепаишах: Культура и связи кушанской Бактрии. М. Литвинский Б.А., Седов А.В., 1984. Культы и ритуалы кушанской Бактрии: Погребальный обряд. М. Литвинский Б.А., Соловьев В.С., 1985. Средневековая культура Тохаристана в свете раскопок в Вахшской долине. М. Лобачева Н.П., 1979. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи: (По данным стенных росписей) // Костюм народов Средней Азии: Историко-этнографические очерки. М. Логинов С.Д., 1985. Проблема локализации Апаварктикены и ее центра Апаварктики // ИАН ТССР. СОН. № 5. Логинов С.Д., 1985а. К вопросу о назначении вала Мерв // Памятники Туркменистана. Ашхабад. № 2. Логинов С.Д., 1986. Материалы к истории денежного обращения Апаварктикены // ИАН ТССР. СОН. № 4. Логинов С.Д., 1990. Мерв эпохи Сасанидов в свете работ ЮТАКЭ // Мерв в древней и средневековой истории Востока: Тез. докл. науч. симпоз. Ашхабад. Логинов С.Д., 1991. Культура Апаварктикены в эпоху Сасанидов (III–VII вв. н. э.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Логинов С.Д., Никитин А.Б., 1984. Монеты царя Мерва // Памятники Туркменистана. Ашхабад. № 1 (37). Логинов С.Д., Никитин А.Б., 1985. О начальном этапе чеканки бухарских подражаний драхмам Варахрана V // ОНУ. № 6. Логинов С.Д., Никитин А.Б., 1986. Монеты с всадником из Мерва // СА. № 3. Логинов С.Д., Никитин А.Б., 1988. Монограммы монетного двора Мерва // ЭВ. М. Вып. XXV. Луконин В.Г., 1967. Кушано-сасанидские монеты // ЭВ. М. Вып. XVIII. Луконин В.Г., 1969. Культура сасанидского Ирана // Иран в III–V вв.: Очерки по истории культуры. М. Луконин В.Г., 1969а. Среднеперсидские надписи из Каратепе // Буддийские пещеры Каратепе в Старом Термезе. М. Луконин В.Г., 1971. По поводу булл из Акдепе // ЭВ. М. Вып. XX. Луконин В.Г., 1977. Искусство древнего Ирана. М. Луконин В.Г., 1979. Иран в III в.: Новые материалы и опыт исторической реконструкции. М. Луконин В.Г., 1981. Митра на кушано-сасанидских монетах // Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье: Тез. докл. М. Лунин Б.В., 1958. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Ташкент. Лунин Б.В., 1969. К топографии и описанию древних монетных кладов и отдельных монетных находок на территории Узбекистана // ИМКУ. Вып. 8. Лунина С.Б., 1962. Гончарное производство в Мерве // ТЮТАКЭ. Т. XI. Лунина С.Б., 1966. Группа «Караултепе» и некоторые археологические памятники Бостандыкского района // Археология Средней Азии. Ташкент. Вып. VII. (Тр. САГУ). Лунина С.Б., 1984. Города южного Согда в VIII–XII вв. Ташкент. Лунина С.Б., Усманова З.И., 1956. Из археологических наблюдений на Кугаиттепе близ Ташкента // Археология Средней Азии. Ташкент. Вып. III. (Тр. САГУ). Лунина С.Б., Усманова З.И., 1985. Уникальный оссуарий из Кашкадарьи // ОНУ. № 3. Люшин Д.Н., 1913. От Чиназа до Перовска по Сырдарье // Известия ТОРГО. Т. 9. Лыкошин Н.С., 1886. Очерки археологических изысканий в Туркестанском крае до учреждения Туркестанского кружка любителей археологии // Среднеазиатский вестник. Ташкент. Июль, сентябрь. Лыкошин Н.С., 1899. Догадка о прошлом Отрара // ПТКЛА. № 4. Лыкошин Н.С., 1906. Чапкульская волость Ходжентского уезда // Справочная книжка Самаркандской области. Самарканд. Вып. 8. Ляпин А., 1986. Каушутбент // Памятники Туркменистана. Ашхабад. № 1 (41).
Магидович И.Я., 1926. Материалы по районированию Средней Азии. Ташкент. Кн. I, ч. 1. Максимова А.Г., 1974. Гробница типа науса у с. Чага (Шага) // В глубь веков. Алма-Ата. Максимова А.Г., Мершиев М.С., Вайнберг Б.И., Левина Л.М., 1968. Древности Чардары. Алма-Ата. Макшеев А.И., 1887. Остатки старинного города на Сырдарье // Санкт-Петербург, губерн. ведомости. № 60. Малявкин А.Г., 1975. Китай и уйгуры в 840–848 гг. // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века: История и культура Азии. Новосибирск. Т. 3. Мамадназаров М.Х., Якубов Ю.Я., 1985. Конструктивные и функциональные особенности горнобадахшанского ступенчатого потолка иорхона // Памироведение. Душанбе. Вып. II. Мамбетулаев М., Юсупов Н., Ходжаниязов Ш., Матрасумов Ш., 1986. Хива по итогам исследований 1985 г. // ВКФ. № 2. Мандельштам А.М., 1954. О некоторых вопросах сложения таджикской народности в Среднеазиатском междуречье // СА. XX. Мандельштам А.М., 1954а. К вопросу о значении термина «чакир» // ИООН АН ТаджССР. Вып. V. Мандельштам А.М., 1954б. Предварительный отчет о работах Верхнезеравшанского отряда в 1958 г. // Док л. АН ТаджССР. Вып. 11. Мандельштам А.М., 1956. Характеристика тюрок IX в. в «Послании Фатху бен хакану ал Джахиза» // ТИИАЭ АН ТССР. Ашхабад. Т. 1. Мандельштам А.М., 1956а. Раскопки на Батуртепе в 1955 г. Сталинабад. (ТИИАЭ АН ТаджССР; LXIII). Мандельштам А.М., 1957. Материалы к историко-географическому обзору Памира и припамирских областей с древнейших времен до X в. н. э. Сталинабад. (ТИИАЭ АН ТаджССР; LIII). Мандельштам А.М., 1964. Социально-экономический строй земледельческих областей Средней Азии // ИТН. М. Т. 2, ч. 1. Мандельштам А.М., 1965. Могильник в с. Зосун (верховья р. Зеравшан) // ИООН АН ТаджССР. № 2 (40). Мандельштам А.М., 1967. К данным ал Бируни о Памире и припамирских областях //Эллинистический Ближний Восток, Византия и Иран: История и философия. М. Мандельштам А.М., 1982. Могильник Джанак II // КСИА. Вып. 167. Мандельштам А.М., Певзнер С.Б., 1958. Работы Кафирниганского отряда в 1952–1953 гг. // МИА. № 66. Маньковская Л.Ю., 1980. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX — начало XX в.). Ташкент. Манылов Ю.П., 1964. Костяные изделия VII–IX вв. с городищ правобережной дельты Амударьи // ВКФ. № 1. Манылов Ю.П., 1966. К изучению городища Кят // ВКФ. № 2. Манылов Ю.П., 1972. Археологические памятники Султануиздага эпохи античности и средневековья: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. Маргулан А.Х., 1948. Оседлые поселения VIII–XIII вв. на северных склонах Каратау // Изв. АН КазССР. Сер. археол. Вып. 2. Маргулан А.Х., 1950. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. Алма-Ата. Маргулан А.Х., 1951. Третий сезон археологической работы в Центральном Казахстане // Изв. АН КазССР. Сер. археол. Вып. 3. Маргулан А.Х., 1978. Остатки оседлых поселений в Центральном Казахстане // Археологические памятники Казахстана. Алма-Ата. Маршак Б.И., 1961. Влияние торевтики на согдийскую керамику VII–VIII веков // ТГЭ. Л. Т. 5. Маршак Б.И., 1964. Отчет о работах на объекте XII за 1955–1960 гг. // МИА. № 124. Маршак Б.И., 1965. Керамика Согда V–VII вв. как историкокультурный памятник: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Маршак Б.И., 1970. Код для описания керамики Пенджикента V–VI вв. // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М. Маршак Б.И., 1971. К вопросу о восточных противниках Ирана в V в. // СНВ. М. Вып. 10. Маршак Б.И., 1971а. Согдийское серебро: Очерки по восточной торевтике. М. Маршак Б.И., 1972. Бронзовый кувшин из Самарканда // Средняя Азия и Иран. Л. Маршак Б.И., 1975. Городская стена V–VII вв. в Пенджикенте // Новейшие открытия советских археологов: ТД. Киев. Ч. II. Маршак Б.И., 1977. Сказки и притчи древнего Пенджикента // Наука и жизнь. № 11. Маршак Б.И., 1981. Индийский компонент в культовой иконографии Согда // Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье: ТД науч. конф. М. Маршак Б.И., 1983. Восточные аналогии зданиям типа вписанного креста: Пенджикент и Бамиан, VI–VIII вв. // Probleme der Architektur des Orients. Halle (Saale). Маршак Б.И., 1983a. Монументальная живопись Согда и Тохаристана в раннем средневековье // Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Востоке: ТД. М. Маршак Б.И., 1985. Центральный Таджикистан в V–VIII вв. // Древности Таджикистана. Душанбе. Маршак Б.И., 1985а. Городище раннесредневекового Пенджикента // Древности Таджикистана: Каталог выставки. Душанбе. Маршак Б.И., 1987. Искусство Согда: Новые памятники письменности и искусства // Центральная Азия. М. Маршак Б.И., Крикис Я.К., 1969. Чилекские чаши // ТГЭ. Л. Т. X. Маршак Б.И., Распопова В.И., 1983. Согдийцы в Семиречье: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Культура и искусство Киргизии». Л. Вып. 1. Маршак Б.И., Распопова В.И., 1985. Согдийское изображение Деда-Земледельца // Вопросы древней истории Южной Сибири. Абакан. Маршак Б.И., Распопова В.И., 1991. Адоранты из северной капеллы II храма Пенджикента // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М. Марущенко А.А., 1930. Раскопки святилища огня: (Памятник домусульманской эпохи Бабадурмаз) // Туркменоведение. № 11. Марущенко А.А., 1956. Хосровкала: (Отчет о раскопках 1953 г.) // ТИИАЭ АН ТССР. Ашхабад. T. II. Марущенко А.А., 1956а. Старый Серахс: (Отчет о раскопках 1953 г.) // Там же. T. II. Марущенко А.А., 1956б. Итоги полевых археологических работ 1953 г. Института истории, археологии и этнографии Академии наук Туркменской ССР // Там же. T. II. Масанов Е.А., 1968. Очерк истории этнографического изучения казахстанского народа в СССР. Алма-Ата. Массон В.М., 1968. К вопросу об общественном строе древней Средней Азии // История, археология и этнография Средней Азии. М. Массон В.М., 1970. Успехи среднеазиатской археологии и изучение средневекового города // Средневековые города Средней Азии и Казахстана: ТД. Л. Массон В.М., 1973. Процесс урбанизации в древней истории Средней Азии // Сессия, посвященнаяитогам полевых археологических исследований 1972 г. в СССР: ТД. Ташкент. Массон В.М., 1976. Кушанские поселения и кушанская археология // Бактрийские древности: Некоторые результаты работ Бактрийской экспедиции в 1973–1975 гг. Л. Массон В.М., 1976а. Экономика и социальный строй древних обществ. Л. Массон В.М., 1977. Согдийская эпоха и культурная интеграция // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: ТД Всесоюз. науч. конф. Душанбе. Массон В.М., 1978. Изучение кушанских и раннесредневековых памятников на юге Узбекистана // АО 1977 г. М. Массон В.М., 1979. Согдийская эпоха и культурная интеграция // УСА. № 4. Массон В.М., 1981. Алтындепе // ТЮТАКЭ. T. XVIII. Массон В.М., 1981а. Кушанская эпоха в древней истории Узбекистана: (Вопросы типологии поселений и культурогенеза) // ОНУ. № 6. Массон М.Е., 1928. Старый Сайрам // Известия Средазкомстариса. Вып. 3. Массон М.Е., 1941. Городища Старого Термеза и их изучение //Тр. Узб. ФАН. Сер. 1. Вып. 2. Массон М.Е., 1949. Городища Нисы в селении Багир и их изучение // ТЮТАКЭ. T. I. Массон М.Е., 1949а. Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция 1946 г. // ТЮТАКЭ. Т. I. Массон М.Е., 1950. К периодизации древней истории Самарканда // ВДИ. № 4. Массон М.Е., 1951. Новые данные по древней истории Мерва // ВДИ. № 4. Массон М.Е., 1953. Ахангеран: Археолого-топографический очерк. Ташкент. Массон М.Е., 1953а. Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ) 1947 г. // ТЮТАКЭ. Т. II. Массон М.Е., 1953б. Прошлое Ташкента // Изв. АН УзССР. № 2. Массон М.Е., 1956. Краткий очерк изучения Средней Азии в археологическом отношении // Археология Средней Азии. Ташкент. Кн. XII. (Тр. САГУ.Н.С.; Вып. 81). Массон М.Е., 1963. К изучению прошлого Старого Мерва // ТЮТАКЭ. Т. XII. Массон М.Е., 1966. Среднеазиатская археологическая школа ТашГУ // Археология Средней Азии. Ташкент. Кн. VII. (Тр. ТашГУ; Вып. 295). Массон М.Е., 1966а. Средневековые торговые пути из Мерва в Хорезм и Мавераннахр (в пределах Туркменской ССР) // ТЮТАКЭ. Т. XIII. Массон М.Е., 1977. Парфяно-согдийские монеты области долины Кашкадарьи // История и культура античного мира. М. Массон М.Е., 1980. Краткий очерк истории изучения городищ Старого Мерва до 1946 г. // Культура Туркмении в средние века. Ашхабад. (ТЮТАКЭ; Т. XVII). Матбабаев Б.Х., 1993. Оссуарии Ферганы // ОНУ. № 2. Матбабаев Б.Х., 1994. Подземные склепы Мунчактепе // Фергана в древности и средневековье. Самарканд. Матбабаев Б.Х., 1996. Одиночные погребения могильника Мунчактепе; (К вопросу изучения погребальных сооружений Северной Ферганы первой половины-середины I тысячелетия н. э.) // ИМКУ. Вып. 27. Мережин Л.Н., 1962. К характеристике керамических печей периода рабовладения и раннего средневековья в Мервском оазисе // ТЮТАКЭ. Т. XI. Мерщиев М.С., 1968. К вопросу о стратиграфии нижних слоев Тараза // Новое в археологии Казахстана. Алма-Ата. Мерщиев М.С., 1968а. Городище Актобе I (IV — начало XIII в.) // Древности Чардары. Алма-Ата. Мерщиев М.С., 1970. Поселение Кзыл-Кайнартобе I–IV вв. и захоронение на нем воина IV–V вв. // По следам древних культур Казахстана. Алма-Ата. Мешкерис В.А., 1962. Терракоты Самаркандского музея. Л. Мешкерис В.А., 1977. Коропластика Согда. Душанбе. Мирбабаев А.К., 1979. Новые скальные склепы Курката // АО 1978 г. М. Мирбабаев А.К., 1980. О работе Куркатского отряда // АО 1979 г. М. Михайлова А.И., 1951. Новые этнографические данные по истории Средней Азии IX в. // ЭВ. М. Вып. 5. Мкртычев Т.К., Наймарк А.И., 1987. Происхождение аркадной композиции на штампованных оссуариях Самаркандского Согда // Культура и искусство: ТД. М. Мошкова В.Г., 1953. Отчет о работе этнографической группы V отряда ЮТАКЭ в 1947 г. в Бохарденском районе ТССР // ТЮТАКЭ. Т. II. Мусакаева А., 1985. Монета с изображением верблюда из коллекции музея истории Узбекистана // Творческое наследие народов Средней Азии в памятниках искусства, архитектуры и археологии: ТД. Ташкент. Мухамеджанов А., Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К., Семенов Г.Л., 1988. Городище Пайкенд: К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. Ташкент. Мухамеджанов А.Р., Валиев П.С., 1978. Работы Бухарского отряда // АО 1977 г. М. Мухамеджанов А.Р., Мирзаахмедов Д., Адылов Ш.Т., 1984. Новые данные к истории городища Пайкенд (по материалам раскопок 1981 г.) // ИМКУ. Вып. 19. Мухамеджанов А.Р., Мирзаахмедов Д.К., Адылов Ш.Т., 1986. К изучению исторической топографии и фортификации Бухары // ИМКУ. Вып. 20. Мухамеджанов А.Р., Семенов Г.Л., 1986. Химическая лаборатория в Пайкенде: (Работа на «центральном» раскопе в Пайкенде в 1982–1983 гг.) // ИМКУ. Вып. 20. Мухамедов X., 1961. Из истории древних оборонительных стен вокруг оазисов Узбекистана: «Стена Кампирак» древнебухарского оазиса: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. Мухиддинов И., 1984. Особенности традиционного земледельческого хозяйства припамирских народностей в XIX — начале XX в. Душанбе. Мурзаев Э.М., 1957. Средняя Азия. М. Мухтаров А., 1982. Шедевры в единственном числе // Путешествие в Согдиану. Душанбе.
Настич В.Н., 1975. Поясная накладка из Отрара // Древности Казахстана. Алма-Ата. Настич В.Н., 1989. Монетные находки с городища Красная Речка (1978–1983 гг.) // Красная Речка и Бурана: (Материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции). Фрунзе. Негматов Н.Н., 1952. Уструшана в VII–X вв.: (По материалам письменных и археологических источников): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Негматов Н.Н., 1956. К вопросу об этнической принадлежности населения Уструшаны // КСИИМК. Вып. 61. Негматов Н.Н., 1956а. О работах Ходжентско-Уструшанского отряда в 1955 г. Сталинабад. (ТИИАЭ АН ТаджССР; Т. LX). Негматов Н.Н., 1957. Уструшана в древности и раннем средневековье. Сталинабад. Негматов Н.Н., 1964. О работах Северо-Таджикистанского отряда в 1961 г. // APT. Вып. IX. Негматов Н.Н., 1968. Ходжент и Уструшана в древности и средневековье: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М. Негматов Н.Н., 1968а. К истории средневекового скотоводческо-земледельческого хозяйства горной Уструшаны // Проблемы археологии Средней Азии: ТД. Л. Негматов Н.Н., 1971. Исследования в Северном Таджикистане // АО 1970 г. М. Негматов Н.Н., 1973. О живописи дворца афшинов Уструшаны: (Предварительное сообщение) // СА. № 3. Негматов Н.Н., 1973а. Раскопки в Северном Таджикистане // АО 1972 г. М. Негматов Н.Н., 1975. Исследования Северо-Таджикистанского отряда // АО 1973 г. М. Негматов Н.Н., 1975а. Раскопки в Северном Таджикистане // АО 1974 г. М. Негматов Н.Н., 1976. Живопись Шахристана: Опыт реставрации и проблемы исследования // Изв. ООН АН ТаджССР. № 3(85). Негматов Н.Н., 1977. Уструшанский компонент среднеазиатской культуры раннего средневековья // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: ТД. Душанбе. Негматов Н.Н., 1977а. Исследования Северо-Таджикистанского археологического отряда в 1973 г. // APT. Вып. XIII. Негматов Н.Н., 1977б. Резное дерево дворца афшинов Уструшаны // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник, 1976 г. М. Негматов Н.Н., 1978. К проблеме компактных селений Уструшаны и Ходжентской области в средние века // МКТ. Душанбе. Вып. 3. Негматов Н.Н., 1979. Некоторые итоги и перспективы археологии Северного Таджикистана в связи с созданием СГАКЭ: Краткие результаты работ 1974 г. // APT. Вып. XIV. Негматов Н.Н., 1979а. Характер и уровень материальной культуры Уструшаны // УСА. Л. Вып. 4. Негматов Н.Н., 1980. Об исследованиях СТАКЭ в 1975 г. // APT. Вып. XV. Негматов Н.Н., 1980а. Об эллинистических элементах в культуре уструшано-ходжентско-западноферганского региона Средней Азии // Всесоюз. симпоз. по пробл. эллинистической культуры на Востоке: ТД. Ереван. Негматов Н.Н., 1980б. Раскопки на городище Капай Кахкаха I // АО 1979 г. М. Негматов Н.Н., 1981. О работах в Шахристане // АО 1980 г. М. Негматов Н.Н., 1982. О работах СТАКЭ в 1976 г. // APT. Вып. XVI. Негматов Н.Н., 1982а. О работах СТАКЭ в 1977 г. // APT. Вып. XVII. Негматов Н.Н., 1984. Божественный и демонический пантеоны Уструшаны и их индоиранские параллели // Древние культуры Средней Азии и Индии. Л. Негматов Н.Н., 1984а. Полевые исследования СТАКЭ в 1978 г. // APT. Вып. XVIII. Негматов Н.Н., 1985. Живопись Шахристана: (Проблемы и суждения) // Культурное наследие Востока: Проблемы, поиски, суждения. Л. Негматов Н.Н., 1986. Исследования в Ленинабадской области // АО 1984 г. М. Негматов Н.Н., Авзалов Р.З., Мамаджанова С.М., 1979. Храм и мечеть Калаи Кахкаха I // АО 1978 г. М. Негматов Н.Н., Авзалов Р.З., Мамаджанова С.М., 1987. Храм и мечеть Бунджиката на Калаи Кахкаха // МКТ. Душанбе. Вып. 4. Негматов Н.Н., Билалов А.И., Мирбабаев А.К., 1975. Открытие скальных склепов у сел. Куркат // АО 1974 г. М. Негматов Н., Зеймаль Т.М., 1961. Раскопки Тирмизактепе // Изв. АН ТаджССР. СОН. Вып. 1(24). Негматов Н.Н., Кильчевская Э.В., 1979. Калаибаландский клад металлических изделий // Искусство таджикского народа. Душанбе. Вып. 4. Негматов Н.Н., Мамаджанова С.М., Рахимов Н.Т. и др., 1988. Работы Северотаджикистанской экспедиции // АО 1986 г. М. Негматов Н.Н., Мамаджанова С.М., 1983. Согдийские традиции в градостроительной культуре Семиречья // Культура и искусство Киргизии: ТД. Л. Негматов Н.Н., Мамаджанова С.М., 1989. Бунджикат — средневековая столица Уструшаны // Культура Среднего Востока: Градостроительство и архитектура. Ташкент. Негматов Н.Н., Мирбабаев А.К., 1978. Раскопки Куркатских склепов: (Предварительное сообщение) // КСИА. Вып. 154. Негматов Н.Н., Мирбабаев А.К., Абдурасулов М.А., 1977. О работах Уструшанского отряда // АО 1976 г. М. Негматов Н.Н., Мирбабаев А.К., Абдурасулов М.А., 1978. О работах Куркатского отряда // АО 1977 г. М. Негматов Н.Н., Пулатов У.П., Хмельницкий С.Г., 1973. Уртакурган и Тирмизактепе. Душанбе. Негматов Н.Н., Салтовская Е.Д., 1962. О работах Ходжентско-Уструшанского отряда в 1960 г. // APT. Вып. VIII. Негматов Н.Н., Салтовская Е.Д., 1975. Материальная культура кушанского времени в Уструшане и Западной Фергане // Центральная Азия в кушанскую эпоху. М. Т. II: Труды Международной конференции по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху. Негматов Н.Н., Салтовская Е.Д., Кияткина Т.П., 1961. Изучение погребальных памятников кочевников на территории Уструшаны // APT. Вып. VI. Негматов Н.Н., Соколовский В.М., 1973. Два фрагмента стенной росписи с изображением многорукой богини из Шахристана // СГЭ. Л. Вып. 37. Негматов Н.Н., Соколовский В.М., 1975. «Капитолийская волчица» в Таджикистане и легенды Евразии // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник, 1974 г. М. Негматов Н.Н., Соколовский В.М., 1977. Реконструкция и сюжетная интерпретация росписей Малого зала дворца афшинов Уструшаны // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: ТД. Душанбе. Негматов Н.Н., Хмельницкий С.Г., 1966. Средневековый Шахристан. Душанбе. Неразик Е.Е., 1958. Керамика Хорезма афригидского периода // ТХАЭЭ. М. Т. IV. Неразик Е.Е., 1959. Раскопки в Беркуткалинском оазисе в 1953–1956 гг. // МХЭ. М. Вып. 1. Неразик Е.Е., 1963. Раскопки Якке-Парсана // МХЭ. М. Вып. 7. Неразик Е.Е., 1963а. Предки таджикского народа в IV–V вв. // ИТН. М. Т. I. Неразик Е.Е., 1966. Сельские поселения афригидского Хорезма. М. Неразик Е.Е., 1968. О некоторых направлениях этнических связей населения Южного и Юго-Восточного Приаралья в IV–VIII вв. // История, археология, этнография. М. Неразик Е.Е., 1976. Сельское жилище в Хорезме (I–XIV вв.) // Из истории жилища и семьи: Археолого-этнографические очерки. М. Неразик Е.Е., 1978. Поселение и жилище Хорезма как источник для исследования семьи в I–XIV вв. // Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. М. Неразик Е.Е., 1981. Некоторые вопросы истории городов и культуры древнего Хорезма в свете раскопок городища Топраккала // Городище Топраккала. М. Неразик Е.Е., 1981а. К проблеме развития городов Хорезма // Культура и искусство древнего Хорезма. М. Неразик Е.Е., 1982. Средневековые сельские постройки Хорезма в связи с формированием некоторых типов жилищ оседлого населения Средней Азии // Жилища народов Средней Азии и Казахстана. М. Неразик Е.Е., 1987. Каменная статуэтка из Якке-Парсана // Прошлое Средней Азии. Душанбе. Неразик Е.Е., 1987а. Новые исследования о раннесредневековых оазисах Хорезма // Полевые исследования Института этнографии АН в 1983 г. Л. Неразик Е.Е., 1989. Купольная постройка в Якке-Парсанском оазисе раннесредневекового Хорезма // Культура Средневекового Востока: Градостроительство и архитектура. Ташкент. Неразик Е.Е., 1990. Приаралье: некоторые экологические аспекты этнического развития // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. М. Неразик Е.Е., 1997. Раннее Средневековье в Хорезме // ЭО. № 1. Неразик Е.Е., Лапиров-Скобло М.С., 1959. Раскопки Барактама // МХЭ. М. Вып. 1. Неразик Е.Е., Рапопорт Ю.А., 1959. Куюккала в 1956 г. // МХЭ. М. Вып. 1. Никитин А.Б., 1992. Среднеперсидские остраки из буддийского святилища в Старом Мерве // ВДИ. № 1. Никитин А.Б., 1993. Среднеперсидские остраки из Южного Туркменистана // Вестник шелкового пути: Археологические источники. М. Вып. 1. Никитин А.Б., Согомонов А.Ю., 1987. Оттиски печатей и клейма на керамике сасанидского времени из Мервского оазиса // ВДИ. № 4. Нильсен В.А., 1966. Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V–VIII вв.). Ташкент. Нифонтова Л.К., 1948. Последние археологические поступления в Центральный государственный музей Казахской ССР // ИАН КазССР. Сер. археол. № 46, вып. 1. Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., 1972. Пути развития феодализма. М. Нурмуханбетов Б.Н., 1970. Некоторые итоги раскопок Борижарского могильника // По следам древних культур Казахстана. Алма-Ата.
Обельченко О.В., 1959. Захоронение костей в хумах и оссуариях в восточной части Бухарского оазиса // ИМКУ. Вып. 1. Обельченко О.В., 1966. Сазаганские курганы // ИМКУ. Вып. 7. Обельченко О.В., 1972. Некрополь древнего Мерва: (Материалы раскопок 1955 г.) // ТЮТАКЭ. Т. XIV. Оразов О., 1972. Из истории развития ирригационной сети Серахского оазиса // КД. Ашхабад. Вып. 4. Оразов О., 1973. Археологические и архитектурные памятники Серахского оазиса. Ашхабад. Остроумов Н.П., 1899. Археологическая поездка в селение Мамаевка // ПТКЛА. № 4. Ошанин В.Ф., 1881. Каратепе и Дарваз: Отдельный оттиск. СПб. (ИРГО; Т. XVII).
Павчинская Л.В., 1983. Оссуарий из Моллакургана // ОНУ. № 3. Пайкова А.В., Маршак Б.И., 1976. Сирийская надпись из Пенджикента // КСИА. Вып. 147. Пальгов Н.Н., 1930. Через прибалхашские пески Сары-Ишик-Отрау // Изв. Гос. геогр. о-ва. Т. 14, вып. 1–6. Памятники культуры и искусства Киргизии: Каталог выставки, 1983. Л. Пацевич Г.И., 1940. Монеты древнего Тараза // Коммунист. № 116. Пацевич Г.И., 1948. Зороастрийское кладбище на Тик-Турмасе // ИАН КазССР. Сер. археол. Вып. 1. Пацевич Г.И., 1956. Гончарная печь на городище Сарайчик // ТИИАЭ АН КазССР. Т. 1. Пацевич Г.И., 1956а. Раскопки на территории древнего города Тараза в 1940 г. // Там же. Т. 1. Пачос М., 1965. Из раскопок на Афрасиабе // Из истории культуры народов Узбекистана. Ташкент. Певзнер С.Б., 1954. О двух арабских азбуках из раскопок в Мерве // ЭВ. Вып. IX. Перегудова С.Я., 1995. О втором буддийском храме Краснореченского городища: (К реконструкции плана святилища) // Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. Бишкек. Периханян А.Г., 1983. Общество и право в Иране в парфянский и сасанидский периоды. М. Петров К.И., 1980. Тюркские средневековые этнотопонимы от числительного семь: (К происхождению топонима Джеты-су-Семиречье) // Ономастика Средней Азии. Фрунзе. Петров К.И., 1981. Очерки социально-экономической истории Киргизии VI — начала XIII в. Фрунзе. Петровский Н.Ф., 1894. Еще заметка к статье В.В. Бартольда «О христианстве в Туркестане в домонгольский период» // ЗВОРАО. Т. VIII. Пигулевская Н.Г., 1951. Византия на путях в Индию // Из истории торговли Византии с Востоком в IV–VI вв. М.; Л. Пигулевская Н.Г., 1956. Города Ирана в раннем средневековье. М.; Л. Пигулевская Н.Г., 1979. Культура сирийцев в средние века. М. Пидаев Ш.Р., 1986. Костяная статуэтка с городища Старого Термеза // ОНУ. № 9. Пидаев Ш.Р., 1987. Стратиграфия городища Старого Термеза в свете новых раскопок // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. Ташкент. Пилипко В.Н., 1980. Парфянские бронзовые монеты со знаком «П» под луком // ВДИ. № 4. Пилипко В.Н., 1980а. Разведывательное изучение Варрыкдепе в окрестностях Старого Мерва // Культура Туркмении в средние века. Ашхабад. (ТЮТАКЭ; Т. XVII). Пилипко В.Н., 1982. Некоторые итоги разведывательного изучения Дашлинского оазиса в Каахкинском районе ТССР // ИАН ТССР. СОН. № 5. Пилявский В.И., 1947. Сырцовые сооружения древнего Мерва // Сообщ. Ин-та истории и теории архитектуры Акад. архитектуры СССР. Вып. 8. Пилявский В.И., 1950. Архитектура древнего Мерва // Науч. тр. Ленингр. инж.-строит. ин-та. Вып. 10. Пиотровский Б.Б., 1949. Разведочные работы на Гяуркале в Старом Мерве // Материалы ЮТАКЭ. Ашхабад. Вып. 1. Писарчик А.К., 1974. Народная архитектура Самарканда XIX–XX вв.: (По материалам 1938–1941 гг.). Душанбе. Писарчик А.К., 1982. Традиционные способы отопления жилищ оседлого населения Средней Азии // Жилище Средней Азии и Казахстана. М. Плетнева С.А., 1959. Керамика Саркела-Белой Вежи // МИА. № 75. Плетнева С.А., 1967. От кочевий к городам: (Салтово-маяцкая культура) // МИА. № 142. Плетнева С.А., 1982. Кочевники средневековья. М. Подушкин Н.П., 1970. Ранние оседлые поселения долины Арыси (I–VIII вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата. Подушкин Н.П., 1970а. К вопросу о керамике раннеземледельческих поселений Арыси I–IV вв. н. э. // По следам древних культур Казахстана. Алма-Ата. Потапов А.А., 1938. Рельефы древней Согдианы как исторический источник // ВДИ. № 2. Потапов Л.П., 1973. Умай — божество древних тюрков // Тюркологический сборник, 1972. М. Пугаченкова Г.А., 1949. Архитектурные памятники Нисы // ТЮТАКЭ. Т. I. Пугаченкова Г.А., 1952. Парфянские крепости Южного Туркменистана // ВДИ. № 2. Пугаченкова Г.А., 1953. Архитектурные памятники Дехистана, Абиверда, Серахса // ТЮТАКЭ. Т. II. Пугаченкова Г.А., 1954. Хароба-Кошук // ИАН ТССР. № 4. Пугаченкова Г.А., 1957. Геммы из Мерва // ИАН ТССР. СОН. № 3. Пугаченкова Г.А., 1958. Пути развития архитектуры Южного Туркменистана в пору рабовладения и феодализма // ТЮТАКЭ. Т. VI. Пугаченкова Г.А., 1959. Маргианская богиня // СА. XXIX–XXХ. Пугаченкова Г.А., 1962. Коропластика древнего Мерва // ТЮТАКЭ. Т. XI. Пугаченкова Г.А., 1963. Мервские геммы-инталии // ТЮТАКЭ. Т. XII. Пугаченкова Г.А., 1963а. Мавзолей Арабата: (Из истории архитектуры Мавераннахра IX-Х вв.). Ташкент. Пугаченкова Г.А., 1963б. К исторической географии Чаганиана // Тр. ТашГУ. Вып. 200. Пугаченкова Г.А., 1963в. Резные камни античной поры в музее истории Узбекистана // Там же. Вып. 200. Пугаченкова Г.А., 1966. Халчаян: К проблеме художественной культуры Бактрии. Ташкент. Пугаченкова Г.А., 1967. К стратиграфии новых монетных находок в северных областях Бактрии // ВДИ. № 3. Пугаченкова Г.А., 1968. Гандхарская скульптура в Мерве // Искусство. № 6. Пугаченкова Г.А., 1973. Изучение культуры бактрийских городов в Южном Узбекистане // ВАН СССР. № 3. Пугаченкова Г.А., 1975. Иштиханский оссуарий — новый памятник согдийского искусства // ОНУ. № 3. Пугаченкова Г.А., 1976. Бактрийский жилой дом: (К вопросу об архитектурной типологии) // История и культура народов Средней Азии. М. Пугаченкова Г.А., 1981. Уникальная группа монет чаганианского чекана VI в. // Культура и искусство древнего Хорезма. М. Пугаченкова Г.А., 1981а. Храм Бактрийской богини на Дальверзинтепе // Древний Восток и мировая культура. М. Пугаченкова Г.А., 1981б. К датировке и интерпретации трех предметов восточного серебра из коллекции Эрмитажа // Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М. Пугаченкова Г.А., 1984. Мианкальские оссуарии — памятники культуры Древнего Согда // Наука и человечество. М. Пугаченкова Г.А., 1984а. Уникальная чаша из Шуроб-Кургана // ОНУ. № 5. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И., 1961. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И., 1965. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины XIX в. М. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И., 1982. Очерки искусства Средней Азии: Древность и средневековье. М. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В., 1990. Северная Бактрия-Тохаристан: Очерки истории и культуры: Древность и средневековье. Ташкент. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В., и др., 1978. Дальверзинтепе — кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент. Пугаченкова Г.А., Усманова З.И., 1994. Буддийский комплекс в Гяур кале // ВДИ. № 1. Пулатов У.П., 1975. Чильхуджра // Материальная культура Уструшаны. Душанбе. Вып. 3. Пулатов У.П., 1975а. Раскопки на Тоштемиртепа // АО 1974 г. М. Пулатов У.П., 1977. Начало раскопок Калан Сар // АО 1976 г. М. Пулатов У.П., 1977а. «Дом огня» в Уструшане // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: ТД. Душанбе. Пулатов У.П., 1980. За́мок Тоштемиртепа // APT. Вып. XV. Пулатов У.П., 1982. Раскопки за́мка Калаи Сар в 1976 г. // APT. Вып. XVI. Пулатов У.П., 1983. Раскопки Калаи Сара в 1977 г. // APT. Вып. XVII. Пулатов У.П., 1985. Раскопки на Калаи Саре // АО 1983 г. М. Пулатов У.П., 1986. Городище Калаи Кофар // АО 1984 г. М. Пулатов У.П., Джумаев В.К., 1984. К изучению фортификации Калаи Сара // APT. Вып. XVIII. Пырин В., 1985. Изучение ремесленного квартала городища Еркурган // Творческое наследие народов Средней Азии: Памятники искусства, архитектуры и археологии: ТД. Ташкент.
Ранов В.А., 1985. Археологическое изучение Памира (1946–1984) // Очерки по истории Советского Бадахшана. Душанбе. Ранов В.А., Салтовская Е.Д., 1961. О работах Ура-Тюбинского отряда в 1959 г. // APT. Вып. VII. Рапопорт Ю.А., 1958. Раскопки городища Шахсенем в 1952 г. // ТХАЭЭ. М. Т. II. Рапопорт Ю.А., 1962. Хорезмийские астоданы // СА. № 4. Рапопорт Ю.А., 1971. Из истории религии древнего Хорезма (оссуарии). М. Рапопорт Ю.А., 1987. Святилище во дворце Калалы-Гыр // Прошлое Средней Азии. Душанбе. Рапопорт Ю.А., 1991. Траурная сцена в настенной росписи из Хорезма // ВДИ. № 2. Рапопорт Ю.А., 1993. Загородные дворцы и храмы Топраккалы // ВДИ. № 4. Рапопорт Ю.А., 1996. Религия Древнего Хорезма: Некоторые итоги исследований // ЭО. № 6. Рапопорт Ю.А., Лапиров-Скобло М.С., 1963. Раскопки дворцового здания на городище Калалыгыр I в 1958 г. // МХЭ. М. Вып. 6. Рапопорт Ю.А., Лапиров-Скобло М.С., 1968. Башнеобразные хорезмийские оссуарии // История, археология и этнография Средней Азии. М. Рапопорт Ю.А., Трудновская С.А., 1958. Городище Гяуркала// ТХАЭЭ. М. Т. II. Рапопорт Ю.А., Трудновская С.А., 1979. Курганы на возвышенности Чаштепе // Кочевники на границах Хорезма. М. Распопова В.И., 1960. Гончарные изделия согдийцев Чуйской долины: По материалам раскопок на Ак-Бешиме в 1953–1954 гг. // Тр. КАЭЭ. М. Т. IV. Распопова В.И., 1965. Поясной набор Согда VII–VIII вв. // СА. № 4. Распопова В.И., 1968. Византийские поясные пряжки в Согде // КСИА. Вып. 114. Распопова В.И., 1969. Квартал жилищ рядовых горожан Пенджикента // СА. № 1. Распопова В.И., 1970. Керамика и слой поселения: (На материалах VII–VIII вв. Пенджикента) // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М. Распопова В.И., 1970а. Согдийский город и кочевая степь в VII–VIII вв. // КСИА. Вып. 122. Распопова В.И., 1971. Один из базаров Пенджикента VII–Vra вв. // СНВ. Вып. X. Распопова В.И., 1971а. Металлообрабатывающее ремесло раннесредневекового Согда: (Опыт историко-социологической интерпретации по материалам Пенджикента): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Распопова В.И., 1972. Ремесло и домашние промыслы раннесредневекового Согда // СА. № 4. Распопова В.И., 1973. Археологические данные о согдийской торговле // КСИА. Вып. 138. Распопова В.И., 1979. К вопросу о специфике города и сельских поселений раннесредневекового Согда // УСА. Л. Вып. 4. Распопова В.И., 1980. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л. Распопова В.И., 1981. Помещение с очагом и алтарем в Пенджикенте // Культурные взаимосвязи Средней Азии с окружающим миром в древности и средневековье: ТД. М. Распопова В.И., 1983. Строительное дело Согда и Тохаристана в раннем средневековье // Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Востоке. М. Распопова В.И., 1985. Стеклянные сосуды с росписью из Пенджикента // СА. № 2. Распопова В.И., 1986. Проблема континуитета согдийского города // Городская среда и культура Бактрии-Тохаристана и Согда (IV в. до н. э. — VIII в. н. э.): ТД. Ташкент. Распопова В.И., 1990. Жилища Пенджикента: (Опыт историко-социальной интерпретации). Л. Распопова В.И., 1993. Раннесредневековый согдийский город: (По материалам Пенджикента): Научный доклад по докторской диссертации. СПб. Рахимов Н.Т., 1984. Раскопки городища Мугтепа // АО 1982 г. М. Рахимов Н.Т., 1985. Раскопки на городище Мугтепа // АО 1983 г. М. Рахимов Н.Т., 1985а. К интерпретации северо-западного комплекса городища Мугтепа // Творческое наследие народов Средней Азии в памятниках искусства, архитектуры и археологии: ТД. Ташкент. Рахимов Н.Т., 1986. Раскопки в Ура-Тюбе и Шахристане // АО 1984 г. М. Рахманов Ш., 1984. Исследование на оборонительной стене II шахристана городища Старого Термеза // Первая конф. молодых историков Сред. Азии и Казахстана. Душанбе. Рахматуллаев И., 1982. Жилой квартал древнего городища Пенджикент // СА. № 1. Ремпель Л.И., 1952. Интересная археологическая находка в долине Таласа // ВАН КазССР. № 4. Ремпель Л.И., 1956. Археологические памятники в дальних низовьях Таласа // ТИИАЭ АН КазССР. Т. 1. Ремпель Л.И., 1957. Некрополь древнего Тараза // КСИИМК. Вып. 69. Ремпель Л.И., 1984. Эпос в живописи Средней Азии // Из истории живописи Средней Азии: Традиции и новаторство. Ташкент. Реутова М.А., 1986. Живопись Зартепе // ИМКУ. Вып. 20. Розенфельдт А.З., 1951. Кала (gal’a) — тип укрепленного сельского поселения // СЭ. № 1. Росляков А.А., 1955. Мелкие археологические памятники окрестностей Ашхабада // ТЮТАКЭ. Т. V. Россия: Полное географическое описание нашего отечества. Т. XIX. Туркестанский край, 1919. СПб. Ростовцев О.М., 1975. Изучение сельских поселений Самаркандского Согда // ИМКУ. Вып. 12. Ртвеладзе Э.В., 1973. О генезисе кушанских поселений Северной Бактрии // ВДИ. № 4. Ртвеладзе Э.В., 1973а. К вопросу о типологии городских поселений кушанского времени на территории Сурхандарьинской области // Древний город Средней Азии: ТД. Л. Ртвеладзе Э.В., 1974. Новый буддийский памятник в Старом Мерве // ТЮТАКЭ. Т. XV. Ртвеладзе Э.В., 1974а. Разведочное изучение бактрийских памятников на юге Узбекистана // Древняя Бактрия. Л. Ртвеладзе Э.В., 1976. Новые древнебактрийские памятники // БД. Л. Ртвеладзе Э.В., 1977. К периодизации раннесредневекового Чаганиана // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: ТД. Душанбе. Ртвеладзе Э.В., 1977а. К локализации греческой переправы на Оксе // ВДИ. № 4. Ртвеладзе Э.В., 1978. Обнаружение средневекового селения Навандан в области Саганиан // ИМКУ. Вып. 14. Ртвеладзе Э.В., 1980. Исследования на городище Будрач // АО 1979 г. М. Ртвеладзе Э.В., 1980а. По поводу династических связей Хорезма и Чаганиана в раннее средневековье // ВКФ АН УзССР. Вып. 1(79). Ртвеладзе Э.В., 1982. К характеристике раннесредневековых памятников Чаганиана // ИМКУ. Вып. 17. Ртвеладзе Э.В., 1982а. Нумизматические материалы к истории раннесредневекового Чача // ОНУ. № 8. Ртвеладзе Э.В., 1983. Новые археологические данные к истории городища Будрач // ИМКУ. Вып. 18. Ртвеладзе Э.В., 1986. Стена Дарбаида Бактрийского // ОНУ. № 12. Ртвеладзе Э.В., 1987. Денежное обращение в Северо-Западном Тохаристане в раннем средневековье //Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. Ташкент. Ртвеладзе Э.В., 1987а. Раннесредневековые монеты Чаганиана с парным изображением // Прошлое Средней Азии. Душанбе. Ртвеладзе Э.В., 1988. Древняя Бактрия — средневековый Тохаристан: Динамика историко-культурного развития: (По материалам амударьинского правобережья): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М. Ртвеладзе Э.В., 1989. Погребальные сооружения и обряд в Северном Тохаристане // Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. Ташкент. Ртвеладзе Э.В., Хакимов З.А., 1973. Маршрутные исследования памятников Северной Бактрии // Из истории античной культуры Узбекистана. Ташкент. Рудтев Н., 1900. Следы древних городов на Сырдарье // ПТКЛА. № 5.
Сазонова М.В., 1952. К этнографии узбеков Южного Хорезма // ТХАЭЭ. М. Т. 1. Салтовская Е.Д., 1975. О работе Западно-Ферганского отряда // АО 1974 г. М. Салтовская Е.Д., 1978. Раскопки Дунгчатепе // АО 1977 г. М. Салтовская Е.Д., 1979. Раскопки нижнего горизонта Дунгчатепе // АО 1978 г. М. Салтовская Е.Д., 1983. О раскопках Дунгчатепе // APT. Вып. XVII. Салтовская Е.Д., 1984. Раскопки Дунгчатепе в 1978 г. // APT. Вып. XVIII. Салтовская Е.Д., 1984а. О двух находках на Дунгчатепе: (Юго-Восточная Уструшана) // ИООН АН ТаджССР. № 1. Самойлик П.Т., 1973. Погребения в хумах у селения Паши и Раснавут // APT. Вып. X. Самойлик П.Т., 1976. Новые пункты захоронения в хумах и оссуариях на территории Уструшаны // Материалы юбил. конф. молодых ученых АН ТаджССР: (Обществ, науки). Душанбе. Самойлик П.Т., 1977. О работах в районе квартала гончаров Бунджиката // АО 1976 г. М. Сарианиди В.И., 1977. Древние земледельцы Афганистана. М. Саушкин Ю.Г., 1947. Географические очерки природы и сельскохозяйственной деятельности населения в различных районах Советского Союза. М. Седов А.В., 1986. Кобадиан в кушанское время // Городская среда и культура Бактрии-Тохаристана (IV в. до н. э. — VIII в. н. э.): ТД. Ташкент. Седов А.В., 1987. Кобадиан на пороге раннего средневековья. М. Семенов А.А., 1925. Материальные памятники арийской культуры в Средней Азии // Таджикистан. Ташкент. Семенов А.А., 1928. По Закаспийским развалинам // Изв. Средазкомстариса. № 3. Семенов А.А., 1944. Материальные памятники иранской культуры в Средней Азии. Душанбе. Семенов А.А., 1946. Среднеазийский трактат по музыке Дарвиша Али. Ташкент. Семенов Г.Л., 1983. Городские стены Пенджикента и история Согда V–VIII вв. // СА. № 3. Семенов Г.Л., 1985. Сюжет из «Махабхараты» в живописи Пенджикента // Культурное наследие Востока: Проблемы, поиски, суждения. Л. Сенигова Т.Н., 1959. К изучению технических особенностей керамики низовьев Сырдарьи // ТИИАЭ АН КазССР. Т. 7. Сенигова Т.Н., 1968. Осветительные приборы Тараза и их связь с культом огня // СА. № 1. Сенигова Т.Н., 1972. Средневековый Тараз. Алма-Ата. Сердитых З.В., 1986. Об одном из вариантов иконографии Митры // Проблемы античной культуры. М. Симонов А., 1900. Джеты-Асар // ПТКЛА. № 5. Сказки народов Памира, 1976. Пер. с памир. яз. М. Скварский П.С., 1897. Несколько слов о древностях Шахрисгана // ПТКЛА за первый год его деятельности. Ташкент. Скульптура и живопись древнего Пенджикента, 1959. М. Смiленко А.Т., 1965. Глодоськi скарби. Киïв. Смирнов Е.Т., 1896. Древности в окрестностях Ташкента // ПТКЛА. № 1. Смирнов К.Ф., Попов С.А., 1969. Сарматское святилище огня //МИА. № 169. Смирнов Я.И., 1909. Восточное серебро: Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской империи. СПб. Смирнова О.И., 1950. Археологические разведки в бассейне Зеравшана в 1947 г. // Тр. СТАЭ. Т. 1; МИА. № 15. Смирнова О.И., 1950а. Вопросы исторической топографии и топонимики верхнего Зеравшана // Тр. СТАЭ. Т. 1; МИА. № 15. Смирнова О.И., 1952. Материалы к сводному каталогу согдийских монет // ЭВ. Вып. VI. Смирнова О.И., 1953. Археологические разведки в верховьях Зеравшана в 1948 г. // Тр. ТАЭ. Т. II; МИА. № 37. Смирнова О.И., 1953а. Археологические разведки в Усгрушане в 1950 г. // МИА. № 37. Смирнова О.И., 1958. Монеты древнего Пенджикента // Тр. ТАЭ. Т. III; МИА. № 66. Смирнова О.И., 1963. Каталог монет с городища Пенджикент: (Материалы 1949–1956 гг.). М. Смирнова О.И., 1970. К вопросу о среднеазиатских культах: (Из среднеазиатской топонимики) // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: Краткие сообщения и аннотации VI годичной научной сессии ЛО ИВАН. Л. Смирнова О.И., 1970а. Очерки из истории Согда. М. Смирнова О.И., 1971. Первые монеты Уструшаны // ЭВ. Вып. XX. Смирнова О.И., 1981. Сводный каталог согдийских монет: Бронза. М. Смоличев П.И., 1952. Археологические работы в Дангаре в 1942 г. // ИООН АН ТаджССР. Вып. 2. Снесарев Г.П., 1966. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М. Согдийский сборник, 1934. Сб. ст. о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикистане. Л. Согдийские документы с горы Муг, 1962. Вып. I. Фрейман А.А. Описание, публикация и исследование документов с горы Муг. М. Согдийские документы с горы Муг, 1962а. Вып. II. Юридические документы и письма / Чтение, пер. и коммент. В.А. Лившица. М. Согдийские документы с горы Муг, 1963. Вып. III. Хозяйственные документы / Чтение, пер. и коммент. М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой. М. Соколовский В.Г., 1926. Казахский аул. Ташкент. Соколовский В.М., 1974. О живописи «малого» зала дворцового комплекса городища Калаи Кахкаха I (Шахристан, ТаджССР) // СГЭ. Вып. 39. Соловьев В.С., 1976. Настенная живопись городища Кафыркала // Материалы конф. молодых ученых АН ТаджССР. Душанбе. Соловьев В.С., 1979. Городище Кафыркала: (К характеристике раннесредневекового города Северного Тохаристана) // УСА. Л. Вып. 4. Соловьев В.С., 1985. Городище Кафыркала // Древности Таджикистана. Душанбе. Соловьев В.С., 1989. Город в социально-экономической структуре Тохаристана // Зоны и этапы урбанизации: ТД. Ташкент. Спиридонов П., 1898. Поездка на развалины Джанкента // ПТКЛА. № 3. Спицин А., 1906. Из коллекции Эрмитажа (Чимкентский клад) // ЗВОРАО. Т. 8, вып. 1. Спришевский В.И., 1951. Погребение с конем I тысячелетия н. э., обнаруженное около обсерватории Улугбека //Тр. Музея истории народов Узбекистана. Ташкент. Вып. 1. Средневековые города Средней Азии и Казахстана: ТД совещ. в г. Фрунзе, 1970. Фрунзе. Средняя Азия: Природные условия и естественные ресурсы СССР, 1968. М. Средняя Азия: Физико-географическая характеристика, 1958. М. Ставиский Б.Я., 1952. К вопросу об идеологии домусульманского Согда // Сообщения республиканского историко-краеведческого музея Таджикской ССР. Сталинабад. Вып. 1. Ставиский Б.Я., 1957. Дворцовое хозяйство пенджикентского владетеля // СВ. № 1. Ставиский Б.Я., 1957а. Хутталь в сообщениях китайских путешественников Сюань Цзяна и Хой Чао // ИООН АН ТаджССР. Вып. 14. Ставиский Б.Я., 1958. Медный ключ из Кулдортепе // КСИЭ. Вып. XXX. Ставиский Б.Я., 1959. Археологические работы в бассейне Магиандарьи в 1957 г. // APT. Вып. V. Ставиский Б.Я., 1960. О датировке и происхождении эрмитажной серебряной чаши с изображением венчания царя // СГЭ. Вып. XVII. Ставиский Б.Я., 1960а. Раскопки городища Кулдортепе в 1956–1957 гг. // СА. № 4. Ставиский Б.Я., 1960б. О международных связях Средней Азии в V — середине VIII в. // ПВ. № 5. Ставиский Б.Я., 1961. Оссуарии из Бия-Наймана // ТГЭ. Т. V. Ставиский Б.Я., 1961а. Работы Магианской группы в 1958 г. // Тр. Ист. ин-та им. А. Дониша АН ТаджССР. Т. XXVII. Ставиский Б.Я., 1964. Раскопки квартала жилищ знати в юговосточной части Пенджикентского городища (объект VI) в 1951–1959 гг. // МИА. № 124. Ставиский Б.Я., 1972. Итоги раскопок Каратепе в 1965–1969 гг. // Буддийский культовый центр Каратепе в Старом Термезе. М. Ставиский Б.Я., 1974. Искусство Средней Азии: Древний период с VI в. до н. э. — VIII в. н. э. М. Ставиский Б.Я., Большаков О.Г., Мончадская Е.А., 1953. Пенджикентский некрополь // МИА. № 37. Ставиский Б.Я., Урманова М.Х., 1958. Городище Кулдортепе: (Работы 1955 г.) // СА. № 1. Стасов В.В., 1883. Рецензия на книгу Н. Симонова «Искусство Средней Азии» // Худож. новости. № 4. Стасов В.В., 1894. Собрание сочинений. Т. 2. СПб. Стеблин-Каменский И.М., 1982. Очерки по истории лексики памирских языков: Названия культурных растений. М. Сулейманов Р.Х., 1986. Храмовый комплекс Еркургана // Городская среда и культура Бактрии-Тохаристана и Согда IV в. до н. э. — VIII в. н. э.: Тез. докл. сов.-фр. коллоквиума (Самарканд, 25–30 авг. 1986 г.). Ташкент. Сулейманов Р.Х., 1987. Храмовый комплекс Еркургана: Предварительные результаты изучения // Городская культура Бактрии-Тохаристана. Ташкент. Сулейманов Р.Х., Нефедов Н.Ю., 1982. Предварительные результаты раскопок дворца Еркургана // ИМКУ. Вып. 17. Сулейманов Р.Х., Туребеков М., 1978. Этапы развития фортификационной системы Еркургана // ИМКУ. Вып. 14. Сусенкова Н., 1972. Домусульманский некрополь Старого Мерва: (По данным раскопок 1954 г.) // ТЮТАКЭ. Т. XIV. Сухарев И.А., 1935–1936. Работа над составлением археологической карты Самаркандской группы районов // Арх. Гос. музея искусства и культуры народов Узбекистана. № 558 (старый № 347). Сухарева О.А., 1958. К истории городов Бухарского ханства. Ташкент. Сухарева О.А., 1976. Квартальная община позднефеодального города Бухары. М. Сухарева О.А., 1979. Традиция сочетания городских и сельских занятий в Средней Азии конца XIX — начала XX в. // Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. М. Сухарева О.А., Бикжанова М.А., 1955. Прошлое и настоящее селения Айкыран. Ташкент. Сухарева О.А., Турсунов Н.О., 1982. Из истории городских и сельских поселений Средней Азии // Жилище народов Средней Азии и Казахстана. М. Ташходжаев Ш.С., 1963. Разрез городской стены Гяуркалы // ТЮТАКЭ. Т. XII. Ташходжаев Ш.С., 1973. Динамика развития раннесредневекового Самарканда // ТД сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований в СССР. Ташкент. Ташходжаев Ш.С., 1974. Археологические исследования древнего Самарканда в 1973 г. // Афрасиаб. Ташкент. Вып. III. Тереножкин А.И., 1939. Литература по археологии в Узбекистане // ВДИ. № 1. Тереножкин А.И., 1939а. К истории искусства Хорезма // Искусство. № 2. Тереножкин А.И., 1940. Археологические разведки в Хорезме // СА. № 6. Тереножкин А.И., 1940а. О древнем гончарстве в Хорезме // Изв. УзФАН СССР. № 6. Тереножкин А.И., 1940б. Жилые постройки XI–XII вв. в Кара-Калпакской АССР // Там же. № 7. Тереножкин А.И., 1947. Вопросы историко-археологической периодизации древнего Самарканда // ВДИ. № 4. Тереножкин А.И., 1948. Холм Актепе близ Ташкента: (Раскопки 1940 г.) // ТИИА АН УзССР. Вып. I. Тереножкин А.И., 1950. Согд и Чач // КСИИМК. Вып. XXXIII. Тереножкин А.И., 1951. Раскопки на городище Афрасиаб // КСИИМК. Вып. XXXVI. Тихомиров М.Н., 1956. Древнерусские города. М. Тихонин М.П., 1986. Новые данные о керамическом производстве в рабаде городища Канка // ИМКУ. Вып. 20. Толстов С.П., 1938. Монеты шахов древнего Хорезма и древнехорезмийский алфавит // ВДИ. № 1(2). Толстов С.П., 1946. Новогодний праздник «каландос» у хорезмийских христиан // СЭ. № 2. Толстов С.П., 1946а. К вопросу о датировке культуры каунчи //ВДИ. № 1. Толстов С.П., 1947. Города гузов // СЭ. № 3. Толстов С.П., 1948. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования. М. Толстов С.П., 1948а. По следам древнехорезмийской цивилизации. М. Толстов С.П., 1949. Хорезмийская археолого-этнографическая экспедиция в 1948 г. // ИАН КазССР. Сер. истории и философии. Т. 4, № 3. Толстов С.П., 1949а. Периодизация древней истории Средней Азии // КСИИМК. Вып. XXVIII. Толстов С.П., 1958. Работы Хорезмийской археологической экспедиции АН СССР в 1949–1950 гг. // ТХАЭЭ. М. Т. 2. Толстов С.П., 1962. По древним дельтам Окса и Яксарта. М. Толстой И., Кондаков Н., 1890. Русские древности в памятниках искусства. СПб. Трудновская С.А., 1958. Стекло с городища Шах-Сенем // ТХАЭЭ. М. Т. 4. Трудновская С.А., 1981. Предметы вооружения и быта // Городище Топраккала. М. (ТХАЭЭ; Т. 12). Трудновская С.А., 1984. Инвентарь, полученный при раскопках дворца // Топраккала: Дворец. М. (ТХАЭЭ; Т. 14). Туребеков М., 1981. Раскопки бастиона внутренней крепостной стены Еркургана // ИМКУ. Вып. 16. Туребеков М., 1982. Цитадель Еркургана // ИМКУ. Вып. 17.
Урманова М.Х., 1956. Раскопки на центральном бугре городища Варахша в 1953 г. // ТИИА АН УзССР. Вып. VIII. Усова Е.С., Буряков Ю.Ф., 1981. Терракотовые поделки с городища Канка // ИМКУ. Вып. 16. Усманова З.И., 1961. Новые находки древних тканей из Эрккалы в Старом Мерве // ИАН ТССР. № 2. Усманова З.И., 1963. Эрккала // ТЮТАКЭ. Т. XII. Усманова З.И., 1969. Новые данные к археологической стратиграфии Эрккалы // Там же. Т. XIV. Усманова З.И., 1989. Разрез крепостной стены Эрккалы Старого Мерва // Древний Мерв: Сб. ст. Ашхабад. (ТЮТАКЭ; Т. XIX). Усманова З.И., 1993. Христианские памятники Туркмении // Из истории древних культур Средней Азии: Христианство. Ташкент.
Федорович Е.Ф., 1969. Исследование древних тканей из раскопок ЮТАКЭ в Старом Мерве // ТЮТАКЭ. Т. XIV. Федчина В.Н., 1967. Как создавалась карта Средней Азии. М. Филанович М.И., 1974. Древний Мерв в свете изучения стратиграфии городища Гяуркала: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. Филанович М.И., 1974а. Гяуркала // ТЮТАКЭ. Т. XV. Филанович М.И., 1978. Башнеобразные культовые курильницы из Мерва // Там же. Т. XVI. Филанович М.И., 1983. Ташкент: Зарождение и развитие города и городской культуры. Ташкент. Филанович М.И., 1987. К типологии раннесредневековых святилищ огня Согда и Чача // Городская культура Бактрии, Тохаристана и Согда. Ташкент. Филанович М.И., 1989. Система расселения и градостроительные формы Ташкентского микрооазиса в древности и раннем средневековье // Культура Среднего Востока: Градостроительство и архитектура. Ташкент. Филанович М.И., 1989а. Историко-культурные археологические таблицы по городищу Гяуркала в Старом Мерве // Древний Мерв: Сб. ст. Ашхабад. (ТЮТАКЭ; Т. XIX). Филанович М.И., 1990. По поводу оссуарного обряда погребения в Ташкенте // Древняя и средневековая культура Средней Азии. Ташкент. Фишер Г.А., 1884. Озеро Балхаш и течение р. Или от выселка Илийского до ее устьев // Зал. Зап.-Сиб. отд-ния. РГО. Кн. VI. Флоринский В.М., 1889. Топографические сведения о курганах Семиреченской и Семипалатинской областей // Изв. Томского ун-та. Кн. 1, отд. 2. Фрейман А.А., 1939. Согдийская надпись из Старого Мерва // Зап. Ин-та востоковедения АН СССР. Т. 7.
Ханмурадов К.Н., 1989. Мервский оазис в сасанидскую эпоху: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Самарканд. Хмельницкий С., 1969. Конструкция и орнамент // Художественный образ и декоративность в искусстве Азии и Африки. М. Ходжайов Т.К., 1973. К антропологии населения Токкалы (древний Дарсан) // Антропология и культура Кердера. Ташкент. Ходжайов Т.К., 1980. К палеоантропологии древнего Узбекистана. Ташкент. Ходжайов Т.К., 1986. Краткие итоги изучения антропологии Средней Азии в связи с проблемами этногенеза узбекского народа // Материалы по этнической истории населения Средней Азии. Ташкент. Ходжаниязов Т., 1965. Раскопки средневекового здания на городище Гяуркала в Старом Мерве // ИАН ТССР. СОН. № 2.
Цалкин В.И., 1952. Фауна античного и раннесредневекового Хорезма // ТХАЭЭ. М. Т. I. Четыркин В.М., 1948. Географические особенности богарного и поливного земледелия южных районов Средней Азии // ВГ. № 10. Чугуевский Л.И., 1971. Новые материалы к истории согдийской колонии в районе Дуньхуана // СНВ. Вып. X. Чупахин В.М., 1964. Физическая география Тянь-Шаня. Алма-Ата. Чупахин В.М., 1970. Природное районирование Казахстана. Алма-Ата.
Шалекенов У.Х., 1980. Актобе — средневековый памятник // История материальной культуры Казахстана. Алма-Ата. Шалекенов У.Х., Елеуов М.Е., Алдабергенов Н.О., 1978. Раскопки цитадели городища Актобе // Вопросы истории социалистического и коммунистического строительства в Казахстане. Алма-Ата. Шедевры древнего искусства и культуры Таджикистана: Каталог выставки, 1983. М. Шер Я.А., 1966. Каменные изваяния Семиречья. М.; Л. Шишкин В.А., 1940. К исторической топографии Старого Термеза // Тр. УзФАН. Сер. I. Вып. 2. Шишкин В.А., 1940а. Археологические работы 1937 г. в западной части Бухарского оазиса. Ташкент. Шишкин В.А., 1947. Архитектурная декорация дворца бухархудатов на городище Варахша // ТОВЭ. Л., Т. IV. Шишкин В.А., 1956. Некоторые итоги археологических работ на городище Варахша (1947–1953 гг.) // ТИИА АН УзССР. Вып. VIII. Шишкин В.А., 1963. Варахша. М. Шишкин В.А., 1966. Афрасиаб — сокровищница древней культуры. Ташкент. Шишкин В.А., 1969. К истории археологического изучения Самарканда и его окрестностей // Афрасиаб. Ташкент. Вып. 1. Шишкина Г.В., 1961. Раннесредневековая сельская усадьба под Самаркандом // ИМКУ. Вып. 2. Шишкина Г.В., 1963. За́мок Бад-Асия в окрестностях Пайкенда // ИМКУ. Вып. 4. Шишкина Г.В., 1969. Древний Самарканд в свете стратиграфии западных районов Афрасиаба: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. Шишкина Г.В., 1970. Методика изучения городского квартала в свете работ на Афрасиабе // Средневековый город Средней Азии: ТД. Фрунзе. Шишкина Г.В., 1973. Городской квартал VIII–IX вв. на северо-западе Афрасиаба // Афрасиаб. Ташкент. Вып. 2. Шишкина Г.В., 1973а. Город на Афрасиабе VI в. до н. э. — IV в. н. э. // Пленум ИА АН СССР: ТД. М. Шишкина Г.В., 1977. Функциональное назначение здания в окрестностях самаркандской Кафыркалы // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана: ТД. Душанбе. Шкода В.Г., 1980. К вопросу о культовых сценах в согдийской живописи // СГЭ. Л. Вып. 45. Шкода В.Г., 1985. Об одной группе среднеазиатских алтарей V–VIII веков // Художественные памятники и проблемы культуры Востока: Сб. ст. Л. Шкода В.Г., 1986. Пенджикентские храмы и проблемы религии Согда (V–VIII вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. Шукуров Ш.М., 1977. К анализу принципов иконографии в изобразительном искусстве Средней Азии // Средняя Азия в древности и средневековье. М. Шуховцов В.К., 1978. Несколько заметок по топонимике Южного Казахстана // Материалы респ. науч.-практ. конф. молодых ученых по обществ. наукам. Алма-Ата.
Явин М.М., 1947. Замечания о неисследованном среднеазиатском алфавите // ТОВЭ. Л. Т. IV. Ягодин В.Н., 1963. К вопросу о локализации Кердера // ВКФ. № 2(12). Ягодин В.Н., 1963а. Новые материалы по истории религии Хорезма // СЭ. № 4. Ягодин В.Н., 1968. К изучению топографии и хронологии древнего Миздахкана // История, археология и этнография Средней Азии. М. Ягодин В.Н., 1970. Археологическое изучение городища Курганча // Средневековые города Средней Азии и Казахстана. М. Ягодин В.Н., 1973. Кердерское поселение Курганча: (К изучению исторической топографии и хронологии) // Антропология и культура Кердера. Ташкент. Ягодин В.Н., 1981. Городище Хайванкала — раннесредневековый Кердер // Археологические исследования в Каракалпакии. Ташкент. Ягодин В.Н., 1962. Скотоводы-охотники Арало-Каспийского междуморья в средние века: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М. Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К., 1970. Некрополь древнего Миздахкана. Ташкент. Якубов Ю., 1973. Кожевенное дело в Бутамане в начале VIII в. (по археологическим и письменным материалам на горе Муг) // ИООН АН ТаджССР. № 1(71). Якубов Ю., 1975. Поселение Гардани Хисор // АО 1974 г. М. Якубов Ю., 1979. Паргар в VII–VIII вв. н. э.: (Верхний Зеравшан в эпоху раннего средневековья). Душанбе. Якубов Ю., 1979а. Раскопки Гардани Хисора: (К проблеме становления городских поселений в горных районах Средней Азии) // УСА. Л. Вып. 4. Якубов Ю., 1979б. О структуре сельских поселений горного Согда в раннем средневековье // Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. М. Якубов Ю., 1982. Раннесредневековые бытовые очаги из поселения Гардани Хисор // Жилище народов Средней Азии и Казахстана. М. Якубов Ю., 1983. Ляхшские курганы и вопросы этногенеза населения верховьев р. Вахш в начале I тысячелетия н. э. // Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Востоке: ТД. М. Якубов Ю., 1983а. Могильник Ляхш II // Шедевры древнего искусства и культуры Таджикистана. М. Якубов Ю., 1985. Серебряная чаша из Ляхша // Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л. Якубов Ю., 1985а. Могильник Ляхш II // Древности Таджикистана. Л. Якубов Ю., 1988. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда. Душанбе. Якубовский А.Ю., 1932. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X–XV вв. // Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. М. Ч. 1. Якубовский А.Ю., 1939. Культура и искусство Средней Азии. Л. Якубовский А.Ю., 1940. Краткий полевой отчет о работах Зеравшанской археологической экспедиции Эрмитажа и ИИМК в 1939 г. // ТОВЭ. Л. Т. II. Якубовский А.Ю., 1940а. Из истории археологического изучения Самарканда // ТОВЭ. Л. Т. II. Якубовский А.Ю., 1949. Вопросы периодизации истории Средней Азии в средние века (IV–XV вв.) // КСИИМК. Вып. XXVIII. Якубовский А.Ю., 1950. Живопись древнего Пенджикента по материалам Таджикско-Согдийской археологической экспедиции 1948–1949 гг. // ИАН СССР. Сер. истории и философии. Т. 7, вып. 5. Якубовский А.Ю., 1950а. Итоги работ Согдийско-Таджикской археологической экспедиции в 1946–1947 гг. // МИА. № 15. Якубовский А.Ю., 1951. Главные вопросы истории развития городов Средней Азии // Тр. Тадж. ФАН СССР. Т. XXIX: (История, археология, этнография, язык и литература). Якубовский А.Ю., 1954. Вопросы изучения пенджикентской живописи // ЖДП. М.
Andre W., Lensen Н., 1933. Die Parthestadt Assur. Leipzig. Asmussen J.P., 1965. Xuastvanift // Studies in Manichaeism. Copenhagen. Azarpay G., 1969. Nine inscribed Choresmian bowls // Artibus Asiae. Vol. XXXI. Azarpay G., 1975. Iranian divinities in Sogdian painting // Acta Iranica. Leiden. Vol. I: Monumentum H.S. Nyberg. Azarpay G., 1976. Some iconographic formulae in Sogdian painting // Iranica Antiqua. Vol. XI. Azarpay G., 1976a. Nana the Sumero-Akkadian Goddess of Transoxiana // JAOS. Vol. 96, N 4. Azarpay G., 1981. Sogdian painting. Berkeley etc. Leiden. Bader A., Gaibov V., Koshelenko G., 1993/1994. The Northern periphery of the Merv oasis from the Achaemenid period to the Mongol Conquest // Silk Road Art and Archaeol. Vol. 3. Bader A., Gaibov V., Koshelenko G., 1995. The beginning of Christianity in Merv // Iranica Antiqua. Vol. XXXV. Bader A., Gaibov V., Koshelenko G., 1995a. Walls of Margiana // In the Land of Gryphons: Papers on Central Asian Archaeology in Antiqueity / Ed. by A. Invemizzi. Firenze. Bader A., Gaibov V., Koshelenko G., 1996. Materials for archaeological map of the Merv oasis: the Dumali Region // Bull. Asia Inst. Vol. 8. Banerjee P., 1969. A Siva Icon from Piandjikent // Artibus Asiae. Vol. XXXI. Bausani A., 1978. Un auspecio armeno di capodanno in una notizia di Iranshahri (Nota ad Ajello) // Oriente modemo. Luglio-agosto. Beal S., 1884. Siju-ki: Buddhist records of the Western World / Transl. from Chinese by Hiyuen Tsiang (a.d. 629) by S. Beal: In 2 vol. London. Beal S., 1906. Buddhist records of the Western World. Vol. 1. London. Belenitski A.M., 1963. Ancient pictorial and plastic arts and the Shan-Nama // Tp. MKB. M. T. 3. Belenizki A.M., 1980. Mittelasien Kunst der Sogden. Leipzig. Belenitski A.V., Marshak B.I., 1981. The paintings of Sogdiana // Azarpay G. Sogdian painting. Berkeley etc. Bogomolov G.I., Buriakov Ju.F., 1995. Sealings from Kanka: In the Land of the Gryphons Papers: On Central Asian archaeology in Antiquity. Roma. Boyce M., 1966. The Fire-temples of Kerman // Acta Orientalia. Vol. XXX. Boyce M., 1968. On the sacred fires of the Zoroastrians // BSOAS. Vol. 21. Boyce M., 1970. On the Calendar of Zoroastrian Feasts // BSOAS. Vol. 33. Boyce M., 1979. Zoroastrians: Their religious beliefs and practices. London. Boyce M., 1982. A history of Zoroastrianism. Vol. П. Under the Achaemenians. Leiden. Boyce M., 1984. Textual sources for the study of Zoroastrianism. Manchester. Brykina G.A., 1990. Anthropomorphic figurines in Ferghana burial // Antiquity. Vol. 64. N 244. Bussagli M., 1963. Painting of Central Asia. Geneva.
Carter M., 1981. Mithra on the Lotus: A study of the Sun God in the Kushano-Sasanian Era // Monumentum George Morgenstieme. I. Hommages et opera minora. Vol. VII. E, A. Brill. Leiden. Carter M.L., 1990. Early Sasanian and Kushano-Sasanian coinage from Merv // Bulletin of the Asia Institute. Vol. 4. Chang K.Ch., 1968. Frchaejligv of ancient China. London. Chavannes Ed., 1903. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. VI. Chmelnizky S.G., 1989. Zwiscken Kuschanen und Arabern: Architertur Mittelasiens im V–VIII Jh. Berlin. Clauson G., 1965. Ak-Beshim-Suyab // Tp. XXV Междунар. конгр. востоковедов. M. Cumont F., 1926. Fouilles de Doura-Europos. Paris.
Droin, 1896. Notice sur les monnaies des qrands Kouchaus postérieurs et sur quelques autres monnaies de la Sogdiane et du Tokharistan // Rev. numismatique. Ser. 3. T. 14. Duchesne-Guillemin J., 1979. La Royaute iranienne et le XV aranah // Iranica. Napoli.
Exploration in Turkestan, 1905–1908. Ed. R. Pumpelly. Vol. I–II. Wash. (D.C.). Enoki K., 1955. Sogdiana and the Hsiung-nu // CAJ. Vol. I, N 1. Enoki K., 1959. On the nationality of the Ephthalites // MRDTB. N 18.
Filanovič M.I., Usmanova Z.I., 1996. Les frontières occidental de la diffusion du buddizm en Asie Centrale // Cah. Asie centrale. N 1–2. Fraukfort H., 1951. The art and architecture of the ancient orient. London. Frye R.N., 1949. Notes on the early coinage of Transoxiana. N.Y. (Amer. Numismat. Soc. Numismat. Notes and Monogr.; N 113). Frye R.N., 1984. The history of ancient Iran. München. Fuchs W., 1938. Huei Ch-ao’s Pilgerreise durch Nordwest-Indien und Central Asien um 726 // SPAW. Fukai Sh., Horiuchi K., 1972. Taq-i-Bustan. Tokyo. Vol. II. Fuye A., 1925–1926. Monnaies incertaines de la Sogdiane et des contrees voisies // Rev. numismatique. Ser. 4. T. XXVIII–XXIX. Gabain A. von, 1961. Der Buddhismus in Zentralasiaen. Abt. I // Handbuch der Orientalistik. Leiden; Köln, Bd. VIII.
Gaibov V., Koshelenko G., Novikov S., 1990. Chilburdj // Bull, the Asia Inst. Vol. 4. Gaibov V., Koshelenko G., Novikov S., 1991. Nouveaux documents pour une histoire des religions dans le Turkmenistan meridional a l’époque parthe et sassanide // Histoire et cultes de l’Asie: Centrale preislamique: Sources écrites et documents archéologiques. Paris. Gershevitch I., 1969. Amber at Persepolis // Studia Classica et Orientalia A. Pagliaro oblata. Roma. Vol. I. Gershevitch I., 1976. Appendix (to Sims Williams), 2 // IIJ. Vol. XVIII. Chirshman R., 1963. Perse: Parhe et Sasanides. Paris. Gignoux Ph., 1968. L’enfer et le paradis d’apres les sources pehlevies // JA. T. CCLVI, N 2. Gobl R., 1967. Dokumente zur Ceschichte der Iranischen Hunnen in Baltrien und Indien. Bd. I–IV. Wiesbaden. Gobl R., 1971. Sassanian Numismatics. Braunschweig. Godard A., 1962. L’art de l’Iran. Paris. Goldman B., 1965. Persian fire tomples // J. Near Eastern Stud. Vol. XXIV. N 4. Gorbunova M.G., 1986. The culture of Ancient Ferghana vicentury B.C. — VI century A.D. (BAR Intern, ser.; 281). Oxford. Grenet F., 1984. Les pratiques funéraires dans l’Asie Centrale sédentaire de la conquête greque a l’islamisation. Paris. Grenet F., 1984a. Noter sur le pantheon iranien des Kouchans // SI. T. 13, fasc. 2. Grenet F., 1985. Samarcande et la route de la soie // Histoire. N 77. Grenet F., 1986. L’art zoroastrien en Sogdiane // Mesopotamia. Vol. XXI. Gropp A., 1969. Die Function der Feuertempels der Zoroastrier // Archeologische Muttelungen aus Iran. N.F. Berlin. Bd. 2. Gubaev A., Koshelenko G., Novikov S., 1991. Archaeological exploration of the Merv casos // Mesopotamia. Vol. XXV. Gubaev A.G., Loginov S.D., Nikitin A.B., 1993. Coin finds from the excavations of Ak-depe by the station of Artyk // Iran. Vol. XXX3. Gyselen R., 1989. La géographie administrative de l’Empire Sassanide: Les témoignages sigillographiques. Paris. (Res. orientalis; I).
Hauser W., Upton J.M., 1934. The Persian expedition, 1933–1934 // Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. N.Y. December, Sect. II. Henning W.B., 1936. Neue Materialien zur Geschichte des Manichaismus // ZDMG. Bd. 90; N 1. Henning W.B., 1944. The murder of Magi // JRAS. Vol. 3–4. Henning W.B., 1945. Sogdian tales // BSOAS. Vol. 11. Henning W.B., 1948. The date of Sogdian ancient letters // BSOAS. Vol. 12, pt. 3-A. Henning W.B., 1965. A Sogdian God // BSOAS. Vol. 28, pt. 2. Henning W.B., 1965a. Chorasmian documents // AM. Vol. XI. Herrmann G., Masson V.M., Kurbansakhatov K., 1903. The International Merv project: Preliminary report of the first season (1992) //Iran. Vol. XXXI. Herrmann G., Kurbansakhatov K., Simpson St.I., 1995. The International Merv Project: Preliminary report on the fourth season (1995) // Iran. Vol. XXXIV. Humbach H., 1975. Vaya, Siva und der Spiritus Vivens im ost-iranischen Synkretismus // Acta Iranica. Teheran; Liege. Vol. 4: Monumentum H.S. Nyberg. Humbach H., 1980. Die sogdischen Inschriftenfunde vom oberen Indus (Pakistan) // Allgemeine und vergleichende Archäologie — Beitrage. München. Bd. 2.
Jettmar K., 1961. Zur «Beweinungsszene» aus Pendzikent // Central Asiatic J. Vol. VI.
Koshelenko G.A., 1966. The beginning of Buddhism in Margiana // Acta antiqua Acad. Sei. Hung. Vol. XIV. Koshelenko G., Bader A., Gaibov V., 1992. Materials for archaeological map of Margiana: the Changly region // Mesopotamia. Vol. XXVI. Koshelenko G., Bader A., Gaibov V., 1993. Materials for archaeological map of the Merv oasis:… Kishman // Mesopotamia. Vol. XXVII.
Lerch P., 1879. Sur les monnais des Boukhar-koudags on princes de Boukhara avant la conquête du Maverannahr par le Arabes // Tiavaun de troisième session du congres International des Orientaliste. Saint Petersburg. Litvinsky B.A., 1970. Outline history of Buddhism in Central Asia // Kushan studies in the USSR Calcutta. Litvinsky B.A., 1981. Kalai Kafimigan: Problem in the religion and art of Early Mediaeval Tokharistan. East and West. Vol. 30. Roma. Livshits V.A., 1968. The khwarermian calendar and the eras of ancient Chorasmia // Acta antiqua Acad. Sci. Hung. Vol. XVI, fasc. 1–4. Livshitts V.A., 1993. A Parthian inscription on a vessel from Ak-depe // Iran. Vol. XXXI. Loginov S.D., Nikitin A.B., 1993a. Sasanian coins of the third century from Merv // Mesopotamia. Vol. XXVIII. Loginov S.D., Nikitin A.B., 1993b. Coins of Shapur II from Merv // Mesopotamia. Vol. XXVIII. Loginov S.D., Nikitin A.B., 1993c. Sasanian coins of late 4–7 centuries from Merv // Mesopotamia. Vol. XXVm. Loginov S.D., Nikitin A.B., 1993d. Post-sasanian coins from Merv // Mesopotamia. Vol. XXVIII.
Macgovern W.M., 1939. The early empires of Central Asia. Chapel Hill. Marshall J., 1951. Taxila. Cambridge. T. II, III. Maršak B., 1990. Les fouilles de Pendjkent // CRAIBL. Janv.-mars. Maršak B., Raspopova V., 1987. Une image sogdienne du dieu-patriarce de l’agriculture // Studia Iranica. T. 16, fasc. 2. Müller F.W.K., 1918. Toxri und Kuišan (Küšän) // SPAW. Plil. hist. Kl. Bd. 27.
Oppenheim A.L., 1964. Ancient Mesopotamia. London.
Pavchinskaja L.V., 1994. Sogdian ossuaries // Bulletin of the Asia Institute: The archaeology and art of Central Asia: Studies from the former Soviet Union. N.S. Bloomfield Hills. Vol. 8. Pelliot P., 1916. Le «Cha tcheou tou tou fou t’ou king» et la colonie sogdienne de la region du Lob Nor // J. asiatique. Ser. 11. T. 7. Pugachenkova G.A., Usmanova Z., 1995. Buddhist monuments in Merv // In the land of gryphons: Papers on Central Asian archaeology in antiquity / Ed. by A. Invemizzi. Firenze. Pulleyblank E.G., 1952. A Sogdian colony in Inner Mongolia // T’oung Pao. Vol. 41.
Rowland B., 1970. Zentralasien: Kunst der Welt. Baden-Baden.
Sims-Williams N., 1976. The Sogdian fragments of the Brinish library // IIJ. Vol. XVIII. Sims-Williams N., 1983. Indian elements in Parthian and Sogdien // Sprachen des Buddhismus in Zentralasien: Vortrage des Hamburger Symp. vom 2. Juli bis 5. Juli, 1981 / Hrsg. K. Rohrbom und W. Veenker. Wiesbaden. Siroux M., 1973. L’evolution des antiques mosquées rurales d’Ispahan // Arts anatiques. T. XXVI. Skoda V.G., 1887. Le culte du feu dans les sanctuaires de Pendzikent // Cultes et monuments religieux dans l’Asie preislamique. Paris. Stein A., 1928. Innermost Asia. Vol. VII. Oxford. T. 399.
Tomaschek W., 1877. Centralasiatische Studien: Sogdiana. Wien. Trever C., 1934. Terracottas from Afrasiab. Moscow; Leningrad. TSP, 1940. Textes sogdiens / Ed. trad, et commentes par E. Benveniste. Paris. (Mission Pelliot en Asie Central; Vol. III).
Walker J., 1941. A catalogue of the Arab-Sassanian coin. London. Widengren G., 1965. Die religionen Iran. Stuttgart.
Zotenberg M.N., 1867. Chronique de Tabari / Trad, sur la version Persan d’Aby Ali Muchammad Bel’ami par M.N. Zotenberg. Paris. Vol. IV.
Список сокращений
АО — Археологические открытия. М. АРТ — Археологические работы в Таджикистане. Душанбе АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа БД — Бактрийские древности ВА — Вопросы антропологии ВАН — Вестник Академии наук ВГ — Вопросы географии. М. ВДИ — Вестник древней истории. М. ВИ — Вопросы истории. М. ВИА — Всеобщая история архитектуры. М. ВКФ — Вестник Каракалпакского филиала ГБАО — Горно-Бадахшанская автономная область ЖДП — Живопись древнего Пенджикента ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. СПб. ЗВОРАО — Записки Восточного отдела Русского археологического общества. СПб., Пг. 3(и)РГО — Записки императорского Русского географического общества. СПб. ИА — Институт археологии ИАК — Известия археологической комиссии ИАН — Известия Академии наук ИИА — Институт истории и археологии ИВ — Институт Востоковедения ИИАЭ — Институт истории, археологии и этнографии ИДВ — История древнего Востока ИИМК — Институт истории материальной культуры ИМКУ — История материальной культуры Узбекистана. Ташкент ИОАИЭ — Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском Университете ИООН АН — Известия Отделения общественных наук Академии наук ИРГО — Известия Русского географического общества ИТН — История таджикского народа. М. ИЭ — Институт этнографии ИИЯЛ — Институт истории, языка и литературы ИЯЛИ — Институт языка, литературы и истории КАЭЭ — Киргизская археолого-этнографическая экспедиция КД — Каракумские древности. Ашхабад КК — Каракалпакский ФАН Узбекистана КСИА — Краткие сообщения Института археологии КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии ЛГУ — Ленинградский государственный университет ЛО ИВАН — Ленинградское отделение Института востоковедения Академии наук МАИКЦА ИБ — Международная ассоциация изучения культур Центральной Азии. Информационный бюллетень. М. МАР — Материалы по археологии России. СПб. МИА — Материалы и исследования по археологии СССР МИТТ — Материалы по истории туркмен и Туркмении. М.; Л. МИКК — Материалы по истории киргизов и Киргизии. М. МИУТТ — Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР МКАЭН — Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М. МКВ — Международный конгресс востоковедов. М. МКТ — Материальная культура Таджикистана. Душанбе МХАЭЭ — Материалы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции МХЭ — Материалы Хорезмской экспедиции НАА — Народы Азии и Африки. М. НЭ — Нумизматика и эпиграфика ОНУ — Общественные науки в Узбекистане. Ташкент ООН — Отделение общественных наук ПВ — Проблемы востоковедения ПЛНВ — Памятники литературы народов Востока ПТКЛА — Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии. Ташкент РА — Российская археология РАН — Российская Академия наук РГО — Русское географическое общество СА — Советская археология САГУ — Среднеазиатский Государственный университет. Ташкент САИ — Свод археологических источников СВ — Советское востоковедение СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа СЖДП — Скульптура и живопись древнего Пенджикента СНВ — Страны и народы Востока СОН — Серия общественных наук Средазкомстарис — Среднеазиатский комитет по делам музеев и охране памятников старины, искусства и природы СТАКЭ — Северо-Таджикская археологическая комплексная экспедиция СТАЭ — Согдийско-Таджикская археологическая экспедиция СЭ — Советская этнография ТАКЭ — Термезская археологическая комплексная экспедиция ТашГУ — Ташкентский Государственный университет ТАЭ — Таджикская археологическая экспедиция ТВОРАО — Труды Восточного отделения Русского археологического общества. СПб. ТГУ — Таджикский Государственный университет ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа ТД — Тезисы докладов ТИИАЭ — Труды Института истории, археологии и этнографии ТИИА АН — Труды Института истории и археологии УзССР — Академии наук Узбекской ССР. Ташкент ТКЛА — Туркестанский кружок любителей археологии ТОВЭ — Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа. Л. ТОРГО — Туркестанский отдел Русского географического общества ТВ — Туркестанские ведомости. Ташкент ТКАЭЭ — Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. М. ТХАЭЭ — Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М. ТЮТАКЭ — Труды Южно-Туркменской археологической комплексной экспедиции. Ашхабад УзФАН — Узбекский филиал Академии наук УСА — Успехи среднеазиатской археологии. Л. ЭВ — Эпиграфика Востока ЭО — Этнографическое обозрение ЮККАЭ — Южно-Казахстанская комплексная археологическая экспедиция ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция ЮТАЭ — Южно-Таджикская археологическая экспедицияAM — Asia Major BGA — Bibliotheca geographoram arabicorum. Edit MJ de Goeje parc. I–VIII. Lugduni Batavorum BSOAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies. London CRAIBL–Comptes rendus Académie des inscriptions et belles — lettres. Paris IIJ — Indo-Iranian Journal the Hagues-Dordrecht. Boston ISMEO — Istituto Haliano per il Medio ed Estrenie. Oriente. Roma JA — Journal Asiatique. Paris JAOS — Journal of the American Oriental Society JRAS — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland MDAFA — Mémoires de la Delegation archéologique française en Afganistan. Paris SI — Studia Iranica. Leiden SPA — Servey of Persian Art from prehistoric times to the present SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaft. Berlin TSP — Textes sogdien. Paris ZDMG — Zeitschrift der Deutschen Morgenländeschen Gesellschaft. Leipzig; Wiesbaden
Последние комментарии
1 час 10 минут назад
5 часов 24 минут назад
7 часов 43 минут назад
9 часов 32 минут назад
15 часов 18 минут назад
15 часов 23 минут назад